Эдит Ева Эгер, при участии Эсме Швалль-Вейганд Выбор О свободе и внутренней силе человека
Издано с разрешения автора и c/o The Marsh Agency Ltd., acting as the co-agent for IDEA ARCHITECTS
Все права защищены.
Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
© Dr. Edith Eger, 2017
© Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2020
* * *
Посвящается пяти поколениям семьи: моему отцу Лайошу, научившему меня смеяться, моей матери Илоне – за подсказку искать самое важное внутри себя, моим неимоверно великолепным сестрам Магде и Кларе, моим детям Марианне, Одри и Джону, их детям – Линдси, Джордану, Рейчел, Дэвиду и Эшли и детям их детей – Сайласу, Грэму и Хейлу
Отзывы
История доктора Эгер изменила меня навсегда… «Выбор» – это живая иллюстрация того, какой предстает храбрость в наихудшие времена, и напоминание о том, что у каждого из нас есть возможность обращать внимание на то, что мы потеряли, или же на то, чем мы все еще владеем.
Опра УинфриДоктор Эдит Ева Эгер – мой герой. Она пережила неописуемые ужас и жестокость, но вместо того, чтобы позволить гнетущему прошлому уничтожить себя, она предпочла обратить его в мощнейший дар, с помощью которого помогает исцелиться другим.
Джаннетт Уоллс, автор бестселлера «Замок из стекла»В этой истории примечательны сила и отвага Эдит, которая заново обращается к мучительным воспоминаниям о заключении в нацистском концентрационном лагере, чтобы стать психотерапевтом и помогать другим восстановиться после всевозможных трудностей и лишений. Ее жизнь и труд – невероятный пример прощения, стойкости и великодушия.
Шерил Сэндберг, член совета директоров компании FacebookПрекрасные мемуары, перекликающиеся с великими работами Анны Франк и Виктора Франкла. Но это более чем книга – это произведение искусства. У меня мурашки бежали по коже, так бывает в необыкновенные моменты, когда проникаешься сонатой Моцарта, сонетом Элизабет Баррет Браунинг или росписями Сикстинской капеллы.
Адам Грант, автор бестселлера «Брать или отдавать?»Не могу вообразить себе более значимого послания нашему времени. Книга Эгер – это триумф, ее должны прочитать все, для кого в равной степени важны как внутренняя свобода, так и будущее человечества.
New York Times Book ReviewПредисловие Филипа Зимбардо
Психолог, почетный профессор Стэнфордского университета, доктор философии в области психологии Фил Зимбардо известен как организатор знаменитого Стэнфордского тюремного эксперимента (1971). Автор многих выдающихся трудов, в числе которых известное исследование «Эффект Люцифера»[1] (The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil, 2007), ставшее бестселлером New York Times и получившее премию Уильяма Джеймса как лучшая книга по психологии. Основатель и президент проекта «Героическое воображение».
Однажды весной доктор Эдит Эгер по приглашению главного психиатра ВМС США поднялась на борт самолета без иллюминаторов. Это был реактивный истребитель, направлявшийся на один из крупнейших в мире военных кораблей – авианосец типа «Нимиц», дислоцированный у побережья Калифорнии. Самолет приблизился к небольшой, всего сто пятьдесят метров, взлетно-посадочной полосе и произвел посадку с резким толчком: это его тормозной гак зацепил трос аэрофинишёра, который удерживает машину от падения в океан. Доктору Эгер, единственной женщине на борту, отвели комнату при каюте капитана. В чем заключалась цель ее визита? Она прибыла, чтобы научить пять тысяч молодых военных моряков справляться с травмами, преодолевать невзгоды и хаос войны.
Бесчисленное количество раз клинический психолог-эксперт Эдит Эгер занималась лечением солдат – в том числе из сил специального назначения, – страдавших посттравматическим стрессовым расстройством или получивших черепно-мозговую травму. Как удавалось этой славной бабушке помогать стольким военнослужащим исцеляться от жестоких последствий войны?
Я позвонил доктору Эгер и пригласил ее в Стэнфорд прочитать лекцию в рамках моего курса «Психология контроля сознания». Тогда мы еще не были знакомы лично, но я знал, сколько ей лет, и, услышав по телефону ее акцент, сразу представил себе древнюю старушку в платочке, повязанном под подбородком. Но она появилась, вся сияя – своей лучезарной улыбкой, своими сверкающими серьгами и золотыми волосами, – тщательно одетая с ног до головы в «Шанель» (в эту деталь позже меня посвятила жена). Она обратилась к моим студентам – и тогда я на себе испытал воздействие ее целительной силы. Она говорила с юмором и жизнеутверждающим посылом о выживании в нацистском лагере смерти, она преподносила свои раздирающие душу ужасающие истории с мироощущением человека отважного, обаятельного и сердечного – все это я не смогу охарактеризовать иначе как истинный свет.
В прошлом жизнь доктора Эгер была наполнена тьмой. Еще подростком ее отправили в Аушвиц[2], где, несмотря на мучения, голод и постоянную угрозу уничтожения, она сохранила психическую и духовную свободу. Ужасы, которые она пережила, не сломили ее; напротив, она стала мужественной и крепкой. В сущности, мудрость доктора Эгер берет начало в глубинах самых катастрофических событий ее жизни.
Она в состоянии помогать другим исцеляться, поскольку сама прошла путь преодоления последствий травмы. Чтобы вселять силы и уверенность в других, ею найден способ использовать собственный опыт столкновения с человеческой жестокостью. Она оказывает помощь самым разным людям: военным вроде тех, кто служит на авианосце; супружеским парам, пытающимся сохранить отношения; тем, кто обделен вниманием; жертвам насилия; страдающим от зависимостей и болезней; потерявшим любимых; тем, кто окончательно утратил надежду. Это касается и нас, привычно мучающихся от житейских неприятностей и повседневных проблем. Своим посылом доктор Эгер воодушевляет каждого сделать собственный выбор и освободиться от страданий – обрести внутренний свет.
В конце лекции все триста моих студентов вскочили с мест и устроили ей бурные овации. Затем по меньшей мере сотня молодых людей хлынула потоком к маленькой сцене, юноши и девушки ждали очереди лично поблагодарить и обнять эту удивительную женщину. За долгие годы преподавания я никогда не видел своих студентов настолько воодушевленными.
Двадцать лет мы с Эди работаем вместе и ездим по всему миру, и я уже привык ожидать такого отклика от любой публики, к которой она обращается. Во Флинте (штат Мичиган), городе с высоким уровнем бедности, безработицей среди половины населения и нарастающим расовым конфликтом, мы встречались за круглым столом с молодежью; в Будапеште, городе, в котором погибли многие ее родственники, она говорила перед сотнями людей, пытавшихся вернуться к жизни после искалечившего их прошлого, – везде, где бы мы ни были, я наблюдал снова и снова, как люди меняются в присутствии Эди.
В своей книге, рассказывая истории преображения пациентов, она обращается и к собственным неизгладимым воспоминаниям о выживании в Аушвице. Ее повествование не менее напряженно и драматично, чем другие подобные, однако не только из-за этого мне хотелось бы поделиться книгой доктора Эгер с миром: она использовала свои переживания, чтобы помочь очень многим прийти к подлинной свободе. В этом смысле ее книга – нечто большее, чем мемуары о холокосте, хотя они всегда важны для сохранения памяти о прошлом. Цель Эди – ни больше ни меньше помочь каждому вырваться из ментальной тюрьмы. В каком-то смысле мы все заложники своего сознания, и миссия Эди – привести нас к пониманию, что мы можем быть как собственными тюремщиками, так и собственными освободителями.
Эди часто представляют молодой аудитории как «сумевшую выжить Анну Франк», поскольку и та и другая росли в похожих семьях, получили одинаковое образование и были ровесницами, когда их забрали в лагерь смерти. Обе девушки сохранили душевную чистоту и способность сострадать, невзирая на жестокости и гонения, которые им пришлось испытать, что дает нам веру в изначальную доброту людей. Конечно, когда Анна Франк вела дневник, ей только предстояло испытать самые немыслимые ужасы лагеря, потому уникальные воспоминания Эди и ее аналитические выводы – как выжившей, как клинического врача (и как прабабушки!) – особенно оглушают и переворачивают душу.
Книга доктора Эгер наравне с авторитетными трудами о холокосте раскрывает как самую темную сторону зла, так и несгибаемую силу человеческого духа перед лицом тьмы. И есть в ней кое-что еще. Пожалуй, правильнее всего будет сравнить воспоминания Эди с книгой другого пережившего холокост человека – потрясающим классическим трудом Виктора Франкла «Человек в поисках смысла»[3]. Эти две работы объединяет глубина мысли авторов и их фундаментальные знания природы человека; правда, у доктора Эгер присутствуют еще теплые, доверительные интонации, выработанные годами врачебной практики. Виктор Франкл показал психологию заключенных, бывших с ним в Аушвице. Доктор Эгер предлагает нам психологию свободы.
В своей работе я долго изучал психологическую основу негативных форм общественного влияния. Я пытался разобраться, какие механизмы задействует человек, когда делает тот или иной выбор: путь приспособленчества, путь подчинения, путь невмешательства, – причем в обстоятельствах, когда мир и справедливость могут быть достигнуты, только если он выберет один-единственный путь героических действий. Эди помогла мне обнаружить, что героизм вовсе не удел исключительно тех, кто совершает неимоверные подвиги или импульсивно идет на риск, чтобы защитить себя или других. Впрочем, сама Эди делала и то и другое. Героизм – это скорее наши психологические установки и совокупность наших индивидуальных и социальных привычек. Это образ жизни. И особый способ самоконтроля. Чтобы стать героем, следует предпринимать действенные меры в судьбоносные моменты жизни, нужно активно реагировать на несправедливость и прилагать усилия, чтобы мир менялся в лучшую сторону. Чтобы быть героем, требуется великая сила духа. Героизм заложен в каждом из нас и лишь ждет своего часа. Мы все «герои-стажеры». Нашей территорией практики становится сама жизнь; мы отрабатываем героические привычки на повседневных ситуациях: совершаем будничные добрые дела; проявляем милосердие, не забывая и о самосострадании; выявляем лучшее в себе и других; не даем угаснуть чувству даже в самых непростых отношениях; превозносим и укрепляем свою внутреннюю свободу. Эди – герой, причем герой вдвойне, поскольку учит каждого из нас развиваться, формировать значимые, глубоко осмысленные и прочные перемены, которые должны происходить в нас самих, в наших взаимоотношениях и нашем общем мире.
Два года назад мы поехали с ней в Будапешт, в прошлом там жила одна из ее сестер – как раз в те времена, когда нацисты начали массово отправлять венгерских евреев в лагеря смерти. Мы с Эди пошли в синагогу, где во дворе воздвигнут мемориал жертвам холокоста, а стены завешаны фотографиями на темы жизни до войны, жизни во время войны, жизни после войны. Ходили к мемориалу «Туфли на набережной Дуная» – в память об убитых, среди которых были и родственники Эди. Массовые расстрелы производили венгерские нацисты из партии «Скрещенные стрелы». Евреев свозили на набережную, им приказывали снять обувь и встать на берегу реки, затем следовали выстрелы. Упавшие в воду тела уносило течением. Прошлое словно материализовалось.
В течение того дня Эди становилась все молчаливее. Я гадал, не тяжело ли ей будет выступать вечером перед аудиторией в шестьсот человек, ведь день выдался тяжелым и эмоционально очень насыщенным; наверняка наши поездки всколыхнули в ней болезненные воспоминания. Однако она поднялась на сцену и, невзирая на подступившее к ней прошлое, начала свою речь вовсе не со слов о психологических стрессах, страхах и трагедиях. Доктор Эгер заговорила о доброте, ежедневном акте героизма, который, напомнила она, совершался даже в аду. «Разве это не поразительно, – сказала она, – когда худшее выявляет в нас лучшее».
В конце выступления, которое завершилось ее фирменным балетным махом ноги (гранд батман), Эди звонко объявила: «Отлично! А теперь танцуют все!» Аудитория поднялась как один человек. Сотни людей побежали к сцене. Музыки не было, но мы танцевали. Танцевали, пели, смеялись и обнимались на этом несравненном празднике жизни.
Доктор Эгер принадлежит к числу тех людей, от которых еще можно услышать – услышать из первых уст – об ужасах концентрационных лагерей. Подобных выживших становится все меньше и меньше. В книге Эдит речь идет не только об аде, но и о травмах, с которыми ей и другим приходилось жить и после войны. Ее воспоминания – это универсальное послание о надежде и человеческих возможностях, послание всем, кто пытается освободиться от боли и страдания. Если вы заложник неудачного брака, если у вас рушится личная жизнь, если вам ненавистна ваша работа, если вы сами себя загнали за колючую проволоку самоограничений – благодаря этой книге вы начнете делать правильный выбор, научитесь быть счастливым и свободным независимо от внешних обстоятельств.
«Выбор» – это выдающиеся хроники силы духа и милосердия, несгибаемости и выживания с достоинством и психологической стойкостью; хроники героизма и исцеления. Воодушевляющие случаи пациентов доктора Эгер и ее собственная поразительная история смогут научить каждого из нас, как вылечить свою жизнь.
Сан-Франциско, Калифорния
Январь 2017 года
Часть I. Тюрьма
Введение. Я владела своей тайной, а моя тайна владела мною
Я не знала, что у капитана Джейсона Фуллера под рубашкой спрятан заряженный пистолет, но внутри у меня все сжалось и резко закололо в затылке, когда летом 1980 года он однажды вошел в мой кабинет в Эль-Пасо. Война приучила меня чувствовать опасность прежде, чем я смогу себе объяснить, почему я боюсь.
Джейсон был высоким, поджарым, спортивным мужчиной, но тело его выглядело каким-то негибким, будто сделанным из дерева, а не плоти и крови. Голубые глаза смотрели отсутствующим взглядом, челюсти будто свело, и он не хотел – или не мог – говорить. Я пригласила его в свой кабинет и показала на белый диван. Он сел очень прямо и продолжал сидеть неподвижно, уперев в колени стиснутые кулаки. Джейсона я видела первый раз и понятия не имела, что ввергло его в такое кататоническое состояние. Он находился довольно близко – я могла спокойно дотронуться до него, – и его боль казалась почти осязаемой, хотя мыслями он был далеко, как бы в забытьи. Судя по всему, он даже не заметил моего серебристого королевского пуделя. Тесс стояла, настороженно вытянувшись, рядом со столом – еще одна живая статуя в моем кабинете.
Я глубоко вздохнула, раздумывая, с чего лучше начать. Иногда я начинаю первый сеанс рассказом о себе, делюсь некоторыми подробностями своей истории, говорю про свой подход. Иногда сразу берусь за дело: определяю и анализирую, какие переживания привели пациента ко мне. В случае с Джейсоном я почувствовала, что очень важно, во-первых, не перегружать его лишней информацией, а во-вторых, не ждать от него быстрого проявления уязвимости. Он был совершенно закрытым. Мне требовалось придумать, как лучше дать ему понять, что он в безопасности, может рискнуть и открыть мне то, что так ревностно в себе охраняет. При этом я не должна забывать о предупреждающих знаках своего тела, но не позволять чувству опасности одержать верх над своей способностью оказывать помощь.
– Чем я могу вам помочь? – спросила я.
Джейсон не ответил. Даже не моргнул. Он напоминал мне мифологического или сказочного героя, которого обратили в камень. Каким же заклинанием можно снять чары?
– Почему сейчас? – спросила я. Это мое секретное оружие. Вопрос, который я всегда задаю пациентам на первом сеансе. Мне нужно знать, что их мотивирует на перемены. Почему именно сегодня, а не в какой-то другой день им захотелось начать работу со мной? Чем сегодня отличается от вчера, от прошлой недели или прошлого года? Чем сегодня отличается от завтра? Иногда нас толкает боль, иногда – надежда. «Почему сейчас?» не просто вопрос, а вопрос сразу обо всем.
Джейсон коротко моргнул одним глазом, но ничего не ответил.
– Скажите мне, почему вы пришли, – снова попросила я.
Он все равно ничего не сказал.
Меня накрыла волна сомнения; я понимала, что мы оказались на зыбком распутье, в критической точке: двое лицом к лицу, оба уязвимые, оба идем на риск, пытаясь открыть имя своей боли и найти от нее лекарство. Джейсон пришел на прием не по направлению. Получается, он пришел в мой кабинет по собственному выбору. Но по клиническому и личному опыту я знала, что даже те, кто решается на лечение, могут оставаться в оцепенении годами.
Если мне не удастся до него достучаться – учитывая тяжесть симптомов, которые я успела увидеть, – то единственной альтернативой будет направить его к моему коллеге, главному врачу Медицинского центра сухопутных войск имени Уильяма Бомонта, где я писала докторскую. Доктор Гарольд Кольмер диагностирует у Джейсона кататонию, его госпитализируют и, возможно, пропишут антипсихотик. Я представила Джейсона в больничной рубашке, все с тем же остекленевшим взглядом; его тело, сейчас такое напряженное, измучено спазмами, которые часто начинаются как побочный эффект таблеток, контролирующих психозы. Я полностью полагаюсь на компетентность коллег-психиатров и благодарна за их медикаментозное лечение, которое спасает жизни. Но я не сторонница срочной госпитализации, когда есть хоть один шанс удачного терапевтического вмешательства. Я боялась, что если не рассмотрю другие варианты и посоветую Джейсону лечь в больницу, где ему назначат препараты, то одно оцепенение сменится другим. Вместо онемения конечностей начнется дискинезия, то есть расстройство произвольных движений: бесконтрольный танец повторяющихся тиков и жестов, когда нервная система без согласования с мозгом дает телу сигнал двигаться. Боль – что бы ни было ее причиной – можно, конечно, заглушить лекарствами, но они не устранят ее насовсем. Он может почувствовать себя лучше или не так сильно начнет ощущать свое состояние, что довольно часто принимают за его улучшение, – эти два понятия часто путают; но в любом случае его не вылечат.
И что теперь? – спрашивала я себя, пока тянулись тяжелые минуты. Джейсон так и сидел, застыв на моем диване, – добровольно пришедший, но все еще запертый в своей темнице. У меня был всего час. Один час и единственный шанс. Смогу ли я достучаться до него? Помогу ли ему избавиться от потенциала жестокости, который я ощущала так же отчетливо, как поток воздуха из кондиционера на своей коже? Смогу ли дать ему понять, что, несмотря на страдания и боль, у него уже есть ключ к свободе? Тогда я не могла знать, что, если бы мне в тот же день не удалось найти подход к Джейсону, его ожидало бы гораздо худшее, чем больничная койка: он попал бы в настоящую тюрьму, скорее всего в камеру смертников. Тогда мне было понятно лишь одно: я должна попытаться.
Насколько я смогла изучить Джейсона, он не откроется, если говорить с ним на языке чувств. Следовало бы использовать язык, более привычный и удобный для военного человека. Нужно было отдавать приказы. И еще я поняла, что единственный способ помочь ему открыться – это разогнать кровь по его телу.
– Мы идем на прогулку, – сказала я. Я не спрашивала. Я отдавала приказы. – Капитан, нужно сходить выгулять Тесс, прямо сейчас.
Он на миг растерялся. Незнакомая женщина с сильным венгерским акцентом говорит, что ему делать. Он огляделся, будто спрашивая себя: «Как мне отсюда выбраться?» Но Джейсон был хорошим солдатом. Он встал.
– Да, мэм. Хорошо, мэм.
Довольно скоро я разобралась в причине травмы Джейсона, а он обнаружил между нами много общего, несмотря на очевидные различия. Мы оба не понаслышке знали о насилии. Оба испытали на себе, что такое впадать в оцепенение. Во мне тоже жила душевная боль, горе было так глубоко, что долгие годы я ни с кем не могла говорить о нем.
Мое прошлое все еще преследовало меня: каждый раз, когда я слышала сирену, чьи-то тяжелые шаги или крики людей, возникало тревожное, сбивающее с толку чувство. Это и считается травмой – как я когда-то усвоила, – если почти все время ты нутром чувствуешь: что-то не так или вот-вот случится нечто ужасное; если на страх тут же возникает непроизвольная реакция тела, говорящего о необходимости спасаться бегством, найти убежище, спрятаться от опасности, которая повсюду. Моя травма до сих пор может проявиться из-за какой-нибудь будничной встречи. Внезапный взгляд или специфичный запах могут отбросить меня назад в прошлое. Мое знакомство с капитаном Джейсоном Фуллером случилось более чем через тридцать лет, как меня освободили из концентрационного лагеря времен холокоста. Сейчас, когда я пишу книгу, прошло уже больше семидесяти лет. Происшедшего уже не изменить, и забыть его невозможно. Но со временем я поняла, что в состоянии выбирать, как реагировать на прошлое. Я могу чувствовать себя несчастной и могу быть полна надежд, могу чувствовать себя подавленной и могу быть счастливой. У нас всегда есть такой выбор, есть возможность контроля. Я здесь и сейчас, это настоящее – я приучила себя повторять это снова и снова, пока не ослабевало паническое состояние.
Бытует расхожее мнение: если вас что-то волнует или вызывает тревогу, то просто не нужно обращать внимания. Не зацикливаться. Не касаться этой темы. Таким образом мы избегаем думать и говорить о старых травмах и невзгодах и обходим стороной сегодняшние неудобства и конфликты. Долгое время, уже в зрелом возрасте, мне представлялось, что мое выживание в настоящем зависит от того, смогу ли я удержать тьму своего прошлого под замком. В первые годы иммиграции, которые пришлись на 1950-е и которые я провела в Балтиморе, я даже не знала, как по-английски произносится слово Аушвиц. Не то чтобы я собиралась рассказывать о своем пребывании там, даже если могла бы это сделать. Мне не хотелось ничьей жалости. Не хотелось, чтобы кто-то знал.
Мне просто хотелось быть этаким Янки-дурачком[4]. Без акцента говорить по-английски. Спрятаться от прошлого. В отчаянном стремлении стать частью общей жизни, в вечном страхе, что прошлое поглотит меня, я усердно работала над тем, чтобы скрыть свою боль. Тогда я еще не понимала: мое молчание и желание быть принятой – и то и другое основанные на страхе – на самом деле были способами убежать от самой себя. Я не понимала, что, решив отвернуться от прошлого и себя настоящей, я продолжала оставаться несвободной – несвободной спустя десятилетия после реального заключения. И это был мой выбор. Я владела своей тайной, а моя тайна владела мною.
Впавший в ступор капитан армии, неподвижно сидевший на моем диване, напомнил мне о выводе, к которому я в итоге пришла: когда мы загоняем свою правду и свои истории в подполье, уже секретность становится и нашей травмой, и нашей тюрьмой. Боль при этом не уменьшается, а то, что мы отказываемся принимать, становится чем-то вроде кирпичных стен с железобетонной конструкцией, откуда не вырваться. Когда мы не позволяем себе оплакивать свои потери, душевные раны и обманутые надежды, то обречены переживать их вновь и вновь.
Свобода начинается, когда мы учимся принимать случившееся. Свобода означает, что мы набираемся смелости и разбираем свою тюрьму по кирпичику.
Боюсь, плохое случается со всеми. Этого мы изменить не можем. Загляните в свое свидетельство о рождении – там сказано, что жизнь будет легкой? Нет. Но многие из нас застревают в травме и горе, не в силах познать жизнь во всей полноте. И это можно изменить.
Недавно, в ожидании рейса домой в Сан-Диего, я сидела в международном аэропорту имени Кеннеди и разглядывала лица проходящих мимо совершенно мне незнакомых людей. Увиденное глубоко задело меня. Я отмечала скуку, ярость, напряжение, беспокойство, смятение, печаль и, что самое удручающее, пустоту. Радости и смеха наблюдалось мало, и от этого становилось совсем грустно. Ведь даже самые унылые мгновения жизни дают возможность испытывать надежду, душевный подъем, счастье. Обыденное течение дней тоже жизнь. Как жизнь тяжкая или крайне напряженная. Почему мы так любим крайности: либо тратим немыслимые усилия, дабы почувствовать себя живыми, либо всецело ограждаем себя от любых жизненных ощущений? Неужели столь трудно привнести в свое существование живую жизнь?
Если спросить меня, какой самый распространенный диагноз у людей, ко мне обращающихся, вряд ли я назову депрессию или поcттравматическое стрессовое расстройство, хотя именно эти состояния чаще всего встречались у тех, кого я знала, любила и направляла к свободе. Нет, я скажу, что это голод. Мы голодны. Мы жаждем одобрения, внимания, привязанности. Жаждем свободы принимать жизнь, познавать себя и быть самими собой.
Собственные поиски свободы и многолетний опыт работы в качестве клинического психолога научили меня, что страдание – явление универсальное. Но вовсе не обязательно иметь психологию жертвы. Есть разница между виктимизацией и виктимностью[5].
Нас всех в течение нашей жизни так или иначе могут сделать жертвами. Мы все рано или поздно переносим болезни, испытываем бедствия, сталкиваемся с плохим обращением – и все это бывает вызвано обстоятельствами, людьми или институциями, над которыми никто из нас не властен. Такова жизнь. Подобное и называется виктимизацией. И появляются эти процессы извне. Сосед-хулиган, начальник-хам, муж-тиран, любовник-обманщик, дискриминационный закон, несчастный случай, из-за которого мы оказываемся в больнице.
Напротив, синдром жертвы обусловлен внутренним состоянием человека. Никто, кроме нас самих, не может навязать нам психологию жертвы. Мы входим в роль жертвы не из-за того, что с нами происходит, а потому, что принимаем решение держаться своего мученичества. Начинает развиваться сознание жертвы – сознание, ломающее наше мировоззрение и наш образ жизни; сознание, с которым мы становимся людьми негибкими, порицающими, безжалостными, требующими карательных санкций, пессимистичными, застрявшими в своем прошлом, с отсутствием здравых ограничений. Мы выбираем психологию жертвы, сами заключаем себя в застенок и превращаемся в собственных тюремщиков.
Хочу сразу прояснить одну вещь. Говоря о жертвах и выживших, я не возлагаю вину на жертв – многие из них не имели ни единого шанса. Я никогда не стала бы осуждать ни тех, кого отправляли в газовые камеры, ни тех, кто тихо угасал на нарах, ни даже тех, кто сам бросался на колючую проволоку под напряжением. Я скорблю по каждому, кто подвергся насилию и был обречен на гибель. Я живу, чтобы помогать людям расширять свои возможности в их противостоянии любым жизненным испытаниям.
Кроме того, хочу сказать, что не существует иерархии страдания. Нет ничего, что делало бы мою боль сильнее или слабее вашей; нельзя начертить график и отмечать на нем уровень значимости того или иного горя. Я часто слышу от своих пациентов: «Мне сейчас очень нелегко, но разве я могу жаловаться? Это же не Аушвиц». Подобное сравнение приводит к тому, что человек, преуменьшая собственные страдания, не дает им должной оценки. Чтобы не ощущать себя жертвой, а жить, как говорится, припеваючи, нужно полностью принимать как свое прошлое, так и настоящее. Если мы пытаемся умалить боль; если наказываем себя за то, что сбились с жизненного пути или замкнулись в горе; если отмахиваемся от житейских невзгод только потому, что кто-то считает их незначительными, – мы всё еще предпочитаем для себя путь жертвы. Мы так и не видим вариантов выбора. Мы продолжаем судить себя. Я не хочу, чтобы вы, услышав мою историю, сказали: «Мои страдания не так значительны». Мне хочется, чтобы вы сказали: «Если она смогла так, значит, смогу и я!»
Однажды утром у меня шли друг за другом две пациентки – обеим немного за сорок, у обеих были дети.
У первой женщины дочь умирала от гемофилии. Большую часть визита она прорыдала, вопрошая, как Бог смеет забирать жизнь ее ребенка. У меня так болела душа за нее – она полностью посвятила себя заботе о дочери и выглядела абсолютно опустошенной из-за неумолимо приближающейся потери. Она злилась, впадала в отчаяние и не была уверена, что сможет пережить этот удар.
Следующая женщина приехала ко мне не из больницы, а из загородного клуба. Она тоже большую часть сеанса провела в слезах. Ее расстроил новый кадиллак – его совсем недавно доставили ей, и автомобиль оказался не того оттенка желтого, который она желала. На первый взгляд, проблема была пустяковой, особенно по сравнению с горем предыдущей женщины. Но я хорошо знала эту пациентку и понимала, что плач из-за цвета машины на самом деле плач отчаяния по поводу несложившейся жизни. Все шло не так, как ей хотелось бы: одиночество в браке; сын, в очередной раз выгнанный еще из одной школы; загубленная карьера, от которой она отказалась, чтобы больше быть с мужем и ребенком. В нашей жизни часто за мелкими огорчениями прячутся более серьезные обиды; в незначительных, казалось бы, переживаниях отражается глубокая боль.
В тот день я поняла, что двух моих пациенток, таких на первый взгляд разных, многое объединяет – и не только друг с другом, но и со всеми людьми. Обе женщины реагировали на ситуации, которые они не могли контролировать, в которых их ожидания не оправдались. Обе страдали, и каждая ощущала себя в бедственном положении. Все получалось не так, как они хотели или ожидали; они пытались примирить то, что случилось, с тем, что должно было бы быть. Боль и той и другой была настоящей. Каждую настигла своя человеческая драма: когда мы обнаруживаем себя в неожиданных ситуациях, которые, как нам кажется, мы не готовы вынести. Обе женщины имели право на мое сочувствие. У обеих была возможность залечить свои раны. Эти женщины, наравне со всеми нами, могли сделать выбор: как относиться к случившемуся и что делать дальше. И несмотря на то что их жизненные обстоятельства уже не изменятся, обе обладали возможностью избавиться от роли жертвы и стать выжившими. У оставшихся в живых нет времени спрашивать: «Почему я?» Для них существует лишь один вопрос: «Что дальше?»
На каком бы этапе своей жизни вы сейчас ни были: наслаждаетесь ли вы ранней молодостью, вошли ли в зрелый возраст или достигли старости; познали ли вы глубокие страдания или только начали сталкиваться с трудностями; переживаете ли свою первую влюбленность или, находясь уже в преклонном возрасте, навсегда проводили своего спутника жизни; приходите ли в себя после перевернувшего все ваше существование события или пребываете в ожидании хоть каких-нибудь перемен, могущих сделать вашу жизнь радостнее, – в любом случае я буду рада помочь вам. Я расскажу, как найти способ сбежать из своего внутреннего концлагеря, созданного вашим сознанием; как стать тем, кем вы должны быть. Я хотела бы помочь вам обрести свободу: независимость от прошлого, от неудач и страхов, от гнева и ошибок, от сожалений и неизбывного горя – свободу наслаждаться безграничным и щедрым праздником жизни. Мы не в состоянии заказать себе жизнь, в которой не было бы места ни горю, ни боли. Но мы можем решить стать свободными, спастись от прошлого и, невзирая на то, что выпало на нашу долю, объять все возможное. И я приглашаю вас сделать выбор в пользу свободы.
На пятничный ужин мама всегда пекла халу. Подобно шабатному хлебу, сплетенному из трех полосок теста, моя книга состоит из трех линий: это история моего выживания, история моего исцеления и истории дорогих мне людей, которых я имела честь выводить на путь освобождения. Я изложила свой опыт так, как я его помню. В рассказах о моих пациентах суть их случаев отражена точно, но имена и нюансы, по которым их можно было бы узнать, я изменила; в некоторых случаях я добавляла эпизоды историй других людей, решавших со мной аналогичные проблемы. Теперь вам предстоит прочитать историю выбора – иногда большого, иногда малого, – выбора, который может провести человека от травмы к победе, из тьмы к свету, из заточения к освобождению.
Глава 1. Чем отличается эта ночь от других ночей
Если извлечь из моей жизни самый важный момент, представить всю мою историю одним-единственным стоп-кадром, он будет выглядеть так: на безжизненном пространстве двора стоят три женщины в темных шерстяных пальто, крепко держась за руки. Они обессилены. На их туфлях лежит пыль. Они стоят в длинной очереди.
Три женщины – это моя мама, моя сестра Магда и я. И это последние мгновения, когда мы вместе, но мы еще ничего не знаем. Мы отказываемся думать о таком исходе. Или мы так устали, что нет сил даже гадать, что будет дальше. На кадре момент разрыва – разлука матери и дочерей, раскол жизни на до и после. Впрочем, подобный смысл можно придать только задним числом.
Вижу нас троих сзади, как если бы я стояла следующей в очереди. Зачем память показывает мне затылок мамы, а не ее лицо? Мамины длинные волосы затейливо заплетены и заколоты у нее на макушке. Светло-каштановые волны касаются плеч Магды. Мои волосы заправлены под шарф. Мама стоит между нами, мы с Магдой прильнули к ней. Ни за что не поймешь: мы с сестрой помогаем ей устоять на ногах или, наоборот, ее сила – та опора, которая поддерживает меня и Магду.
Этот момент знаменует начало тяжелых потерь в моей жизни. Семь десятилетий я мысленно снова и снова возвращалась к образу трех женщин. Изучала этот стоп-кадр, тщательно всматриваясь в него, словно могла отыскать в нем что-то драгоценное. Словно могла вернуть ту жизнь, что была до него, – жизнь до потери. Как будто она все еще где-то идет.
Я вернулась туда, чтобы побыть с ними еще немного, найти покой в той минуте, когда мы еще держимся за руки и есть друг у друга. Я вижу наши опущенные плечи. Пыль, приставшую к подолам наших пальто. Свою маму. Свою сестру. Себя.
Часто детские воспоминания фрагментарны, они состоят из кратких мгновений и встреч, из которых и складывается альбом нашей жизни. Это все, что мы оставляем для себя, дабы понять собственную историю, которую мы рассказываем самим себе, – историю о том, кто мы.
Мое самое сокровенное воспоминание о маме – еще до момента, как нас разлучили, – оно мне очень дорого, хотя и связано с печалью и утратой. Мы вдвоем на кухне, мама заворачивает остатки штруделя. Я видела, как она его готовила, разделывая руками тесто и раскатывая по обеденному столу, словно тяжелую льняную ткань. «Почитай мне», – говорит она, и я приношу с ее прикроватного столика потрепанный том «Унесенных ветром». Мы уже прочитали его один раз от начала до конца, теперь начали снова. Мой взгляд задерживается на загадочной надписи на английском на титульном листе переводной книги. Почерк мужской, но не моего отца. Мама говорит только, что книгу ей подарил мужчина, с которым она познакомилась, когда работала в министерстве иностранных дел, до того как встретила моего папу.
Мы сидим на стульях с прямыми спинками рядом с дровяной печью. Я бегло читаю взрослый роман, хотя мне всего девять. «Хорошо, что ты у нас умная, а то внешность у тебя так себе», – не первый раз говорит мне мама, то ли делая комплимент, то ли вынося приговор. Иногда она бывает сурова со мной. Но я наслаждаюсь теми минутами. Когда мы вот так вместе читаем, мне не приходится ни с кем ее делить. Я погружаюсь в слова, в сюжет и в свое ощущение, что мы с ней одни на всем свете. Скарлетт возвращается в Тару, когда война заканчивается, и узнает, что мать ее умерла, а отец охвачен глубоким горем. Скарлетт говорит: «Бог мне свидетель… я никогда больше не буду голодать». Мама закрывает глаза и прислоняется затылком к спинке стула. Хочется забраться к ней на колени. Хочется прижаться головой к ее груди. Хочется, чтобы она касалась губами моих волос.
– Тара… – говорит она. – Америка! Вот куда бы уехать.
Мне хочется, чтобы она произнесла мое имя с той же нежностью, с которой она обращается к земле, где никогда не была. Запахи маминой кухни смешиваются в моем сознании с драматизмом голода и застолья – поскольку даже праздничные ужины всегда тоскливы. Не знаю, чья это тоска. Моя ли, мамина ли, наша общая?
Мы сидим, между нами огонь.
– Когда я была в твоем возрасте… – начинает мама.
Теперь, когда она заговорила, я сижу не двигаясь, боясь, что она замолчит, если я шелохнусь.
– Когда я была в твоем возрасте, маленькие дети спали вместе. Я спала с мамой в одной кровати. Однажды утром я проснулась из-за крика папы: «Илонка, разбуди мать, она еще ни завтрак не приготовила, ни одежду для меня не разложила». Я повернулась к маме, которая лежала рядом, укрывшись. Но она не двигалась. Она была мертва.
Моя мама никогда мне об этом не рассказывала. Я хочу узнать все подробности о той минуте, когда дочь просыпается рядом с матерью, которую уже потеряла. И в то же время мне хочется отвернуться. Слишком страшно об этом думать.
– Когда маму похоронили в тот же день, я думала, что они закопали ее в землю заживо. Вечером отец велел мне готовить ужин на всю семью. Это я и сделала.
Я жду продолжения истории. Жду морали в конце или утешения.
– Пора спать, – все, что говорит моя мама. Она наклоняется подмести золу под печью.
За дверью в коридоре глухой звук шагов. Я чувствую запах папиного табака еще до того, как слышу бряцанье ключей.
– Дамы, – зовет он, – вы еще не спите?
Он заходит на кухню в своих натертых до блеска ботинках и элегантном костюме, с широкой улыбкой, в руках у него маленький мешочек, он дает его мне и звонко целует в лоб.
– Я снова выиграл, – хвастает он.
Когда папа играет в карты или бильярд с друзьями, он всегда делит выигрыш со мной. Сегодня он принес птифур, покрытый розовой глазурью. Если на моем месте была бы сестра Магда, мама, которую всегда беспокоит ее вес, сразу унесла бы лакомство подальше, но мне она кивает, разрешая съесть.
Она стоит между огнем и раковиной. Папа подхватывает ее, чтобы закружить с нею по комнате, и она вальсирует с ним холодно, не улыбаясь. Он притягивает ее к себе, сжимая в объятиях. Одна его рука на ее спине, другой он дразняще поглаживает ее грудь. Мама отстраняется от него.
– Для твоей мамы я одно разочарование, – не слишком тихо шепчет мне папа, когда мы уходим из кухни. Хочет ли он, чтобы мама краем уха его услышала, или это секрет, сказанный только мне? Так или иначе, его слова я сохраню, чтобы обдумать позже. Но горечь в папином голосе меня пугает.
– Она хочет ходить каждый вечер в оперу, жить роскошной жизнью, быть гражданкой мира. А я обычный портной. Портной и бильярдист.
Папин убитый голос приводит меня в смятение. Его хорошо знают у нас в городе и очень любят. Балагур и добряк, он всегда выглядит как человек энергичный и уравновешенный. С ним, известным весельчаком, не бывает скучно, и он постоянно окружен бесчисленными друзьями. Любитель поесть – особенно ветчину из свинины (иногда тайком он приносит ее в наш кошерный дом, ест прямо с газеты, в которую она была завернута, запихивает кусочки запрещенной свинины и в мой рот, а после выслушивает мамины обвинения, какой гадкий пример он подает ребенку). Его ателье заслужило две золотые медали. Он не просто делает ровные швы и прямые края. Папа – мастер пошива высокого класса. Так они познакомились с мамой: ей потребовалось новое платье и она пошла к нему в ателье, так как его имя было у всех на устах. Правда, папа хотел стать не портным, а врачом, но его отец отверг эту мечту, и временами папино недовольство собой дает о себе знать.
– Ты не обычный портной, папа, – заверяю я его. – Ты самый лучший портной!
– А ты будешь самой нарядной девушкой в Кошице! – говорит он, гладя мои волосы. – Твоя прекрасная фигурка создана для шикарных нарядов!
Похоже, он уже справился со своей досадой, взял себя в руки и успокоился. Мы с ним подходим к спальне, в которой, кроме меня и Магды, спит еще наша средняя сестра Клара. Сейчас наверняка Магда делает вид, что выполняет домашнее задание, а Клара очищает свою скрипку от канифольной пыли. Нам с папой не хочется расставаться, и мы задерживаемся у двери.
– Знаешь, я хотел, чтобы ты была мальчиком, – говорит папа. – Когда ты родилась, я хлопнул дверью. Как я злился, что у нас еще одна девчонка. А теперь ты единственная, с кем я могу поговорить.
Он целует меня в лоб.
Мне приятно, когда отец так нежен со мной. Папино внимание бесценно, как и мамино, – и так же зыбко. Мне казалось, будто сила родительской любви напрямую зависит от приступов одиночества у каждого из них, а не от того, насколько я заслуживаю ее. Словно их не интересовала моя личность – то, что я представляю собой. Я была для них вроде эрзаца. И папа и мама обращали ко мне свою любовь лишь в минуты своей душевной опустошенности.
– Спокойной ночи, Дицука, – наконец говорит папа. Это уменьшительное имя для меня придумала мама. Ди-цу-ка. Сколько тепла я ищу в этих нелепых слогах.
– Скажи сестрам, что пора гасить свет.
Я вхожу в спальню, Магда и Клара встречают меня песенкой, которую когда-то придумали обо мне. В три года, вследствие неудачной медицинской манипуляции, у меня появилось косоглазие, и сестры на это сочинили: «Ты тщедушная уродка, таких замуж не берут!» После того несчастного случая я во время ходьбы всегда опускаю голову, чтобы люди не глазели на мою кривую физиономию, а мне не приходилось видеть их реакцию. Тогда я еще не понимала: проблема не в сестрах, дразнивших меня гадкой песенкой; суть в том, что я им поверила. Я настолько убеждена в собственной неполноценности, что никогда не представляюсь по имени. Я не говорю: «Я Эди», а представляюсь: «Я сестра Клары». Ведь скрипачка Клара – юное дарование. В пять лет она уже исполняла концерт Мендельсона для скрипки с оркестром.
Но в тот вечер мне стали доступны особые знания. «Мамина мать умерла, когда мама была в моем возрасте», – выпаливаю я. Я почему-то абсолютно уверена в исключительной ценности своей информации. Мне и в голову не приходило, что для моих сестер она уже давно не новость, что в семье я последняя, кто узнал об этом.
– Не может быть, – говорит Магда с таким очевидным сарказмом в голосе, что даже я его замечаю. Ей пятнадцать, у нее пышный бюст, чувственные губы и вьющиеся волосы. В нашей семье она главная хохмачка. Когда мы были помладше, Магда научила меня бросать виноградины из окна нашей спальни в чашки с кофе людям, сидящим внизу на террасе. Вдохновляясь ее идеями, я вскоре придумаю собственные забавы, однако к тому времени ставки изменятся. С моей подружкой мы начнем дефилировать мимо мальчишек в школе или на улице и, хлопая ресницами, призывно шелестеть: «Встретимся на площади у часов в четыре». Они обязательно придут, они всегда будут приходить: кто-то окрыленный, кто-то застенчивый, кто-то развязный – но все полные ожиданий. Мы с подругой будем скрываться в моей спальне, стоять у окна и наблюдать, как они слетаются.
– Не дразни ее так, – резко осаждает Магду Клара. Она младше Магды, но вступается за меня.
– Помнишь ту фотографию над пианино? – говорит она мне. – С которой мама все время разговаривает? Это ее мать.
Я знаю, какую фотографию она имеет в виду – смотрю на нее каждый день. «Помоги мне, помоги мне», – жалобно стонет наша мама, обращаясь к портрету, когда вытирает пыль с пианино или подметает пол. Я чувствую себя неловко из-за того, что никогда не спрашивала ее – или кого-то еще, – чей это портрет. Меня также расстраивает, что моя новость оказалась ненужной и не придала мне веса в глазах сестер.
Из трех сестер меня считают самой тихой и неприметной. Мне было невдомек, что Магде может надоесть ее вечное зубоскальство, а Клара может внутренне роптать на свою участь юного виртуоза. Ей ни на секунду нельзя останавливаться, иначе она перестанет быть выдающейся скрипачкой и тогда лишится всего: потеряет всеобщее обожание, к которому так привыкла, и утратит свою высокую самооценку. Мне и Магде приходится прилагать массу усилий, чтобы добиться хоть чего-нибудь, однако и я, и она абсолютно уверены, что, сколько бы мы ни вкалывали, этого всегда будет недостаточно. У Клары другое: ей нужно беспокоиться, что в любой момент она может совершить фатальную ошибку – и потерять все. Сестра играет на скрипке всю мою жизнь – столько, сколько я себя помню. Она начала, когда ей было три года. Уже гораздо позже я поняла, какова цена ее удивительного таланта: Клару лишили детства. Я никогда не видела, чтобы она играла в куклы. Вместо этого она стояла у открытого окна и упражнялась на скрипке; сестра не получала удовлетворения от своей игры, если внизу не собиралась толпа прохожих – восхищенных свидетелей ее творческого дара.
– Мама любит папу? – спрашиваю я сестер. Холодность между нашими родителями и их печальные признания наталкивают меня на мысль, что я никогда не видела, чтобы нарядными они шли куда-то вместе.
– Ну что за вопрос, – говорит Клара. Хотя сестра уходит от ответа, но по ее глазам я вижу, что, похоже, ей знакомо мое чувство. Мы никогда больше не затронем эту тему, несмотря на мои дальнейшие попытки. Пройдут годы, прежде чем я узнаю то, о чем мои сестры уже наверняка догадались: на самом деле довольно часто любовь бывает обусловленной, основанной на выполнении ожиданий другого человека, – она дается как вознаграждение, и ты довольствуешься этим малым.
Пока мы надеваем ночные рубашки и укладываемся спать, все мои переживания за родителей благополучно улетучиваются. Мысли заняты уже другим: моим балетмейстером и его женой, чувством, которое меня охватывает, когда я, перескакивая через две-три ступеньки, взбегаю по лестнице в студию, сбрасываю школьную форму и натягиваю купальник и трико. Я занимаюсь балетом с пяти лет, с тех пор как мама выяснила, что музыка – не мое, но у меня есть другие таланты. Сегодня мы делали упражнения на шпагат. Балетмейстер напомнил нам, что сила и гибкость неразделимы: чтобы одна мышца напряглась, другая должна расслабиться; чтобы выработать правильную растяжку и стать гибкой, нужно иметь сильное сердце и крепкий костяк.
Я держусь за его наставления как за молитву. Опускаюсь, спина прямая, брюшной пресс напряжен, ноги вытянуты в стороны. Не забываю про дыхание, особенно когда начинаю застревать в одном положении. Я представляю, что мои мышцы и связки натягиваются, словно струны на скрипке моей сестры; важно найти точку натяжения, чтобы заставить тело звучать как инструмент. И вот я опустилась. Я это сделала. Села на полный шпагат. «Браво! – хлопает балетмейстер. – Замри вот так». Он поднимает меня с пола и держит над головой. Трудно полностью вытягивать ноги в стороны, не опираясь на пол, но на секунду я чувствую себя так, будто я подарок, подношение. Я луч света. «Эдитка, – говорит учитель. – Все эмоции и силы в своей жизни ты будешь черпать изнутри». Через многие годы я по-настоящему пойму, о чем шла речь. А тогда я лишь знала, что могу правильно дышать, вращаться, делать махи ногой и гнуться. Мои мышцы растягиваются и укрепляются. Любое мое движение, любая поза будто взывают: это я; я есть; я существую; я такая, какая есть; я живая.
Память – территория священная. Равным образом память – место заколдованное, место, населенное призраками, неотступно меня преследующими. Там мои гнев, скорбь и чувство вины кружат, словно голодные стервятники, роются в одних и тех же старых костях. Там брожу я в поисках ответа на вопрос. Вопрос, на который нет ответа. Почему выжила я?
Мне семь лет; родители пригласили на ужин гостей. Меня посылают налить в кувшин воды. Из кухни я слышу, как они шутят: «Вот уж без чего можно было обойтись». Мне кажется, это намек на то, что до моего появления на свет они уже были полной семьей. Они имели дочь, которая играла на фортепьяно, и дочь, которая играла на скрипке. «Я лишняя, я недостаточно хороша, мне нет места» – так думаю я. Так мы неверно истолковываем факты своей жизни, строим домыслы и не проверяем, правда ли это. Так мы сами себе придумываем истории, подкрепляя то, во что уже успели поверить.
Мне восемь лет; однажды я решаю сбежать из дома. Собираюсь проверить свою теорию, что меня никто не замечает и все без меня обойдутся. Посмотрим – когда меня не будет дома, – обратят ли родители на это внимание. Вместо школы я направляюсь к дедушке с бабушкой – сажусь в трамвай и еду к ним. Мамины отец и мачеха не выдадут меня, и я доверяю им. С мамой они ведут постоянную войну из-за Магды: защищают мою сестру даже тогда, когда мама находит в ее комоде спрятанные коржики. Для меня дедушка с бабушкой неопасны – они всегда разрешают то, что запрещено. А потом они держатся за руки, чего наши родители никогда не делают. Чтобы почувствовать их любовь, не нужно кого-то из себя изображать; чтобы заслужить их похвалу, не нужно играть. Они мое утешение и поддержка. У них дома всегда уютно пахнет грудинкой и тушеной фасолью, сладкой халой и чолнтом – сытным шабатным блюдом из тушеных овощей и мяса, которое моя бабушка ходила готовить в пекарню, так как ортодоксальные евреи не могли в субботу пользоваться своей печью.
Бабушка и дедушка рады меня видеть. То было замечательное утро. Я сижу на кухне и поедаю ореховые рулетики, когда вдруг раздается звонок в дверь. Дедушка идет открывать. Через миг он прибегает на кухню. Поскольку он глуховат, то, предупреждая меня, почти кричит: «Прячься, Дицука! Твоя мать здесь!» Пытаясь защитить внучку, он ее выдает.
Итак, мама обнаруживает меня сидящей на кухне в доме бабушки и дедушки. Но больше всего меня тревожит выражение ее лица. Она не то чтобы удивлена, увидев меня здесь, – нет, она смотрит на меня так, будто сам факт моего существования застал ее врасплох. Словно я совсем не та, кого она хотела бы встретить.
Мне десять лет. Я точно знаю, что никогда мне не быть красивой, – мама ясно дала это понять. Но вдруг она заверяет меня, что мне больше не придется прятать лицо. В Будапеште есть доктор Кляйн, который исправит мое косоглазие. Мы с ней едем в Будапешт. В поезде я ем шоколад и наслаждаюсь маминым вниманием, обращенным только на меня. Доктор Кляйн – знаменитость, как говорит мама, он первый стал проводить офтальмологические операции без анестезии. Меня захватили путешествие и счастье, что ни с кем не приходится делить свою маму. Я предаюсь мечтам и не осознаю, о чем она меня предупреждает. Мне даже не пришло в голову, что операция – процедура болезненная. И вот боль поглощает меня. Мама и ее родственники, через которых мы вышли на знаменитого доктора Кляйна, прижимают к столу мое извивающееся тело. Хуже боли – боли чудовищной и бесконечной – только ощущение, что любящие люди держат меня так сильно, что я не могу шевельнуться. Лишь намного позже, после того как операция окажется успешной, я смогу взглянуть на ту сцену другими глазами – с позиции мамы. Как, наверно, ей было тяжело переносить мои страдания.
Мне тринадцать лет. Счастливее всего я бываю, когда остаюсь одна и могу погрузиться в свой мир. Однажды утром по дороге в частную гимназию я мысленно повторяю па вальса «На прекрасном голубом Дунае»[6] – в праздничные дни наш балетный класс будет танцевать его на набережной. Разыгравшееся воображение постепенно уносит меня уже в новом танце. Моя фантазия рисует встречу родителей, причем я исполняю обе партии: и матери и отца. У папы эксцентричный танец; когда мама появляется в комнате, он в утрированно комической манере делает двойной прыжок. Мама крутит пируэты в очень быстром темпе и высоко прыгает. Мое тело, выгибаясь дугой, парит в торжествующем смехе. Я никогда не видела, чтобы мама радовалась, ни разу не слышала, чтобы она от души хохотала, и тем не менее мое тело превращается в хранилище ее неистраченной радости.
Придя в школу, я обнаруживаю, что деньги, которые папа дал мне для оплаты целой учебной четверти, пропали. Видимо, я обронила их в вихре танца. Проверены все карманы и каждая складка одежды, но денег нет. Весь день от одной мысли, что мне предстоит сказать об этом отцу, я ощущаю обжигающий холод страха. Дома он замахивается на меня кулаком. До этой минуты отец никогда никого из нас не бил. Когда все закончилось, он не произнес ни слова и даже не взглянул на меня. Той ночью, лежа в постели, я мечтаю умереть, чтобы отец страдал из-за того, что со мной сделал. Потом я желаю смерти и ему тоже.
Нужны ли мне самой эти воспоминания? Дают ли они обо мне представление как о человеке сильном? Или, напротив, как о человеке глубоко закомплексованном? Возможно, наше детство – это компас, который помогает нам определять свое местоположение в жизни: важны ли мы для своих близких или нет. Возможно, наше детство – это карта, на которой мы изучаем размеры и границы своей значимости.
Возможно, каждая жизнь – это исследование того, чего у нас нет, но чем хотелось бы обладать, и того, что есть, но лучше бы не было.
У меня ушло несколько десятилетий, чтобы понять: к своей жизни можно подойти с другим вопросом. Не «Почему я выжила?», а «Что делать с принадлежащей мне жизнью?».
Общечеловеческие драмы моей семьи усугублялись внешнеполитическими событиями – прежде всего войнами и переделом европейских границ. До Первой мировой войны та область Словакии, где я родилась и выросла, была частью Австро-Венгрии, но в 1918 году, за десять лет до моего рождения, Версальский договор перекроил карту Европы, вследствие чего появилось новое государство. Чехословакию слепили на скорую руку, собрав под одним небом аграрную Словакию, где жили этнические венгры и словаки и откуда родом была моя семья, высокоиндустриальные Моравию и Богемию, где жили этнические чехи, и Подкарпатскую Русь, которая сегодня входит в Украину. Мой родной венгерский город Кашша стал чехословацким городом Кошице. Члены моей семьи стали дважды меньшинствами. Мы были этническими венграми в преимущественно чешской стране, а еще мы были евреями.
Хотя евреи жили в Словакии с XI века, лишь в 1840 году им разрешили поселиться в Кашше. Для еврейских семей, которые хотели там жить, городские власти при поддержке христианских ремесленных гильдий, несмотря на разрешение, все равно создавали препятствия. Однако на рубеже веков в Кашше все-таки образовалась одна из крупнейших в Европе еврейских общин. Венгерские евреи, в отличие от других восточноевропейских евреев, например польских, не жили изолированно (поэтому моя семья говорила исключительно на венгерском, а не на идише). Напротив, мы, евреи, были довольно хорошо интегрированы в венгерское общество и располагали кучей возможностей в таких областях, как образование и просвещение, разнообразная профессиональная деятельность и культурная жизнь. Тем не менее венгерские евреи постоянно сталкивались с предубеждением общества – и едва уловимым, и очень явным. Антисемитизм изобрели не нацисты. Пока я росла, до мозга костей пропиталась ощущением собственной неполноценности и верой в благо ассимиляции – для своей же безопасности. Надежнее было не афишировать, что ты еврейка, лучше слиться с толпой и не выделяться. Что касается таких чувств, как собственное достоинство, самосознание и причастность к своему народу, то с этим было тяжело. В ноябре 1938 года Венгрия аннексировала Кошице[7], и казалось, будто наш дом вновь стал родным кровом.
Мама стоит на нашем балконе дворца Андраши, старого здания, поделенного на односемейные апартаменты. Она вывесила на перилах восточный ковер. Не потому, что убирает квартиру, – это в честь праздника. Адмирал Миклош Хорти, его светлость регент Венгерского королевства, прибывает сегодня, чтобы официально приветствовать наш город в составе Венгрии. Мне понятны возбуждение и гордость родителей. Мы свои! А я сегодня приветствую Хорти: выступаю с танцем. На мне венгерский костюм: яркий шерстяной пояс и юбка с вышитыми на ней крупными цветами, свободная рубашка с белыми рукавами, ленты, кружево, красные сапожки. Когда я, танцуя у реки, делаю высокий мах ногой, Хорти аплодирует. Он обнимает танцоров. Обнимает меня.
– Дицука, вот бы у нас были светлые волосы, как у Клары, – шепчет мне Магда перед сном.
Нас все еще отделяют годы от комендантского часа и нацистских дискриминационных законов, но парад Хорти представляет собой исходную точку того, что грядет. Венгерское гражданство, с одной стороны, даровало нам чувство общности, с другой – отчужденности. Мы так рады, что говорим по-венгерски, что нас приняли как венгров, – и все-таки степень этого приятия зависит от того, насколько мы ассимилировались. Соседи утверждают, что только этнические венгры – которые не евреи – могут носить традиционные костюмы.
– Лучше не говорить, что ты еврейка, – предупреждает меня Магда. – Иначе они обязательно захотят забрать себе твои красивые одежды.
Магда – первенец; она объясняет мне, как устроен мир. Посвящает меня в подробности, порою чрезвычайно тревожащие, нуждающиеся в дальнейшем изучении и осмыслении. Когда в 1939 году нацистская Германия вторгается в Польшу, венгерские нацисты – нилашисты[8] – въезжают во дворец Андраши и занимают этаж под нами. Они крайне враждебно настроены к нашей семье и даже плюются в Магду. Нилашисты изгоняют нас из этого дома, и мы селимся в другом месте, подальше от городской магистрали, на боковой улице Лайоша Кошута в доме шесть. Теперь отцу не очень удобно ходить на работу. Прежние жильцы, тоже еврейская семья, уехали в Южную Америку, поэтому квартира оказалась свободной. Мы знаем, что и другие еврейские семьи покидают Венгрию. Сестра моего отца, Матильда, уехала еще несколько лет назад. Она живет в Нью-Йорке, в месте под названием Бронкс, в квартале еврейских иммигрантов. Ее жизнь в Америке представляется более скучной, чем наша. Мы в принципе не обсуждаем возможность отъезда.
Даже в следующем 1940 году (мне уже исполнилось тринадцать), когда нилашисты начали устраивать в Кашше облавы на мужчин-евреев и отправлять их на принудительные работы в так называемые трудовые лагеря, все еще кажется, будто война идет где-то далеко. Ведь отца не забрали. Тогда не забрали. Нашей защитой становится отрицание. Если не обращать внимания на то, что творится вокруг, если стать совсем незаметными, то можно жить дальше. Мы не в состоянии сделать мир безопасным, но мы можем сделать его таковым силой своего сознания. У нас получится стать невидимыми для зла.
Но однажды – это случилось в июне 1941 года – Магда едет куда-то на велосипеде и вдруг слышит завывание сирен. На бешеной скорости она пролетает три квартала, чтобы спрятаться в бомбоубежище в доме бабушки и дедушки, – и видит, что полдома уже разрушено. Слава богу, бабушка и дедушка выжили. Но владелица дома, сдававшая им квартиру, нет. То была странная атака: одна мощная бомбардировка – и один разрушенный район. Нам говорят, что за руины и смерть ответственность несут русские[9]. В это никто не верит, но никто не может и опровергнуть. Нам повезло, но в то же время мы чувствуем свою уязвимость. Единственное, что не вызывает сомнений, – груды кирпичей на том месте, где были дома. Разрушения, гибель и полная наша незащищенность – вот неопровержимые факты. Венгрия поддерживает Германию в операции «Барбаросса». Мы вторгаемся в Россию.
Примерно в то же самое время нас обязуют носить на одежде желтые звезды[10]. Нужно исхитряться, чтобы запрятывать звезду под пальто. Но даже когда ее не видно, я чувствую себя так, будто сделала что-то плохое и наказуемое. В чем мой неискупимый грех? Мама не отходит от радио. Однажды мы устраиваем пикник у реки, и папа рассказывает нам о своем опыте военнопленного в России во времена Первой мировой войны. Я догадываюсь, что испытания, перенесенные им в плену, как-то связаны с его пристрастием к свинине и отходом от религии, – на самом деле, конечно, у отца была настоящая травма, хотя тогда я еще не знала ни этого слова, ни самого понятия. Мне понятно, что причины его душевных страданий надо искать в той войне. Но эта война, сегодняшняя, – она все еще не рядом, где-то в другом месте. Ее можно не принимать в расчет, что я и делаю.
После школы я провожу по пять часов в балетной студии, а еще в моей жизни появилась гимнастика. Правда, я начала ею заниматься как дополнительной практикой, нужной для танца, но довольно скоро гимнастика становится не меньшей страстью, если даже не равной балету. Я записываюсь в книжный клуб, куда ходят ученицы моей частной гимназии и ученики соседней частной школы для мальчиков. Мы читаем роман Стефана Цвейга «Мария Антуанетта. Портрет ординарного характера». Мы обсуждаем, как Цвейг пишет об истории изнутри, показывая взгляд отдельного человека. В книжном клубе есть мальчик Эрик, который в один прекрасный день обращает на меня внимание. Я вижу, как он присматривается ко мне каждый раз, когда я говорю. Он высокий, с веснушками и рыжеватыми волосами. Я представляю себе Версаль, будуар Марии Антуанетты, где мы встречаемся с Эриком. Про секс я не знаю ничего, но я девочка мечтательная. Я вижу, что он заинтересовался мной, и уже думаю: интересно, а как выглядели бы наши дети? У них тоже были бы веснушки? После обсуждения Эрик подходит ко мне. От него так приятно пахнет: свежестью и травами с берегов реки Горнад, где вскоре мы будем с ним гулять.
Между нами сразу возникли настоящие и содержательные отношения. Мы говорим о литературе. О Палестине (он убежденный сионист). Сейчас не время беззаботных свиданий, наша связь – не случайное увлечение, не детская сентиментальная влюбленность. Это любовь перед лицом войны. Для евреев ввели комендантский час, но однажды поздно вечером мы тайком убегаем без наших желтых звезд. Мы стоим в очереди в кино. Находим в темноте свои места. Показывают американский фильм с Бетт Дейвис. Его оригинальное название, как я узнаю позже, – Now, Voyager («Вперед, путешественник»), но в Венгрии он идет как Utazás a múltból («Путешествие в прошлое»). Бетт Дейвис играет незамужнюю девушку, которую тиранит все контролирующая мать. Героиня пытается найти себя и обрести свободу, но ее постоянно угнетают критические замечания матери. Эрик видит здесь политическую метафору самоопределения и самооценки. Я вижу тени моей матери и Магды: моей матери, которая души не чает в Эрике, но порицает Магду за ее несерьезные свидания; которая умоляет меня взять добавки за обедом, но отказывается класть Магде полную тарелку; которая часто тиха и погружена в себя, но злится на Магду; чей гнев, который никогда не бывает адресован мне, все равно внушает мне ужас.
Наши семейные баталии, наступление Советской армии – мы никогда не знаем, что будет дальше. Во тьме и хаосе неизвестности мы с Эриком заряжаем друг друга собственным светом. Каждый день наша свобода и возможности выбора все больше и больше ограничиваются, а мы с ним строим планы на будущее. Наши отношения словно мост, по которому мы можем перейти от сегодняшних тревог к будущим радостям. Планы, страсть, обещания. Быть может, весь этот кавардак вокруг делает нас более преданными и менее сомневающимися. Никто не знает, что произойдет, но мы знаем. У нас есть мы и наше будущее, наша общая жизнь, которую мы видим так же ясно, как видим свои сплетенные вместе руки. Как-то в августе 1943-го мы идем на реку. Он берет с собой камеру и фотографирует меня в купальном костюме – я делаю шпагаты на траве. Я представляю, как однажды покажу эти снимки нашим детям. Расскажу им, как мы не давали погаснуть свету нашей любви и преданности.
Когда я вернулась в тот день домой, отца с нами уже не было. Его забрали в трудовой лагерь. Он портной, он аполитичен. Разве может он представлять хоть какую-нибудь угрозу? Почему выбрали его? У него появился враг? Есть много всего, о чем мать мне не говорит. Это потому, что сама не знает? Или она так защищает меня? А возможно, себя? Она не говорит открыто о своих тревогах, но в долгие месяцы папиного отсутствия я чувствую, как ей грустно и страшно. Я вижу, как она старается готовить несколько блюд из одной курицы. Как она страдает мигренью. Чтобы восполнить потерю дохода, мы берем квартиранта. У него свой магазин через дорогу от нас, и я долгими часами сижу там, потому что нахожу умиротворение в его присутствии.
Магда – она уже окончила школу и фактически стала взрослой – каким-то образом выясняет, куда угнали отца, и навещает его там. Она наблюдает, как ему приходится поднимать и таскать с места на место столы и как его шатает от их веса. Это единственная подробность, которую она мне рассказывает. Я не представляю, что стоит за этой картинкой. Не знаю, какую работу заставляют выполнять отца в неволе. Не знаю, как долго он пробудет в заключении. У меня два образа папы. Первый папа, каким я его знала всю жизнь, – с сигаретой во рту, портновским сантиметром на шее и мелом в руке, чтобы наметить рисунок на дорогой ткани; с блеском в глазах, готовый запеть или рассказать анекдот. И другой, новый папа – в безвестном месте, на безлюдной земле, поднимающий слишком тяжелый стол.
На свой шестнадцатый день рождения я не иду в школу из-за простуды, и Эрик приходит к нам домой, чтобы подарить мне розы, ровно шестнадцать, и первый нежный поцелуй. Мне и радостно и грустно. За что я могу ухватиться? Что не исчезнет? Свою фотографию, которую Эрик сделал на берегу реки, я дарю подруге. Уже не помню почему. Отдаю на хранение? У меня нет предчувствия, что меня скоро заберут, заберут задолго до следующего дня рождения. И все-таки… Будто бы я знала: мне понадобится, чтобы у кого-нибудь хранилось свидетельство моей жизни, и нужно будет посеять вокруг себя как бы семена доказательства своего существования.
Ранней весной, проведя семь или восемь месяцев в трудовом лагере, отец возвращается. Это настоящая благодать: его отпустили перед Песахом, за неделю или две. И мы верим в это. А папа… папа снова берется за портновский сантиметр и мел. Он ничего не говорит о том месте, откуда пришел.
Прошло несколько недель после возвращения отца. Как всегда, я прихожу в студию гимнастики, сажусь на синий мат и выполняю весь полагающийся комплекс разминки перед вольными упражнениями: тяну носки, сгибаю ступни, вытягиваю ноги, руки, шею, спину. Я снова чувствую себя самой собой. Не маленькой косоглазой коротышкой, которая боится произнести собственное имя. Не испуганной дочерью, опасающейся за свою семью. Я артистка, я гимнастка, мое тело сильное и гибкое. Может, и нет у меня внешности Магды, нет у меня и славы Клары, но у меня есть мое упругое и выразительное тело; и его многообещающее существование – единственное, что мне по-настоящему нужно. У меня есть и подготовка, и навыки – благодаря этому в моей жизни появляются немыслимые возможности. Из лучших гимнасток в нашем классе сформирована команда для подготовки к Олимпиаде. Олимпийские игры 1944 года отменили из-за войны, что дает нам больше времени подготовиться к сложной конкурентной борьбе.
Я закрываю глаза, вытягиваю корпус и руки вдоль ног. Моя подруга слегка толкает меня большим пальцем ноги, я поднимаю голову и вижу, как наша тренер идет прямо ко мне. Мы все чуть ли не влюблены в нее. Это не плотское влечение, а что-то вроде преклонения перед героем. Иногда мы возвращаемся домой и выбираем более долгий путь, только чтобы пройти мимо ее дома, – мы идем как можно медленнее, надеясь хоть мельком увидеть ее в окне. Мы испытываем ревность, ведь мы ничего не знаем о ее жизни. С тех пор как у меня появился шанс участвовать в Олимпиаде – когда война наконец-то закончится, – мое ощущение будущего и той цели, к которой я должна стремиться, в основном замыкается на моем тренере, ее поддержке и вере в меня. Если я смогу вобрать в себя все, чему она должна меня научить, если я справлюсь и оправдаю ее доверие, то передо мной откроются большие перспективы.
– Эдитка, – говорит она, подходя к моему мату. Она использует мое полное имя, но с уменьшительно-ласкательным суффиксом. – На пару слов.
Тренер касается пальцами моей спины, когда выводит меня в коридор.
Я выжидающе смотрю на нее. Может быть, она заметила, что мой опорный прыжок стал лучше? Или хочет, чтобы сегодня я осталась после тренировки и позанималась со всей командой упражнениями на растяжку? Или собирается пригласить меня на ужин? Я согласилась бы на все, что бы она мне ни предложила.
– Не знаю, как тебе об этом сказать, – начинает она. И внимательно смотрит на меня, а затем переводит взгляд на окно, где горит закатное солнце.
– Что-то с моей сестрой? – спрашиваю я, прежде чем осознаю, какая ужасная картина предстает перед мысленным взором. Клара сейчас учится в консерватории в Будапеште. Мама уехала в Будапешт посмотреть выступление дочери и забрать ее домой на Песах. И вот тренер неловко стоит в холле рядом со мной и не в силах посмотреть мне в глаза – я начинаю бояться, что их поезд сошел с рельсов. Еще рановато для их возвращения, но это единственная возможная трагедия, которая приходит мне в голову. Первое несчастье, о котором я думаю даже в военное время, имеет техногенный характер – трагедия из-за человеческой ошибки, а не спланированная человеком, хотя я знаю, что некоторые из преподавателей Клары, в том числе и неевреи, уже сбежали из Европы, боясь того, что грядет.
– С твоей семьей все хорошо, – ее голос звучит неубедительно. – Эдит, это не мое решение. Но я вынуждена сказать, что твое место в олимпийской учебно-тренировочной команде придется отдать кому-то другому.
Кажется, меня вот-вот стошнит. Мне неуютно быть в собственном теле.
– Что я такого сделала? – перебирая в уме месяцы тяжелых тренировок, силюсь вспомнить, что совершила не так. – Я не понимаю.
– Девочка моя, – говорит она, теперь уже глядя мне прямо в глаза. А это еще хуже, поскольку я вижу ее слезы, а в такой момент, когда мои мечты раздирают с такой же легкостью, как рвут газету на части в мясном отделе, мне не хочется испытывать к ней жалость. – Дело в том, что из-за своего происхождения ты не проходишь отбор.
Я думаю о тех детях, плевавших в меня и называвших грязной еврейкой, о моих друзьях-евреях, переставших посещать школу, чтобы избежать притеснений, и теперь обучающихся по радиокурсам. «Если кто-то плюет в тебя, отвечай тем же», – учил меня папа. «Вот что ты сделаешь», – я думаю о том, чтобы плюнуть тренеру в лицо. Но дать сдачи – значит принять это обескураживающее известие. Я его не принимаю.
– Я не еврейка.
– Прости, Эдитка, – говорит она. – Мне так жаль! Я все еще хочу, чтобы ты занималась в моей студии. Я хотела бы попросить тебя потренировать девочку, которая заменит тебя в команде.
Снова ее пальцы касаются моей спины. Через год моя спина будет сломана как раз в том месте, где она меня гладит. Через несколько недель вся моя жизнь окажется под ударом. Но сейчас, в коридоре нежно любимой мной студии, мне представляется, что с судьбой моей покончено.
Все дни, следующие после изгнания из олимпийской учебно-тренировочной команды, я обдумываю свою месть. Это не будет местью из ненависти, я отомщу своим совершенством. Покажу тренеру, что я безупречна: самая результативная гимнастка и лучший инструктор. Замену себе я буду готовить тщательно и докажу, какая ошибка – выводить меня из команды. В тот день, когда мама и Клара должны были вернуться из Будапешта, по пути домой я представила: девочка, которая заменит меня, – это мой дублер, а звездой действа стану я. Решив, что так и будет, я прошлась «колесом» по красному ковру, лежащему на лестничной площадке и ведущему к нашей квартире.
Я нахожу маму и Магду на кухне. Магда мелко нарезает яблоки для харосета[11]. Мама толчет мацу в муку. Они погружены в работу, и вид у них довольно пасмурный. Едва ли они замечают, что я пришла. Такие у них отношения: мама и сестра все время грызутся, а когда не ругаются, то все равно ведут себя так, словно уже вошли в новую конфронтацию. Раньше они ссорились из-за еды, так как маму беспокоит вес Магды, но теперь конфликт перерос в ставшую уже привычной постоянную враждебность.
– А где Клара? – спрашиваю я, своровав немного дробленых грецких орехов из миски.
– В Будапеште, – отвечает Магда.
Мама с громким стуком ставит миску с мацой на кухонный стол.
Мне интересно, почему сестра не с нами в праздник. Неужели она нам предпочла музыку? Или ей не разрешили пропустить занятия ради праздника, который никто из ее однокурсников не отмечает? Но я ничего не спрашиваю. Боюсь, что своими вопросами доведу маму до кипения. Я удаляюсь в спальню, где мы спим все вместе: мои родители, Магда и я.
В любой другой вечер, особенно праздничный, мы собрались бы возле пианино, на котором Магда играет с малых лет, и они с папой по очереди пели бы песни. Мы с Магдой не такие одаренные, как Клара, но у нас всегда была страсть к творчеству, которую наши родители заметили и поощряли. После того как Магда сыграла бы нам, пришел бы мой черед выступать. «Дицука, станцуй!» – сказала бы мама. И хотя это скорее требование, чем предложение, я была бы рада насладиться вниманием и похвалой родителей. Затем Клара, гвоздь программы, заиграла бы на скрипке, и тогда мама словно преобразилась бы. Но сегодня в нашем доме музыка не звучит. Перед ужином Магда пытается меня развеселить, вспоминая, как раньше перед седером[12] я набивала в свой бюстгальтер носки, желая впечатлить Клару и показать, что в ее отсутствие я стала женщиной. «Теперь ты созрела и можешь щеголять своей настоящей женственностью», – говорит Магда. Она продолжает дурачиться и за праздничным столом: болтает пальцами в бокале вина, поставленном нами согласно обычаю для пророка Элияху, который оберегает евреев от всяких опасностей. В иное время наш папа, глядя на сестру, невольно бы рассмеялся. В иное время наша мама пресекла бы ее глупости суровым замечанием. Но сегодня родители не обращают внимания на Магду: для этого отец слишком отрешен, а мать чрезвычайно удручена отсутствием Клары. Когда мы открываем дверь квартиры, чтобы впустить пророка Элияху, меня начинает бить дрожь, и вечерняя прохлада здесь ни при чем. Где-то в глубине души я знаю, что сейчас мы очень нуждаемся в его защите.
– Ты обращалась в консульство? – спрашивает папа. Теперь он даже не делает вид, что ведет седер. Никто, кроме Магды, не может есть. – Илона?
– Я обращалась в консульство, – говорит мама. Она как будто отвечает из другой комнаты.
– Повтори, что сказала Клара.
– Еще раз? – возмущается мама.
– Еще раз.
Она безучастно рассказывает, пальцы нервно теребят салфетку. Клара позвонила ей в отель в четыре утра. Профессор Клары только что сообщил ей, что бывший профессор консерватории, а ныне известный композитор Бела Барток позвонил из Америки с предупреждением: немцы в Чехословакии и Венгрии начинают ужесточать режим – евреев наутро заберут. Профессор запретил Кларе возвращаться в Кашшу. Он хотел, чтобы она убедила маму тоже остаться в Будапеште и позвать остальных членов семьи.
– Илона, почему ты вернулась? – стонет отец.
Мама впивается в него взглядом.
– А как же все, чего мы здесь добились? Надо все просто бросить? А если вы трое не доберетесь до Будапешта? Ты хотел бы, чтобы я с этим жила?
В тот миг я не осознаю, как им страшно. Я слышу лишь очередное разочарование друг в друге и обвинения, которыми они обычно перебрасываются, – обвинения привычные и бессмысленные. Ну что ты наделал! И как ты мог этого не сделать! А ты что наделала! И ты не сделала вот это! Потом я пойму, что сейчас это не обычная перебранка, что сейчас у их разногласий есть предыстория и существенные причины. Что были билеты в Америку, от которых папа отказался. Что с мамой попытался переговорить венгерский чиновник, имевший для всей нашей семьи поддельные документы и уговаривавший нас бежать. Позже мы узнаем, что у них обоих был шанс сделать другой выбор. Теперь они мучаются угрызениями совести и прячут свое сожаление в обвинениях.
– Можно я уже задам четыре вопроса? – спрашиваю я, чтобы разрядить угрюмую атмосферу. Такова моя роль в семье. Играть миротворицу в ссорах. Между родителями, между мамой и Магдой. Независимо от того, что творится за дверью нашей квартиры, – этого я все равно не могу контролировать. Но в стенах нашего дома у меня есть еще одна работа, которую мне нужно исполнить: как младшему ребенку в семье мне полагается задавать четыре вопроса. Мне даже не нужно открывать свою Агаду[13]. Я знаю текст наизусть. «Чем отличается эта ночь от всех других ночей?» – начинаю я…
После трапезы отец обходит стол, целуя каждую из нас в лоб. Он плачет. Чем отличается эта ночь от других ночей, мы узнаем еще до рассвета.
Глава 2. То, что у тебя в голове
Они приходят в темноте. Они барабанят в дверь. Они орут. Это отец впускает их или они вламываются к нам силой? Кто они – немецкие солдаты или нилашисты? Ничего не могу разобрать в шуме, который резко меня разбудил. Во рту еще сохранился вкус пасхального вина. Солдаты врываются в спальню, объявляя, что нас забирают из дома и куда-то переселяют. Нам разрешено взять один чемодан на четверых. Мама тотчас начала собираться, а я никак не могу прийти в себя и сойти с раскладушки, которая стоит в ногах родительской кровати. Не успела я опомниться, а она, уже одетая, перерывает все на верхней полке шкафа в поисках коробочки, где хранится Кларин «чепец» – кусочек водной оболочки плода, или амнион, который, когда родилась Клара, покрывал ее голову и лицо, словно шлем. Раньше повитухи забирали амнионы и продавали морякам как оберег от утопления. Мама боится класть коробочку в чемодан, упрятывает поглубже в карман пальто – талисман на удачу. Не знаю, берет ли она «чепчик» как оберег для Клары или для того, чтобы защитить всех нас.
– Скорей, Дицу, – торопит она меня. – Вставай, одевайся.
– Правда, в одежде твоя фигура особенно лучше не станет, – шепчет Магда. Никакой передышки от ее поддразниваний. И как я пойму, что пришло время по-настоящему бояться?
Мама уже на кухне, собирает остатки еды, кастрюли и сковородки. Собственно, мы будем выживать две недели на припасах, которые она сейчас собирается взять с собой: немного муки, немного куриного жира. Папа ходит по спальне и гостиной, достает книги, подсвечники, одежду, что-то откладывает. «Принеси пледы», – кричит ему мама. Думаю, если у него был бы один птифур, он обязательно взял бы его в дорогу, лишь бы только с радостью потом отдать его мне и увидеть хоть на краткий миг удовольствие на моем лице. Слава богу, мама более практична. Когда она была еще ребенком, то заменила мать своим младшим братьям и боролась с голодом долгие месяцы горя. Бог мне свидетель, – возможно, думает она, собирая вещи, – я никогда больше не буду голодать. И все-таки мне хочется, чтобы она бросила посуду, все эти вещи для выживания, вернулась в спальню и помогла бы мне одеться. Я хотела, чтобы она хотя бы просто меня позвала. Сказала бы, что надеть. Сказала бы не переживать. Сказала бы, что все хорошо.
Солдаты громко топают сапогами, автоматами переворачивают стулья. Быстрее! Быстрее! Вдруг я чувствую злость на маму. Она спасла бы сначала Клару, а потом меня. Она с большей охотой будет рыться в кладовке, чем возьмет меня за руку в темноте. Мне придется в чем-то другом искать для себя опору и надежду. Несмотря на прохладу темного апрельского утра, я надеваю тоненькое голубое платье из шелка, то самое, которое было на мне, когда Эрик меня поцеловал. Провожу пальцами по складкам. Завязываю узкий голубой замшевый пояс. Я буду носить это платье, чтобы однажды его руки снова обняли меня. В этом платье я буду оставаться желанной, защищенной, готовой вернуть свою любовь. Если я буду дрожать, оно будет эмблемой моей надежды, знаком того, что я вверилась чему-то глубокому, лучшему. Я представляю, как Эрик и его семья тоже одеваются и суетятся в темноте. Я чувствую, что он тоже думает обо мне. Поток энергии заполняет меня от макушки до пальцев ног. Я закрываю глаза и обхватываю себя ладонями, давая свету, оставшемуся от этой вспышки любви и надежды, согреть меня.
Но уродливое настоящее вторгается в мой мир. «Где ванная?» – один из солдат кричит на Магду. Моя любящая покомандовать, саркастичная и кокетливая сестра съеживается под его свирепым взглядом. Я раньше не видела, чтобы она чего-то боялась. Она никогда не упускала возможности кого-то раздразнить и рассмешить. Ни взрослые, ни любые начальники никогда не имели над ней власти. В школе она не вставала, как положено, когда в класс входил учитель. «Элефант», – однажды наш учитель математики, человек очень невысокого роста, сделал ей замечание, назвав по фамилии. Моя сестра встала на цыпочки и осмотрелась вокруг. Потом поглядела на него: «Ой, вы там? А я вас не заметила». Но сегодня мужчины вооружены. Она не делает резких комментариев, не отпускает бунтарских язвительных замечаний. Она робко указывает на дверь ванной вниз по коридору. Солдат отпихивает ее с пути. У него оружие. Разве ему нужно как-то еще доказывать свое превосходство? Тогда-то я начинаю понимать, что всегда может стать намного хуже. Что в каждом мгновении есть потенциал насилия. Мы не знаем, когда и как мы сломаемся. Но если делать, что тебе говорят, это может и не спасти.
– На выход. Быстро. Пришло время немного покататься, – говорят солдаты.
Мама закрывает чемодан, и папа его забирает. Мама застегивает свое серое пальто и первая выходит за командиром на улицу. Следующая я, потом Магда. Но прежде чем мы подойдем к фургону, который ждет нас у края тротуара, я оборачиваюсь, чтобы увидеть папу, покидающего дом. Он стоит лицом к двери с чемоданом в руке, с растерянным видом; путешественник-полуночник, хлопающий себя по карманам, проверяющий ключи. Солдат выкрикивает оборванное ругательство и резко открывает ногой дверь.
– Давай, – говорит он. – Взгляни напоследок. Полюбуйся.
Отец смотрит в темное пространство. На секунду он кажется сбитым с толку, как будто пытается понять: солдат проявил великодушие или жестокость? Затем солдат пинает его в колено, и папа, хромая, идет к нам – к фургону, где сидят другие семьи.
Во мне смешались желание защитить родителей и сожаление, что они больше не могут защитить меня. Эрик, – молю я про себя. – Куда бы мы ни направлялись, помоги мне найти тебя. Не забывай о нашем будущем. Не забывай нашу любовь. Мы сидим рядом с Магдой на голых скамьях. Сестра не произносит ни слова. В моем списке сожалений особенно выделяется одно: я тогда не взяла сестру за руку.
Забрезжил утренний свет, наш фургон подъезжает к Якабскому кирпичному заводу, стоящему на окраине города, и нас сгоняют внутрь. Нам повезло: мы оказались среди тех, кого привезли первыми, поэтому нас размещают в сушильных сараях. Большинство из почти двенадцати тысяч заточенных здесь евреев будут спать без крыши над головой. Все мы будем спать на полу. Накрываться своими пальто и дрожать от весеннего холода. Научимся закрывать уши, когда людей будут бить посреди лагеря за малейшие проступки резиновыми дубинками. Водопровода здесь нет. Ведра с водой, которых всегда недостаточно, привозят на конных повозках. Поначалу продовольствия – в том числе оладий, которые мама делает из взятых из дома остатков, – хватает, чтобы нас прокормить, но уже через несколько дней голодные боли перерастают в постоянную судорожную дрожь. Магда видит свою школьную учительницу физкультуры в соседнем бараке. В этих условиях голода женщина пытается прокормить новорожденного ребенка. «Что мне делать, если у меня закончится молоко? – жалуется она нам. – Мой ребенок плачет и плачет».
Лагерь разделен на две части, по обеим сторонам улицы. На нашей стороне живут евреи из нашей части города. Мы узнаем, что здесь, на кирпичном заводе, держат всех евреев Кашши. Мы встречаем наших соседей, владельцев магазинов, учителей, друзей. Но моих бабушки и дедушки, чей дом был в тридцати минутах ходьбы от нашего дома, нет на нашей стороне лагеря. От другой части нас отделяют ворота и охрана. Нам не разрешено туда переходить. Но мне удается уговорить надзирателя, и он разрешает мне пойти поискать родственников. Я иду через бараки без стен, тихо повторяя их имена. Бродя туда и обратно между ютящимися семьями, я произношу и имя Эрика. Я говорю себе, что это лишь дело времени и терпения. Я найду его, или он найдет меня.
Я не нахожу ни бабушки, ни дедушки. Не нахожу Эрика.
Но однажды вечером, когда приезжают повозки с водой и люди толпами бегут набрать себе хотя бы ведерко, Эрик высмотрел меня, пока я сидела в одиночестве и охраняла наши пальто. Он целует меня в лоб, щеки, губы. Я трогаю свой замшевый пояс на платье, восхваляя его за принесенную удачу.
После этого нам удается видеться каждый день. Иногда мы размышляем, что с нами произойдет дальше. Распространяются слухи, что нас отправят в место под названием Кеньермезо, лагерь для интернированных, где мы будем работать и переживать войну с нашими семьями. Мы не знаем, что этот слух пустили венгерская полиция и нилашисты, дав ложную надежду. После войны в почтовых отделениях будут грудами лежать пачки неоткрытых писем от обеспокоенных родственников из далеких городов. В поле для адреса на них значится Кеньермезо. Такого места нет.
А те места, которые существуют и где ждут прибытия наших поездов, сложно вообразить. После войны. Это время, о котором мы с Эриком позволяем себе думать. Мы поступим в университет. Переедем в Палестину. Откроем салоны и книжные клубы, какие мы посещали в школе. Мы дочитаем «Толкование сновидений» Фрейда.
На кирпичном заводе нам слышно, как снаружи катятся трамваи. Они совсем рядом. Легко можно было бы запрыгнуть. Но в любого, кто подходит близко к внешней ограде, стреляют без предупреждения. Девочка чуть постарше меня пытается сбежать. Ее тело вешают посреди лагеря как пример. Родители не говорят ни слова ни мне, ни Магде о ее смерти. «Постарайтесь найти кусок сахара, – говорит нам отец. – Найдите кусочек сахара и сохраните его. Всегда носите с собой какую-нибудь маленькую сладость». Однажды мы узнаем, что наших бабушку и дедушку увезли с завода одними из первых. Мы увидимся с ними в Кеньермезо – так мы думаем. Я целую Эрика на ночь и твердо верю, что его губы – та сладость, на которую я точно могу рассчитывать.
Мы пробыли уже месяц на заводе, и вот одним ранним утром наш сектор эвакуируют. Я спешно ищу кого-нибудь, кто передал бы Эрику записку. «Забудь, Дицу», – говорит мама. Она и папа написали прощальное письмо Кларе, но нет никакой возможности его отправить. Я смотрю, как мама выбрасывает его, стряхивает на дорогу, как сигаретный пепел, и оно исчезает под тремя тысячами пар ног. Шелк платья касается моих ног, наш поток то движется рывками, то останавливается, движется и останавливается, и нас ведут колоннами к воротам завода и втискивают в стоящие длинной цепочкой фургоны. Нас снова сбивают в кучу во тьме. Перед тем как фургон тронется, я слышу свое имя. Это Эрик. Он зовет меня через доски сбоку фургона. Я пробираюсь к нему на зов.
– Я здесь! – кричу я под звук заводящегося мотора. Расстояние между досками слишком узкое, чтобы я смогла его увидеть или дотронуться до него.
– Я никогда не забуду твои глаза, – говорит он. – Я никогда не забуду твои руки.
Я беспрерывно повторяю эти фразы, когда мы заходим в переполненный вагон на железнодорожной станции. Сквозь его успокаивающий голос, звучащий в моей памяти, не слышны ни крики надзирателей, ни плач детей. Если сегодня я выживу, я смогу посмотреть ему в глаза, показать ему свои руки. Я дышу в ритм с этим заклинанием: «Если сегодня я выживу…» Если сегодня я выживу, завтра я буду свободна.
Вагон не похож на те, в которых я ездила раньше. Это не пассажирский поезд, в нем перевозят домашний скот или грузы. Мы человеческий груз. Нас по сотне в вагоне. Каждый час ощущается как неделя. Неопределенность растягивает минуты. Неопределенность и непрекращающийся стук колес по рельсам. На восьмерых одна буханка хлеба. Одно ведро воды на всех. Одно ведро для отходов нашей жизнедеятельности. Пахнет потом и экскрементами. Люди умирают в дороге. Мы все спим стоя, привалившись на наших родственников, вытесняя мертвых. Я вижу, как мужчина дает что-то своей дочери – это упаковка таблеток. «Если они попробуют что-то с тобой сделать», – говорит он. Время от времени поезд останавливается, и нескольким людям из каждого вагона приказывают выходить за водой. Один раз воду приносит Магда. «Мы в Польше», – вернувшись, говорит она. Позже она объясняет, как это поняла. Когда выходила за водой, какой-то человек в поле приветствовал ее на польском и немецком и выкрикивал, бешено жестикулируя и проводя пальцем по горлу, название города. «Просто пытается нас запугать», – спокойно говорит Магда.
Поезд идет и идет. Родители привалились ко мне с обеих сторон. Они не разговаривают. Я не видела, чтобы они дотрагивались друг до друга. Папина борода седеет. Он выглядит старше своего отца, и это меня пугает. Я умоляю его побриться. Откуда мне было знать, что моложавость может даже спасти жизнь, когда мы прибудем в конечный пункт нашей поездки? Это просто интуитивное чувство, просто девочка скучает по тому отцу, которого знает, мечтая, чтобы он снова был жизнелюбом и весельчаком, галантным ухажером, любимцем женщин. Я не хочу, чтобы он стал таким отцом, который пьет таблетки и ворчливо сообщает семье: «Это хуже, чем помереть».
Но когда я целую папу в щеку и говорю: «Папа, пожалуйста, побрейся», он отвечает мне с раздражением: «Зачем? Зачем? Для чего?» Мне стыдно, что я сболтнула что-то не то и заставила его на меня злиться. Почему я сказала такую неуместную вещь? С чего я решила, будто имею право говорить отцу, что ему делать? Я вспоминаю, в какой он был ярости, когда я потеряла деньги для оплаты учебы. Ища утешения, я прислоняюсь к маме. Я хотела бы, чтобы мои родители протянули руки друг другу, вместо того чтобы сидеть словно чужие. Мама почти ничего не говорит. Не стонет жалобно. Она не испытывает желания умереть. Она просто уходит в себя.
– Дицука, – говорит она однажды ночью, – послушай. Мы не знаем, куда нас отправляют. Мы не знаем, что будет дальше. Просто запомни: никто не отнимет то, что у тебя в голове.
Я засыпаю и вижу еще один сон про Эрика. И снова просыпаюсь.
Они открывают двери товарных вагонов, и внутрь хлещет яркое майское солнце. Нам отчаянно хочется выйти. Мы бросаемся к воздуху и свету. Мы буквально вываливаемся из вагона, наталкиваясь друг на друга в стремлении скорее выйти. После нескольких дней бесконечного движения поезда трудно стоять прямо на твердой земле. Мы пытаемся во всех смыслах сориентироваться в пространстве: определить наше местоположение, вернуть душевное и телесное равновесие. Я вижу сгустившуюся тьму зимних пальто – людей, сгрудившихся на узком участке земли. Я вижу на секунду мелькание белого: чей-то шарф или узелок с вещами; вижу желтизну обязательных к ношению звезд. Вижу надпись: ARBEIT MACHT FREI[14]. Играет музыка. Мой папа внезапно ободряется. «Вот видишь, – говорит он, – не похоже на то, что это ужасное место». Судя по его виду, он мог бы пуститься в пляс, если на платформе не было бы такой толпы. «Мы только поработаем немного, пока не закончится война», – говорит он. Похоже, слухи, которые ходили на кирпичном заводе, – правда. Должно быть, мы здесь, чтобы работать. Я ищу глазами зыбь полей и представляю худое тело Эрика, наклонившегося напротив меня, чтобы обработать посевы. Вместо этого я вижу сплошные горизонтальные линии: тонкие доски вагонов для перевозки скота, бесконечная проволока на заборе, ряд низких построек. Несколько деревьев и дымоходов в отдалении нарушают ровный ландшафт этого пустынного места.
Люди в форме проталкиваются между нами. Никто ничего не объясняет. Нам только рявкают команды. Туда. Сюда. Нацисты показывают направление и толкают нас. Мужчин сгоняют в отдельную очередь. Я смотрю, как отец машет нам. Быть может, их посылают вперед, чтобы они заняли место для своих семей. Интересно, где мы будем сегодня спать? И когда же мы будем есть? Мама, Магда и я стоим вместе в длинной очереди из женщин и детей. Медленно движемся вперед. Мы приближаемся к мужчине, который дирижерским жестом отправляет нас к нашим судьбам. Я еще не знаю, что этот мужчина – доктор Йозеф Менгеле[15], печально известный как Ангел Смерти. Мы подходим к нему все ближе, и я не могу отвести взгляд от его глаз, таких властных, таких холодных. Когда мы совсем рядом, я вижу щель между его передними зубами, по-детски зияющую, когда он улыбается. Его голос кажется почти добрым, когда он спрашивает, есть ли здесь больные, и отправляет ответивших утвердительно налево.
– Если вам от четырнадцати до сорока, оставайтесь в этой очереди, – говорит другой командир. – Старше сорока – налево.
Длинная вереница детей, пожилых женщин и молодых с младенцами ответвляется влево. У мамы вся голова седая – она рано поседела; но мамино лицо гладкое и без морщин, как мое. Мы с Магдой крепко сжимаем ее по бокам.
Теперь наша очередь. Доктор Менгеле командует. Он указывает моей маме идти налево. Я хочу последовать за ней. Он хватает меня за плечо.
– Ты очень скоро увидишь свою маму, – говорит он. – Она только примет душ.
Он отталкивает меня и Магду направо.
Мы не знаем, что означают эти «налево» и «направо». «Куда мы теперь идем? – спрашиваем мы друг друга. – Что с нами будет?» Нас уводят в другую часть рассредоточенного лагеря. Вокруг нас одни женщины, в основном молодые. Некоторые выглядят веселыми, почти окрыленными, так они рады тому, что дышат свежим воздухом и наслаждаются солнцем после неослабевающего смрада и клаустрофобной тьмы поезда. Кто-то кусает губы. Страх распространяется среди нас, но и любопытство тоже.
Нас приводят к очередным низким постройкам. Вокруг стоят женщины в полосатых платьях. Вскоре мы узнаем, что это заключенные, которых обязали руководить другими, но пока нам трудно понять, что здесь мы узники. Я расстегнула пальто под ярко светящим солнцем, и одна девушка в полосатом платье замечает на мне голубой шелк. Она подходит ко мне, склонив голову набок.
– Да вы только посмотрите на нее, – говорит она по-польски. Она пинает меня по туфлям на небольшом каблуке, с них слетает пыль. Я не успела сообразить, что происходит, а она уже тянется к маленьким коралловым сережкам в золотой оправе, которые по венгерской традиции я ношу с самого рождения. Она вырывает их, и я чувствую острую боль. Она кладет их к себе в карман.
Несмотря на физическую рану, мне отчаянно хочется ей понравиться. Как обычно, мне хочется быть принятой. От ее издевательской усмешки я чувствую большую боль, чем в порванных мочках.
– Зачем ты это сделала? – спрашиваю я. – Я бы сама тебе их отдала.
– Я здесь прогнивала, пока ты была на свободе, ходила в школу, в театры, – говорит она.
Интересно, как давно она тут. Она худая, но крепкая. Стоит с гордо поднятой головой. Она могла бы быть танцовщицей. Я удивлена, почему она так разозлилась оттого, что я напомнила ей об обычной жизни.
– Когда я увижу мою мать? – спрашиваю я. – Мне сказали, что я ее скоро увижу.
Она меряет меня холодным, колючим взглядом. В ее глазах никакого сочувствия. Ничего, кроме ярости. Она указывает на дым, поднимающийся из трубы вдали.
– Твоя мать горит вон там, – говорит она. – Можешь начинать говорить о ней в прошедшем времени.
Глава 3. Танец в аду
«Все эмоции и силы в своей жизни ты будешь черпать изнутри», – сказал мне мой балетмейстер. Я не понимала, что это значит, – не понимала до Аушвица.
Магда не сводит глаз с трубы на крыше здания, куда вошла наша мама. «Душа бессмертна», – говорит она. У сестры находятся слова утешения. Но у меня шок. Я в оцепенении. Я не могу думать обо всем непостижимом, что происходит, что уже произошло. Не могу представить, как мою маму поглощает огонь. Не до конца осознаю, что ее нет. Я не задаюсь вопросом «за что?». Я даже не могу предаться горю. Не сейчас. Мне придется быть предельно внимательной, чтобы выжить в следующую минуту, прожить еще один вздох. Я выживу, если моя сестра со мной. Я выживу, привязавшись к ней, будто ее тень.
Нас прогоняют через тихие, но гулкие душевые. У нас отнимают наши волосы. Мы стоим на улице, стриженые и голые, ожидая, когда нам выдадут форму. Насмешки капо[16] и эсэсовцев роятся вокруг нас, царапают, как стрелы, нашу голую мокрую кожу. Хуже их слов их глаза. Отвращение, с которым они пристально смотрят на нас, вне всяких сомнений, могло бы разорвать мне кожу, раздробить мне ребра. В их ненависти и власть, и пренебрежение, и от этого мне становится дурно. Когда-то я думала, что Эрик будет первым мужчиной, который увидит меня голой. Теперь он уже никогда не сможет увидеть мое тело, не покрытое рубцами их ненависти. Возможно, они уже сделали из меня существо менее человеческое. Буду ли я когда-нибудь снова похожа на ту девушку, которой была? Я никогда не забуду твои глаза. Я никогда не забуду твои руки. Нужно держаться – если не ради себя, то ради Эрика.
Я поворачиваюсь к сестре, которая тоже погрузилась в потрясенное молчание. Во время всех этих хаотичных рывков с места на место, в толчее всех очередей ей удавалось не разлучаться со мной. Солнце садится, и она дрожит. В руках держит свои отрезанные локоны, толстые пряди загубленных волос. Мы простояли голыми несколько часов, и она сжимает свои волосы, будто так может удержать саму себя, свою человечность. Она так близко ко мне, что мы почти касаемся друг друга, но я чувствую тоску по ней. Магда. Самоуверенная, сексуальная, со всеми своими шутками. Где она? Кажется, она сама задается этим вопросом. Она ищет себя в пучках всклокоченных волос.
Противоречия этого места выбивают меня из колеи. Как мы поняли, убийства выполняются здесь эффективно. Системно и систематически. Но система выдачи униформы, кажется, не налажена: мы прождали форму чуть ли не весь день. Надзиратели жестоки и строги, при этом ответственных как будто нет. Испытующий взгляд, которым они изучали наши тела, не свидетельствует о нашей ценности, а лишь говорит о том, насколько мы забыты миром. Все бессмысленно. Но и это тоже – нескончаемое ожидание, полное отсутствие здравого смысла – наверняка часть замысла. Как я смогла бы сохранить устойчивость, где единственное постоянство – в заборах, смерти, унижении, монотонно клубящемся дыме?
Магда наконец заговаривает со мной.
– Как я выгляжу? – спрашивает она. – Скажи честно.
Честно? Она выглядит как облезлая собака. Голая незнакомка. Этого я ей сказать, конечно, не могу, но от любой лжи тоже будет слишком больно, и поэтому ответ мне нужно найти невозможный: правду, которая не ранит. Я смотрю в неистовую голубизну ее глаз и думаю, что вопрос «Как я выгляжу?» даже для нее слишком смелый и это самое смелое, что я от нее слышала. Зеркал здесь нет. Она просит меня помочь ей найти себя и признать. И потому я говорю ей единственную правду, которую вправе сказать.
– Твои глаза, – говорю я сестре, – они такие красивые! Я никогда не обращала на них внимания, пока их прикрывали волосы.
Это первый раз, когда я поняла, что у нас есть выбор: обращать внимание на то, что мы потеряли, или на то, что все еще имеем.
– Спасибо, – шепчет она.
Все остальное, о чем я хочу ее спросить, что хочу сказать, лучше не выражать словами. Слова не смогут придать форму этой новой реальности. Тому, как я прислоняюсь к маминому плечу в сером пальто, а поезд все едет и едет. Тому, как папино лицо зарастает щетиной. Тому, как я многое бы отдала, чтобы вернуть эти темные и голодные часы в поезде. Тому, как мои родители обращаются в дым. Оба моих родителя. Мне нужно признать, что мой отец тоже мертв. Я почти собралась спросить Магду, можем ли мы надеяться, что не стали круглыми сиротами за один день, но вижу, что Магда выпустила из рук свои волосы и они упали на пыльную землю.
Нам приносят форму – серые, плохо сидящие платья из грубого хлопка и шерсти. Небо темнеет. Нас ведут в мрачные примитивные бараки, где нам предстоит спать на многоярусных нарах, по шестеро на полке. Это облегчение – войти в уродливую комнату, потерять из виду бесконечно дымящуюся трубу. Капо, та девушка, которая сорвала у меня сережки, определяет нам койки и объясняет правила. Ночью выходить никому нельзя. Есть ведро – наш ночной туалет. Мы с Магдой пытаемся улечься с соседками на нашей полке на втором ярусе. Обнаруживаем, что будет больше места, если чередуются ноги и головы. И все равно никто не может перевернуться или улечься по-другому, не вытесняя кого-то еще. Мы вырабатываем систему: приспосабливаемся переворачиваться вместе, согласуя наши повороты. Капо выдает по миске каждой заключенной. «Не потеряйте, – предупреждает она. – Нет миски – есть не будете». В сумрачном бараке мы стоим в ожидании следующей команды. Дадут ли нам поесть? Отправят спать? Мы слышим музыку. Я решаю, что мне может мерещиться звук деревянных духовых и струнных, но другая заключенная объясняет, что здесь есть лагерный оркестр, которым руководит скрипач мирового уровня. Клара! – думаю я. Но скрипач, о котором она говорит, из Вены.
Мы слышим обрывки немецкой речи у бараков. Когда дверь с грохотом открывается, капо резко выпрямляется. Я узнаю стоящего на пороге офицера – он был на селекции. Это точно он: узнаю, когда он улыбается с приоткрытым ртом, щель между передними зубами. Доктор Менгеле, как нам говорят. Изощренный убийца и ценитель искусств. По вечерам он прочесывает бараки, выискивая талантливых заключенных для своих развлечений. Сегодня он входит со свитой помощников и бросает взгляд, словно сеть, на вновь прибывших в мешковатых робах и с наспех остриженными головами. Мы стоим не шевелясь, спиной к деревянным койкам, обрамляющим комнату. Он разглядывает нас. Магда еле-еле дотрагивается до моей руки. Доктор Менгеле резко выкрикивает вопрос, и, прежде чем я пойму, что происходит, девочки рядом со мной, которые знают, что я занималась балетом и гимнастикой в Кашше, толкают меня вперед, ближе к Ангелу Смерти.
Он изучает меня. Не знаю, куда деть глаза. Смотрю прямо на открытую дверь. Оркестр собрался на улице. Они молчат, ждут приказов. Я чувствую себя Эвридикой в царстве мертвых, ожидающей, когда Орфей, сыграв аккорд на своей лире, растопит сердце Аида и освободит меня. Или я Саломея, которая должна танцевать перед своим отчимом, Иродом, скидывая вуаль за вуалью и обнажая свое тело. Дает ли этот танец ей силу или лишает ее?
– Маленькая балерина, – говорит доктор Менгеле. – Станцуй для меня.
Он дает знак музыкантам, чтобы начинали играть. Я слышу знакомое вступление из вальса «На прекрасном голубом Дунае», проникающее в темную, душную комнату. Менгеле таращит на меня глаза. Мне повезло. Я знаю все связки из «Голубого Дуная» и могу танцевать его во сне. Но мои руки и ноги отяжелели, как в кошмарном сне, когда ты в опасности, но не можешь убежать. «Танцуй!» – командует он снова, и я чувствую, как мое тело начинает двигаться.
Сначала высокий бросок ноги. Затем пируэт и поворот. Шпагаты. И наверх. Пока я делаю шаги, изгибаюсь и кручусь, я слышу, как Менгеле разговаривает со своим помощником. Он не отрывает от меня глаз, но не оставляет свои обязанности, пока смотрит. Его голос слышно сквозь музыку. С другим офицером он обсуждает, кого из сотни девушек убить следующей. Если я оступлюсь, если сделаю что-то, что ему не понравится, я могу быть следующей. Я танцую. Танцую. Танцую в аду. Невыносимо смотреть на палача, решающего наши судьбы. Я закрываю глаза.
Я сосредоточиваюсь на танце, на годах тренировки – каждая линия и изгиб моего тела будто слоги в стихах, и тело рассказывает историю: девушка появляется в танце. Она кружится в волнении и предвкушении. Затем замирает в раздумье и созерцании. Что случится в следующие несколько часов? Кого она встретит? Поворачивается к фонтану, вскидывает руки вверх, потом разбрасывает их в стороны, как бы обнимая сцену. Она наклоняется, чтобы нарвать цветов, по одному кидает их своим почитателям и знакомым из публики, бросает их людям в толпу как символ любви. Я слышу, как нарастает громкость скрипок. Сердце колотится. В укромной темноте внутри меня снова всплывают слова матери, как будто она здесь, в этой голой комнате, шепчет сквозь музыку: «Просто запомни: никто не отнимет то, что у тебя в голове». Доктор Менгеле, мои заморенные голодом до изнеможения соседки по баракам, непокорные, которые выживут, и те, кто скоро умрет, даже моя любимая сестра – все они исчезают; единственный существующий мир – в моей голове. «Голубой Дунай» затихает, и теперь я слышу «Ромео и Джульетту» Чайковского. Пол барака становится сценой Венгерского оперного театра. Я танцую для моих поклонников, сидящих в зале. Я танцую в ярком свете горящих софитов. Для моего возлюбленного Ромео, который поднимает меня высоко над сценой. Танцую ради любви. Танцую, чтобы жить.
Во время танца мне открывается мудрость, которую я никогда не забуду. Неизвестно, что за чудо благодати делает возможным это озарение. Оно не раз спасет мне жизнь, даже когда кошмар закончится. Я увидела, что доктор Менгеле, матерый убийца, только сегодня утром уничтоживший мою мать, более жалок, чем я. Я свободна в своем созидании; ему этого никогда не добиться. Ему придется жить с тем, что он сделал. Он больший узник, чем я. Завершая свой танец последним грациозным шпагатом, я молюсь, но не за себя. Я молюсь за него. Молюсь, чтобы, ради его же блага, у него не было потребности меня убивать.
Мое выступление, похоже, его впечатлило, потому что он кидает мне буханку хлеба – жест, который, как выяснилось, спасет мне жизнь. Вечер сменяется ночью, и я делю хлеб с Магдой и моими соседками по койке. Я благодарна за то, что у меня есть хлеб. Я благодарна, что жива.
В первые недели в Аушвице я познаю правила выживания. Если тебе удается украсть кусок хлеба у надзирателей, ты герой, но если крадешь у заключенных, ты опозорена и ты умрешь; конкуренция и доминирование – это путь в никуда, главное правило здесь – сотрудничать; выжить – это переступить через свои потребности и посвятить себя кому-то или чему-то за пределами себя. Для меня этот кто-то – Магда и это что-то – надежда снова увидеть Эрика, завтра, когда стану свободной. Чтобы выжить, мы вызываем в воображении свой внутренний мир, пристанище, и делаем это даже с открытыми глазами. Одной заключенной удалось сохранить свою фотографию до заключения в лагерь, на ней она с длинными волосами. Так у нее была возможность напоминать себе, кто она и что этот человек все еще существует. Понимание этого стало убежищем, сохранившим ей волю к жизни.
Помню, несколькими месяцами позже, зимой, нам выдали старые пальто. Их нам просто бросили как попало, не обращая внимания на размер. Нашим делом было найти самое подходящее и драться за него. Магде повезло. Ей кинули толстое, теплое пальто, длинное и тяжелое, с пуговицами до самой шеи. Оно было таким теплым, всем на зависть. Но Магда его сразу же обменяла. Пальто, которое она выбрала вместо этого, было тоненькое, маленькое, едва доходившее ей до колен и сильно открывающее грудь. Для выживания Магде оказалось нужнее носить что-то сексуальное, а не оставаться в тепле. С ощущением своей привлекательности у нее появлялось что-то внутри; чувство достоинства было более ценным для нее, чем физический комфорт.
Я помню, что, даже когда мы голодали, мы пировали. В Аушвице мы все время готовили. В наших головах мы устраивали торжества каждый час, ведя бои за то, сколько паприки нужно класть в венгерский куриный паприкаш или как приготовить лучший семислойный шоколадный торт. Просыпаясь в четыре утра на аппель, то есть перекличку, мы стояли в темноте, чтобы нас посчитали, а потом еще раз пересчитали, – и чувствовали сильный, насыщенный аромат готовящегося мяса. Идя строем на нашу ежедневную работу: на склад под названием «Канада», где нам приказано было сортировать вещи новоприбывших заключенных; в бараки, которые нужно было чистить, чистить и чистить; в крематории, где самых неудачливых заставляли собирать золотые зубы, волосы и кожу с приготовленных к сожжению трупов, – мы разговаривали так, будто идем на рынок, планируя наше меню на неделю и готовясь проверять каждый фрукт и овощ на спелость. Мы давали друг другу уроки кулинарии. Вот так готовятся венгерские блинчики (кто-то называет их палачинтой). Вот такой они должны быть толщины; сахара нужно столько-то, орехов – столько. А нужно ли класть тмин в гуляш по-сегедски? В него кладут две луковицы? Нет, три. Нет же, только полторы. Мы пускали слюну, воображая любимые семейные блюда. И когда мы ели нашу единственную настоящую еду за весь день – баланду и кусок черствого хлеба, – я рассказывала, как мама держала на чердаке гуся и кормила его каждый день зерном и его печень раздувалась все больше и больше, пока не пришло время его зарезать и перебить его печень в паштет. И когда мы заваливались ночью на наши нары и наконец-то засыпали, нам снилась еда. Часы на башне бьют десять утра, и папа прокрадывается домой со свертком от мясника через дорогу. Сегодня – кусок свинины, спрятанный в газету. «Дицука, иди попробуй», – подзывает папа. «Ну и какой пример ты подаешь! – сетует мама. – Кормишь еврейскую девочку свининой». Но она почти улыбается. Она готовит штрудель, растягивая вытяжное тесто на обеденном столе, разминая руками и дуя под него, пока оно не станет тонким, как бумага.
Характерный вкус перца и вишни в мамином штруделе; фаршированные яйца; паста, которую она нарезала вручную очень быстро, и я боялась, что она отрежет себе палец; а главное – хала, наш хлеб к шабатному ужину. Для мамы искусство приготовления еды было не менее важным, чем наслаждение приготовленным блюдом. Фантазии о еде поддерживали нас в Аушвице. Как спортсмены и музыканты могут оттачивать свое мастерство с помощью мысленных тренировок, так и мы всегда были в процессе творчества. То, что мы творили в своем воображении, каким-то образом подкрепляло наши силы.
Один раз вечером перед сном мы разыгрываем в нашем бараке конкурс красоты. Мы позируем в наших серых бесформенных одеждах, в поношенном белье. В Венгрии говорят, что красота – в плечах. Никто так не позирует, как Магда. Она выигрывает конкурс. Но мы еще не готовы спать.
– А вот конкурс получше, – говорит Магда. – У кого самые красивые сиськи?
Мы раздеваемся в темноте и щеголяем, выставив грудь. Каких-то несколько месяцев назад я занималась в студии гимнастики более пяти часов в день. Я просила отца ударять меня по животу, чтобы почувствовать, какая я сильная. Могла даже поднять его и нести на руках. Сейчас я чувствую эту гордость в себе, расхаживая полураздетой и промерзая в этом бараке. Раньше мне было завидно, что у мамы такая круглая, соблазнительная грудь, и я стеснялась своей маленькой груди. Но именно такая, как моя, ценилась в Европе. Я вышагиваю в темноте словно модель. И выигрываю конкурс!
– Моя знаменитая сестра, – говорит Магда, когда мы погружаемся в сон.
Мы можем выбирать, чему нас учит ужас. Стать озлобленными от горя и страха. Враждебными. Оцепеневшими. Или держаться за что-то детское в нас, живое и пытливое, за ту нашу часть, которая невинна.
Другим вечером я узнаю, что девушка на соседней койке до войны была замужем. Я выведываю у нее подробности. «Каково это, – спрашиваю я, – принадлежать мужчине?» Я спрашиваю не про секс, вернее, не совсем о нем. Конечно, меня интересует страсть. Но более – идея постоянной связи. Во вздохе девушки мне слышится отзвук чего-то прекрасного, не поврежденного утратой. В минуты ее рассказа я вижу брак не таким, какой был у моих родителей, но как что-то наполненное светом. Нечто большее, чем даже умиротворенность и душевность в отношениях моих бабушки и дедушки. Это похоже на любовь, глубокую любовь.
Когда мама говорила мне: «Хорошо, что ты у нас умная, а то внешность у тебя так себе», это только подливало масло в костер моих детских страхов, что я неполноценная, я никчемная. Но в Аушвице мамин голос звучит в ушах совсем иначе, с другими акцентами. У меня есть голова на плечах. Я умная. Я во всем разберусь. Слова, к которым я прислушивалась внутри себя, оказали огромное влияние на мою способность поддерживать надежду. Так же было у других заключенных. Мы открыли внутренний источник силы, на который могли опираться: способ обращения к себе, который помог нам чувствовать внутреннюю свободу и не отступать от своих моральных принципов; который давал нам надежную основу и уверенность, даже когда внешние силы старались нас контролировать и уничтожать. Я умница, – приучились мы говорить себе. – И я абсолютно не виновна. Так или иначе это обернется для меня чем-то хорошим.
Я расскажу об одной узнице Аушвица, которая была очень больной и истощенной. По утрам, глядя на ее койку, я боялась обнаружить эту девушку мертвой, при прохождении селекции я все время с ужасом ожидала, что ее отправят на смерть. Но всякий раз она меня удивляла. Ей удавалось каждое утро собраться с силами, проработать еще день и сохранять живой блеск в глазах, когда она оказывалась перед указующим перстом Менгеле, проводившим селекцию. Ночью она валилась на нары, сипло дыша. Я спросила ее однажды, как ей удается не сдаваться. «Я слышала, что нас освободят к Рождеству», – сказала она. В уме она исправно вела календарь, считая дни, а затем и часы до нашего освобождения, твердо решив жить ради того, чтобы стать свободной.
Потом наступило Рождество, освободители не пришли, и на следующий день она умерла. Думаю, внутренний голос надежды поддерживал в ней жизнь, но, потеряв веру, она не смогла жить дальше. Почти все вокруг говорили, что я не выйду живой из лагеря смерти. И офицеры СС, и капо, и обычные заключенные твердили мне каждую секунду каждого дня (от утреннего аппеля до окончания работы), твердили везде (от очередей на селекциях до очередей за едой), что мне не выйти живой из лагеря смерти. Несмотря на все это я буквально выковала для себя внутренний голос, который предложил другой вариант. Это временно, – звучало во мне. – Если сегодня выживу, завтра буду свободна.
В Аушвице нас ежедневно отправляли в душевые, и каждый такой поход таил в себе неизвестность. Мы никогда не знали, из душа пойдет вода или газ. Каждый раз, когда я чувствую, что на нас льется вода, я выдыхаю. Растираю жирное мыло по телу. У меня еще не кожа да кости. Успокоившись после страха, я узнаю себя. Мои руки, бедра, живот – все это еще упруго благодаря натренированным танцами мышцам. Я предаюсь мечтам об Эрике. Мы уже учимся в университете, живем в Будапеште. Вот мы берем книги и идем в кафе делать домашние задания. Он отрывает глаза от страницы и рассматривает мое лицо. Я чувствую, что его взгляд задерживается на моих глазах и губах. В тот момент, когда я представляю, как поднимаю к нему лицо в готовности принять поцелуй, я замечаю, что в душевой стало очень тихо. Чувствую холодок где-то в животе. В дверях стоит человек, которого я боюсь больше всего. Ангел Смерти смотрит прямо на меня. Я уставилась в пол в ожидании услышать, как остальные переводят дух, – это даст мне понять, что он ушел. Но он не уходит.
– Ты! – подзывает он. – Моя маленькая балерина.
Я стараюсь слушать голос Эрика, а не голос Менгеле. Я никогда не забуду твои глаза. Я никогда не забуду твои руки.
– Ко мне, – приказывает он.
Я подчиняюсь. Что еще мне остается? Я иду, глядя на пуговицы его мундира, избегая взглядов других заключенных – для меня невыносима мысль, что я увижу в их глазах отражение своего страха. Дыши, дыши, – говорю я себе. Он ведет меня, голую и мокрую, по коридору в кабинет, где стоят стол и стул. Вода стекает по телу на холодный пол. Он приваливается к столу и неторопливо оглядывает меня. Мне слишком страшно, чтобы я могла думать, но по телу движутся маленькие импульсы – это на уровне рефлексов. Пнуть его. Высокий мах ногой в лицо. Упасть на пол, крепко обхватить себя руками и сгруппироваться в маленький шарик. Что бы он ни собирался со мной делать, надеюсь, закончится все быстро.
– Подойди ближе, – говорит он.
Медленно двигаясь вперед, я смотрю ему в лицо, но не вижу его. Я становлюсь плотным комочком и концентрирую внимание на одном: да-я-могу, да-я-могу. Приближаясь, я чувствую его тело. Запах ментола. Металлический привкус у меня во рту. Если меня трясет, значит, живая – я точно знаю. Его пальцы расстегивают пуговицы на мундире. Да, я могу. Да, я могу. Я думаю о маме, ее длинных-длинных волосах. Как она закручивала их на макушке, а ночью распускала, словно гардину. Я стою голая перед ее убийцей, но ему никогда не отнять у меня мою маму. И когда я оказываюсь так близко, что он может дотронуться до меня пальцами, которые я даю себе установку не чувствовать, в другой комнате звонит телефон. Он вздрагивает. Застегивает мундир.
– Не шевелись, – приказывает он, открывая дверь.
Слышно, как он берет трубку в соседней комнате и отвечает холодно и отрывисто. Я не принимаю решений. Я просто убегаю. Следующее, что я помню, – мы сидим с сестрой рядышком и жадно глотаем нашу обычную порцию супа. В жидкой похлебке, как струпья, всплывают маленькие кусочки картофельных шкурок. Меня преследует страх, что он найдет и накажет, закончит начатое, выберет меня и отправит на смерть, что он никогда не оставит меня. Страх не проходит. Я не знаю, что теперь будет. Но пока я могу поддерживать в себе жизнь изнутри. Сегодня выжила, – монотонно напеваю я про себя. – Сегодня выжила. Завтра буду свободна.
Глава 4. Переворот «колесом»
Летом 1944 года наступил момент, когда мы с Магдой вдруг обнаружили, что в наш лагерь больше не привозят венгерских евреев. Позже мы узнаем: назначенный Хорти в августе новый премьер-министр, которому надоело, что Венгрия пресмыкается перед властью Германии, приостановил депортацию. Он сделал это слишком поздно. Сотни тысяч нас уже были отправлены в лагеря, за каких-то два месяца убиты четыреста тысяч. Правда, к октябрю правительство Хорти сдало власть венгерским нацистам. Двести тысяч евреев, остававшихся в Венгрии – в основном в Будапеште, – не были вывезены в Аушвиц. Их провели форсированным маршем к Австрии – почти триста двадцать два километра. Но всего этого мы тогда не знали. Мы не имели никакого представления о войне и жизни во внешнем мире.
Одним зимним утром мы стоим еще в одной очереди. Кожу щиплет мороз. Нам будут набивать номера. Подошел мой черед. Закатываю рукав. Выставляю руку. Автоматически совершаю движения, которые от меня требуются. Стою замерзшая и голодная – настолько голодная и замерзшая, что почти окоченела. Знает ли кто-нибудь, что я здесь? – этим вопросом я задавалась раньше постоянно, а теперь он приходит ко мне лениво, словно сквозь плотный и стойкий туман. Я не помню, что я думала раньше. Мне приходится заставлять себя вызывать в памяти образ Эрика, но если я думаю о нем слишком осознанно, то у меня не получается оживить его лицо. Мне приходится хитростью выуживать собственные воспоминания, заставая себя врасплох. Где Магда? – это первое, о чем я себя спрашиваю. Когда просыпаюсь, я задаю этот вопрос. Когда мы строем идем на работу и перед тем, как мы проваливаемся в сон. Я шарю взглядом, пока не убеждаюсь, что она здесь. Даже когда мы не встречаемся взглядами, я знаю, что она бдительно наблюдает за мной. Я начала оставлять хлеб с ужина, чтобы утром мы могли его с ней разделить.
Офицер с иглой и чернилами стоит передо мной. Он хватает меня за запястье и начинает колоть, но вдруг отпихивает меня.
– На тебя я тратить чернила не собираюсь, – говорит он и толкает меня в другую очередь.
– Это очередь на смерть, – говорит девушка рядом со мной. – Это конец.
Она вся серая, как будто покрыта пылью. Кто-то впереди нас в очереди молится. В месте, где постоянно угрожает смерть, эти мгновения для меня все равно пронизывающе убийственны. Я вдруг задумываюсь о разнице между «убийственный» и «убивающий». Аушвиц – это и то и другое. Трубы дымят и дымят. Каждая минута может стать последней. Так зачем беспокоиться? Зачем выкладываться эмоционально? И все-таки, если эта минута, вот эта самая минута – моя последняя на Земле, неужели я должна потратить ее на смирение и поражение? Не нужно ли провести ее так, будто я уже умерла?
– Мы никогда не знаем, куда какая очередь ведет, – говорю я стоящей рядом.
Что, если неизвестное будет вызывать у нас любопытство, а не опустошать нас страхом? И тут я высматриваю Магду. Ее отобрали в другую очередь. Если меня посылают на смерть, или отправляют работать, или эвакуируют в другой лагерь, как начали эвакуировать остальных, – это все не важно. Главное, чтобы я была с моей сестрой, чтобы она была со мной. Мы одни из немногих, кому повезло пока еще не лишиться полностью семьи. Я не преувеличу, если скажу, что живу ради сестры. Не преувеличу, если скажу, что и она живет ради меня. Во дворе хаос. Я не знаю, куда эти очереди. Я знаю только, что к тому, что ждет впереди, – что бы это ни было, – мы должны пройти вместе с Магдой. Даже если впереди смерть. Мой взгляд застыл на участке покрытого настом снега между нами. Мы окружены охраной. Плана у меня нет. Время и тянется, и быстро уходит. Мы с Магдой переглядываемся. Я вижу ее голубые глаза. И тут я прихожу в движение. Я несколько раз делаю «колесо» – руки на земле, ноги в воздухе, переворот, еще раз. На меня уставился охранник. Вот он стоит на ногах. Теперь он вверх тормашками. Я жду, что в любую секунду в меня влетит пуля. Мне не хочется умирать, но я не могу перестать переворачиваться снова и снова. Он не поднимает автомата. Наверное, так удивлен, что не может стрелять? Или от головокружения я просто не вижу? Он мне подмигивает. Клянусь, я видела, как он подмигнул. Ну ладно, – как будто говорит он, – на этот раз ты победила.
За те секунды, пока я полностью удерживаю внимание охранника, Магда бежит через двор в очередь ко мне. Мы снова растворяемся в толпе девушек в ожидании чего-то, что будет дальше.
Нас ведут через заледенелый двор к платформе, куда мы прибыли шесть месяцев назад, где нас разделили с отцом, где между нами шла мама в последние минуты ее жизни. Тогда играла музыка; теперь тихо. Если ветер считать тишиной. Постоянный натиск тяжкого холода, дыхание широко открытой пасти зимы и смерти мне уже не слышны. Мой разум кишит вопросами и ужасом, но эти мысли такие живучие, что я уже не считаю их за мысли. Конец почти всегда наступает.
«Едем работать в другое место до конца войны» – вот что мы услышали. Если нам было бы дано послушать хотя бы первые минуты новостей, то мы узнали бы, что следующей потерей может стать сама война. Пока мы ждем у вагона для скота, готовясь зайти в него по узкому трапу, русские подходят к Польше с одной стороны, а американцы – с другой. Нацисты частями эвакуируют Аушвиц. Узники, которые остались, когда мы уезжаем, – те, кто сможет пережить еще один месяц в лагере, – скоро будут свободны. Мы сидим в темноте, ждем, когда тронется поезд. Солдат – член вермахта, не эсэсовец – просовывает голову в дверь и говорит нам по-венгерски: «Вы должны есть. Что бы они ни делали, обязательно ешьте, потому что вас могут освободить, очень скоро». Он хочет нам дать надежду? Или ложное обещание? Обманывает? Он как нилашист с кирпичного завода, который распространял слух, – голос власти, заглушающий то, что мы в глубине души знаем. Кто станет напоминать голодающим, что надо есть?
Но даже во тьме вагона, когда его лицо подсвечивают огни бесконечного забора и километры снега, мне видится, что у него добрые глаза. Как странно: доброта теперь кажется игрой света.
Я теряю счет времени, не знаю, сколько мы едем. То я сплю на плече у Магды, то она на моем. Один раз просыпаюсь от ее голоса. Сестра с кем-то говорит – не могу разглядеть в темноте. «Моя учительница», – объясняет она. Та, которую мы встретили на кирпичном заводе и у которой все время плакал ребенок. В Аушвице всех женщин с маленькими детьми сразу умерщвляли газом. Раз она все еще жива, это означает лишь одно: ее малыш мертв. Что хуже, думаю я: быть ребенком, потерявшим мать, или матерью, потерявшей ребенка? Когда открывают дверь, мы выходим в Германии.
Нас не больше сотни. Мы размещаемся в месте, похожем на детский летний лагерь, с двухъярусными кроватями и кухней, где есть скудная провизия, и мы сами себе готовим.
Утром нас отправляют работать на ниточную фабрику. На нас кожаные перчатки. Мы останавливаем колеса прядильных машин, чтобы нити не переплетались. Колеса режут нам руки даже через перчатки. Бывшая учительница Магды сидит за соседней машиной. Она громко плачет. Я решаю, что это из-за того, что ее руки кровоточат и болят. Но нет, она плачет из-за Магды.
– Тебе нужны руки, – стонет она. – Ты играешь на пианино. Как же ты будешь без рук?
Немка-бригадир, которая следит за нашей работой, утихомиривает ее.
– Это удача, что сейчас ты работаешь, – говорит она. – Скоро тебя убьют.
В тот вечер на кухне мы готовим себе ужин под надзором охраны.
– Мы избежали газовой камеры, – говорит Магда, – но умрем, скручивая нитки.
Нам смешно, потому что сейчас мы живы. Войну мы, может, и не переживем, но пережили Аушвиц. Я чищу картошку. Слишком привыкнув к голодным пайкам, я не могу выбрасывать какие бы то ни было остатки еды. Я прячу картофельные шкурки в нижнее белье. Пока охрана в другой комнате, успеваю поджарить очистки в печи. Когда мы с жадностью подносим их ноющими руками к нашим ртам, они все еще такие горячие, что невозможно есть.
– Мы избежали газовой камеры, но умрем, поедая картофельные очистки, – говорит кто-то, и мы смеемся.
Смех идет из какого-то очень глубоко спрятанного в нас места – мы даже не знали, что оно все еще существует. Мы смеемся, как смеялась я каждую неделю в Аушвице, когда нас принуждали сдавать кровь для переливаний раненым немецким солдатам. Я сидела с иглой, торчащей из руки, и ободряла себя мыслью: «Удачи вам выиграть войну с моей кровью балерины-пацифистки!» Я не могла отдернуть руку, иначе меня застрелили бы. Не могла оказать неповиновение моим угнетателям, прибегнув к оружию или кулакам. Но я смогла найти путь к собственной силе. И сейчас в нашем смехе – сила. Дух товарищества и беззаботности напоминает мне тот вечер в Аушвице, когда я выиграла конкурс на самую красивую грудь. Эти разговоры – наша опора.
– Кто здесь из самой лучшей страны? – спрашивает девушка по имени Хава. Мы спорим, поем дифирамбы дому.
– Нет места красивее, чем Югославия, – настаивает Хава.
Но в этом соревновании не может быть победителей. Дом уже перестал быть местом или страной. Это чувство общее и у каждого свое особенное. Если мы начнем говорить о нем слишком много, то поставим его под угрозу исчезновения.
Прошло несколько недель, как нас привезли на ниточную фабрику, и как-то утром эсэсовцы приходят за нами с полосатыми платьями на замену старым серым. Мы садимся в очередной поезд. Но на этот раз нас заставляют сидеть в полосатой униформе на крышах вагонов – отвлекающий маневр, обманка, чтобы англичане не решились бомбить поезд. Вагоны везут боеприпасы.
– От ниток к пулям, – говорит кто-то.
– Дамы, да нас повысили, – откликнулась Магда.
Ветер на крыше товарного вагона изматывает до уничтожения. Зато я, когда так мерзну, не чувствую голода. От чего лучше погибнуть – от холода или огня? От газа или выстрела? Следующее событие происходит неожиданно. Даже при сидящих на крыше арестантах англичане обрушивают на поезд бомбы. Свист и грохот. Дым. Крики. Поезд останавливается, и я спрыгиваю. Я первая, кто оказывается внизу. Взбегаю по заснеженному склону, прилегающему к путям, к реденькой роще, где останавливаюсь перевести дыхание и осмотреть снег вокруг в поисках сестры. Среди деревьев Магды нет. Я не вижу, чтобы она бежала от поезда. Бомбы свистят и взрываются на путях. Рядом с поездом я замечаю груду тел. Магда.
Мне нужно выбрать. Я могу убежать. Спрятаться в лесу. Порыскать в поисках жизни. Свобода так близко, всего в нескольких шагах. Но если Магда жива и я оставлю ее, кто даст ей хлеба? А если она мертва? Эта секунда выбора точно щелкает затвором автомата. Щелк – лес. Щелк – железная дорога. Я сбегаю по холму обратно.
Магда сидит в кювете, на коленях – мертвая девушка. Это Хава. С подбородка Магды течет кровь. В соседнем вагоне сидят мужчины. Они едят. Тоже заключенные, но не как мы. Они одеты в гражданскую одежду, а не в форму. И у них есть еда. Немецкие политзаключенные, как мы предполагаем. В любом случае у них перед нами привилегии. Они едят. Хава мертва, Магда жива, а я могу думать только о еде. Магда, наша красотка, истекает кровью.
– У нас есть возможность попросить еды, а ты в таком виде, – ругаюсь я на нее. – Какой уж тут флирт с такой раной.
Пока есть силы на нее злиться, я избавлена от чувства страха или изводящей все внутри боли от того, что чуть не случилось. Вместо радости, вместо благодарения судьбе, что мы обе живы, что прошли еще один роковой момент, я обрушиваю на сестру свою ярость. Я гневаюсь на Бога и на судьбу, но направляю весь свой душевный сумбур, всю свою боль на кровоточащее лицо моей сестры.
Магда не отвечает на мои нападки. И не вытирает кровь. Конвоиры подходят ближе, кричат на нас, тычут в тела автоматами и убеждаются, что те, кто не двигаются, действительно мертвы. Мы оставляем Хаву на грязном снегу и встаем к другим уцелевшим.
– Ты могла сбежать, – говорит Магда. Она говорит это так, будто считает меня дурой.
За час боеприпасы загружают в новые вагоны, и мы опять взбираемся наверх в нашей полосатой форме; кровь у Магды на подбородке засохла.
* * *
Мы пленники и беженцы. Мы давно потеряли счет дням и часам. Магда – моя путеводная звезда. Пока она рядом, у меня есть все, что нужно. Как-то утром нас снимают с поезда с боеприпасами, и много дней подряд мы идем колонной. Снег начинает таять, обнажая мертвую траву. Возможно, мы идем неделями. Падают бомбы, иногда совсем близко. Мы видим, как горят города. Останавливаемся в маленьких городках по всей Германии, иногда идем на юг, иногда – на восток, по пути нас заставляют работать на заводах.
Считать заключенных – забота эсэсовцев. Я не подсчитываю, сколько нас остается. Может быть, потому, что знаю: с каждым днем цифра уменьшается. Это уже не лагерь смерти. Но все равно есть множество способов принять смерть. Придорожные канавы красны от крови тех, кому стреляли в спину или грудь, – тех, кто пытался сбежать, и тех, кто не поспевал. Некоторые девочки совсем отмораживают ноги и падают, как опрокинутые деревья. Истощение. Постоянная уязвимость. Лихорадка. Голод. Переохлаждение. Если конвоир не спускает курок, это делает само тело.
Мы продержались без еды много дней. Подходим к вершине холма и видим ферму, хозяйственные постройки, загон для домашнего скота.
– Сейчас вернусь, – говорит Магда. Она бежит к ферме, петляя между деревьями, надеясь, что ее не заметят солдаты СС, которые остановились покурить.
Я наблюдаю, как Магда зигзагом бежит к ограде сада. Еще не время для весенних овощей, но я готова есть и коровий корм, ела бы даже сушеные стебли. Если мышь прошмыгивает в комнату, где мы спим, девочки набрасываются на нее. Я стараюсь не привлекать внимания к Магде своим пристальным взглядом. Отворачиваюсь, но, когда смотрю снова в ту сторону, уже не вижу ее. Стреляют. Еще раз. Кто-то заметил мою сестру. Конвоиры орут на нас, пересчитывают, держа наготове автоматы. Звучат еще несколько очередей. Магды не видно. Помоги мне, помоги! Я ловлю себя на том, что взываю к маме. Я говорю с ней, как она когда-то молилась, обращаясь к портрету своей матери над пианино. Магда рассказывала мне, что мама так делала даже во время родов. В ночь, когда я родилась, Магда слышала, как мама кричит: «Мама, помоги мне!» Потом Магда услышала плач ребенка – мой плач – и то, как мама сказала: «Ты помогла». Взывать к мертвым – мое право по рождению. Мама, помоги мне, – молюсь я. Между деревьями мелькает серое пятно. Она жива. И увернулась от пуль. Каким-то образом она остается незамеченной. Я снова могу дышать лишь тогда, когда Магда оказывается рядом со мной.
– Там была картошка, – говорит она. – Если эти уроды не начали бы стрелять, мы ели бы картошку.
Я представляю, как надкусываю картофелину, как будто это яблоко. Я даже не стала бы тратить время на то, чтобы вытереть с нее землю. Я ела бы грязь вместе с крахмалом и кожурой.
Мы идем работать на завод по производству боеприпасов рядом с чешской границей. Узнаем, что сейчас март. Однажды я не могу слезть со скамейки в нашем похожем на сарай ночлеге. Меня лихорадит, знобит, я чувствую слабость.
– Вставай, Дицука, – велит мне Магда. – Отпроситься из-за болезни не получится.
В Аушвице тем, кто не мог работать, говорили, что их забирают в больницу, и они исчезали. С чего бы сейчас что-то изменилось? Инфраструктуры для убийства здесь нет, специально для этого не проложены трубы, не заложены кирпичи. Но и одна пуля справится не хуже. И все равно я не могу встать. Я слышу свой голос: я что-то бессвязно бормочу про бабушку с дедушкой. Они разрешат нам прогулять школу и возьмут с собой в пекарню. Мама не может забрать у нас сладости. Краем сознания я понимаю, что брежу, но не могу прийти в себя. Магда велит мне замолчать и укрывает меня пальто, чтобы я была в тепле, если жар спадет, но главное, чтобы спрятать меня.
– Не вздумай и пальцем шевельнуть, – говорит она.
Завод совсем рядом, за мостом через быстрый ручей. Я лежу под пальто, представляя, что меня не существует, думая о том, как обнаружится моя пропажа и надзиратель придет в сарай и застрелит меня. Сможет ли Магда услышать выстрел сквозь шум станков? Теперь я никому не нужна.
Я проваливаюсь в лихорадочный сон. Мне снится огонь. Это знакомый сон – уже почти год мне снится тепло. Но я просыпаюсь и на этот раз понимаю, что меня действительно душит запах гари. Что это, горит сарай? Я боюсь идти к двери, боюсь, что не дойду на своих ослабевших ногах, а если дойду, то выдам себя. Потом я слышу бомбы. Свист и взрыв. Как я могла спать, когда началась атака? Стаскиваю себя со скамьи. Где безопаснее? Даже если я могла бы бежать, то куда? Слышу крики: «Завод горит! Завод горит!»
Даже в своем состоянии я понимаю, какое расстояние отделяет меня от сестры. Я уже эксперт в измерении пространства. Сколько между нами рук? Сколько ног? Сколько раз надо сделать «колесо»? Сейчас между нами мост. Вода и дерево – и огонь. Я вижу его от двери сарая, до которой я все-таки дошла и стою, прислонившись к косяку. Мост, ведущий к заводу, охвачен пламенем, завод поглотил дым. Для тех, кто сейчас переживал бомбардировку, начавшаяся суматоха давала передышку. Возможность сбежать. Я представляю, как Магда выбивает окно и мчится к деревьям. Смотрит через ветви на небо. Готовая бежать столько, сколько будет нужно, чтобы стать свободной. Если она ударится в бега, я свободна от всех обязательств. Я могу сползти на пол и никогда больше не вставать. Какое будет облегчение! Существовать – это большой долг. Я позволяю своим ногам упасть и сложиться, словно это два платка. Я расслабляюсь в падении. Появляется Магда в ореоле огня – уже мертвая. Она меня опередила. Но я догоню. Чувствую жар огня. Я вот-вот присоединюсь к ней. Уже сейчас. «Иду! – кричу я. – Подожди меня!»
Я не улавливаю того мига, когда она перестает быть призраком и предстает снова во плоти. Она как-то дает мне понять, что перешла по горящему мосту, чтобы забрать меня.
– Вот дура, – говорю я, – ты же могла сбежать!
Наступил апрель. Трава зелеными потоками покрывает холмы. Световые дни все длиннее. В нас плюют дети, когда мы идем по окраинам города. Какая жалость, думаю я, что этим детям так обработали мозги, внушив ко мне ненависть.
– Знаешь, как я отомщу? – говорит Магда. – Я убью мать какого-нибудь немца. Немец убил мою мать; я убью мать-немку.
У меня другое желание. Я мечтаю, чтобы мальчик, который плюет в нас, однажды понял, что ему не нужно меня ненавидеть. В моей фантазии о мести мальчик, сейчас кричавший нам: «Грязные жидовки! Паразиты!» – держит букет роз. «Теперь я знаю, – говорит он, – что нет причин тебя ненавидеть. Ни одной причины». И мы обнимаемся во взаимном прощении. Я не посвящаю Магду в свои фантазии.
Однажды, когда начинает смеркаться, эсэсовцы заталкивают нас в общественный центр, где нам предстоит провести ночь. Снова нет еды.
– Кто покинет помещение, будет расстрелян на месте, – предупреждает охранник.
– Дицука, – стонет Магда, когда мы опускаемся на деревянный настил, который будет нам сегодня постелью. – Еще немного – и мне конец.
– Замолчи, – говорю я. Она меня пугает. Ее подавленность для меня страшнее вскинутого автомата. Она так обычно не говорит. Магда не сдается. Быть может, я стала для нее обузой. Возможно, ее истощила моя болезнь, пока она поддерживала меня.
– Ты не умрешь, – говорю я. – Сегодня мы поедим.
– Ох, Дицука, – говорит она, отворачиваясь к стенке.
Я ей докажу. Я покажу, что есть надежда. Достану какой-нибудь еды. Верну ей силы. Эсэсовцы расположились у двери, поближе к уходящему вечернему свету, чтобы съесть свой паек. Бывало, они бросали нам кусок еды, просто чтобы с удовольствием посмотреть, как мы униженно сползаемся к нему. Я тоже подползаю к ним на коленях. «Пожалуйста, пожалуйста», – умоляю я. Они смеются. Один из них держит рядом со мной кусок тушенки, я наклоняюсь к нему, но солдат кладет кусок себе в рот, и все громко хохочут. Так они играют со мной, пока я не устаю. Магда уснула. Я не собираюсь отступать, я отказываюсь ее подводить. Солдаты прерывают свой пикник, чтобы справить нужду или покурить, и я выскакиваю через черный ход.
Я чувствую запахи навоза, цветущих яблок и немецкого табака. Трава влажная и холодная. За отштукатуренной оградой виден огород: маленькие кочаны салата, стебли горошка, перистые зеленые хохолки моркови. Я чувствую вкус моркови, как будто я ее уже сорвала, хрустящую и всю в земле. Перебраться через стену нетрудно. Я немного обдираю колени, когда подтягиваюсь наверх, и яркие пятнышки крови ощущаются на коже как дуновение свежего воздуха, как будто что-то хорошее выбирается из глубины наружу. У меня кружится голова. Я хватаю морковь за ботву и тяну, корни высвобождаются из земли со звуком разрывающихся швов. Плоды у меня в руках, я чувствую их вес. С корней свисают комья земли. Даже у этой земли запах пиршества: в ней, как в семенах, может быть все, что только возможно. Я снова взбираюсь на стену, грязь стекает по моим коленкам. Представляю лицо Магды, когда она будет вгрызаться в первый свежий овощ за год. Я сделала рискованную вещь, и это дало плоды. Я хочу, чтобы Магда это увидела – не только пищу, питательные вещества, которые растворятся в ее крови; а увидела надежду. Я снова спрыгиваю на землю.
Но я не одна. На меня сверху вниз смотрит мужчина. Он хватается за оружие. Это солдат вермахта, не СС. Его карающий взгляд пугает не меньше, чем его автомат. «Как ты посмела? – говорят его глаза. – Я научу тебя подчиняться». Он толкает меня, я падаю на колени. Он взводит курок и приставляет дуло к моей груди. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, – молюсь я, как тогда, танцуя для Менгеле. – Пожалуйста, помоги ему меня не убивать. Я трясусь. Морковки стучат по ногам. На секунду солдат опускает автомат, затем снова поднимает. Клик-клак. Хуже страха смерти чувство, что ты в ловушке, что ты беспомощен и не знаешь, что случится в следующий миг. Он рывком поднимает меня на ноги и разворачивает к дому, где спит Магда. Рукояткой автомата он толкает меня внутрь.
– Писала, – зайдя, говорит он охране, и они глупо хихикают. Я прячу морковь под робой.
Магда просыпается не сразу. Мне приходится сунуть ей в руку морковь, до того как она откроет глаза. Она ест так быстро, что прикусывает щеку изнутри. Благодарит меня сквозь слезы.
Утром эсэсовцы будят нас. Снова пора выдвигаться. Я умираю от голода, желудок пустой, и мне кажется, что морковь приснилась мне, но Магда показывает пучок зелени, который она припрятала в карман на потом. Ботва завяла. Это отбросы, которые в прошлой жизни мы выбросили бы или скормили гусю на чердаке, но теперь они кажутся нам пленительными, как сказочный горшочек, который с помощью волшебства наполнен золотом. Увядшая, почерневшая морковная ботва – доказательство тайной силы. Я не должна была так рисковать, но я это сделала. Я не должна была выжить, но я выжила. Все эти «должна была» не важны. Они некий принцип самоорганизации. Здесь работают другие принципы, другие авторитеты. Мы превратились в скелетоподобных. Мы так слабы и истощены, что едва ли можем ходить и уж точно не можем маршировать, тем более работать. Но морковь придает мне силы. Если сегодня выживу, завтра буду свободна, – звучит в висках мое заклинание.
Мы встаем рядами для пересчета. Я продолжаю напевать свою мантру. Когда мы уже собираемся выходить в свежее утро, готовясь к очередному дню кошмаров, от двери доносится гам. Охранник-эсэсовец что-то кричит по-немецки, кто-то ему кричит в ответ, проталкиваясь в комнату. Мое дыхание прерывается, и я хватаю Магду за локоть, чтобы не свалиться: это тот, кто ночью был в саду. Он грозно обводит взглядом комнату.
– Где девчонка, которая посмела нарушить правила? – требовательно спрашивает он.
Я трясусь. Не могу успокоиться. Он вернулся, чтобы отомстить. Он хочет публично назначить наказание. Или чувствует, что обязан так сделать. Кто-то прознал о том, что он проявил ко мне невиданную доброту, и теперь он должен поплатиться за свой риск. Он должен заплатить за свой риск, заставив меня заплатить за мой. Меня уже бьет крупной дрожью, так я напугана. Я почти не могу дышать. Я в западне и понимаю, как близка к смерти.
– Где эта маленькая преступница? – спрашивает он еще раз.
Вот-вот он заметит меня. Или заметит морковную ботву, торчащую у Магды из кармана. Невозможно вынести напряженное ожидание того момента, когда он меня узнает. Я бросаюсь на пол и ползу к нему. Магда шикает на меня, но поздно. Я припадаю к его ногам. Вижу грязь на его ботинках и прожилки дерева на полу.
– Ты, – говорит он. В его голосе слышно отвращение. Я закрываю глаза. Жду, что он пнет меня. Жду, что будет стрелять.
Что-то тяжелое падает к моим ногам. Камень? Он хочет забить меня до смерти, хочет, чтобы я умирала медленно?
Но нет. Это хлеб. Маленькая буханка ржаного хлеба.
– Наверно, ты была очень голодна, раз сделала то, что сделала, – говорит он.
Хотела бы я встретиться сейчас с этим человеком. Он доказательство того, что гитлеровскому рейху не хватило двенадцати лет ненависти, чтобы изжить все хорошее в человеке. У него глаза моего отца. Зеленые. И полные сочувствия.
Глава 5. Лестница смерти
Мы снова идем днями и неделями. После Аушвица мы оставались в Германии, но в какой-то день подходим к австрийской границе и ждем, когда сможем ее пересечь. Конвоиры обсуждают слухи, пока мы стоим в бесконечных очередях. Эти очереди создали для меня иллюзию порядка – иллюзию того, что за одним логично следует другое. Какое облегчение – просто стоять. Я прислушиваюсь к разговорам конвоиров: умер президент Рузвельт; войну продолжит Трумэн. Как странно слышать, что в мире за пределами нашего чистилища что-то меняется. Выбран новый курс. Все эти события происходят слишком далеко от нашей повседневной действительности. Это потрясает сознание, что сейчас, даже сейчас, кто-то принимает решения относительно меня. Не конкретно меня. У меня нет имени. Но кто-то власть имущий делает выбор, который определит, что будет со мной дальше. Север, юг, восток, запад? Германия или Австрия? Что должно стать с выжившими евреями до того, как закончится война?
«Когда закончится война…» – говорит конвоир. Он обрывает фразу. Это похоже на разговоры о будущем, которые нас с Эриком когда-то занимали. После войны… Если как следует сосредоточить все внутренние силы, смогу ли я понять, остался ли он в живых? Я представляю, будто стою на станции, где мне нужно купить билет, но я должна с одной попытки решить, в каком городе я его встречу. Прага? Вена? Дюссельдорф? Прешов? Париж? Я лезу в карман, машинально проверяя, на месте ли паспорт. Эрик, милый, любимый мой, я в пути. Пограничница кричит мне и Магде что-то по-немецки и указывает на другую очередь. Я делаю несколько шагов, но Магда стоит на месте. Пограничница снова кричит. Магда не двигается, не реагирует. Она сошла с ума? Почему она за мной не идет? Пограничница стоит перед Магдой и орет на нее, Магда мотает головой.
– Я не понимаю, – говорит ей Магда по-венгерски. Конечно, понимает. Мы обе хорошо владеем немецким.
– Все ты понимаешь! – кричит пограничница.
– Я не понимаю, – повторяет Магда.
Ее голос лишен эмоций. Она стоит, развернув плечи, выпрямившись. Я что-то упустила? Почему она притворяется, что не понимает? Неповиновением здесь ничего не добьешься. Она потеряла рассудок? Пререкания продолжаются. Правда, Магда не спорит. Только повторяет ровным тоном, спокойно: «Не понимаю, не понимаю». Немка теряет самообладание. Она бьет Магду прикладом по лицу. Ударяет еще раз по плечам. Она бьет и бьет, пока Магда не валится с ног, и охрана жестами велит мне вместе с другой девочкой оттащить ее.
Магда в ушибах, кашляет, но ее глаза сияют. «Я сказала “нет”! – говорит она. – Я сказала “нет”». Для нее это великолепное поражение. Доказательство ее силы. Она стояла на своем, когда пограничница потеряла контроль. Этот акт гражданского неповиновения позволил Магде почувствовать себя инициатором выбора, а не жертвой судьбы.
Но сила, которую ощутила Магда, недолговечна. Скоро начинается новый переход – к месту, которое намного хуже всего, что было до этого.
Мы приходим в Маутхаузен. Это мужской лагерь у каменоломни, где узников заставляют колоть и перетаскивать гранит, который будет использован во время перестройки города гитлеровской мечты, обновленной столицы Германии – нового Берлина. Я не вижу ничего, кроме лестницы и мертвых тел. Лестница из белого камня высится над нами, уходя высоко-высоко наверх, по ней как будто можно дойти до неба. Тела, сваленные в кучи, повсюду. Они лежат искривленные, с раскинутыми конечностями – будто куски сломанного забора. Скелетообразные, обезображенные, спутанные, они почти утратили человеческие очертания. Мы стоим на белых ступенях. «Лестница смерти» – так ее называют. Здесь мы, по нашим предположениям, ждем новой селекции, после чего нас отправят либо на смерть, либо работать дальше. Очередь вздрагивает от слухов. Мы узнаем, что узники Маутхаузена должны таскать из каменоломни вверх почти пятидесятикилограммовые каменные блоки, проходя сто восемьдесят шесть идущих подряд ступеней. Я представляю моих предков, рабов фараона в Египте, сгибавшихся под тяжестью камней. Здесь, на лестнице смерти, как нам говорят, если несешь камень, быстро взбираясь по лестнице, и кто-то впереди тебя спотыкается или падает в изнеможении, ты упадешь следующим, а за тобой другой и так далее, пока вся ваша цепочка не осядет грудой внизу.
Но мы слышали, что, если ты выживаешь, это еще хуже. Заключенных выстраивали на краю утеса вдоль стены, которой дали название «стена парашютистов». Под дулом пистолета ты выбираешь: быть расстрелянным, упасть самому или столкнуть с обрыва стоящего перед тобой.
– Просто толкай меня, – говорит Магда, – если до этого дойдет.
– Ты меня тоже, – говорю я. Я лучше тысячу раз упаду с обрыва, чем увижу, как стреляют в мою сестру. Мы очень слабы, заморены голодом, чтобы говорить так из любезности. Мы говорим это из любви, а также ради самосохранения. Не заставляйте меня опять таскать тяжести. Дайте просто упасть среди камней.
Я вешу меньше, намного меньше, чем камни, которые заключенные поднимают по лестнице смерти. Я такая легкая, что меня мог бы унести ветер, как листок или перышко. Вниз, вниз. Я могла бы упасть сейчас. Могла бы просто упасть назад, вместо того чтобы делать еще один шаг наверх. Мне кажется, я пустая. Во мне нет тяжести, которая бы тянула меня к земле. Я готова поддаться фантазии о невесомости, о том, чтобы сбросить бремя существования, как вдруг кто-то впереди меня разрушает эти чары.
– Вон крематорий, – говорит одна из нас.
Я поднимаю глаза. Мы многие месяцы пробыли вне лагерей – я и забыла, что дымоходы поднимаются над всем лагерем так буднично. В каком-то смысле их вид успокаивает. В этом прямом штабеле кирпичей чувствуется близость смерти, ее неотвратимость: труба – это мост, который скроет твой переход из плоти в воздух; считать себя уже мертвой – все это в какой-то степени кажется понятным и осмысленным.
И все-таки, пока из трубы идет дым, мне есть с чем бороться. У меня есть цель. «Мы умрем этим утром», – предрекают слухи. Я чувствую, что обреченность утягивает меня, как гравитация, как неизбежная и постоянно действующая сила.
Приходит ночь, мы спим на ступенях. Почему они так затянули с началом селекции? Моя бодрость духа пошатнулась. Мы умрем этим утром. Этим утром мы умрем. Знала ли моя мама, что ее ждет, когда вставала в очередь с детьми и пожилыми? Когда видела, что мне и Магде указали в другую сторону? Боролась ли она со смертью? Приняла ли ее? Или была в неведении до конца? Когда уходишь в смерть, имеет ли значение, что ты это понимаешь? Мы умрем этим утром. Этим утром мы умрем. Слух? Бесспорный факт? Но фраза повторяется, словно отражаясь эхом от карьерного камня. Неужели мы и правда прошли маршем сотни миль, только чтобы исчезнуть?
Мне хочется привести рассудок в порядок. Не хочу, чтобы мои последние мысли были стереотипными или мрачными. Не хочу вопросов типа «в чем смысл?» и «зачем все это было?». Не хочу в последних мыслях заново проигрывать все ужасы, которые мы видели. Я хочу чувствовать себя живой. Хочу снова испытать удовольствие от выразительности своего тела. Я думаю о голосе Эрика и его губах. Стараюсь вызвать в памяти те мысли, которые, возможно, еще способны заставить меня трепетать. Я никогда не забуду твои глаза. Я никогда не забуду твои руки. Вот что я хочу вспомнить: тепло в груди, румянец на коже. Хотя «вспомнить» – не совсем точное слово. Я хочу насладиться своим телом, пока оно у меня есть. Целую вечность назад, в Кашше, мама запретила мне читать «Нана» Эмиля Золя, но я утащила книгу в ванную и тайком читала. Если завтра я умру, то умру девственницей. Зачем тогда мне вообще нужно было тело, если я не смогла познать его полностью? Многое в моей жизни было тайной. Помню день, когда у меня начались первые месячные. Я ехала на велосипеде из школы домой, а когда приехала, увидела кровавые разводы по всей моей белой юбке. Я испугалась. В слезах побежала к маме, просила помочь мне найти рану. Она шлепнула меня. Я не знала, что есть венгерская традиция: шлепать девушку в начале ее первых месячных. Да и вообще не знала о менструации. Ни мама с сестрами, ни учителя, ни тренеры, ни друзья – никто ничего не рассказывал мне о моей анатомии. Я знала, что у мужчин есть что-то, чего нет у женщин. Я не видела моего отца голым, но чувствовала ту часть тела Эрика, когда он прижимал меня к себе. Он никогда не просил меня прикоснуться к нему, никогда не обращал мое внимание на свое тело. Мне нравилось думать о наших телах как о тайнах, которые ждут, чтобы их открыли; думать о чем-то таком, что превращалось в электрический разряд, когда мы приближались друг к другу.
Теперь это останется загадкой, которую я не разгадаю. Бывало, что я чувствовала, как загораются маленькие звездочки желания, но теперь я уже никогда не найду выхода этому желанию, никогда не увижу целой галактики обещанного света. Об этом я плачу здесь, на лестнице смерти. Ужасно терять – уже потерять – все, что дорого и знакомо: мать, отца, сестру, любимого, страну, дом. Но почему я должна расстаться с тем, чего я даже не знала? Почему меня лишают будущего? Моих возможностей? Почему я никогда не буду матерью своим детям? Не надену свадебное платье, которое мне не сошьет отец? Я умру девственницей. Не хочу, чтобы это стало моей последней мыслью. Нужно подумать о Боге.
Я стараюсь представить некую непоколебимую силу. Магда утратила веру. И она, и многие другие. «Я не могу верить в Бога, который позволил такому случиться», – говорит каждая из них. Мне понятно, что они имеют в виду. И все-таки мне всегда казалось, что нетрудно осознать: это не Бог убивает нас в газовых камерах, в канавах, у обрыва, на ста восьмидесяти шести ступенях. Убивают люди. И снова встревает ужас, а я не хочу ему потакать. Я представляю Его как существо, похожее на танцующего ребенка. Игривого, чистого и любознательного. Такой следует быть и мне, если я сейчас приближаюсь к Богу. Я хочу сохранить в себе ту часть, способную к удивлению, способную задаваться вопросами, до самого конца. Знает ли кто-нибудь, что я здесь? Знает ли о том, что происходит? Что есть такие места, как Аушвиц и Маутхаузен? Интересно, видят ли меня сейчас родители? А Эрик? Хотела бы я знать, как выглядит голый мужчина. Мужчины вокруг меня всюду. Мужчины уже неживые. Сейчас я не оскорблю их гордости, если посмотрю. Большим грехом будет отказаться от своего любопытства, убеждаю я себя.
Я оставляю Магду спать на лестнице и взбираюсь на илистый холм, где навалены трупы. Я не буду раздевать кого-то, кто остался в одежде. Не стану нарушать покой мертвых. Но если найду упавшего, то посмотрю.
Вижу мужчину с перекошенными ногами. Они будто бы не принадлежат этому телу, но я различаю то место, где ноги соединяются. Я вижу волосы, как у меня, черные, жесткие, и маленький отросток. Он похож на небольшой гриб, что-то хрупкое, выдающееся из земли. Удивительно: женские интимные части спрятаны внутрь, а мужские все наружу, такие уязвимые. Я чувствую удовлетворение. Я не умру не знающей биологию, из-за которой я появилась.
На рассвете очередь начинает двигаться. Мы почти не разговариваем. Кто-то рыдает. Некоторые молятся. Каждый из нас сейчас в одиночку переживает: кто ужас, кто сожаление, кто смирение, а кто-то испытывает чувство облегчения. Я не рассказываю Магде, что видела ночью. Очередь движется быстро. Это будет недолго. Я силюсь вспомнить, какие созвездия я раньше находила в ночном небе. Пытаюсь вспомнить вкус маминого хлеба.
– Дицука, – зовет меня Магда. Но я понимаю, что она обращается ко мне, лишь сделав несколько глубоких выдохов. Мы дошли до верха лестницы. Впереди офицер, проводящий селекцию. Но всех отправляют в одну сторону. Это не очередь на селекцию. Нас провожают. Это и правда конец. Они прождали до утра, чтобы отправить нас всех на смерть. Должны ли мы что-то друг другу пообещать? Принести извинения? Есть ли что-то, что нужно сказать? Перед нами еще пять девушек. Что мне сказать моей сестре? Две девушки.
И вдруг очередь останавливается. Нас отводят к группе эсэсовцев, стоящих у ворот.
– Кто попробует сбежать, будет расстрелян! – кричат они на нас. – Кто отстанет, будет расстрелян!
Нас снова что-то спасло. Уму непостижимо.
Мы опять идем маршем.
* * *
Это марш смерти, от Маутхаузена до Гунскирхена. Самое короткое расстояние, которое нас заставляли проходить, но мы так обессилели, что из двух тысяч в марше выживет только сотня. Мы с Магдой держимся друг за друга, твердо решив оставаться вместе и держаться на ногах. Каждый час по сотне девочек падает в канавы с обеих сторон дороги. Они слишком слабы или больны, чтобы продолжать идти, и их убивают на месте. Мы словно головка облетевшего одуванчика, семена которого разнес ветер, оставив лишь несколько белых пучков. Единственное, что во мне осталось, – это голод.
Все тело болит; все тело немеет. Еще один шаг, который я уже не могу сделать. Боль такая, что я не чувствую своих движений. Я вся – цепь боли, сигнал, циркулирующий от себя и обратно к себе. Даже не замечаю, что оступаюсь, пока не чувствую, как руки Магды и других девочек меня поднимают. Они переплели пальцы и удержали меня в этой живой люльке.
– Ты поделилась с нами хлебом, – говорит одна из них.
Эти слова мне ни о чем не говорят. Когда это я ела хлеб? Но потом всплывает воспоминание. Наша первая ночь в Аушвице. Менгеле велит играть музыкантам и приказывает мне танцевать. Это тело когда-то танцевало. В этой голове были мечты о театральной сцене. Этот рот ел тот хлеб. Я та девочка, которая думала так той ночью и думает сейчас: «Менгеле убил мою мать; Менгеле позволил мне жить». И сейчас девушка, которая ела со мной корку хлеба почти год назад, узнала меня. Она напрягает последние силы, чтобы переплести пальцы с пальцами Магды и других девушек и поднять меня. В некотором смысле Менгеле дал шанс этому случиться. Той ночью он никого из нас не убил и не убил позже. И дал нам хлеб.
Глава 6. Одна травинка или другая
Всегда есть ад еще страшнее. Такова наша награда за жизнь. Когда мы останавливаемся, мы оказываемся в лагере Гунскирхен. Это филиал Маутхаузена: несколько деревянных построек в болотистом лесу рядом с деревней – лагерь, который рассчитан на несколько сотен подневольных работников и в котором сейчас толпятся восемнадцать тысяч. Это не лагерь смерти. Здесь нет газовых камер, нет крематория. Но и нет никаких сомнений, что нас сюда прислали умирать.
Уже сейчас трудно сказать, кто жив, а кто мертв. В наши тела проникают болезни, и мы их передаем друг другу. Тиф. Дизентерия. Вши. Открытые раны. Плоть на плоти. Живая на гниющей. Туша лошади, наполовину обглоданная. Можно есть сырой. Кому нужен нож, чтобы резать сырое мясо? Грызи так, прямо с кости. Спят здесь, плотно прижавшись по трое, на переполненных деревянных конструкциях или на голой земле. Если под тобой кто-то умирает, ты спишь дальше. Нет сил, чтобы оттащить мертвеца. Вот девушка, скрючившаяся от голода. Рядом торчит нога, черная, гнилая насквозь. Нас собрали в сыром дремучем лесу, чтобы уничтожить в большом огне, поджечь всех нас. Здесь везде динамит. Мы ждем взрыва, огонь от которого нас поглотит. До большого взрыва велика вероятность отправиться на тот свет и от других опасностей: голод, лихорадка, болезни. На весь лагерь только одно отхожее место с двадцатью дырами. Если не дождешься своей очереди, то расстреляют там же, где из тебя вышли испражнения. Тлеют пожары свалок. Земля – сплошная грязевая яма, и, если ты находишь силы ходить, ноги увязают в жиже наполовину из грязи, наполовину из дерьма. Прошло пять или шесть месяцев после Аушвица.
Магда флиртует. Это ее ответ зову смерти. Она знакомится с французом, молодым парижанином, который до войны жил на Рю-де-чего-то-там – я была уверена, что никогда не забуду его адреса. Даже в самых недрах ужаса между двумя людьми возникают химия и озарение, и у каждого – возбужденное биение в горле. Я наблюдаю, как они разговаривают – будто сидят в летнем кафе и передают друг другу звонкие тарелки. Так делают живые. Наш священный импульс – кремень против страха. Не разрушай свой дух. Подними его, как факел. Скажи французу свое имя и припрячь его адрес, а потом смакуй его и прожевывай медленно, как кусочек хлеба.
Уже через пару дней в Гунскирхене я становлюсь одной из тех, кто не может ходить. Я об этом еще не знаю, но у меня сломан позвоночник (я и сейчас понятия не имею, когда и как получила травму). Я только чувствую, что все мои резервы иссякли. Лежу, дыша тяжелым воздухом, мое тело сплелось с телами незнакомцев, все мы в одной куче – и мертвые, и давно мертвые, и, как я, чуть живые. Мне видится что-то, как я сама понимаю, нереальное. И все это перемешивается с тем, что реально, но чего не должно быть. Моя мама читает мне. Скарлетт плачет: «Я любила образ, который сама себе создала». Папа кидает мне птифур. Клара начинает играть скрипичный концерт Мендельсона. Она играет у окна, чтобы случайный прохожий ее заметил и посмотрел на нее; она играет, чтобы притянуть внимание, которого она жаждет, но о котором не может попросить прямо. Так делают живые. Мы заставляем струны вибрировать так, как нам нужно.
Здесь, в аду, я вижу, как человек ест человечину. Способна ли я на такое? Могла бы я, для спасения собственной жизни, прильнуть ртом к коже, обвисшей на костях умершего человека, и начать жевать? Я видела, как над телами надругались с непростительной жестокостью. Мальчика привязывали к дереву, и офицер СС стрелял ему в ногу, в ладонь, в обе руки, в ухо – невинного ребенка использовали в качестве тренировочной мишени. Была беременная женщина, которая каким-то образом попала в Аушвиц, а не была убита сразу же на распределении. Когда у нее начались роды, эсэсовец связал ей ноги. Я не видела агонии страшнее. Но только глядя на то, как голодающий ест мясо мертвого человека, я чувствую, что к горлу подступает желчь и в глазах темнеет. Я не смогу этого сделать. Но мне нужно что-то есть. Нужно есть, иначе я умру. Из вытоптанной грязи пробивается трава. Я смотрю на травинки, они разной длины и разных оттенков. Буду есть траву. Из этих травинок я выберу вот эту. Займу свой разум выбором. Одна травинка или другая? Вот что значит выбирать. Есть или не есть. Есть траву или есть мясо. Съесть эту травинку или вон ту. Почти все время мы спим. Нечего пить. Я совсем теряю чувство времени. Часто засыпаю. Даже когда не сплю, с трудом пытаюсь оставаться в сознании.
Один раз я вижу, как Магда ползет ко мне с консервной банкой в руках, от которой отражается солнце. Банка сардин. Красному Кресту, сохраняющему нейтралитет, позволили доставить помощь заключенным, и Магда пробилась в очередь и добыла банку сардин. Но нам нечем ее открыть. Это всего лишь еще один оттенок жестокости. Даже благое намерение, хорошее дело становится напрасным. Моя сестра медленно умирает от голода; она сжимает в руке еду. Она вцепилась в жестянку, как однажды не выпускала из рук свои волосы, пытаясь удержать саму себя. Банка рыбных консервов, которую невозможно открыть, – самое человечное, что у нее сейчас есть. Мы уже мертвы и почти мертвы. Не могу понять: я скорее первое или второе?
Краем сознания я замечаю, что дни и ночи сменяют друг друга. Когда открываю глаза, то не знаю, спала ли я или была в обмороке и как долго. Я не нахожу сил спрашивать – долго ли? Иногда я чувствую, как дышу. Временами пытаюсь приподнять голову, чтобы посмотреть, где Магда. Иногда не могу даже подумать о ее имени.
Крики вырывают меня из сна, который был похож на смерть. Должно быть, эти крики – предвестники смерти. Я жду обещанного взрыва, обещанного тепла. Мои глаза закрыты, я жду, когда начну гореть. Но взрыва не происходит. Огня нет. Я открываю глаза и вижу джипы, медленно проезжающие через сосновый лес, который скрывает лагерь от дороги и делает незаметным с неба. «Американцы прибыли! Здесь американцы!» – вот что кричат вокруг ослабевшие и умирающие. Джипы выглядят расплывающимися и мутными, как будто я смотрю на них сквозь воду или знойный воздух. Может быть, это коллективная галлюцинация? Кто-то поет «Когда святые маршируют»[17]. Эти сенсорные впечатления неизгладимы, они более семидесяти лет со мной. Но когда все это происходит, я не понимаю, что они означают. Я вижу мужчин в камуфляже. Вижу флаги со звездами и полосами – соображаю, что это американские. Вижу флаги, украшенные цифрой 71. Американец дает узникам сигареты, те так голодны, что едят их, целиком, с бумагой. Я смотрю на это из клубка тел. Не могу различить, где мои ноги, где чужие. «Есть здесь кто живой? – выкрикивают американцы по-немецки. – Поднимите руку, если вы живы». Я пытаюсь пошевелить пальцем, чтобы подать сигнал, что я жива. Солдат подходит так близко ко мне, что я вижу грязные подтеки на его штанине. Я чувствую запах его пота. Я здесь, – хочу откликнуться я. – Здесь! У меня нет голоса. Солдат осматривает тела. Его глаза пробегают по мне, не опознавая меня как живую. К лицу он прижимает кусок грязной тряпки. «Поднимите руку, если вы меня слышите», – говорит он, почти не отрывая ткани от лица. Я изо всех сил стараюсь привести пальцы в движение. Ты ни за что не выберешься отсюда живой – так говорили все: капо, которая вырвала у меня сережки; эсэсовец с татуировочной машинкой, который не захотел потратить на меня чернила; женщина-бригадир с ниточной фабрики; эсэсовец, отстреливавший нас во время долгого-долгого перехода. Значит, вот каково это, когда они оказываются правы.
Солдат что-то кричит по-английски. Кто-то вне моего поля зрения кричит в ответ. Они уходят.
И вдруг на земле ослепительные блики. Вот и огонь. Наконец-то. Удивительно, что нет звука. Солдаты оборачиваются. Мое онемевшее тело вдруг вспыхивает жаром – от огня или от лихорадки. Но что-то не то. Огня нет. Отблеск света вовсе не от огня. Это солнце наткнулось на банку сардин у Магды в руках! Специально ли, случайно ли, но она привлекла внимание солдат с помощью рыбных консервов. Они возвращаются. У нас появился еще один шанс. Если я смогу танцевать мысленно, я смогу сделать так, чтобы мое тело увидели. Я закрываю глаза и концентрируюсь, соединяя руки над головой в воображаемом арабеске. Слышу, как солдаты снова кричат друг другу. Один стоит очень близко ко мне. Я зажмуриваюсь и продолжаю свой танец. Я представляю, что танцую с ним. Что он поднимает меня над головой, как Ромео в бараке с Менгеле. Представляю, что есть любовь и она пробивается сквозь войну. Что есть смерть – и всегда, всегда есть ее антипод.
В ту минуту я почувствовала свою руку. Я знаю точно – это моя рука, потому что до нее дотрагивается солдат. Я открываю глаза. Его широкая темнокожая рука обхватывает мои пальцы. Он вкладывает что-то мне в руку. Разноцветные горошины – красные, коричневые, зеленые, желтые.
– Еда, – говорит солдат. Он смотрит мне в глаза. Никогда не видела такой темной кожи, как у него; толстые губы, темно-карие глаза. Он помогает мне поднести руку ко рту. Помогает положить горошины на сухой язык. Появляется слюна, и я чувствую сладость. Вкус шоколада. Я помню, как называется этот вкус. Всегда носите с собой какую-нибудь маленькую сладость, – говорил мой отец. Вот и она.
А что с Магдой? Ее тоже нашли? Ко мне еще не вернулись ни слова, ни голос. Я даже не могу пробормотать «спасибо». Не могу собрать два слога в имени сестры. Кое-как проглатываю маленькие конфетки, которые дал солдат. Я с трудом могу думать о чем-то, кроме желания получить еще еды. Или глоток воды. Сейчас солдат занят тем, что пытается вытащить меня из груды тел. Ему нужно стащить с меня мертвых. У них одрябли лица, обвисли конечности. И хотя они совсем тощие, но тяжелые, и американец морщится, напрягаясь, чтобы их поднять. По его лицу течет пот. Он кашляет от смрада. Закрывает покрепче рот тряпкой. Кто знает, как давно эти мертвецы стали мертвецами? Возможно, их от меня отделяет пара вздохов. Я не знаю, как мне выразить благодарность. Но от нее по коже пробегают мурашки.
Он наконец вытаскивает меня и укладывает на землю, на спину, чуть подальше от мертвых. Я вижу клочки неба сквозь кроны деревьев. Чувствую дуновение влажного воздуха на лице, сырость грязной травы подо мной. Даю своему разуму погрузиться в ощущения. Я представляю мамины волосы, закрученные в пучок, папин цилиндр и усы. Все, что я чувствую и когда-либо чувствовала, берет начало в них, в их союзе, который меня создал. Они качали меня на руках. Они сделали меня дочерью земли. Я вспоминаю историю своего рождения, которую рассказывала Магда. «Ты мне помогла, – благодарила моя мама свою мать. – Ты мне помогла».
И теперь Магда лежит рядом со мной на траве. Сжимает в руках банку сардин. Мы прошли последнюю селекцию. Мы живы. Мы вместе. Мы свободны.
Часть II. Побег
Глава 7. Солдат-освободитель – солдат-насильник
Конец заключению, конец войне. Если раньше я позволяла себе помыслить о таком, в воображении сразу возникал образ счастья – счастья, которое будет обязательно переполнять мою душу. Я представляла, как буду вопить во все горло: «СВОБОДНА! Я СВОБОДНА!» Но теперь, когда все завершилось, мой голос иссяк. Поток освобожденных напоминал тихую реку, берущую начало от груды человеческих тел Гунскирхена и едва текущую по направлению к ближайшему городу. Меня везут на самодельной тележке. Скрипят колеса. Я насилу пытаюсь оставаться в сознании. В обретенной свободе нет ни радости, ни облегчения. Освобождение – это медленное передвижение. Это наши окаменевшие лица. Это на ходу засыпающие, едва живые мы. Это переедание, угроза, подстерегающая оголодавших людей. Это опасность получения неправильной пищи, которая смертельна для нас, ослабленных после длительного голода. Освобождение – это язвы, вши и тиф. Это вздутый живот и безучастный взгляд.
Краем сознания я понимаю, что где-то рядом идет Магда. Каждый толчок телеги отдается болью во всем теле. Больше года я была лишена роскоши задумываться над тем, что у меня болит, а что не болит. Я могла думать только о нескольких вещах: раздобыть где-то немного еды, остаться в живых и никогда не отставать – не отставать от идущих, оказываться на шаг впереди, идти довольно быстро, не останавливаться ни при каких условиях, не оказываться позади всех. Теперь, когда опасность миновала, боль внутри и страдания вокруг превращают осознанное в галлюцинацию. Немое кино. Марш скелетов. Большинство из нас так искалечены, что не в состоянии идти. Мы лежим на телегах или опираемся на палки. Лагерная форма – грязная, изношенная, протертая и изорванная в клочья – едва прикрывает наши тела. Истонченная кожа насилу покрывает кости. Мы являем собой наглядное пособие по анатомии. Локти, колени, лодыжки, скулы, суставы, ребра выпирают сплошными знаками вопроса: что мы такое? Наши торчащие кости выглядят непристойно. Вместо глаз у нас черные впадины – бессмысленные и пустые. Изнуренные лица, ввалившиеся щеки. Иссиня-черные ногти. Мы сплошная шевелящаяся рана.
Медленно шествует процессия мертвяков. По булыжной дороге кого-то везут на телегах, кто-то сам бредет, шатаясь. Колонна за колонной мы заполняем площадь австрийского города Вельса. На нас глазеют жители. Мы выглядим устрашающе. Ни один из нас не произносит ни слова. И площадь задохнулась от нашего молчания. Горожане разбегаются по домам. Дети закрывают глаза. Мы прошли сквозь ад только затем, чтобы стать для людей ночным кошмаром.
Очень важно есть и пить. Но не слишком много и не слишком быстро. Легко можно переесть. Некоторые не в состоянии удержаться. Выдержка покинула нас вместе с мышечной массой, растворилась, как и наша плоть. Мы голодали слишком долго. Позже я узнаю, что девочка из моего города, сестра подруги моей сестры Клары, вышла живой из Аушвица и умерла от переедания. Для нас в равной мере смертельно опасно оставаться голодными и начинать утолять голод. Это благо, что время от времени я теряю силы, необходимые для пережевывания пищи. Именно поэтому к лучшему, что у американских солдат не слишком много еды, в основном конфеты «Эм-энд-эмс» – те самые разноцветные горошины, на которых я заново училась есть.
Никто не хочет нам давать приют. Гитлер умер меньше недели назад, всего несколько дней остается до официальной капитуляции Германии. Кровопролитие, когда-то накрывшее всю Европу, пошло на спад, но время все еще военное. Все еще нет ни еды, ни надежды. Все еще мы, выжившие, мы, бывшие пленники, так или иначе остаемся врагами. Паразитами. Отребьем. Антисемитизм не заканчивается с войной. Американцы приводят меня и Магду в дом к немецкой семье: мать, отец, бабушка, трое детей. Здесь мы будем жить, пока не окрепнем для дальнейшего перемещения. «Будьте осторожны, – предупреждают нас солдаты на ломаном немецком. – Мир еще не наступил. Случиться может что угодно».
Родители убирают все семейное имущество в спальню, и отец демонстративно запирает дверь. Дети по очереди пялятся на нас и убегают к матери, пряча лица в ее юбке. Мы всего лишь бездушный объект, притягивающий их взгляды; мы средоточие чего-то страшного. Я привыкла к отношению эсэсовцев: их хладнокровной, доведенной до автоматизма жестокости, противоестественной оживленности при виде наших страданий, что свидетельствовало об их упоении своей властью. Привыкла к тому, как все ими творимое возвышало эсэсовцев в собственных глазах, что говорило о необходимости оправдывать свои действия, ощущать свою значимость, постоянно подтверждать свое целеполагание и целеустремление, свое право вершить расправу. Но как ребенок видит нас, его отношение к нам – это не идет ни в какое сравнение. Это бьет сильнее. Своим существованием мы оскорбляем их детскую невинность. Да, именно так хозяйские дети смотрят на нас – будто мы отступники, нечестивцы. Их потрясение намного горше, чем ненависть и отвращение.
Солдаты отводят нас в комнату, где мы будем спать. Это детская. Мы сироты войны. Меня укладывают в деревянную кроватку с боковыми стенками. Настолько я крошечная – вешу тридцать два килограмма. Я не могу ходить самостоятельно. Я как маленький ребенок. С трудом думаю на языке. За меня мыслят боль и нужда. Я готова заплакать, чтобы только меня обняли, но обнимать некому. Магда сворачивается клубком на маленькой детской кровати.
Шум за дверью проникает сквозь сон. Покой оказался недолговечным. Мне страшно. Боюсь того, что было. И того, что может случиться. Звуки в темноте воскрешают в памяти образы того раннего утра, когда за нами пришли: мама, прячущая «чепчик» Клары в карман пальто; папа, оглядывающий на прощанье нашу квартиру. Я прокручиваю прошлое и вновь переживаю утрату дома, потерю родителей. Рассматриваю деревянные перекладины кроватки, пытаясь уговорить себя еще немного поспать или хотя бы просто успокоиться. Но шум не прекращается. Топот и грохот. Дверь распахивается. Свет из соседнего помещения нарушает темноту комнаты. Вваливаются два американских солдата. Натыкаются друг на друга, налетают на небольшую этажерку. Один из вошедших, смеясь, показывает на меня пальцем и хватается за свой пах. Магды нет. Я не знаю, где сестра. Не знаю, достаточно ли она близко, чтобы услышать меня, если придется кричать. Может быть, подобно мне, она где-то съежилась от страха? Слышу мамин голос: «Не вздумайте терять девственность до брака». Мама начала внушать это еще до того, как я узнала, что такое девственность. Правда, знать было не обязательно. И так понятно, что речь идет о какой-то опасности. Не испорть себя. Не разочаровывай меня. Но сейчас я так уязвима, что любое грубое прикосновение может не столько опорочить, сколько убить. Однако боюсь я не смерти и не очередной порции боли. Страшно потерять уважение мамы. Один солдат отталкивает другого к двери, чтобы тот покараулил. Сам подходит ко мне, по-идиотски воркуя грубым, сипловатым голосом. Тяжелый дух пота и алкоголя резко бьет в нос, как запах гнили. Главное – не подпускать солдата к себе. Но кинуть в него нечем. Я не могу даже сесть. Пытаюсь крикнуть, а издаю лишь жалкий писк. Второй солдат, тот, который у двери, смеется, но затем замолкает. Потом произносит что-то резкое. Я не знаю английского, но понимаю: говорит о ребенке. Первый солдат нависает над кроваткой. Одной рукой он нащупывает ремень. Сейчас он займется мною. И раздавит. Он достает пистолет и бешено размахивает им, словно факелом. Я жду, когда его руки начнут хватать меня. Но вместо этого он вдруг отступает. Направляется к своему другу. Дверь захлопывается. Снова темнота. Я одна.
Заснуть уже не могу. Уверена, тот солдат вернется. Но где Магда? Неужели какой-то другой солдат взял ее? Сестра истощена, но тело ее в лучшем состоянии, чем мое, и сохранило намек на женские формы. Чтобы заглушить страх, я пытаюсь выстроить в памяти все, что знаю о мужчинах, и собрать пазл из известных мне характеров. Эрик – чуткий и жизнелюбивый. Мой отец – разочарованный в себе и своей судьбе; иногда он подавлен, иногда пытается нащупать опору в жизни, находя утешение в маленьких радостях. Доктор Менгеле – порочный и контролирующий все вокруг себя. Солдат вермахта, поймавший меня, когда я украла морковку, – сторонник карательных мер, оказавшийся милосердным и добрым. Американский солдат, вытащивший меня из кучи тел в Гунскирхене, – решительный и отважный. И нынешний американский солдат – новый для меня вид, незнакомый мне оттенок на палитре жизни. Агрессивный, но опустошенный; солдат-освободитель и солдат-насильник в одном лице. Пустое место, большое и темное, будто его тело утратило свое человеческое начало. Я никогда не узнаю, где была тогда Магда. Даже теперь она не вспоминает ту ночь. Но лично я извлеку из той страшной ночи нечто весьма важное, что, надеюсь, никогда не забуду. Человек, который намеревался изнасиловать меня, который мог бы вернуться и завершить начатое, тот человек тоже испытал омерзение – от самого себя. Возможно, он, как и я, провел всю оставшуюся жизнь в попытках избавиться от своих воспоминаний, вытеснить их на обочину сознания. Думаю, в ту ночь он так потерялся во тьме, что сам едва не стал тьмою. Но этого не случилось. Он сделал выбор и все-таки не превратился в пустое место.
Утром солдат возвращается. Мне понятно, что это он, по запаху перегара и по его физиономии – несмотря на полутьму, я волей-неволей из-за страха запомнила ее. Крепко обхватив руками колени, я начинаю то скулить, то завывать. Из меня вырывается что-то нечеловеческое. Но остановиться уже не могу. Я издаю монотонно-заунывный звук, несколько напоминающий гудение насекомого. Солдат опускается на колени у моей детской кроватки. Он плачет, повторяя всего два слова: forgive me, forgive me. Я еще не разбираю их значения – «прости меня», – однако запоминаю их звучание. Он протягивает мне полотняный мешок, который слишком тяжел для меня. Тогда солдат сам вытряхивает содержимое. На матрас вываливается его армейский паек – маленькие баночки с разноцветными этикетками. Он показывает мне наклейки. Тычет в них пальцем и, словно обезумевший метрдотель, что-то объясняет и объясняет, предлагая выбрать какое-нибудь блюдо. Не понимая ни слова из того, что он говорит, я рассматриваю картинки. Солдат открывает одну банку и кормит меня с ложки. Это свинина с чем-то сладким. С изюмом. Если отец не делился бы со мной принесенной втихаря ветчиной, скорее всего, я не знала бы ее вкуса – правда, мне кажется, что венгры не стали бы добавлять к свинине ничего сладкого. Открываю рот и получаю очередную порцию. Конечно, он прощен. Я умираю от голода, а он принес еду и кормит меня.
Каждый день солдат возвращается. Магда чувствует себя настолько хорошо, что уже флиртует с ним. Первое время, я уверена, он исправно посещает нас, поскольку ему приятно ее внимание. Но постепенно солдат перестает замечать мою сестру. Он приходит ко мне. Я то, с чем ему необходимо разобраться. Быть может, так он кается за чуть не совершенное насилие. Или ему нужно доказать себе, что еще возможно воскресить надежду и непорочность – его, мою, мировую; что надломленная девушка когда-нибудь встанет на ноги и пойдет. Американский солдат – уже шесть недель, как он заботится обо мне, а я все еще слаба и разбита и не в состоянии запомнить его имя, – достает меня из деревянной кроватки, ставит на пол и, держа за руки, уговаривает, шаг за шагом, пройти по комнате. При каждой попытке движения боль в верхней части спины такая, будто меня пытают раскаленными углями. Концентрирую внимание на том, чтобы, переступая с ноги на ногу, отследить момент переноса веса. Поднимаю руки над головой, держась за пальцы солдата. Я представляю, что он мой отец – отец, мечтавший о сыне, но все равно меня любивший. Ты будешь самой нарядной девушкой в Кошице! – слышу я отцовский голос. Когда я думаю о нем, жжение в позвоночнике утихает, а в грудной клетке разливается тепло. Есть боль, и есть любовь. На палитре жизни маленькие дети безошибочно находят два этих оттенка. Я открываю их заново.
Магда находится в лучшей физической форме, чем я, и пытается как-то наладить нашу жизнь. Однажды, когда немецкая семья выходит из дома, сестра добывает нам платья, просто перерывая их шкафы. Магда рассылает письма: в Будапешт Кларе и маминому брату, в Мишкольц маминой сестре (никто никогда эти письма так и не прочитает), чтобы выяснить, остался ли кто-нибудь в живых, и понять, где нам устроить свою жизнь, когда придет время покидать Вельс. Я не могу вспомнить, как писать свое имя. Тем более чей-то адрес. Как составить предложение: «Вы здесь?»
В один из дней американец приносит бумагу и карандаши. Мы начинаем с алфавита. Он пишет прописную A. Строчную a. Прописную B. Строчную b. Дает мне карандаш и кивает. Получится ли у меня написать буквы? Он желает, чтобы я попробовала. Ему хочется выяснить, до какой степени я деградировала и что еще могу. Пишу C и c, D и d. Я помню! Солдат подбадривает меня. Поддерживает мою попытку продолжить. E и e. F и f. Получилось. Дальше я запинаюсь. Знаю, что следующая G, но не могу ее представить, не могу сообразить, как вывести эту букву на бумаге.
Однажды он приносит радио и находит музыкальную программу. Такой веселой музыки я еще никогда не слышала. Она жизнерадостна. Она заводит тебя. Вступают духовые. Они настаивают, что пора двигаться. Они не пытаются соблазнить своими переливами – их звук глубже. Это приглашение, перед которым невозможно устоять. Солдат и его друзья показывают нам с Магдой танцы, которые исполняют под такую музыку: джиттербаг, буги-вуги. Мужчины разбиваются на пары, как в бальных танцах. Даже то, как они держат руки, для меня ново: в стиле бальных танцев, но свободно и пластично. Очень неформально, но не небрежно. Как им удается быть столь эмоциональными, заряженными энергией и при этом такими гибкими? Такими податливыми? Их тела готовы выполнять любые движения, что бы им ни диктовала музыка. Хочу танцевать так же. Хочу, чтобы мои мышцы это запомнили.
Как-то утром Магда идет принять ванну и возвращается, вся дрожа. Она почти раздета, и волосы у нее мокрые. Сидя на кровати, Магда раскачивается с закрытыми глазами. Пока она купалась, я спала на ее кровати – для детской кроватки я уже слишком большая – и теперь не знаю, видит ли она, что я проснулась.
Прошло больше месяца после нашего освобождения. Почти каждый час последних сорока дней мы с Магдой провели вместе в этой комнате. Мы вновь овладели своими телами, восстановили способность говорить и писать и даже пробуем танцевать. Мы уже в состоянии вспоминать Клару, в состоянии питать надежду, что она где-то есть и пытается нас найти. Но мы не говорим о том, что пережили.
Быть может, своим молчанием мы хотим создать собственную атмосферу, свободную от нашей травмы, – этакий пузырь для существования. Вельс для нас как чистилище, в котором мы пребываем в состоянии неопределенности, однако нас явно манит новая жизнь. Вероятно, так мы пытаемся предоставить друг другу и самим себе чистое пространство, чтобы в нем начать строить будущее. Мы не желаем обременять это место образами насилия и своими потерями. Нам хочется видеть что-то еще кроме смерти. Таким образом, мы молча условились не говорить ни о чем, что нарушило бы целостность нашего пузыря выживания.
И вот моя сестра дрожит, страдая от какой-то боли. Если сказать, что я не сплю, спросить, что случилось, если оказаться свидетелем ее душевного надлома, она не останется наедине с тем, что привело ее в такое состояние. Но если я притворюсь, что сплю, то не буду для нее зеркалом, отражающим эту новую боль; а ведь я могу стать избирательным зеркалом: показать ей то, что она хотела бы в себе взрастить, и оставить невидимым остальное.
В итоге мне не приходится решать, как поступить. Она сама начинает говорить.
– Прежде чем мы уйдем из этого дома, я отомщу, – клятвенно обещает она.
Мы редко видим семью, в чьем доме живем, но ее тихая, жгучая ненависть вынуждает меня представить самое худшее. Я представляю, как отец семейства заходит в ванную комнату, когда она раздевалась.
– Он не… – начинаю я и запинаюсь.
– Нет, – говорит она. У нее перехватывает дыхание. – Я хотела взять мыло, и комнату закрутило.
– Ты заболела?
– Нет. Да. Не знаю.
– У тебя температура?
– Нет. Все дело в мыле, Дицу. Я не смогла до него дотронуться. Оно вызвало у меня панический страх.
– Тебя никто не тронул?
– Нет. Это все мыло. Знаешь, что говорят? Говорят, его делают из людей. Из тех, кого убивали.
Не знаю, правда ли это. Возможно. Ведь мы так близко от Гунскирхена.
– Я до сих пор хочу убить немку-мать, – произносит Магда.
Мне вспоминается, как мы шли многие мили по снегу, когда она впервые это вообразила и без конца повторяла: «Ты же знаешь, я смогла бы».
Есть разные способы поддерживать в себе силы. Еще предстоит найти, как мне самой жить с тем, что случилось. Я еще не знаю, как это будет. Мы получили свободу от лагерей смерти, но нам нужно самим обрести свободу для очень многого: чтобы строить жизнь, создавать, выбирать. И пока мы не найдем свою свободу, мы продолжим ходить по кругу в одной и той же бесконечной тьме.
Позже у нас будут врачи, которые помогут вернуть физическое здоровье. Но никто не объяснит нам психологическую составляющую нашего восстановления и возвращения к норме. Пройдет много лет, прежде чем я начну понимать это.
Однажды пришел солдат со своими друзьями и сказал, что они заглянули попрощаться. Скоро нас заберут из Вельса, поскольку русские помогают перевозить выживших домой. У американцев с собой радио. Звучит Гленн Миллер – «В настроении»[18]. И мы даем себе полную волю. С больной спиной мне с трудом даются даже шаги, но в своем воображении, в душе мы кружимся волчком. Медленно, медленно, быстро-быстро, медленно. Медленно, медленно, быстро-быстро, медленно. Я тоже так могу: мои руки и ноги двигаются расслабленно, но не вяло. Гленн Миллер. Дюк Эллингтон. Раз за разом я повторяю эти громкие имена и названия их биг-бендов. Солдат уводит меня в осторожный поворот, немного наклоняет, затем мы расцепляем руки в открытую позицию. Я все еще очень слаба, но уже чувствую возможности своего тела, предвижу все, что оно сможет сказать, когда я вылечусь. Много лет спустя у меня будет пациент с ампутированной ногой, он расскажет мне о потере ориентации при фантомно ощущаемой конечности. Я танцую под композицию Гленна Миллера спустя шесть недель после освобождения, танцую со своей выжившей сестрой и американским солдатом, собиравшимся меня изнасиловать, но не сделавшим этого, – не правда ли, напоминает перевернутую ситуацию с фантомной конечностью? И это не остаточное чувство потери, а, напротив, ощущение восстановления: какая-то часть тебя возвращается на свое место. Я осязаю всю силу новых конечностей и энергию той жизни, с которой могу снова воссоединиться.
Мы едем несколько часов на поезде из Вельса в Вену, через оккупированную русскими Австрию. В дороге я постоянно чешусь. Мое тело все покрыто сыпью – сыпью от вшей или краснухи. Домой. Мы едем домой. Через два дня мы будем дома! И все-таки ощутить радость возвращения невозможно из-за опустошения, вызванного нашими утратами. Я знаю, что мои мама, бабушка и дедушка мертвы, отец, наверно, тоже. Их нет уже больше года. Вернуться домой без них – значит снова их потерять. Может быть, Клара. Я позволяю себе эту надежду. Может быть, Эрик.
На соседнем сидении два брата. Тоже выжившие. Тоже сироты. Тоже из Кашши. Как и мы! Их зовут Лестер и Имре. Позже мы узнаем, что их отца убили выстрелом в спину, когда он шел между ними на марше смерти. Скоро выяснится, что мы принадлежим к тем семидесяти, кто пережил войну, – из более чем пятнадцати тысяч, депортированных из нашего родного города.
– Мы есть друг у друга, – говорят братья. – Нам повезло, да, повезло.
Лестер и Имре, Магда и я. Мы аномалия. Нацисты убили не просто миллионы людей. Они уничтожили семьи. И теперь наши жизни продолжаются бок о бок с теми, кто оказался в необъятном списке погибших и пропавших без вести. Потом мы услышим истории людей из лагерей для перемещенных лиц, разбросанных по всей Европе. Воссоединения. Свадьбы. Рождение детей. Узнаем, что ввели специальные карточки, которые выдаются парам на получение свадебных нарядов. Мы будем, затаив дыхание, пробегать глазами газеты, выпускаемые Администрацией помощи и восстановления Объединенных Наций, надеясь увидеть знакомые имена в списках выживших, которых раскидало по всему континенту. Но сейчас нам остается лишь глазеть в окна поезда – на пустые поля, разрушенные мосты и появляющиеся кое-где хрупкие ростки урожая. Оккупация Австрии войсками союзников будет длиться еще десять лет. В городах, через которые мы проезжаем, не чувствуется облегчения, настроение в них отнюдь не праздничное; скорее, здесь царит атмосфера выжидания со стиснутыми зубами в условиях неопределенности и голода. Война окончена, но это еще не конец.
Мы приближаемся к пригороду Вены. Магда изучает в окне свое отражение, наложенное на пейзаж.
– У меня уродливые губы? – спрашивает она.
– Что, собираешься пустить их в ход? – шучу я, стараясь выманить ту Магду, которая раньше неустанно всех поддразнивала. Я хочу спрятать подальше собственные несбыточные фантазии, будто Эрик жив, где-то он есть и скоро я стану послевоенной невестой под самодельной фатой. Мы с любимым будем всегда вместе, я никогда не останусь одна.
– Я серьезно, – говорит Магда. – Скажи мне правду.
Ее беспокойство напомнило мне о нашем первом дне в Аушвице, когда она стояла голая, с бритой головой, сжимая в руке пряди своих волос. Быть может, она сознательно низводит всеобъемлющий страх, порожденный вопросом «Что будет с нами дальше?», до очень конкретного и очень личного опасения, что у нее уродливые губы и вообще она недостаточно привлекательна, чтобы найти мужчину. А может быть, эти вопросы отражают глубоко спрятанную неуверенность человека в себе, связанную с его сущностной значимостью?
– А что не так с твоими губами? – спрашиваю я.
– Мама их ненавидела. Однажды кто-то на улице восхитился моими глазами, и она сказала: «Да, глаза у нее красивые, но посмотрите, какие толстые губы».
В выживании есть только черное и белое, никаким но нет места, когда ты борешься за жизнь. Теперь наступает время сплошных но. У нас есть хлеб. Да, но нет ни гроша. Ты набираешь вес. Да, но на сердце еще тяжелее. Ты жива. Да, но моя мать мертва.
Лестер и Имре решают остаться на несколько дней в Вене и обещают нас отыскать, когда вернутся домой. Мы с Магдой стоим в очереди на посадку в другой поезд, который будет восемь часов везти нас на северо-запад, к Праге. Какой-то человек преграждает нам путь у входа в вагон. «Nasa lude», – усмехается он. Наши люди. Он словак. Евреям полагается ехать на крыше вагона.
– Нацисты проиграли, – ворчит Магда, – но все как было раньше.
Другого пути домой нет. Мы взбираемся наверх, пополняя ряды переселенцев. Мы держимся за руки. Магда сидит рядом с молодым человеком по имени Лаци Гладштейн. Он гладит пальцы Магды, а его пальцы немногим отличаются от костей. Никто не спрашивает друг друга, где кто был. Наши тела и затравленный взгляд говорят все, о чем нужно знать. Магда прислоняется к слабой груди Лаци, ища тепла. Я завидую тому утешению, которое они, похоже, нашли; завидую их влечению, их востребованности друг в друге. Я слишком предана своей любви к Эрику и надежде, что найду его, чтобы стремиться оказаться в чьих-то мужских объятиях. Даже если бы его голос все еще не оставался со мной, думаю, мне было бы страшно искать чью-то близость. Кожа да кости – это я, вся покрытая букашками и язвами. Кому я такая нужна? Лучше не рисковать, чтобы не стать отвергнутой; лучше лишний раз не афишировать свою ущербность. Кроме того, кто сейчас дал бы лучший приют? Такой же выживший, кто понимает, что я перенесла? Или тот, кому это незнакомо, кто поможет мне все забыть? Или некто знавший меня до того, как я прошла через ад, и кто поможет мне обрести прежнюю себя? Или, напротив, тот, кто сможет смотреть на меня и не вычислять постоянно, что было уничтожено во мне? Я никогда не забуду твои глаза. Я никогда не забуду твои руки. Больше года слова Эрика служили мне картой, которая может вывести к свободе. Но что, если он не примет меня такой, какой я стала? Если мы найдем друг друга, построим совместную жизнь и однажды поймем, что наши дети – дети призраков?
Я жмусь к Магде. Они с Лаци говорят о будущем.
– Я собираюсь стать врачом, – говорит он.
На мой взгляд, очень благородно, поскольку это говорит молодой человек, который, как и я, всего месяц-другой назад находился на грани жизни и смерти. Он остался в живых, он вылечится и будет лечить других. Его стремления меня ободряют. И поражают. Он вышел из своих лагерей с мечтой. Все это кажется ненужным риском. Даже сейчас, когда я познала голод и прошла сквозь чудовищные зверства, я не забыла ту боль, нанесенную гораздо меньшими травмами: боль из-за рухнувшей мечты, погубленной предубеждением; боль после разговора с тренером, когда она отстранила меня от подготовительной олимпийской команды. Я вспоминаю своего дедушку: как он ушел на пенсию с завода швейных машин «Зингер», а потом ждал пенсионного чека. Он ждал, ждал и ждал – почти ни о чем другом не мог говорить. Наконец получил первый чек. А через неделю нас согнали на кирпичный завод. Спустя еще несколько недель его не стало. Я не хочу больше ошибиться в выборе мечты.
– У меня в Америке дядя, – продолжает Лаци. – В Техасе. Поеду туда, поработаю, накоплю на учебу.
– Мы, может быть, тоже поедем в Америку, – говорит Магда. Скорее всего, она думает о нашей тете Матильде, которая живет в Бронксе. Вокруг нас на крыше вагона сплошь одни разговоры об Америке и Палестине. К чему продолжать жить в пепле утраты? Зачем бороться за жизнь в месте, где нам не рады? Вскоре мы узнаем о строгом ограничении иммиграции в Америку и Палестину. Нет такого пристанища, в котором не было бы ограничений и предубеждений. Куда бы мы ни пошли, нас везде может ожидать подобная жизнь. Жизнь, в которой пытаешься глубоко спрятать страх, что в любую минуту нас начнут бомбить, нас будут расстреливать, нас просто свалят в канаву. Или в лучшем случае заставят ехать на крыше поезда и закрываться руками от ветра.
В Праге нас снова ждет пересадка. Мы прощаемся с Лаци. Магда дает ему наш старый адрес: улица Лайоша Кошута, дом шесть. Он обещает писать письма. До следующего поезда у нас есть время, можно вытянуть ноги, посидеть в тишине на солнце и поесть хлеба. Мне хочется найти парк. Хочется увидеть зелень, цветы. Через каждые несколько шагов я закрываю глаза и вдыхаю запахи города, улиц, тротуаров. Прислушиваюсь к звукам городской суеты. Пекарни, выхлопные газы машин, духи – трудно поверить, что все это существовало, пока мы были в аду. Я засматриваюсь на витрины магазинов. Не важно, что у меня нет денег. Потом, конечно, это будет важно. В Кошице не станут раздавать еду бесплатно. Но сейчас мне вполне хватает того, что я могу видеть платья и чулки, которые можно купить, – и украшения, и трубки, и канцтовары. Жизнь и торговля продолжаются. Женщина трогает пальцами летнее платье, оценивая легкость ткани. Мужчина любуется ожерельем. Вещи не важны, но важна красота. Перед нами город, в котором столько людей, не утративших способность придумывать, создавать, восхищаться красивыми вещами. Я тоже снова стану горожанкой, жителем какого-то города. Буду ездить по делам и покупать подарки. Стоять в очереди на почту. Есть хлеб, который сама испеку. В память о папе я начну одеваться по последней моде. В память о маме я буду ходить в оперу – в память о том, как она сидела на краешке сидения и плача слушала Вагнера. Я пойду на концерт симфонического оркестра. В память о Кларе я буду выискивать все исполнения скрипичного концерта Мендельсона. Желание и тоска. Настойчивость в нарастающем ритме и потом пульсирующая каденция. Обрушиваются восходящие аккорды – и смычковые начинают более зловещий мотив, грозящий солирующей скрипке, возносящейся в своих мечтах. Стоя на краю тротуара, я закрываю глаза, чтобы услышать эхо скрипки моей сестры. И тут я вздрагиваю от голоса Магды.
– Просыпайся, Дицу!
Когда я открываю глаза, то вижу прямо перед собой: в гуще толпы в центре города рядом со входом в парк висит афиша, анонсирующая концерт для скрипки соло.
На афише фотография моей сестры.
На этом листочке изображена моя Клари, сидящая со скрипкой в руках.
Глава 8. Влезть через окно
Мы сходим с поезда в Кошице. Наш родной город больше не венгерский. Он снова в составе Чехословакии. Мы щуримся от июньского солнца. У нас нет денег на такси, у нас ни на что нет денег; мы не знаем, занята ли наша квартира; не представляем, с чего начинать жизнь. Но мы дома. И собираемся разыскивать Клару. Клару, которая всего несколько недель назад давала концерт в Праге. Клару, которая – где бы она ни находилась – была живой.
Мы идем через городской парк к центру. Люди сидят за уличными столиками, на лавочках. У фонтанов собираются дети. Проходим мимо башни с часами, куда мальчики прибегали на свидание с Магдой, а мы с подругой за ними подглядывали. Вот появилось папино ателье – золотом на солнце горят медальоны на решетке его балкона. Он здесь! Это настолько несомненно, что я начинаю вдыхать запах его табака, ощущать щекотание его усов на своей щеке. Но окна ателье темны. Мы идем дальше, приближаясь к своему дому на улице Лайоша Кошута – и тут происходит настоящее чудо. На тротуаре – рядом с тем самым местом, где когда-то стоял фургон, в котором нас повезли на кирпичный завод, – возникает вышедшая из парадного подъезда Клара. Ее волосы заплетены и заколоты, как у нашей мамы. Она держит скрипку. Увидев меня, Клара роняет скрипичный футляр на тротуар и бежит ко мне. Она стонет и плачет: «Дицука! Дицука!» Ее руки подхватывают меня, как дитя, и превращаются в колыбель.
«Не обнимай нас! Мы все в паразитах и болячках!» – пронзительно кричит Магда.
Сдается мне, в этом вопле заключено совсем иное. Сестра, дорогая, мы изуродованы. Не дай тому, что испытали мы, причинить тебе боль. Не делай еще хуже. Не спрашивай, что произошло с нами. Иначе тебя развеет как дым!
Клара все качает и качает меня. «Моя малышка!» – объясняет сестра случайному прохожему. С того момента она стала мне матерью. По нашим лицам ей уже понятно, что вакансия свободна и кто-то должен ее занять.
Мы не виделись с ней по меньшей мере полтора года. Однако ей нужно спешить на запись концерта на радиостанции. Нам отчаянно не хочется ее отпускать, разлучаться с ней хоть на минуту.
– Останься, останься, – умоляем мы. Но она уже и так опаздывает.
– Если я не буду играть, мы не сможем есть. Идемте со мной. И поторопитесь.
Даже к лучшему, что у нас нет времени для разговоров. Мы совершенно не представляем, с чего начинать свою историю. Зрелище наших телесных страданий наверняка вызывает у Клары ужас – и, возможно, это тоже на благо нам всем. Сестра сможет направить свою любовь и заботу на нечто определенное – исцелить меня и Магду. Ведь нам потребуется намного больше, чем просто покой. Допускаю, что полностью мы уже никогда не оправимся. Но в каких-то конкретных вещах Клара может помочь прямо сейчас. Она приводит нас в дом, освобождает от грязной одежды. Застилает родительскую кровать белыми простынями, и мы вытягиваемся на них в полный рост. Втирает антисептическую жидкость в наши покрытые коростой и язвами тела. Сыпь, от которой мы постоянно чешемся, мгновенно передается Кларе, и из-за кожного зуда ей тяжело играть на скрипке. Наше воссоединение становится слишком физическим.
Не меньше недели мы с Магдой проводим в постели – голые, пропитанные целительным лосьоном. Клара не задает вопросов. Не спрашивает, где мать и отец. Говорит сама, чтобы мы могли молчать. Говорит сама, поскольку боится услышать нашу историю. Все, о чем она рассказывает, звучит как сказка. И на самом деле это чудо. Мы вместе. Мы те, кому выпало огромное счастье. Таких, как мы, воссоединившихся, единицы. Наши дядя и тетя, мамины брат и сестра, были сброшены с моста и утоплены в Дунае; Клара говорит прямо, жестко и даже как-то бесстрастно. Сама она сумела избежать депортации и гибели, даже когда сгоняли на смерть последних оставшихся в Кошице евреев. Она пряталась в Будапеште, в доме своего профессора, под видом нееврейки.
– Как-то профессор сказал мне: «С завтрашнего дня начинай учить Библию, ты должна хорошо знать ее, так как пойдешь жить в женский монастырь». Это был лучший вариант убежища. Монастырь находился почти в двухстах милях от Будапешта. Я там ходила в рясе. Но однажды меня узнала девушка, с которой я училась в консерватории, и я улизнула на поезде обратно в Будапешт.
Летом Клара вдруг получила письмо от родителей. Это было то самое прощальное письмо, которое мать и отец написали ей, когда мы были на кирпичном заводе. Они рассказывали о месте, где нас держали в заключении; сообщали, что мы все вместе и в безопасности, что нас, как мы тогда думали, переводят в трудовой лагерь в Кеньермезо. Я вспоминаю, как во время отправки нас из кирпичного завода мама бросила письмо на землю, поскольку не было возможности отправить его по почте. Тогда я думала, что она обронила его из-за покорности судьбе. Но, слушая Кларину историю выживания, я увидела некоторые вещи в ином свете. Это был не жест человека, потерявшего всякую надежду. Вовсе нет, мама разжала пальцы, державшие письмо, потому что в ней еще теплилась надежда. Как бы там ни было – выбросила ли она его, будучи в отчаянии или уповая на счастливый случай, – она шла на риск. Письмо указывало прямо на мою сестру, светловолосую еврейку, прятавшуюся в Будапеште. Там был ее адрес. Пока нас, пребывающих во тьме, везли прямиком в Аушвиц, некий прохожий подобрал это письмо. Он мог открыть его и сдать Клару нилашистам. Он мог выбросить его в урну или оставить лежать на улице. Но незнакомый человек наклеил на него марку и отправил по почте Кларе в Будапешт. Случившееся для меня так же непостижимо, как явление сестры у нашего дома. В этом ощущалось что-то магическое – подтверждение, что между нами был натянут спасательный трос. Еще это свидетельствует, что в мире даже в те времена существовала доброта. Письмо нашей мамы пробилось сквозь дорожную пыль, поднятую тремя тысячами пар ног; многим из шедших предстояло превратиться в дым над Польшей. Светловолосая девочка отложила скрипку, чтобы вскрыть конверт.
Клара рассказывает еще одну историю со счастливым концом. Узнав, что нас держат на кирпичном заводе и в любой день могут отправить в Кеньермезо или еще бог весть куда, она пошла в немецкое консульство в Будапеште – требовать, чтобы ее отправили туда же, где мы. У дверей консульства швейцар сказал ей: «Девочка, уходи. Не приходи сюда больше». Она не ожидала услышать «нет». Она еще раз попыталась проникнуть в здание. Швейцар увидел ее и начал наносить удары кулаком по плечам, рукам, животу и лицу. «Выметайся отсюда», – сказал он снова.
– Он избил меня и тем самым спас мне жизнь, – говорит она нам.
Ближе к концу войны, когда русские окружили Будапешт, нацисты стали еще энергичнее очищать город от евреев.
– Все должны были носить удостоверение личности с фотографией, указанием имени и вероисповедания. На улице постоянно требовали его предъявлять, и если ты был евреем, то могли убить. Я не хотела держать удостоверение при себе, но боялась, что после войны у меня не окажется документа, подтверждающего мою личность. Именно поэтому отдала его на хранение подруге. Она жила на другом берегу, попасть к ней можно было только через мост, и, когда я к нему подошла, там солдаты проверяли документы. Они сказали: «Покажите, пожалуйста, кто вы». Я ответила, что у меня ничего нет, и каким-то образом, сама не знаю почему, они меня пропустили. Наверно, их убедили мои светлые волосы и голубые глаза. К подруге за удостоверением я так и не зашла.
«Если не можешь войти через дверь, пробуй влезть через окно», – обычно говорила наша мама. В выживании не существует дверей. Как и в исцелении. Есть только окна. Щеколды, до которых трудно дотянуться, очень маленькие форточки, пространства, в которые тело не пролезет. Но оставаться на одном и том же месте нельзя. Нужно найти способ выбраться.
После капитуляции Германии, пока мы с Магдой вставали на ноги в Вельсе, Клара снова пошла в консульство, на этот раз в советское, потому что от нацистской власти Будапешт освободила Красная армия. Там она пыталась выяснить судьбу родных. Они не владели информацией о нашей семье, но предложили в обмен на бесплатный концерт помочь с возвращением домой в Кошице.
– На мое выступление пришли двести русских, – рассказывает Клара. – А потом меня привезли домой на крыше поезда. Они присматривали за мной, когда мы останавливались и спали.
Когда Клара открыла дверь нашей квартиры, все было в беспорядке, нашу мебель и другое имущество разграбили. Комнаты использовали как стойло, и на полу всюду был лошадиный навоз. Пока мы в Вельсе учились есть, ходить, писать свои имена, Клара оттирала пол и приводила квартиру в порядок, а чтобы иметь деньги, давала концерты.
Отныне мы вернулись. Избавившись от чесотки, мы с Магдой начинаем потихоньку выходить из дома. На троих у нас одна пара хорошей обуви. Когда моя очередь носить туфли, я обуваюсь и медленно хожу туда и обратно по тротуару. Идти далеко еще нет сил. Меня узнает сосед: «Поражен, что тебе удалось выбраться. Ты всегда была таким тщедушным ребенком». Наверное, я могла бы торжествовать. Вопреки всему исход оказался счастливым! Но я чувствую вину. Почему я? Почему выжила именно я? Этому нет объяснения. Просто удача. Или ошибка.
Людей можно делить на два типа: те, кто выжил, и те, кто не смог. Последних с нами нет, они не расскажут нам своей истории. Портрет матери нашей мамы все еще висит на стене. Темные волосы разделены на прямой пробор и собраны в тугой пучок. Несколько кудряшек выбиваются на гладкий лоб. На снимке она не улыбается, но взгляд ее скорее проникновенный, чем суровый. Она наблюдает за нами, проницательно и без сантиментов. Когда-то наша мама постоянно с ней говорила, сейчас так же поступает Магда. Иногда сестра просит о помощи. Иногда ворчит и бранится: «Эти нацистские ублюдки…», «Гребаные нилашисты…» Пианино, обитавшее у стены под этой фотографией, пропало. Раньше оно было таким привычным, что мы почти не обращали на него внимания, как не замечали собственного дыхания. Теперь его отсутствие в комнате давит на нас. Пустующее место приводит Магду в ярость. С пропажей пианино что-то ушло и из ее жизни. Утрачена частичка ее индивидуальности. Ушла возможность самовыражения. Отсутствие инструмента рождает в ней жгучую злобу. Бурную, громкую, упрямую. Меня это восхищает в сестре. Моя злость обычно обращена к самой себе и сгущается где-то в легких.
Магда крепнет с каждым днем, а меня не оставляет слабость. Все еще продолжает болеть спина, из-за чего трудно ходить; постоянная тяжесть в груди по причине застоя крови. Я редко покидаю дом. Даже если я не чувствовала бы себя больной, нет такого места, куда мне хотелось бы пойти. Зачем нужны прогулки, когда смерть – единственный ответ на любой вопрос? Зачем с кем-то говорить, если любой контакт с живыми лишь оборачивается доказательством, что по этому миру ты идешь в окружении теней, чей сонм постоянно растет? Как можно горевать по кому-то отдельно, когда у каждого за душой так много тех, кого надо оплакивать?
Я полагаюсь на своих сестер: Клара – моя преданная няня, Магда – мой источник новостей и моя связь с внешним миром. Однажды Магда возвращается домой и, задыхаясь, выкрикивает: «Пианино! Я нашла его. Оно в кофейне. Наше пианино! Мы должны вернуть его».
Владелец кафе не верит, что оно наше. Клара и Магда по очереди ведут с ним переговоры. Они рассказывают про концерты камерной музыки в нашей гостиной. Рассказывают, как друг Клары, виолончелист Янош Штаркер, еще один юный виртуоз, учившийся вместе с ней в консерватории, играл в нашем доме в год своего профессионального дебюта[19]. Никакие слова не убеждают хозяина. В итоге Магда находит нашего настройщика. Приходит с ним в кафе. Настройщик, поговорив с хозяином, заглядывает под верхнюю панель пианино, чтобы проверить серийный номер.
– Да, – говорит он, кивая, – это пианино Элефантов.
Он собирает группу мужчин, которые помогают отнести пианино к нам в квартиру.
Есть ли во мне что-то удостоверяющее мою идентичность? Нечто такое, что сможет возвратить меня прежнюю? Если это что-то существует, кого мне искать, какого настройщика, который приподнял бы панель и считал бы мой код?
Однажды от тети Матильды приходит посылка. «Валентин-авеню, Бронкс» – написано в адресе отправителя. В посылке чай и кондитерский жир Crisco. Мы никогда не видели такого продукта и поэтому не знаем, что это заменитель масла для кулинарии и выпечки. Мы едим его просто так, намазывая на хлеб. Завариваем одни и те же чайные пакетики по многу раз. Сколько чашек чая у нас получится выпить подобным образом?
Изредка звонят в дверь, и я вскакиваю с постели. Это лучшие секунды. Кто-то ждет за дверью, и, пока мы идем открывать, можно вообразить кого угодно. Иногда я представляю, что там наш папа. Он все-таки пережил ту первую селекцию. Смог работать и держаться как молодой на протяжении тех военных лет, и вот он здесь, курит сигарету, держит в руке мел, вокруг шеи обмотан, словно шарф, длинный портновский сантиметр. Иногда я представляю Эрика. Он стоит на ступеньках парадного и держит в руках букет роз.
Отец так и не пришел. Мы окончательно понимаем, что он все-таки мертв.
Однажды в дверь звонит Лестер Корда, один из братьев, с которыми мы ехали на поезде из Вельса в Вену. Он пришел посмотреть, как у нас идут дела, и с порога заявляет: «Зовите меня Чичи». Он подобно свежему воздуху ворвался в наш затхлый мирок. Мы с сестрами пребываем в тягостном заточении собственной потерянности, непрерывно оглядываясь на прошлое, но пытаясь жить дальше. Слишком много сил уходит на одно только восстановление: здоровья, имущества и того, что составляло нашу жизнь до всех наших утрат и нашей неволи. Душевность Чичи, его заинтересованность в нашем благополучии напоминают мне о том, что есть нечто большее, чем наши лишения, – что-то, ради чего стоит жить.
В соседней комнате репетирует Клара. У Чичи загораются глаза, когда он слышит музыку. «Нельзя ли познакомиться со скрипачкой?» – спрашивает он. Клара оказывает ему эту честь. Она заиграла чардаш. Чичи танцует. Может быть, пришло время строить новую жизнь? Не восстанавливая ту, что была в прошлом, а начать все с нуля?
Летом 1945 года Чичи становится постоянным гостем. Когда Клара собирается в Прагу на очередные гастроли, Чичи предлагает поехать с ней.
– Не пора ли печь свадебный торт? – спрашивает Магда.
– Прекрати, – отвечает Клара. – У него есть девушка. Он это из вежливости.
– Ты уверена, что не влюбилась? – спрашиваю я.
– Он помнит наших родителей, – говорит она, – а я помню его родителей.
После нескольких недель, проведенных дома, хотя я еще не вполне окрепла, я пешком иду к дому Эрика. Из его семьи никто не вернулся. Квартира пуста. Я обещаю себе возвращаться сюда как можно чаще. Боль разочарования от вида его пустой квартиры намного меньше, чем боль от того, что я не разрешаю себе думать о нем. Скорбь по нему больше, чем скорбь по человеку. В лагерях я страстно желала, чтобы он был рядом. Меня держало наше общее с ним будущее. Если сегодня выживу, завтра буду свободна. Парадокс свободы в том, что в ней сложнее найти надежду и цель. Теперь мне нужно смириться с тем, что тот, за кого я выйду замуж, не познакомится с моими родителями. Если у меня родятся дети, у них не будет бабушки и дедушки. Эрик не просто утрата, приносящая боль. Это то, что сказывается на моем будущем. Это то, что останется со мной навеки. Мама наставляла меня, что следует искать мужчину с высоким лбом, что свидетельствует о его уме. «Обращай внимание, как он пользуется платком, – говорила она. – Следи, чтобы он всегда носил чистый. Следи, чтобы у него всегда были начищены ботинки». Ее не будет на моей свадьбе. Она никогда не увидит, кем я стану и кого я выберу.
Теперь роль мамы взяла на себя Клара. Она поступает так из любви и потому, что у нее это получается хорошо и естественно. Кроме того, Клару гложет чувство вины. Ее не было с нами в Аушвице, чтобы нас защищать. И потому она будет делать это сейчас. Готовкой занимается она. Кормит меня с ложечки, как ребенка. Я люблю ее, мне нравится ее внимание, нравится, что меня обнимают и дают чувство безопасности. Но ее забота все-таки удушает. Ее доброта не дает мне вдохнуть. И кажется, что Кларе что-то нужно от меня взамен. Не признательность, а нечто более глубокое. Мне кажется, что Клара зависит от меня, потому что хлопоты о моем благополучии дают ей ощущение цели жизни, придают смысл ее существованию. В заботе обо мне она видит объяснение тому, почему она была избавлена от нашей участи. Моя задача – быть настолько здоровой, чтобы остаться живой, при этом быть настолько беспомощной, чтобы нуждаться в сестре. И это прекрасно объясняет, для чего выжила я.
Наступил конец июня, а моя спина все еще болит. Между лопатками постоянно колет и что-то хрустит. По-прежнему давит в груди, даже когда я дышу. У меня начинается жар. Клара отвозит меня в больницу. Она настаивает, чтобы мне дали отдельную палату и обеспечили лучший уход. Я беспокоюсь, во сколько нам это обойдется, но Клара говорит, что найдет, как покрыть расходы, – просто увеличит количество концертов. Меня приходит обследовать врач, и я узнаю его. Он старший брат моей бывшей одноклассницы. Его зовут Габи. Помню, она называла его архангелом Габриэлем. Я узнаю от него, что она мертва. Погибла в Аушвице. Габи спрашивает, видела ли я ее там. Мне хотелось бы передать образ одноклассницы в страшные часы ее жизни, чтобы он отложился в его памяти, и я думаю, не соврать ли мне, сочинив, что видела, как она совершает что-то отважное и с любовью говорит о нем. Но я решила не врать. Для меня самой лучше остаться один на один с неизвестностью о судьбе отца и последних минутах жизни Эрика – честнее испытывать пустоту, чем слышать неправду, сколь угодно утешительную. Архангел Габриэль проводит медицинский осмотр – первый после освобождения. У меня диагностируют брюшной тиф, пневмонию, плеврит и перелом позвоночника. Он делает для меня съемный корсет, который закрывает все туловище. Я кладу его на кровать и ночами забираюсь в него, в мой гипсовый панцирь.
Визиты Габи – терапевтические не только для моего тела. Он не берет с меня денег за лечение. Мы сидим и вспоминаем прошлое. Я не могу предаваться горю с моими сестрами – не могу выражать его открыто. Все еще свежо и слишком живо. Кажется, что совместная скорбь осквернит чудо нашего соединения. Мы не плачем вместе, сидя в обнимку. Но с Габи я позволяю себе горевать. Как-то раз спрашиваю об Эрике. Он его помнит, но не знает, что с ним стало. У Габи есть знакомые коллеги, работающие в Татрах в центре репатриации. Он обещает попросить их что-то узнать об Эрике.
Через какое-то время Габи осматривает мою спину. Он ждет, когда я лягу на живот. И начинает рассказывать, что узнал: «Эрика отправили в Аушвиц. Его не стало в январе. За день до освобождения».
Из меня вырывается вопль. Чувствую, что грудную клетку сейчас разорвет. Меня накрывает такая мощная волна скорби, что даже не текут слезы, только неровный стон застревает в горле. Я еще не способна ясно мыслить; не могу пока задавать вопросы о последних днях моего любимого, его страданиях, состоянии его ума и духа тогда, когда тело уже сдалось. Меня поглощают горе и ощущение несправедливости. Продержись он еще несколько часов, возможно всего несколько вдохов и выдохов, – сейчас мы были бы вместе. Я вою, лежа лицом в стол, пока у меня не охрип голос.
Когда потрясение понемногу уходит, я понимаю, что боль, приносимая знанием, странным образом милосердна. Относительно смерти отца такой определенности нет. Знать точно, что Эрика больше нет, – все равно что узнать диагноз после долгой болезни. Теперь я могу точно указать причину боли. Могу объяснить, что нужно лечить.
Но диагноз – это еще не лекарство. Я не знаю, что теперь делать с голосом Эрика, с его словами, сказанными мне; не знаю, куда девать свою надежду.
К концу июля жар проходит, но Габи не вполне доволен улучшениями. В моих легких, на которые долго давил сломанный позвоночник, много жидкости. Он боится, что я могла заразиться туберкулезом, и советует мне лечь в туберкулезную клинику в Татрах, рядом с центром репатриации, где он узнал о смерти Эрика. Клара доедет со мной на поезде до ближайшей деревни в горах. Магда останется в квартире. После усилий, потраченных на ее восстановление, при существующей вероятности, что могут зайти незваные гости, рисковать нельзя, оставляя квартиру пустой даже на день. В пути Клара нянчится со мной, как с дитем. «Посмотрите на мою малышку!» – радостно говорит она пассажирам рядом с нами. Я им приветливо и осторожно улыбаюсь, как маленький ребенок. Да и выгляжу я почти так же. Из-за тифа у меня опять выпали волосы и сейчас только начинают отрастать, мягкие, как у младенца. Клара помогает мне закрыть голову шарфом. Мы едем вверх, и сухой горный воздух как будто прочищает мою грудь, но дышать все еще тяжело. В моих легких постоянная топь. Как будто все слезы, которым я не позволяю пролиться наружу, стекают в лужу внутри. Я не могу пренебрегать своим горем, но и вытеснить его тоже не могу.
Кларе нужно успеть вернуться в Кошице на очередное выступление. Ее концерты – наш единственный источник дохода, поэтому она не сможет сопровождать меня дальше до клиники, где мне нужно будет остаться, пока я не поправлюсь. Но она ни за что не хочет оставлять меня одну. Мы спрашиваем сотрудников центра репатриации, не знают ли они кого-нибудь, кто едет в клинику, и мне называют одного молодого человека, который остановился в гостинице поблизости и тоже собирается туда на лечение. Когда я подхожу к нему в холле, он целуется с девушкой.
– У поезда встретимся, – раздраженно бурчит он мне.
Когда я подхожу к нему на платформе, они с девушкой продолжают целоваться.
У него седые волосы, хотя он всего лет на десять старше меня. В сентябре мне исполнится восемнадцать, но с такими худыми ногами и руками, с плоской грудью и лысой головой я больше похожа на двенадцатилетнюю. Мне неловко стоять рядом, пока они обнимаются; я не знаю, как привлечь его внимание. Ситуация меня раздражает. И это человек, которому я должна доверить себя?
– Простите, не могли бы вы мне помочь? – наконец спрашиваю я. – Вас попросили сопроводить меня до клиники.
– Я занят, – огрызается он. – Встретимся в поезде.
Отвечает мне, почти не отрываясь от поцелуя. Он как старший брат, который отмахивается от докучливой сестры. После постоянной опеки и внимания Клары его пренебрежение ранит. Не знаю, почему меня это так задевает. Может, потому, что его подруга жива, а моего любимого уже нет на свете? Или потому, что от меня так мало осталось и без внимания и одобрения другого человека я чувствую себя на грани полного исчезновения?
В поезде он покупает мне бутерброд, а себе газету. Сидит читает. Мы не разговариваем, только знакомимся и перебрасываемся формальными фразами. Его зовут Бела. Для меня он всего лишь попутчик-грубиян, человек, которого я вынуждена просить о помощи и который нехотя ее оказывает.
Когда мы прибываем на станцию, то узнаем, что до клиники придется идти пешком и он не сможет отвлечься на чтение газеты.
– Чем ты занималась до войны? – спрашивает он.
Я замечаю то, чего не услышала раньше: он заикается. Когда я отвечаю, что была гимнасткой и занималась балетом, он говорит:
– Вспоминается один анекдот.
Я выжидающе смотрю на него, готовясь к порции доброго венгерского юмора, утешение которого я почувствовала в Аушвице, когда мы с Магдой и соседками по нарам устроили конкурс на самую красивую грудь; духоподъемная сила смеха в самое жуткое время.
– Жила-была птичка, – начинает мой спутник, – птичка замерзла и приготовилась умирать. Пришла корова и немного ее обогрела – прибегнув к своей хвостовой части, если понимаешь, о чем я. Птичка взбодрилась, запрыгала. Но тут проехал грузовик и прикончил ее. Мимо проходила старая мудрая лошадь, увидела мертвую птичку на дороге и прошептала: «Сколько раз ей говорила, что нечего плясать, когда ты по уши в дерьме, – допляшешься».
Бела смеется над своей шуткой.
Я чувствую себя оскорбленной. Он хочет выглядеть остроумным, но думаю, таким образом он говорит, что я вся в дерьме, что на меня жалко смотреть. Думаю, он говорит: как можно называть себя балериной, если ты так выглядишь? На долю секунды, перед тем как он оскорбил меня, было радостно заполучить частичку его внимания. Было приятно, когда он спросил, кем я была до войны. Таким облегчением было удостоверить себя прежнюю, которая существовала до войны – вернее, безмятежно жила в довольствии и счастье. Его злая шутка только укрепила мое чувство, что война все во мне исковеркала, нанесла непоправимый ущерб. Этот удар от незнакомого человека добивает меня. Мне больно, потому что он прав. На меня жалко смотреть. И все-таки я не допущу, чтобы последнее слово осталось за бесчувственным венгром с его злым сарказмом. Я покажу ему, что во мне еще живет радостная балерина и неважно, что мои волосы так коротки, что лицо такое худое, что таким плотным комом лежит горе в моей груди. Я выскакиваю перед ним и посреди дороги делаю шпагат.
Выясняется, что туберкулеза нет. Меня все равно оставляют на три недели в клинике, чтобы предотвратить увеличение количества жидкости в легких. Я так боюсь заразиться туберкулезом, что открываю двери не руками, а ногами, хотя знаю, что болезнь не передается через дверные ручки. Отсутствие туберкулеза – хорошая новость, но мне все еще нездоровится. Не хватает слов, чтобы описать чувство затопленности в груди, темную пульсацию в лобной части головы. Видимость будто перекрывает слой песка. Позже я узнаю, что у меня депрессия. А пока знаю только одно: мне стоит многих усилий встать с кровати; дышу я через силу, и, кроме всего, нужно делать усилие над собой. Зачем вставать? Ради чего? В Аушвице, когда все было безнадежно, меня не посещали суицидальные мысли. Тогда не было дня, чтобы я не слышала от людей, окружавших меня: «Это место ты покинешь только в виде трупа». Но их зловещие пророчества только придавали мне силы для сопротивления. Теперь, когда я иду на поправку, когда столкнулась с необратимым фактом, что родителей не вернуть, что Эрик никогда не будет со мной, – остались только демоны, разрывающие мою душу. Я думаю покончить со своей жизнью. Хочу избавить себя от боли. Что мешает мне сделать выбор в пользу того, чтобы не быть?
Беле дали палату над моей. Как-то раз он заглядывает ко мне проверить, как у меня дела. «Сейчас я буду тебя смешить, – заявил он, – и тебе станет лучше. Вот увидишь». Он молотит языком бог знает что, шевелит ушами, подражает звукам животных – так развлекали бы ребенка. Это нелепо, может даже оскорбительно, но я ничего не могу с собой сделать. Меня душит смех. «Не смейся», – предупреждали врачи, будто смех был для меня постоянным соблазном; можно подумать, мне грозила опасность ухохотаться до смерти. «Будешь смеяться – боль усилится», – говорили врачи. Они оказались правы. Очень больно, но одновременно очень хорошо.
Ночью я лежу без сна и думаю о нем, думаю, что он сейчас также лежит в кровати в своей комнате надо мной, фантазирую, чем могла бы его впечатлить, перебираю все интересное, что учила в школе. На следующий день, когда Бела приходит в мою комнату, я рассказываю ему все, что мне удалось вспомнить ночью из греческой мифологии, перечисляю самых малоизвестных богов и богинь. Рассказываю про «Толкование сновидений» Фрейда, последнюю книжку, которую мы читали вместе с Эриком. Я танцую для него, как танцевала для гостей, приходивших к родителям на ужин, моя очередь выходить под софиты – перед Кларой, которая была главным номером программы. Он смотрит на меня, словно учитель, который любуется звездой класса. О себе он говорит очень мало, но я узнаю, что он в детстве тоже учился играть на скрипке и до сих пор любит слушать пластинки с камерной музыкой и дирижировать воображаемым квартетом.
Беле двадцать семь лет. Я еще ребенок. В его жизни есть разные женщины. Например, та, которую он целовал на платформе, когда я его отвлекала. Он рассказывает о другой пациентке этой клиники, лучшей подруге его кузины Марианны, – девушке, с которой он встречался в старшей школе, до войны. Она очень больна. Ей уже не победить болезнь. Он называет себя ее женихом – жест, дающий ей надежду на смертном одре, жест надежды для ее матери. Через несколько месяцев я узнаю, что у Белы еще есть жена, почти незнакомка, – женщина, с которой он никогда не был близок. Она нееврейка, они расписались в самом начале войны. Он это сделал, пытаясь защитить свою семью и их состояние.
Это не любовь. Это голод, сильный голод. И я веселю Белу. А еще он смотрит на меня так, как Эрик смотрел в тот далекий день в книжном клубе. Я снова становлюсь той эрудированной девушкой, которой есть что сказать. Пока мне этого достаточно.
В последнюю ночь в туберкулезной клинике я лежу в моей укромной маленькой комнате, и ко мне приходит голос. Он поднимается из глубин Татр. Если ты все-таки решила жить, придется многое отстаивать. Он идет от подножия гор, из самого центра Земли, проходит сквозь пол и тонкий матрас, окутывает меня и пронизывает душу.
«Я буду тебе писать», – говорит Бела утром, когда мы прощаемся. Это не любовь. Я его ни к чему не обязываю.
* * *
Когда я возвращаюсь в Кошице, Магда встречает меня на станции. Клара так ревностно меня опекала со дня нашего воссоединения, что я и забыла, каково это – быть вдвоем с Магдой. Ее волосы отросли, обрамляют лицо волнами. Глаза снова светятся. Она хорошо выглядит. Нетерпеливо вываливает на меня все новости и слухи, накопившиеся за три недели моего отсутствия. Чичи расстался со своей девушкой и теперь открыто увивается за Кларой. Выжившие в Кошице организовали развлекательный клуб, и она уже пообещала, что я выступлю. А Лаци, тот парень, с которым мы познакомились на крыше поезда, написал, что получил гарантийное письмо о финансовой поддержке от родственников в Техасе. Скоро, рассказывает мне Магда, он поселится у них в Эль-Пасо, где будет работать в их мебельном магазине и копить деньги на медицинскую школу.
– Не советую я Кларе меня унижать, выходя замуж первой, – вдруг произносит Магда.
Так мы собираемся исцеляться. Вчера – каннибализм и убийства. Вчера я выбирала между одной травинкой и другой. Сегодня – архаичные обычаи и патриархальные ценности, правила и роли, благодаря которым мы чувствуем себя нормальными. Мы будем преуменьшать значение потерь и ужаса, мы отвернемся от произошедшего, чудовищного вмешательства в нашу жизнь – мы будем жить так, будто ничего не было. Мы не станем потерянным поколением.
– Вот, – говорит сестра. – У меня для тебя кое-что есть.
Она вручает конверт, на нем написано мое имя, причем таким почерком, которому нас учили в школе.
– Заходил старый друг.
На секунду я подумала, что она говорит об Эрике. Он жив. В конверте – мое будущее. Он ждет меня. Или у него уже другая жизнь…
Но послание не от Эрика. И в нем нет моего будущего. Внутри мое прошлое. Там моя фотография, сделанная до Аушвица, – я сижу на шпагате. Снимок, сделанный Эриком и отданный мной на хранение подруге Ребеке. Она сберегла его для меня. Мои пальцы держат ту меня, которая еще не потеряла родителей, которая не знает, как скоро потеряет своего любимого.
Тем вечером Магда берет меня с собой в клуб развлечься. Здесь Клара и Чичи, Ребека, Имре – брат Чичи. Мой врач Габи тоже здесь, и поэтому я соглашаюсь танцевать, несмотря на слабость. Я хочу показать ему, что иду на поправку. Хочу показать, что время, которое он посвятил заботе обо мне, не прошло даром, его усилия не потрачены впустую. Я прошу Клару и других музыкантов сыграть «Голубой Дунай» и начинаю тот самый танец, который чуть больше года назад я исполняла в мою первую ночь в Аушвице, танец, за который Йозеф Менгеле вознаградил меня буханкой хлеба. Движения не изменились, но изменилось мое тело. Ничего не осталось от моих сухих, гибких связок, от силы в руках, ногах, силы внутри меня. Я лишь скрипящая скорлупа, девочка со сломанной спиной и без волос. Я закрываю глаза, как сделала тогда в бараке. В ту давнюю ночь я танцевала, прикрыв веки, чтобы не видеть ужасающе бездушных глаз Менгеле, чтобы не рухнуть на пол под убийственной силой его взгляда. Сейчас я закрываю глаза, чтобы почувствовать свое тело, чтобы не сбежать из комнаты, чтобы чувствовать тепло от признания публики. Когда я вновь осваиваю такие знакомые движения, па, махи ногой, шпагаты, я чувствую себя уверенно и спокойно. Здесь и сейчас. Я возвращаюсь к тем временам, когда мы не могли вообразить худшего посягательства на нашу свободу, чем комендантский час и желтые звезды. Я танцую в честь той чистой девочки – девочки, торопливо сбегавшей по лестнице в балетную студию. Я танцую в честь мудрой и любящей матери, которая ее туда привела. Я танцую свою мольбу к маме. Помоги мне. Помоги мне. Помоги мне снова начать жить.
Через несколько дней приходит толстый конверт с письмом, адресованным мне. Он от Белы. Это первое из всех длинных писем, которые он мне напишет, – сначала из туберкулезной клиники, потом из дома в Прешове, где он родился и вырос, из третьего по величине города Словакии, в двадцати милях к северу от Кошице. Я уже много знаю о Беле, собираю факты, которые он упоминает в письмах, в картину его жизни, и рано поседевший заикающийся мужчина с саркастическим складом ума становится для меня человеком более понятным и близким.
Его самое раннее воспоминание, пишет он, о том, как они пошли на прогулку с дедушкой и в кондитерской ему не купили печенья. Когда он выйдет из больницы, то возьмет на себя управление предприятием деда – оптовой торговлей продукцией фермеров из региона, помолом кофе и пшеницы для всей Словакии. Бела – это полная кладовая, край изобилия и пиршеств.
Как и моя мать, Бела лишился одного из родителей в детском возрасте. Его отец был мэром Прешова, а до этого известным адвокатом, помогавшим неимущим. Беле исполнилось четыре года, когда отец поехал на конференцию в Прагу, сошел с поезда и попал под снежный обвал. Так полиция сказала матери Белы. Бела считает, что отца могли убить, так как был он человеком довольно конфликтным и неординарным; в бытность своей адвокатской практики он защищал бедных и лишенных прав людей, часто выступая против элиты Прешова. Но официальная версия гласила: задохнулся под лавиной снега. После смерти отца Бела стал заикаться.
Его мать так и не оправилась от смерти мужа. Ее свекор, дед Белы, запирал ее в доме, чтобы она не встречалась с другими мужчинами. Во время войны тетя и дядя Белы звали ее к себе в Венгрию, где они жили под прикрытием с фальшивыми удостоверениями. Однажды мать Белы была на рынке и вдруг увидела эсэсовцев. Запаниковав, она подбежала к ним и выпалила: «Я еврейка!» Ее отправили в Аушвиц, где она погибла в газовой камере. На оставшуюся семью из-за признания матери устроили облаву, но им удалось убежать в горы.
Брат Белы, Джордж, перед войной успел уехать в Америку. До эмиграции был случай, когда он шел по улице в Братиславе, на тот момент столице Словакии, и на него напали словаки. Пострадали только его очки, но зарождавшийся в Европе антисемитизм вынудил его переехать в Чикаго к дяде. Их двоюродная сестра Марианна бежала в Англию. Хотя Бела сам в детстве учился в Англии и свободно говорил по-английски, он отказался уезжать из Словакии, так как хотел защитить свою семью. Это ему не удалось. Дед умер от рака желудка. Тетю с дядей немцы обманом выманили из гор, пообещав, что с евреями, которые вернутся добровольно, обойдутся милостиво. Их поставили на улице рядом друг с другом и сразу расстреляли.
Бела сумел укрыться от нацистов в горах. Судя по его письмам, он даже отвертку не мог держать в руках, не то что оружие, которого он просто боялся. Бела был неуклюжим, криворуким и не хотел воевать, но стал партизаном. Он взял винтовку и присоединился к русским, боровшимся с нацистами. Он заразился туберкулезом, когда был в партизанском отряде. Ему не пришлось выживать в концлагерях. Он пытался выжить в горных лесах. За что я ему очень признательна. В его глазах я никогда не увижу отпечаток труб крематория.
Прешов всего в часе езды от Кошице. Однажды в выходные Бела навещает меня и достает из сумки швейцарский сыр и салями. Еда. Вот во что я сразу влюбляюсь. Если сумею заинтересовать его собой, он будет кормить меня и сестер – приблизительно так я думаю. Я не испытываю к нему тех чувств, которые у меня были к Эрику. Я не мечтаю его целовать, не тоскую по нему, не желаю быть всегда рядом. Я даже не кокетничаю с ним, по крайней мере так, как флиртуют влюбленные девушки. Мы скорее напоминаем потерпевших кораблекрушение, которые всматриваются в море и выискивают хоть какие-то признаки жизни. Ее слабый проблеск мы обнаруживаем друг в друге. Я вдруг открыла для себя, что начинаю принимать участие в жизни. Чувствую, что готова кому-то принадлежать. Я знаю, мое отношение к Беле вовсе не та любовь, о которой я грезила. Он не Эрик. Да я и не пытаюсь заменить Эрика. Но Бела рассказывает мне анекдоты и пишет длинные письма страниц по двадцать каждое. У меня появляется выбор.
Когда я говорю Кларе, что собираюсь взять Белу в мужья, она не поздравляет меня. Клара обращается к Магде: «Да уж, двое калек хотят расписаться. Ну и что из этого выйдет?» Позже за столом она говорит со мной довольно прямолинейно: «Ты еще ребенок, Дицука. Ты не можешь принимать такие решения. Ты сломлена, ты еще не совсем здорова. Да и он тоже. У него туберкулез. Он заикается. Не можешь ты за него выйти замуж».
Так у меня появляется новый стимул: сделать свой брак удачным. Мне нужно доказать сестре, как она не права.
Возражения Клары не единственная помеха. Бела все еще законно женат на нееврейке, которая оберегала его семейное наследство от нацистов, и она отказывается давать развод. Они никогда не жили вместе, у них не было никаких отношений, только голый расчет: ей – его деньги, ему – ее статус правильной национальности. Она соглашается развестись только в том случае, если он заплатит ей большую сумму.
Еще есть невеста в Татрах, умирающая от туберкулеза. Он умоляет Марианну, свою кузину и ее подругу, передать девушке, что не будет на ней жениться. Марианна, во время войны уехавшая в Англию и вернувшаяся после войны, не без основания приходит в ярость. «Ты ужасен! – кричит она. – Ты не можешь так с ней поступить! Я в жизни ей не скажу, что ты нарушил свое обещание».
Бела просит меня поехать с ним в туберкулезную клинику, чтобы сказать ей лично. Девушка благосклонна и добра ко мне – и очень, очень больна. Вид такого опустошенного и разбитого человека выбивает меня из колеи. Она слишком живо напоминает мне о недавнем прошлом. Мне страшно находиться так близко к тому, кто стоит на пороге смерти. Девушка рада, что Бела женится на таком человеке, как я, полном энергии и жизни. Я рада, что она нас благословляет. Однако… Я легко могла бы оказаться на ее месте – это меня подпирали бы колючими подушками, это я кашляла бы после каждого слова, заливая платок кровью.
Той ночью мы вместе с Белой останавливаемся в гостинице, в той самой, где мы познакомились. Во время его приездов к нам в Кошице мы всегда спали в разных комнатах. Мы еще никогда не лежали в одной постели. Никогда не видели друг друга без одежды. Но сегодня все по-другому. Я вспоминаю запретные слова из «Нана» Золя. Что еще поможет мне доставить ему удовольствие и достичь его самой? На хореографии нас не учили, что делать со своим телом в интимные моменты. Нагота была унизительной, постыдной, ужасающей. Мне нужно вновь вживаться в собственное тело. Бедная моя кожа.
«Ты дрожишь. Тебе холодно?» – говорит Бела. Он идет к чемодану и достает сверток с сияющим бантом. Внутри коробки на тонкой оберточной бумаге покоится красивая шелковая ночная рубашка – настоящее неглиже. Слишком расточительный подарок. Слишком экстравагантный поступок. Но меня трогает не это. Каким-то образом он почувствовал, что мне понадобится вторая кожа. Не то чтобы мне нужен щит – я не собираюсь отгораживаться от своего будущего мужа. Мне не то чтобы хочется укрыться. Мне нужно нечто подобное, что обострит мое восприятие, расширит мое представление, раскроет меня, поможет вступить в новую, еще не написанную главу моей жизни. Я дрожу, когда Бела надевает на меня через голову неглиже. Легкая ткань струится вдоль ног. В правильном костюме безумно хочется танцевать. Я кружусь перед Белой. «Izléses», – говорит он.
Изящно!
Я так счастлива, что кто-то любуется мною. Его взгляд больше, чем комплимент. Когда-то мама научила меня ценить мой ум; теперь во взгляде Белы я нахожу иное признание меня – моего тела и моей жизни.
Глава 9. В следующем году в Иерусалиме
В ратуше Кошице 12 ноября 1946 года я выхожу замуж за Белу Эгера. Мы могли устроить пышное торжество в особняке Эгеров, могли выбрать еврейскую церемонию. Но я совсем девочка, мне всего девятнадцать лет, у меня не было возможности окончить школу, мои знания обо всем отрывочные и непоследовательные. И родителей моих нет в живых. Один старый друг моего отца, нееврей, приглядывает за мной и моими сестрами. Он судья и, как выясняется, был знаком с Джорджем, братом Белы, когда тот учился на юридическом факультете. Он связующее звено между мной и папой, между семьей Белы и моей. Именно поэтому мы просим его поженить нас.
Прошло пятнадцать месяцев с тех пор, как мы познакомились с Белой, мои волосы из редкого пушка превратились в густые волны до плеч. Я с распущенными волосами, у виска белая заколка. Я выхожу замуж в одолженном черном платье до колен, из искусственного шелка, с подкладными плечами, белым воротником и рукавами конической формы. У меня в руках перевязанный белой атласной лентой маленький букет из лилий и роз. Я стою на балконе папиного ателье и улыбаюсь фотографу. На свадьбе присутствуют всего восемь человек: я, Бела, Магда, Клара, Чичи, Имре и двое папиных старых друзей – президент банка и судья, который нас женит. Бела заикается, когда произносит клятву, и Клара многозначительно, как бы предостерегая, смотрит на меня. Торжество проходит в нашей квартире. Все готовила Клара. Жареный цыпленок. Венгерский кускус. Картофель с маслом и петрушкой. И классический «Добош» – шестислойный шоколадный венгерский торт. Мы пытаемся придать хоть какой-то оттенок радости этому дню, но отсутствие тех, кого мы потеряли, угнетает душу. Сироты соединяются с сиротами. Позже я узнаю расхожее мнение, что сыновья женятся на своих «матерях» и дочки выходят замуж за своих «отцов». Я сказала бы, что мы связываем себя узами со своими нерешенными проблемами. Для меня и для Белы нерешенными проблемами становится наше горе.
Медовый месяц мы проводим в Братиславе, на Дунае. Я танцую с мужем вальс под музыку, которую мы знали до войны. Идем к фонтану Максимилиана и на коронационный холм. Бела изображает, что он новый монарх, указывает мечом то на север, то на юг, то на запад, то на восток, обещая ото всех меня защищать. Мы осматриваем старинные городские укрепления, двойную стену, возведенную для защиты от турок. Нам кажется, что буря миновала.
Той ночью в отеле мы просыпаемся от барабанного стука в дверь. В комнату вламываются полицейские. Полиция часто устраивает проверки мирных граждан; мы живем, будто блуждаем по лабиринтам бюрократической системы, где даже на каждую бытовую мелочь необходимо официальное разрешение. Замести в тюрьму могут под малейшим предлогом. А поскольку мой муж богат – он влиятельный человек, – меня не должно удивлять, что нас преследуют. Но я удивлена. И напугана (я всегда напугана). И испытываю неловкость. И очень зла. Это мой медовый месяц. Почему они нас беспокоят?
– Мы только поженились, – заверяет их Бела на словацком. (Я в жизни говорю лишь на венгерском, а Бела свободно владеет чешским, словацким и другими языками, необходимыми ему для ведения дела.) Он показывает им наши паспорта, свидетельство о браке, кольца – все, что может подтвердить наши личности и обосновать причину нахождения в отеле. – Пожалуйста, не беспокойте нас.
Полицейские никак не объясняют ни вторжения в нашу частную жизнь, ни в чем нас подозревают. Есть ли у них основания преследовать Белу? Они приняли его за кого-то другого? Я стараюсь не думать об этом вторжении как о предзнаменовании. Концентрирую внимание на том, каким ровным голосом говорит мой муж, несмотря на заикание. Нам нечего скрывать. Но я неизменно пребываю в состоянии повышенной готовности. И не могу отделаться от чувства, что я в чем-то виновата. Что меня обнаружат.
Мое преступление – жизнь. И начало осторожной радости.
В поезде домой мы едем в отдельном купе – его простое изящество нравится мне больше, чем покои отеля. Я представляю, что я героиня романа. Мы исследователи, поселенцы. Движение поезда как бы сворачивает в клубок мои опасения, убаюкивает мою тревогу и помогает думать только о теле Белы. Или, возможно, этому способствует узкая спальная полка. Мое тело удивляет меня. Желание, наслаждение оказываются эликсиром. Целебным бальзамом. Мы не размыкаем объятий, пока поезд уносит нас в ночь.
Мы возвращаемся в Кошице, в дом к моим сестрам, и я сразу бегу в ванную. Меня рвет так, что я не могу остановиться. Это, должно быть, хороший признак, но я еще об этом не догадываюсь. Сейчас я только понимаю, что более чем через год медленного восстановления я снова больна.
– Что ты сделал с моей деткой? – кричит Клара.
Бела смачивает платок в холодной воде и протирает мне лицо.
Пока мои сестры продолжают жить в Кошице, я начинаю новую жизнь – жизнь неожиданно роскошную. Я переезжаю в поместье Эгеров в Прешове, пятисотлетний монастырь, широкий и длинный, тянущийся вдоль дороги, – несколько построек, лошади, экипажи. На первом этаже – помещения, где Бела ведет свой бизнес; если подняться по лестнице на следующий этаж, там жилые комнаты, в которых находимся мы. Остальные части огромного дома занимают арендаторы. Есть женщина, стирающая нам одежду, кипятящая постельное белье, гладящая, – все сверкает белизной. Во время еды на стол ставится фамильный фарфор, на котором их – а теперь и моя – фамилия выгравирована золотом. В столовой есть кнопка; если нажать на ее, Маришка, наша экономка, слышит звонок на кухне. Я не могу наесться ее ржаным хлебом. Нажимаю на кнопку и прошу еще.
– Вы едите как свинья, – шипит она мне сквозь зубы.
Она не скрывает своего неудовольствия, что я стала членом семьи. Я угроза ее образу жизни, ее стилю ведения хозяйства. Мне больно наблюдать, как Бела дает ей деньги на покупки. Его жена я. И я, его жена, чувствую себя бесполезной.
– Прошу, научи меня готовить, – говорю я как-то Маришке.
– Я не хочу видеть вас на своей кухне, – отвечает она.
Чтобы ввести меня в новую жизнь, Бела представляет меня прешовской элите: адвокатам, врачам, предпринимателям, их женам – рядом с ними я чувствую себя нескладной, неопытной и слишком юной. Я знакомлюсь с двумя женщинами примерно моего возраста. Ава Хартманн, модница, замужем за богатым мужчиной старше нее. Она укладывает свои темные локоны на один бок. Марта Вадаш, жена Банди, лучшего друга Белы. У нее рыжеватые волосы и доброе, терпеливое лицо. Я внимательно слежу за Авой и Мартой, пытаясь понять, как мне нужно себя вести и о чем говорить. Ава, Марта и другие женщины пьют коньяк. Я тоже пью коньяк. Ава и Марта и другие женщины курят. Как-то вечером, после званого ужина у Авы, – она приготовила лучший печеночный паштет, который мне доводилось есть, добавив в него, кроме лука, еще зеленый перец, – я говорю Беле, что в этой компании его жена единственная некурящая. На следующий день он приносит мне серебряный портсигар и серебряный мундштук. Я не знаю, как им пользоваться, каким концом вставлять в него сигарету, как вдыхать и выдыхать дым через губы. Я стараюсь копировать других женщин и чувствую себя элегантным попугайчиком; я не более чем эхо в безупречном платье, которое делал не мой отец.
Знают ли они, откуда я пришла? Сидя в гостиных или за богато накрытыми столами, я смотрю на наших друзей и удивляюсь. Лишились ли они того же, что и мы с Белой? Мы с ним на эту тему не говорим. Отречение – наш щит. Мы еще не знаем, какой ущерб наносим своей жизни, отрезав от себя свое прошлое и поддерживая друг друга в этом заговоре молчания. Мы убеждены, что если надежно спрячем все пережитое под замок, то окажемся в безопасности и станем счастливыми.
Я пользуюсь своим нынешним материальным благополучием и привилегированным положением и стараюсь жить расслабленно. Говорю себе, что здесь, в имении, никакой громкий стук в дверь не нарушит мой сон. Здесь царит уют пуховых одеял и чистых белых простыней. Здесь мне не грозит голод. Я ем и ем: ржаной хлеб Маришки, клецки шпецле, причем первая порция с квашеной капустой, а вторая с брынзой – это словацкий сыр из овечьего молока. Я набираю вес. Воспоминания и утраты сжимаются до маленького клочочка в самом дальнем углу моего рассудка. Я буду усердно заталкивать его все дальше и дальше, чтобы он знал свое место. Наблюдаю, как моя рука поднимает серебряный мундштук и подносит ко рту, затем опускает. Это как будто новый танец. Я могу выучить каждое его па.
Я прибавляю в весе не только из-за жирной пищи. В начале весны я узнаю, что беременна. В Аушвице у нас не было месячных. Должно быть, цикл прекращался из-за постоянного недомогания и голода, а может быть, из-за сильной потери веса. Но теперь в моем теле – некогда измученном, истощенном и брошенном умирать – зародилась новая жизнь. Я считаю, сколько недель назад у меня было последнее кровотечение, и вычисляю, что мы с Белой, скорее всего, зачали ребенка во время медового месяца, возможно в поезде. Ава и Марта рассказывают мне, что тоже беременны.
Я жду от моего врача, семейного доктора Эгеров, который присутствовал при рождении Белы, массу поздравлений. Но вместо этого он отчитывает меня.
– Вы еще слишком слабы.
Он настаивает, чтобы я сделала аборт, и как можно скорее. Я отказываюсь. Убегаю домой в слезах. Он следует за мной. Маришка впускает его в гостиную.
– Госпожа Эгер, вы умрете, если будете рожать этого ребенка, – говорит он. – Вы слишком худая и слишком слабая.
Я смотрю ему в глаза.
– Доктор, я собираюсь дать ему жизнь, – говорю я. – Спокойной ночи.
Бела провожает его до дверей. Слышу, как мой муж просит прощения у доктора за то, что я не проявила уважения.
– Она дочь портного, она не понимает таких вещей, – оправдывается он.
Слова, которыми он пытается меня защитить, проделывают еще одну маленькую дырочку в моем все еще хрупком «я».
Но вместе с животом во мне растет уверенность в себе и крепнет решимость. Я не прячусь по углам. Набираю двадцать три килограмма; когда иду по улицам, выпячиваю живот и смотрю в витринах, как мой новый облик переходит из отражения в отражение. Я не сразу узнаю это чувство. Но все-таки вспоминаю. Вот каково это – быть счастливой.
Весной 1947 года женятся Клара и Чичи, мы с Белой едем на их свадьбу в Кошице на зеленом «опеле». Вот еще одно знаменательное событие, на котором не будет наших родителей, еще один счастливый день, омраченный их отсутствием. Но я беременна, я живу полной жизнью и потому не дам печали сломить меня. Магда играет на нашем многострадальном пианино. Поет песни, которые пел наш отец. В Беле борются два полярных желания: подхватить и закружить меня в танце или заставить сидеть и отдыхать. Сестры кладут руки мне на живот. Новая жизнь во мне принадлежит всем нам. Наше новое начало. Часть наших родителей и прародителей, которая продолжит их существование в будущем.
Мы говорим об этом во время музыкальных перерывов, пока мужчины закуривают сигары. Говорим о будущем. Имре, брат Чичи, скоро уедет в Сидней. Наш семейный круг и так очень мал. Мне не нравится мысль, что мы разбредаемся в разные стороны. Даже наш Прешов – это так далеко от моих сестер. Пока не закончилась ночь и пока мы с Белой не уехали домой, Клара уводит меня и Магду в спальню.
– Мне нужно кое-что тебе сказать, малышка, – говорит она.
По тому, как Магда хмурится, я понимаю, что она уже знает, о чем пойдет речь.
– Если Имре собирается в Сидней, – говорит Клара, – мы тоже уедем.
Австралия. Среди наших друзей в Прешове, из-за того что в Чехословакии полным ходом идет захват власти коммунистами, тоже ходят разговоры об эмиграции: может, в Израиль, может, в Америку, но в Австралии более гибкая иммиграционная политика. Ава и ее муж тоже упоминали Сидней. Но это так далеко…
– А как же твоя карьера? – спрашиваю я Клару.
– В Сиднее есть оркестры.
– Ты не говоришь по-английски, – я выпаливаю отговорку за отговоркой. Как будто есть еще какие-то контраргументы, которые она сама не обдумывала.
– Чичи дал обещание, – объясняет она. – Перед смертью отец Чичи попросил его заботиться о брате. Если Имре уедет, мы с ним.
– Значит, вы обе меня бросаете, – констатирует Магда. – После всего нами сделанного, чтобы выжить… я думала, мы будем держаться вместе.
Мне вспоминается апрельская ночь, всего два года назад: я боялась, что Магда умрет от голода, я тогда рисковала быть избитой и даже хуже, но все-таки перелезла через ограду и нарвала ей морковку. Нас преследовали тяжелые испытания, и мы их пережили – каждая из нас выжила, потому что мы были друг у друга, готовые защищать одна другую и поддерживать, и потому что каждая из нас держалась из последних сил, чтобы быть друг у друга. За сохраненную жизнь я благодарна своей сестре.
– Ты скоро выйдешь замуж, – заверяю я ее. – Вот увидишь. Никого нет сексуальнее тебя!
Я пока не понимаю, что боль моей сестры связана не столько с одиночеством, сколько с ее убежденностью, что она не заслуживает любви. Но там, где она видит боль, ад, поражение, ущербность, я вижу совсем другое. Я вижу ее отвагу. Ее победу и силу. Как в наш первый день в Аушвице, когда она стояла голая, лишенная своих роскошных волос и я впервые увидела, как красивы ее глаза.
– Тебе кто-нибудь интересен? – спрашиваю я.
Мне хочется посплетничать, как в пору нашего детства. Магда всегда блистательно подает любые известия или смешно кого-нибудь пародирует. Ей удается даже самые тяжелые мысли облекать в необременительную форму. Сейчас я хочу, чтобы она помечтала.
Магда мотает головой.
– Я думаю не о человеке. Я мечтаю о месте.
Она указывает на открытку, которую вставила в раму зеркала своего комода. На картинке голая пустыня и мост. Поверх изображения моста от руки написано слово Эль-Пасо. Открытка от Лаци.
– Он выбрался, – говорит Магда. – Смогу и я.
Для меня Эль-Пасо где-то на краю света.
– Это Лаци тебя позвал с ним за компанию?
– Дицука, моя жизнь не сказка. Я не рассчитываю на то, что меня будет спасать какой-нибудь мужчина.
Магда постукивает пальцами по коленкам, будто перебирает клавиши пианино. Она собирается еще что-то сказать.
– Помнишь, что у мамы было в кармане в день, когда ее не стало?
– Кларин «чепец».
– И долларовая купюра. Тетя Матильда как-то прислала нам из Америки.
Почему я об этом не знала? Так много мелочей, которыми мама подавала жизни знаки, что все-таки надеется… Это не только купюра, которую я не помню, и «чепец», который помню хорошо, но еще и куриный жир (на нем она готовила нам на кирпичном заводе), и ее письмо Кларе. В Магде словно отражается мамина практичность и мамина надежда.
– Лаци не собирается брать меня в жены, – говорит она. – Но это неважно. Так или иначе я попаду в Америку.
Она написала письмо тете Матильде с просьбой прислать заверенное подтверждение финансовой поддержки для эмиграции.
Австралия. Америка. Пока во мне толкается новая жизнь, мои сестры пугают тем, что уплывут за пределы досягаемости. Я первая после войны выбрала новую жизнь. Теперь выбирать им. Я рада за них. И все-таки… Я не могу не обращаться к войне, лагерю. Мне вспомнился тот день, когда у меня не осталось сил подняться и пойти работать, тогда Магда пошла на завод боеприпасов без меня, и его начали бомбить – в кошмарном хаосе бомбежки и взрывов она могла сбежать на свободу, но вернулась в барак и спасла меня. Мне посчастливилось найти хорошую жизнь. Магде больше не нужно беспокоиться, останусь ли я живой. Но если и есть на свете крошечный кусочек ада, по которому я могла бы скучать, то пусть им будет тот, что дал мне понять, как взаимосвязь людей влияет на их выживание. Не было ни шанса выжить в одиночку. Сегодня Клара, Магда и я выбираем разные пути – нет ли опасности, что мы своими руками разорвем наш зачарованный круг?
Бела уехал из города, а у меня ранним сентябрьским утром начинаются первые схватки. Они все усиливаются, становятся невыносимыми, будто меня сдавливают со всех сторон – сдавливают так, что я вот-вот переломлюсь. Я звоню Кларе. Она приезжает через два часа, но доктора еще нет. Я рожаю в той же комнате, где появился на свет Бела, в той же кровати. Корчась от боли, я чувствую связь с его матерью. Мне не довелось ее узнать. У ребенка, которого я привожу в этот мир, не будет бабушек, не будет дедушек. Доктор все еще не приезжает. Клара порхает вокруг меня, предлагает воду, вытирает лицо. «Уйди! Мне плохо от твоего запаха!» – ору я на нее. Я не смогу родить своего ребенка, если со мной будут обращаться как с ребенком. Мне нужно вжиться в ситуацию, почувствовать себя самостоятельной, а Клара отвлекает меня. Сквозь замутненность родовых мук возникает режущая, как бритва, картинка беременной в Аушвице, рожавшей в агонии, со связанными ногами. Я не могу убрать ее из своего сознания, не могу не видеть ее, не слышать ее голоса. Она преследует меня. И буквально стимулирует мои роды. Каждое содрогание ее тела, каждый толчок ее сердца направляют к жизни, хотя и она, и ее ребенок были преданы невыразимо мучительной смерти. По мне течет ее тоска. Я лавина. Я разрешусь от бремени на острие ее мук. Я приму эту боль, потому что у нее не было выбора. Я готова принять свою боль, чтобы она стерла боль той женщины, стерла сами воспоминания, потому что если не боль уничтожит меня, то это сделает моя память. Наконец появляется доктор. У меня отходят воды, и я чувствую, что ребенок начинает рваться наружу. «Это девочка!» – кричит Клара. В этот миг я чувствую себя полноценной. Я здесь. Моя малышка со мной. Все хорошо. Все правильно.
Я хочу назвать ее Анной-Марией – несколько возвышенным именем, слегка с французским оттенком, но коммунисты учредили свой список разрешенных имен, и Анна-Мария относится к недозволенным. По этой причине удовлетворяемся инверсией: называем Марианной – в честь кузины моего мужа, до сих пор не простившей мне разрыв помолвки Белы с ее больной подругой – которая давно умерла – и продолжающей называть меня безмозглой простушкой. Бела раздает сигары. Ему все равно, что по традиции их вручают пришедшим гостям, только если рождается сын. Его дочь как предмет особой гордости будут чествовать всеми возможными ритуалами. Он приносит мне красивую коробочку. Внутри браслет из соединяющихся друг с другом квадратиков размером с почтовую марку, из двух видов золота. Он кажется тяжелым, но на самом деле легкий.
– За будущее, – говорит Бела и застегивает браслет на моем запястье.
Он произносит это, и я точно знаю, как мне жить дальше. Вот что я буду отстаивать – этого ребенка. Моя преданность ей такая же цельная и прочная, как золотой браслет вокруг моего запястья. Теперь я вижу свое предназначение. Я жизнь отдам за ее безопасность, моя дочь никогда не испытает того, с чем пришлось иметь дело мне. Непрерывность моей с ней связи, возникшая из общих семейных корней, создаст новую ветвь, новую поросль, которая будет тянуться к надежде и радости.
Несмотря на новые времена, мы принимаем меры предосторожности и крестим ее. Для безопасности. По той же причине, что наши друзья Марта и Банди носят вместо своей еврейской венгерскую фамилию Вадаш, означающую «охотник».
Но что реально в нашей власти? Ребенок Марты рождается мертвым.
При рождении Марианна весит четыре с половиной килограмма. Она занимает всю коляску.
– Мне кормить ее грудью? – спрашиваю я немецкого педиатра.
– А для чего, по-вашему, вам нужны соски? – отвечает она.
Молока у меня в избытке. Более чем достаточно, чтобы накормить и Марианну, и еще ребенка моей подруги Авы. Я утолю любой голод. Я за изобилие. Во время кормления я наклоняюсь, чтобы ей не приходилось тянуться к моему телу, ее источнику. Я отдаю ей каждую каплю. Когда она меня опустошает, я чувствую себя достигшей высшего блаженства.
Марианну так оберегают, обнимают, укутывают, она так окружена заботой, что, когда в ноябре 1948 года в возрасте четырнадцати месяцев она заболевает, мне сначала не верится. Я знаю, как отличать причины ее беспокойства. Я думаю, что она голодна. Она устала. Но когда я прихожу к ней еще раз ночью, ее мучает жар. Она горячая, как раскаленные угли. Глаза блестят. Ее тело жалуется, молит о помощи. Ей так плохо, что она не замечает моего присутствия. Или оно ничего для нее не меняет. Она не хочет есть. Мои руки ее не успокаивают. Каждые несколько минут ее грудь разрывает глубокий удушающий кашель. Я бужу весь дом. Бела вызывает доктора – того, кто принимал роды у его матери и у меня, – и мерит шагами комнату, в которой он родился.
Доктор строг со мной. У Марианны пневмония. «Это вопрос жизни и смерти», – устанавливает он. Говорит рассерженно, словно я виновата в болезни дочери, словно не может позволить мне забыть, что с самого начала жизнь Марианны основана на риске, на моем глупом безрассудстве. Мол, теперь смотри, что происходит. Но допускаю, что это вовсе не злость, а просто усталость. Он живет, чтобы лечить других. Как часто роды заканчиваются потерей?
– Что нам делать? – спрашивает Бела. – Скажите нам, что делать.
– Вы знаете про пенициллин?
– Да, конечно.
– Достаньте для ребенка пенициллин. Срочно.
Бела ошарашенно смотрит, как доктор застегивает пальто.
– Вы здесь врач. Где пенициллин? – требовательно спрашивает он.
– Мистер Эгер, в этой стране нет пенициллина. Такого, чтобы можно было легально купить. Спокойной ночи и удачи.
– Я заплачу любые деньги!
– Хорошо, – говорит доктор. – Вам нужно самим это организовать.
– Через коммунистов? – предлагаю я, когда он уходит. Они освободили Словакию от нацистской оккупации. Они любезничают с Белой, их привлекают его состояние и влиятельность. Они предлагают ему пост министра сельского хозяйства, если он вступит в партию.
Бела отрицательно мотает головой.
– Есть более прямой путь – через черный рынок, – говорит он.
Марианна снова погружается в беспокойный сон. Нужно, чтобы она больше пила, но она не хочет ни воды, ни молока.
– Дай мне деньги, – говорю я, – и скажи, куда идти.
Перекупщики черного рынка ведут торговлю бок о бок с торгующими законно на рынке в центре города. Белу обязательно узнают, а я смогу остаться безликой. Мне нужно подойти к мяснику и произнести кодовую фразу, потом пойти в пекарню и сказать еще один пароль, после чего кто-то меня найдет. Дилер перехватывает меня у цветочного магазина.
– Пенициллин, – говорю я. – Доза, необходимая для больного ребенка.
Он смеется над невыполнимостью моей просьбы.
– Здесь нет пенициллина, – говорит он. – Мне придется лететь в Лондон. Могу вылететь сегодня, вернуться завтра. Это будет стоить денег.
Цена, что он называет, вдвое больше той суммы, которую Бела завернул в газету и положил мне в сумку.
Я не колеблюсь. Говорю, сколько я ему заплачу. Называю точную сумму, которая у меня с собой.
– Это нужно сделать. Если вы не полетите, я найду кого-то еще.
Я вспоминаю последний день в Аушвице и охранника, подмигнувшего мне, когда я прошлась «колесом». Чтобы он захотел со мной договориться, мне нужно нащупать какую-то болевую точку и суметь достучаться до него.
– Видите этот браслет? – я закатываю рукав и показываю золотой браслет, который не снимала со дня, как родилась Марианна.
Он кивает. Скорее всего, уже представил, как украшение будет смотреться на запястье его жены или подруги. А может, подсчитывает цену, за которую его продаст.
– Мой муж подарил его мне, когда родилась наша дочь. Сейчас я даю вам возможность спасти ей жизнь.
Вижу, что в глазах блеснуло что-то большее, чем жажда наживы.
– Давайте деньги, – говорит он. – Оставьте себе браслет.
Следующим вечером доктор снова приходит, чтобы помочь рассчитать первую дозу пенициллина. Он остается у нас до тех пор, пока жар не спадает, и Марианна наконец берет мою грудь.
– Я знал, что вы найдете способ его достать, – говорит он.
К утру Марианна чувствует себя лучше и улыбается. Она засыпает, пока я ее кормлю. Бела целует ее в лоб, меня в щеку.
Марианне лучше, но сгущаются другие тучи. Бела отказывается от поста министра сельского хозяйства. «Вчерашние нацисты сегодня стали коммунистами», – объясняет он. Однажды его «опель» с откидным верхом сталкивают с дороги. Бела в порядке, у водителя небольшие травмы. Бела идет его навестить, приносит ему продукты и хочет пожелать скорейшего выздоровления. Водитель приоткрывает дверь, не распахивая ее до конца. Из другой комнаты раздается крик его жены: «Не впускай его!»
Бела силой открывает дверь и видит, что их обеденный стол накрыт одной из лучших скатертей его матери. Он приходит домой и проверяет шкаф, где хранится хорошее белье. Многое пропало. Я жду, что он разозлится, уволит водителя, может быть, и других работников. Но Бела только пожимает плечами.
– Всегда пользуйся красивыми вещами сразу, – говорит он мне. – Никогда не знаешь, когда их у тебя не станет.
Я вспоминаю о родительской квартире, облепленной затвердевшим навозом, о семейном пианино, найденном в кофейне на нашей же улице; думаю о том, как крупные политические события – перемена власти, перекраивание границ – всегда пропахивают личные жизни людей. Кошице становится Кашшей, потом снова Кошице.
– Я так больше не могу, – говорю я Беле. – Я не могу жить с мишенью на спине. Не должно случиться так, что моя дочь потеряет своих родителей.
– Не должно, – соглашается он.
Я думаю о тете Матильде. Магда получила от нее желанное подтверждение и теперь ждет визу. Я уже собираюсь предложить Беле поехать вслед за ней в Америку, но вспоминаю, что Магду предупредили: на получение визы могут уйти годы, так как даже при финансировании со стороны родственников существуют миграционные квоты. Мы не можем полагаться на случай, вряд ли многолетний процесс получения виз защитит нас от коммунистов. Нужен более быстрый выход.
Марта и Банди приходят к нам 31 декабря встречать новый, 1949 год. Они убежденные сионисты. Рюмка за рюмкой они поднимают тосты за процветание новой страны – Государства Израиль[20].
– Можно уехать туда, – говорит Бела. – Мы могли бы открыть там свое дело.
Это не первый раз, когда я представляю себя в Палестине. В старшей школе я была сионисткой, и мы с Эриком мечтали, что окажемся там вместе после войны. Ощущая полную неуверенность в завтрашнем дне, в самый разгар расовых предрассудков, мы не могли помешать нашим одноклассникам плеваться в нас или делать так, чтобы нацисты не выгоняли нас с наших улиц, из наших домов и квартир, но мы могли отстаивать свой будущий дом, могли строить место, где будем в безопасности.
Не могу понять, принять ли предложение Белы как исполнение моей давней, но отложенной мечты или переживать, что мы полагаемся на иллюзию, которая приведет к разочарованию. Израиль настолько новое государство, что еще не прошли первые выборы, но оно уже воюет со всеми арабскими соседями[21]. Кроме того, еще не принят закон о возвращении, который через несколько лет даст право каждому еврею, проживающему в любом месте, репатриироваться в Израиль[22]. Нам придется попасть туда нелегально, полагаясь на то, что «Бриха» – созданная во время войны подпольная сионистская организация, помогавшая евреям бежать от холокоста из Восточной Европы в Палестину, – организует нам переправу на корабле. «Бриха» и сегодня, после окончания войны, действует подпольно и по-прежнему помогает людям: беженцам, обездоленным, бездомным и лицам без гражданства – начать новую жизнь. Но даже если мы получим заранее места на борту, наш план ненадежен. Лишь год назад корабль «Эксодус» (или «Исход-1947»), на борту которого находилось более четырех с половиной тысяч еврейских беженцев, выживших в войну и ищущих убежища в Палестине, был атакован в порту Хайфы британскими военными. Пассажиров корабля отправили обратно в Европу.
Но сейчас канун Нового года. Мы полны надежд. Мы отважны. В последние часы 1948 года наш план на будущее принимает почти четкие очертания. Мы используем капитал Эгеров, чтобы купить все оборудование, необходимое для начала своего бизнеса в Израиле. В течение следующих недель, подробно изучив вопрос, Бела принимает решение, что макаронная фабрика – самое мудрое вложение денег. Мы даже составляем список нужных вещей, которые погрузим в товарный вагон, – все то имущество, что должно нам прослужить первые годы жизни в новой стране.
У нас, венгров, ночные возлияния не могут закончиться без щей из квашеной капусты. Маришка приносит их в дымящихся мисках.
– В следующем году в Иерусалиме![23] – говорим мы.
В ближайшие месяцы Бела покупает грузовой контейнер, на котором имущество Эгеров отправится в Италию, а оттуда по морю в Хайфу. Он приобретает все необходимое для устройства макаронной фабрики. Я руковожу сборами серебра и столового фарфора с золотой гравировкой. Покупаю для Марианны одежду, чтобы хватило лет на пять, и зашиваю драгоценности в карманы и подолы.
Мы отправляем контейнер и планируем ехать следом, как только нам с этим помогут в «Брихе».
В один из поздних зимних вечеров, когда Бела уехал по делам, приносят заказное письмо из Праги, за которое я расписываюсь. Не дожидаясь возвращения Белы, я вскрываю письмо. В нем говорится о следующем:
Перед войной гражданам Чехословакии, уже эмигрировавшим в Америку, разрешили внести в реестр мигрантов любых членов семьи, оставшихся в Европе, на основании закона, который позволял тем, кто подвергся гонениям, подавать на визу для въезда в Америку, избегая квот, ограничивающих количество людей, желающих получить убежище в Соединенных Штатах.
Далее поясняется, что двоюродный дед Белы, который жил в Чикаго с начала 1900-х годов, внес в реестр семью Эгеров. Сейчас мы одна из двух чешских семей, попавших в этот довоенный список, кого приглашают искать убежища в Америке. Беле нужно срочно обратиться в американское консульство в Праге за документами.
Наши вещи уже на пути в Израиль. Новая жизнь уже маячит на горизонте. Мы уже все продумали и организовали. Мы уже сделали свой выбор. Но мое сердце бешено стучит от этой новости, от этой неожиданной возможности. Мы могли бы уехать в Америку, как Магда, но без ожидания виз. Бела возвращается из поездки, я умоляю его отправиться в Прагу за документами: «Просто на всякий случай. Из предосторожности». Он нехотя едет. Я кладу эти документы в верхний ящик комода, среди своего белья. На всякий случай.
Глава 10. В бегах
Это случилось 19 мая 1949 года. Я возвращаюсь с Марианной домой из парка и застаю Маришку в слезах: «Они арестовали мистера Эгера! Его забрали!»
Реальность последних месяцев оказалась такова, что мы окончательно поняли: дни нашей свободы сочтены[24]. В прошлом году была спровоцирована авария с машиной Белы, вдобавок к этому уже в новом году коммунисты отбирают его предприятие, конфискуют машину, начинают прослушивать наш телефон. К счастью, мы успели отгрузить контейнер со всем нашим состоянием – сейчас он где-то на пути к Израилю. Отъезд мой, Белы и Марианны задерживается из-за ожидания, когда «Бриха» сумеет организовать нашу отправку. Кроме всего прочего, мы медлим еще и потому, что пока не можем представить, как покинем наш дом. Теперь и надо мной нависла опасность растить дочь без отца. Я не собираюсь с этим мириться. Ни за что. Дело за малым: всего-то нужно преодолеть подавляющие меня тревогу и страх. Исключить вероятность пыток и даже мысль о том, что он уже мертв. Стать похожей на свою мать, какой она была в то раннее утро, когда нас выбросили из нашей квартиры и отправили на кирпичный завод. Проявить изобретательность и стать источником надежды. Мне нужно действовать как человеку, у которого есть план.
Я купаю Марианну, потом мы вместе обедаем. Укладываю ее на дневной сон. Я хочу выиграть время, так как необходимо все обдумать. И приложить все силы – пока это возможно, – чтобы дочь ни в чем не нуждалась: ни в здоровой пище, ни в прочих жизненных удобствах. Кто знает, где нам придется спать сегодня ночью и придется ли вообще спать! Сейчас я живу лишь настоящим. Не знаю, что буду делать дальше, но я должна найти способ вытащить Белу из тюрьмы и обеспечить дочери безопасность. Я собираю все, что может пригодиться, не вызывая подозрений. Пока Марианна спит, достаю из ящика комода кольцо с бриллиантом, которое Бела заказал для меня, когда мы поженились. Оно красивое – идеально округлой формы бриллиант в золотой оправе, но я его не носила, поскольку чувствовала себя с ним неловко. Сегодня я его надеваю. Вынимаю документы, которые Бела привез из американского консульства в Праге, и прячу их под платье, к спине, прижав поясом. Нельзя выглядеть так, будто я намереваюсь пуститься в бега. Наш телефон прослушивается, поэтому невозможно им воспользоваться, чтобы обратиться к кому-нибудь за помощью. Но я даже не допускаю, что покину дом, не сообщив об этом сестрам. Вряд ли они чем-то помогут нам, но я хочу, чтобы Магда и Клара знали, в какой мы беде, хочу предупредить, что могу их больше не увидеть. Я звоню Кларе, она берет трубку. Пытаюсь не плакать, не позволяю голосу дрожать и срываться. Приходится импровизировать на ходу:
– Я так рада, что вы приедете в гости. Марианна спрашивала про тетю Клари. Напомни, в котором часу ваш поезд?
Она не собиралась приезжать. Я говорю эзоповым языком. Надеюсь, Клара поймет. Я почти слышу, как она уже хочет поправить меня или переспросить, потом на мгновение замолкает, начиная осознавать: я пытаюсь ей что-то сказать. Поезд, гости – что можно разобрать в этих скудных намеках?
– Мы приедем сегодня вечером, – отвечает Клара. – Поездом. С нашего вокзала.
Сможет ли она увидеться с нами? Каким образом? Вечером на перроне? Или в поезде? Об этом ли мы договорились? Или шифр разговора непонятен даже нам самим?
Я засовываю наши паспорта в сумочку и жду, когда Марианна проснется. Дочь приучена к горшку с девяти месяцев, но она спокойно дает мне надеть на нее подгузник, когда я ее одеваю после сна. В него я складываю свой золотой браслет. Больше я ничего не беру с собой. Меня преследует мысль, что я не должна выглядеть как человек, который сбегает. Все, что я скажу до конца дня, пока мы не окажемся в безопасности, я буду говорить напористо, в манере вроде бы не авторитарной, не властной, но и не зажимаясь, не показывая слабость. Быть пассивной – значит позволить другим решать за тебя. Быть агрессивной – значит решать за других. Быть настойчивой – значит решать самой за себя. Значит верить, что в твоей жизни всего довольно, а ты вполне самодостаточна.
Черт, меня все-таки потрясывает. Я выхожу из дома с Марианной на руках. Если я буду действовать правильно, то не вернусь в особняк Эгеров – сегодня точно, может быть, никогда. Ночью мы сделаем еще один шаг в сторону нашего нового дома. Я говорю негромко. Я стараюсь говорить с Марианной все время. За двадцать месяцев, прошедших с ее рождения, беседы с дочерью стали тем, в чем я, мать, помимо кормления достигла настоящего совершенства. Я стараюсь все объяснять. Рассказываю, что мы делаем в течение дня. Называю улицы и деревья. Речь, слова – это сокровище, которое я предлагаю ей с каждым разом все щедрее и щедрее. Марианна может называть разные вещи на трех языках: венгерском, немецком и словацком. «Kvetina», – говорит она по-словацки, указывая на цветок. У нее я заново учусь, что жизнь может быть и благополучной, и очень интересной. Все вокруг вызывает ее любопытство – в ответ я могу предложить лишь свою речь. Мне не дано предотвратить опасность, но в моих силах удовлетворить любознательность дочери: помогать ей познавать окружающий мир и объяснять смысл происходящего. И сейчас – чтобы только заглушить голос страха – я не прерываю своего монолога.
– Да, цветок, а посмотри на дуб, как он покрылся листвой. А это молочный фургон. Мы сейчас пойдем в полицейский участок и поговорим там с дядей, это такое большое-большое здание, как наш дом, но с длинными коридорами…
Я говорю так, будто это простая прогулка, будто я могу быть для Марианны той матерью, в которой нуждаюсь сама.
Полицейский участок выглядит устрашающе. Когда вооруженная охрана отводит меня в здание, я чуть не разворачиваюсь и не убегаю. Мужчины в форме. Мужчины с оружием. Я не выношу этих символов власти. От них земля уходит из-под ног, от них я теряю самообладание. Становлюсь полной размазней. Эти знаки несут в себе угрозу моему существованию – меня, как дерево без корней, сносит с лица земли. Но с каждой минутой промедления Бела подвергается все большей опасности. Муж уже не раз доказывал, что он не тот человек, который будет прогибаться и уступать. И коммунисты показали, насколько они нетерпимы к инакомыслию. На что они способны пойти, чтобы разделаться с ним? Выбить из него несуществующую информацию? Сломить и подчинить своей воле?
А что будет со мной? Какое наказание ждет меня, если я открою, зачем явилась сюда? Я пытаюсь вызвать ту убежденность в собственной правоте, которую нашла в себе, когда покупала пенициллин на черном рынке. Самое большее, чем я рисковала в тот день, было услышать от перекупщика «нет». Куда серьезнее могла отозваться моя нерешительность в поисках лекарства, нужного для спасения жизни дочери. Сегодня излишняя настойчивость может привести к ответным действиям – а это угроза тюремного заключения и пыток. Но и не попытаться что-то сделать – тот же риск.
За высокой стойкой сидит полицейский. Довольно крупный мужчина. Я волнуюсь за Марианну: она может ляпнуть во всеуслышание что-нибудь лишнее, например про его тучность, – и тем самым похоронить все шансы на успех. Я встречаюсь с ним взглядом. Улыбаюсь. Внушаю себе, что он вовсе не тот, кто сейчас сидит передо мной. Нет, я отнесусь к нему как к человеку, которым он мог бы быть и каким я хотела бы его видеть. Буду держать себя с ним так, словно у меня уже есть то, за чем я пришла.
– Спасибо вам, – говорю я по-словацки, – спасибо большое за то, что вернули моей дочери отца.
Морщит лоб в полном замешательстве. Смотрит пристально. Я выдерживаю его взгляд. Снимаю кольцо с бриллиантом. Подношу кольцо к его глазам.
– Воссоединение отца и дочери. Что может быть чудеснее?
Поворачиваю кольцо так, чтобы бриллиант засиял в тусклом свете, как звезда. Он смотрит на камень, затем переводит взгляд на меня. Этот миг тянется бесконечно. Позовет начальника? Вырвет Марианну из рук? Арестует меня? Или все-таки поймет свою выгоду и поможет? Пока он взвешивает все за и против, у меня в груди перехватывает дыхание и немеет рука, держащая кольцо. Наконец он тянется к нему, берет и кладет в карман.
– Фамилия?
– Эгер.
– Пойдемте.
Мы проходим через дверь и спускаемся по лестнице.
– Сейчас увидим папу, – объясняю я Марианне, будто мы идем встречать Белу у поезда. Мрачное, печальное место. И перевернутая вверх дном реальность. Все роли перепутаны. Сколько запертых здесь – не преступники, а жертвы произвола? Я не находилась рядом с заключенными с тех пор, как сама была узником. Мне едва ли не совестно находиться по эту сторону решеток. Но меня охватывает жуть от одной мысли, что по воле мерзкого беззакония мы в мгновение можем поменяться местами.
Бела в камере один. На нем не тюремная форма, а обычная одежда. Он вскакивает при виде нас, протягивает к Марианне руки через решетку.
– Марчука, смотри, какая у меня забавная кроватка!
Он думает, что мы пришли навестить его. Один глаз у него заплыл. Рот в запекшейся крови. На лице сменяют друг друга два выражения: одно для Марианны – простодушное и радостное, другое для меня – недоумевающее. Зачем взяла ребенка в тюрьму? Зачем позволяю ей видеть это место, что запечатлеется у нее навсегда в памяти, даже если она никогда не узнает, как оно зовется? Я силюсь отключить свою защитную реакцию и не вступать с ним в спор. Стараюсь дать понять, что он должен довериться мне. Стремлюсь окутать его своей любовью – единственным, что сильнее страха. Никогда не любила его крепче, чем в те тюремные минуты, когда он нутром понимает, как обратить это мрачное и внушающее ужас зрелище во что-то безобидное, – и мгновенно все переводит в игру для Марианны.
Надзиратель отпирает камеру. «Пять минут!» – кричит он громко и похлопывает себя по карману, где лежит мое кольцо с бриллиантом. Затем поворачивается к нам спиной и удаляется по коридору.
Я вытаскиваю Белу из камеры и не дышу, пока мы не оказываемся снова на улице – Бела, Марианна и я. Помогаю стереть кровь с губ его же грязным платком. Идем к железнодорожному вокзалу. Нам не нужно это обсуждать. Как будто мы все так и спланировали: его арест, наш внезапный побег. Детали мы обдумываем по пути, и есть какое-то странное до головокружения ощущение – от быстрого передвижения по глубокому снегу, когда мы ступаем в чьи-то оставшиеся следы, от удивления, что они совпадают с нашими по размеру и ритму ходьбы. Как если бы мы уже совершали этот путь в другой жизни и теперь действуем по памяти. Я рада, что Бела может нести Марианну. У меня руки почти онемели.
Самое важное – выбраться из страны. Как можно быстрее убраться от коммунистов. Добраться до ближайшего места, где есть союзники. На станции оставляю Белу с Марианной на скамейке в укромном месте и иду покупать билеты в Вену. По пути запасаюсь большим количеством бутербродов – кто знает, когда нам придется снова поесть?
Следующего поезда ждать сорок пять минут. Целых сорок пять минут. За эти сорок пять минут легко обнаружить пустую камеру Белы. Конечно, они отправят наряд полиции на вокзал. Сбежавших первым делом ищут на станциях. Бела теперь беглец. А я его сообщница. Старательно дышу, отсчитывая каждый вздох, чтобы унять дрожь. Возвращаюсь к семье. Бела рассказывает Марианне смешную историю про голубя, который возомнил себя бабочкой. Стараюсь не смотреть на часы. Сажусь на скамейку, Марианна – на коленях у мужа, я наклоняюсь к ним, заслоняя собой лицо Белы. Минуты медленно тикают. Я разворачиваю для Марианны бутерброд. Пытаюсь сама проглотить кусочек.
И вдруг – объявление, от которого у меня так отчаянно стучат зубы, что уже не до еды. «Бела Эгер, пожалуйста, пройдите к справочной службе», – монотонный голос сотрудника вокзала перекрывает глухой гул, стоящий у билетных касс, гвалт детских и родительских голосов, шелест встреч и расставаний.
– Не озирайся, – шепчу я. – Делай что угодно, но не поднимай глаз.
Бела щекочет Марианну, пытаясь ее рассмешить. Я переживаю, что они слишком шумят. «Бела Эгер, немедленно пройдите к справочной службе», – объявляют снова. Слышно, как нарастает настойчивость в интонации.
Наконец-то поезд, идущий на запад, прибывает на наш путь.
– Садись в поезд, – говорю я. – Спрячься в уборной на случай, если начнут обыск.
Когда мы бежим на посадку, я стараюсь не оглядываться, высматривая полицейских. Бела торопится с сидящей у него на плечах Марианной. Она визжит от удовольствия. У нас нет багажа, что выглядело естественно на улицах, по дороге сюда, но теперь я боюсь, как бы его отсутствие не вызвало подозрений. До Вены ехать почти семь часов. Если нам удастся выбраться из Прешова, все равно есть опасность, что полиция может зайти на любой остановке, чтобы обыскать поезд. У нас не было времени добыть поддельные документы. Мы те, кто мы есть.
Мы находим пустое купе, я с Марианной на коленях смотрю в окно, занимая ее подсчетом всех ботинок на перроне. После внезапного вызволения Белы из тюрьмы мне нелегко смириться с мыслью, что сейчас он снова пропадет из моего поля зрения. Невозможно вынести, что опасность не уходит, а только нарастает. Бела целует меня, целует дочь и идет прятаться в уборную. Я жду, когда поезд тронется. Если он хотя бы успеет отъехать от вокзала, мы окажемся чуть ближе к свободе, на миг станет ближе возвращение Белы ко мне и Марианне.
Поезд стоит. Мама, мама. Помоги нам, мама. Помоги нам, папа. Мне остается только молиться.
Дверь купе открывается, и полицейский мельком смотрит на нас, перед тем как снова закрыть ее. Слышу стук его ботинок, когда он идет дальше по проходу, слышу, как открываются и закрываются другие двери. Слышу, как он выкрикивает имя Белы. Я болтаю с Марианной, пою ей, не отрываясь от окна. На меня находит страх, что сию минуту мы увидим, как Белу в наручниках снимают с поезда. Наконец проводник убирает с платформы входную подножку и входит в вагон. Двери закрываются. Поезд начинает движение. Где Бела?! Он все еще в поезде? Удалось ли ему остаться незамеченным? Возможно, его уже возвращают в камеру, где наверняка изобьют или того хуже. А если с каждым вращением колес мы отдаляемся друг от друга – и все втроем от жизни, которую собирались вместе строить?
К моменту прибытия в Кошице Бела так и не появляется. Марианна спит у меня на руках. Я высматриваю на перроне Клару. Придет ли она с нами встретиться? Придет ли Чичи? Поняла ли она, в какой мы опасности? Что она успела сделать за то время, что мы говорили по телефону?
Ровно перед тем как поезд должен отъехать от Кошице, дверь купе открывается и врывается Бела. «У меня для вас сюрприз!» – выкрикивает он в приливе адреналина. Кричит прежде, чем я успеваю попросить его быть тише. Марианна беспокойно ворочается и, спросонья растерянная, открывает глаза. Я убаюкиваю ее, качая из стороны в сторону, и тянусь к нему – моему мужу, находящемуся теперь в безопасности.
– Тебе не интересно увидеть мой сюрприз?
Он снова открывает дверь. За ней находятся моя сестра Клара, Чичи, чемодан и футляр со скрипкой.
– Есть здесь свободные места? – спрашивает Чичи.
– Малышка моя! – выдыхает Клара, прижимая меня к груди.
Беле хочется рассказать, как он ускользнул от обыска в Прешове, а Чичи – как они нашли друг друга здесь, в Кошице. Но я суеверна. Цыплят по осени считают. В мифах с теми, кто рано торжествует, не происходит ничего хорошего. Нужно позволить богам поддерживать свой образ, по крайней мере в проявлении их исключительной силы. Я сама еще не говорила с Белой о кольце и о том, как вытаскивала его из тюрьмы. А он и не спрашивает.
Поезд трогается. Марианна засыпает, ее голова на коленях Белы. Чичи и Клара шепотом рассказывают свои планы: Вена – идеальное место, чтобы дождаться виз в Австралию, пора уезжать из Европы, поселиться с Имре в Сиднее. Я пока не могу позволить себе думать о Вене. На каждой станции, затаив дыхание, жду беды. Спишска-Нова-Вес. Попрад-Татры. Липтовски-Микулаш. Жилина. Еще три остановки до Вены. В Тренчине проносит. Никакой опасности в Трнаве. Мы почти доехали. В Братиславе – городе, где прошел наш медовый месяц, – на границе остановка затягивается. Марианна просыпается, почувствовав, что мы стоим.
– Спи, детка, спи, – говорит Бела.
– Молчи, – прошу я. – Молчи.
Мы видим, как в темноте по платформе к поезду идет с десяток словацких солдат. Они разделяются, расходясь по вагонам по двое. Скоро постучат в нашу дверь. Они будут спрашивать удостоверения. Если не узнают Белу в лицо, то увидят его имя в паспорте. Прятаться уже поздно.
– Я скоро, – говорит Чичи.
Он выходит из купе, мы слышим его голос, голос проводника, потом видим, как он спускается на перрон ровно в тот момент, когда солдаты подходят к нашему вагону. Я так никогда и не узнаю, что говорит им Чичи. Не узнаю, откупится ли он деньгами или драгоценностями, но что-то из этого явно переходит в другие руки. Знаю только, что после нескольких мучительных мгновений солдаты, прощаясь с Чичи, приподнимают фуражки, разворачиваются и идут по направлению к станции. Как только я проходила в лагерях селекцию? А ведь имела с ней дело каждый день по одному разу, а иногда и чаще. По крайней мере, в тех очередях вердикт выносили быстро.
Чичи возвращается в купе. Сердце уже не колотится с бешеной скоростью, но я так и не решаюсь спросить, какими средствами он убедил солдат уйти. Наша безопасность кажется слишком хрупкой, чтобы на нее полагаться. Мы рискуем ее уничтожить – стоит только выразить вслух облегчение. Пока поезд проезжает отрезок пути от Братиславы до Вены, мы молчим.
В Вене мы малая капля в потоке ищущих убежища и ждущих переправы в Израиль или Северную Америку. По окончании войны – двести пятьдесят тысяч беженцев и переселенцев. Нашим временным укрытием становится больница Ротшильда в американской зоне оккупации. Здание больницы используется как центр для беженцев из Восточной Европы, и нас пятерых заселяют в палату еще к трем семьям. Хотя уже поздняя ночь, Бела уходит из комнаты до того, как я начинаю укладывать Марианну. Он хочет связаться с Банди и Мартой – нашими друзьями, которые остались там, дома, и с которыми мы собирались ехать в Израиль, – и сказать им, где мы находимся. Я глажу Марианне спину, пока она спит, и слушаю, как Клара шепотом разговаривает с другими женщинами, живущими в одной с нами комнате. Здесь, в больнице Ротшильда, тысячи таких, как мы, ожидающих помощи от «Брихи». Когда мы собрались с Банди и Мартой под Новый год, то за миской горячих щей из квашеной капусты, обсуждая план новой жизни в Израиле, мы ведь не думали убегать, а пытались что-то созидать. Но только сейчас, сидя в переполненной палате с другими беженцами, я вдруг понимаю, что значит «Бриха». В переводе с иврита это «побег». Мы в бегах.
Разумен ли наш план? Соседки рассказывают о своих друзьях, уже репатриировавшихся в Израиль. Там нелегко. За год война с арабами постепенно утихает, но страна по-прежнему является зоной боевых действий. Люди живут в палатках, делают то, что им приходится делать в период серьезных политических испытаний и продолжающихся враждебных отношений между арабами и евреями. Это не та жизнь, к которой мы готовились, когда загружали свои вещи в контейнер. Какой прок от серебра и фарфора в палатке посреди вооруженного конфликта? Драгоценности, зашитые в одежду Марианны? Их ценность определяется тем, сколько за них могут заплатить. Кто захочет есть на фарфоровых тарелках с нашей фамилией? Где-то в животе возникает знакомое, слегка тянущее чувство – и вовсе не страх перед тяжелой работой и нуждой вызывают во мне это сопротивление. А реалии еще одной войны. Зачем нужна новая жизнь, если начинать придется все с тех же старых страданий?
В темноте, ожидая возвращения Белы, достаю документы из американского консульства. Те самые документы, за которыми я так настойчиво посылала Белу в Прагу и которые, под моим платьем, на спине, перехваченные ремнем, пересекли вместе с нами границу. Две чехословацкие семьи отвечают требованиям для эмиграции в Америку. Только две. Вторая семья, как Бела выяснил в Праге, уже уехала из Европы, выбрав вместо Америки Израиль. Теперь наша очередь, если мы решаемся ехать. Перебирая бумаги, я вглядываюсь в нечеткие в тусклом свете слова, ожидая, что сейчас в моих руках они рассыпятся или как-то сами переставятся. Слышу мамин голос. Америка! Вот куда бы уехать. В Америку попасть сложнее всего. Квоты жесткие. Но если этот документ не подделка, не обман, это наша возможность. Вот только все наше состояние уже на пути в Израиль. Не иначе то письмо – фальшивка, убеждаю я себя. Никому ты не нужен, если у тебя нет ни гроша.
Входит запыхавшийся Бела, будя наших соседей по комнате. Посреди ночи ему удалось связаться с Банди. Завтра ночью наши друзья поедут в Вену, мы встретимся на вокзале утром и вместе отправимся в Италию – Банди договорился с «Брихой» и застраховал нашу переправу на корабле оттуда в Хайфу. Мы поедем в Израиль с Банди и Мартой, как и планировали в новогоднюю ночь. Создадим нашу макаронную фабрику. Нам повезло, что мы уедем из Вены почти сразу. Не придется ждать годами, как, скорее всего, произойдет с Кларой и Чичи, которые собираются в Австралию.
Но меня не радует перспектива покинуть Вену, в которую мы примчались лишь из-за того, что надо было срочно бежать от послевоенного хаоса в Прешове, – покинуть через тридцать шесть часов только затем, чтобы практически вернуть мою дочь пусть в новую, но такую же нестабильную зону конфликта. Я сижу на краю кровати с бумагами из консульства на коленях. Вожу пальцами по чернилам. Бела наблюдает за мной.
– Теперь уже поздновато, – говорит он. Весь его комментарий.
– Не думаешь, что нам нужно это обсудить?
– Что тут обсуждать? Все наше состояние, все наше будущее – в Израиле.
Он прав. Отчасти. Наше имущество, возможно, уже в Израиле, и контейнер с ним прокаливается на солнце в какой-нибудь пустыне. Но не наше будущее. Его еще не существует. Наше будущее – сумма в уравнении, где одно слагаемое – намерения, а другое – обстоятельства. И наши намерения могут измениться. Или треснуть по швам.
Когда я наконец лягу в постель, Клара перегнется над спящей Марианной и прошепчет мне:
– Малышка, послушай меня. Надо любить то, что делаешь. Иначе делать этого не нужно. Оно того не стоит.
И что она хочет сказать? Чтобы я спорила с Белой насчет того, что уже решено? Чтобы ушла от мужа? Я ожидаю (и, наверно, рассчитываю на это), что уж Клара точно будет отстаивать для меня самой мой выбор – тот, который уже сделан. Я знаю, она не хочет уезжать в Австралию. Но она поедет, чтобы быть со своим мужем. Кто-кто, а она должна понимать, почему я еду в Израиль, хотя и не хочу. Впервые в жизни моя гениальная сестра говорит мне не делать того же, что она, не следовать ее примеру.
Утром Бела без промедлений идет хлопотать о вещах, которые будут нам нужны для поездки в Израиль: чемоданы, пальто, одежда, предметы первой необходимости – все это предоставляет нам, беженцам, «Джойнт». Американский еврейский распределительный комитет «Джойнт» – благотворительная организация, поддерживающая больницу Ротшильда и всех ее обитателей. Выхожу в город с Марианной, засунув в сумочку документы из Праги, как Магда когда-то прятала конфеты – и искушение, и подкрепление. Что, собственно, это означает: мы единственная семья в Чехословакии, которой позволено эмигрировать в Америку? А если мы откажемся, кто поедет? Никто? План с Израилем хороший. Это лучшее, на что мы могли рассчитывать с тем, что имели. Но потом появилась другая возможность, которой не было, когда мы принимали то решение. Нам дается шанс не жить в палатке в воюющей стране.
Я не могу себя остановить. Без разрешения Белы, без его ведома я спрашиваю, как пройти в консульство США, и иду туда с Марианной на руках. По крайней мере, так я утолю любопытство: не ошиблись ли с этими бумагами, не фальшивые ли они.
– Поздравляю, – говорит сотрудник консульства, когда я показываю ему документы, – можете ехать, как только вам оформят визу.
Он дает мне бланки заявлений на визу.
– Сколько это будет стоить?
– Нисколько, мэм. Вы беженцы. Вы поплывете за счет вашей новой страны.
У меня кружится голова. Это хорошее головокружение – так я себя чувствовала прошлой ночью, когда поезд отъехал от Братиславы и наша семья еще не разделилась. Я забираю бланки в больницу, показываю их Кларе и Чичи, изучаю вопросы, ища ловушку. Долго искать не приходится. «Болели ли вы туберкулезом?» Да. Бела болел. У него не проявлялись симптомы с 1945 года, но не имеет значения, насколько он сейчас здоров. С бланком нужно подать рентгеновские снимки. А на его легких рубцы. Поражения легочной ткани заметны. И туберкулез не лечится – он может проявиться в любое время.
Тогда Израиль. Завтра.
Клара смотрит, как я кладу бланки под матрас.
– Помнишь, меня приняли в Джульярдскую школу[25]? А мама меня не отпустила? Отправляйся в Америку, Дицу. Мама хотела бы сейчас этого для тебя.
– Но туберкулез?
Из последних сил стараюсь быть преданной. Нет, не закону, а желаниям Белы – тому выбору, что сделал мой муж.
Клара – очень вовремя – напоминает мне мамино: не можешь войти через дверь, пробуй влезть через окно.
Приходит ночь. Наша вторая и наша последняя ночь в Вене. Я жду, когда заснет Марианна, когда улягутся спать Клара с Чичи и другие семьи. Мы с Белой сидим у дверей на стульях друг против друга. Его и мои колени соприкасаются. Стараюсь запомнить его черты во всех подробностях, чтобы потом я смогла описать Марианне лицо ее отца. Широкий лоб, совершенный излом бровей, добрые, мягкие губы.
– Мой дорогой Бела, – начинаю я, – то, что ты сейчас услышишь, будет непросто сказать. Невозможно представить, как это невыносимо. Однако отговаривать меня бесполезно.
Морщит красивый широкий лоб.
– Что происходит?
– Если ты встретишься с Банди и Мартой завтра, чтобы отправиться в Израиль, как мы планировали, я не буду ставить тебе это в вину. Не буду пытаться тебя удерживать. Но свой выбор я сделала. С тобой я не еду. Я забираю Марчуку и уезжаю в Америку.
Часть III. Свобода
Глава 11. Первый день нашей иммиграции
День 28 октября 1949 года был самым желанным и многообещающим в моей жизни. В ожидании, когда будут готовы визы, мы сначала месяц провели в переполненной палате больницы Ротшильда, затем еще пять месяцев прожили в венской крошечной квартирке и в конце концов оказались на пороге нашего нового дома. Солнечное голубое небо сияло над Атлантическим океаном, когда мы стояли на палубе американского военного корабля. Показалась статуя Свободы, издалека крошечная, точно фигурка в музыкальной шкатулке. Затем появился сам Нью-Йорк: с той стороны, где на протяжении долгих недель была лишь ровная линия горизонта, на нас стала надвигаться невиданная архитектурная панорама. Я держу Марианну так, чтобы ей не мешало ограждение палубы. «Мы в Америке. Земля свободы», – говорю я ей.
Я действительно думаю, что мы наконец свободны. Мы решились на этот риск. И наградой нам будут новые перспективы и безопасная жизнь. На мой взгляд, вполне справедливо и логично. Тысячи океанских миль отделяют нас от колючей проволоки, полицейских рейдов, лагерей для осужденных, лагерей для перемещенных лиц. В тот день я еще не догадываюсь, что никакие расстояния, никакие границы не властны ни над нашими кошмарами, ни над нашими чувствами вины и тревоги. Те двадцать минут, пока я стояла под октябрьским солнцем на верхней палубе корабля, держала на руках дочь и глядела на вырастающий передо мной город, я в самом деле верила, что прошлое уже никогда не догонит меня.
В Нью-Йорке нас ждет Магда. Она получила визу в июле, сразу отплыла сюда и сейчас живет в Бронксе, в доме тети Матильды и ее мужа. Работает на фабрике по производству игрушек, приделывает жирафьи головы к жирафьим телам. «Элефантам только жирафов не хватало», – шутила она в письме. Через час-другой я обниму мою сестру – мою храбрую Магду, которая своими остротами в состоянии осилить любую боль.
Пока мы с Марианной считаем, сколько барашков пробегает по воде между кораблем и сушей, я мысленно успеваю поблагодарить судьбу. Бела заканчивает собирать наши вещи и выходит из крошечной каюты. Мое сердце вновь наполняется нежностью к мужу. На протяжении долгих недель в открытом море, на маленькой кушетке в каюте, которая прыгала и ходила ходуном над черной водой в темном воздухе, моя страсть к нему была сильнее, чем когда-либо за те три года, что мы провели вместе; сильнее, чем даже в медовый месяц, когда в поезде мы зачинали Марианну.
Ранее в мае, в Вене, он не мог ничего решить, не мог определиться до самой последней минуты. С чемоданом в руке он стоял за колонной на железнодорожной станции, где должен был встретить Банди и Марту. Он видел, как приехали наши друзья, видел, как они ищут нас на платформе. Но продолжал прятаться. Видел, как поезд дернулся, слышал объявление, приглашавшее пассажиров занять места. Видел, как люди входят в поезд. Видел стоящих у своего вагона Банди и Марту, ожидавших его. Потом услышал, как по громкой связи прозвучало его имя. Он хотел бы подойти к друзьям, сесть в поезд, встретить корабль и спасти свое состояние. Но его пригвоздило к месту там, за колонной. Последние пассажиры вошли в вагон, в их числе Банди и Марта. Когда двери поезда закрылись, он наконец нашел в себе силы пошевелиться. Вопреки здравому смыслу, вопреки всем планам, которые он вынашивал в надежде на спокойное и безбедное будущее, он совершил самый рискованный поступок. Он ушел.
Теперь, когда от новой жизни в Америке нас отделяет всего несколько минут, ничто не кажется таким мудрым и осознанным, как наш общий выбор пожертвовать относительно безбедной жизнью в Израиле ради безопасного будущего дочери и начать вместе с чистого листа. Меня до глубины души восхищают его чувство долга перед Марианной и передо мной, его ответственность за наше дерзкое начинание.
И все же… (Это «все же» – будто опять щелкает затвор автомата.) Ради того чтобы Марианна оказалась в Америке, я пошла бы на расторжение брака. Ценой душевной боли, но я собиралась пожертвовать нашей семьей, нашими отношениями, однако выяснилось, что Бела не был готов смириться с подобной потерей, – и вот теперь мы вместе. Именно поэтому новую жизнь мы начинаем с неравных позиций. Я чувствую, что, хотя его верность соизмерима лишь с тем, от чего он отрекся, он все еще не может прийти в себя после потерь. В тех случаях, когда я испытываю радость и облегчение, он ощущает боль. Как бы я ни была счастлива приветствовать новую жизнь, я уже предчувствую, что несчастья Белы нависают опасным грузом над нашим неведомым будущим.
Жертва – вот что легло в основу нашего выбора. И еще ложь. Заключение врача, рентгеновские снимки, которые мы положили в папку с заявлениями на визу. Мы не могли допустить, чтобы призрак старой болезни Белы – туберкулез – перечеркнул наше будущее. Вместо Белы на медицинское обследование со мной пошел Чичи. В результате мы везли с собой рентгеновские снимки легких Чичи – чистых, как родниковая вода. Когда чиновники оформили миграционные документы Белы, они узаконили тело и медицинскую историю Чичи, организм другого человека не вызвал у них никаких опасений.
Как я хочу вздохнуть с облегчением. Хочу упиваться нашей удачей, нашей безопасностью, радоваться этому чуду, а не дрожать в страхе перед новой жизнью. Желаю внушить своей дочери уверенность прямо сейчас, не сходя с этого места. Вот она, Марианна, – волосы развеваются на ветру, щеки раскраснелись. «Свобода!» – кричит дочка, смакуя новое слово.
Поддавшись порыву, я снимаю ленточку с соской, висевшую у нее на шее, намереваясь метнуть ее в море. Обернись я – увидела бы предостерегающий жест Белы. Но я не оглядываюсь. «Теперь мы американцы. Американским детям не нужны соски», – на одном дыхании с жаром выпаливаю я, забрасывая вверх, словно праздничное конфетти, единственный залог спокойствия нашей дочери. Я хочу, чтобы Марианна стала тем, кем я сама хотела бы быть: жила бы в гармонии с миром; не мучилась бы от мысли, что не такая, как все; не вбивала бы себе в голову идей о собственной неполноценности; не играла бы в бесконечные догонялки со своим прошлым; не устраивала бы беспощадной гонки в попытке убежать от самой себя.
Марианна не расплакалась. Напротив, мой странный поступок развеселил ее. Она вообще была возбуждена всей атмосферой нашего путешествия, которое воспринималось ею как приключение. Дочь соглашается с ходом моих мыслей. В Америке мы будем жить той же жизнью, какой живут американцы (как будто я имела хоть малейшее понятие о жизни американцев). Я хочу довериться своему выбору, поверить в нашу новую жизнь, поэтому отметаю любой намек на грусть и на страх. Когда я спускаюсь по деревянному трапу на нашу новую родину, на мне уже надета маска приятия.
Я сбежала. Но еще не стала свободной.
Глава 12. Мигранты
Балтимор, ноябрь 1949 года. Я сажусь в городской автобус. Серый рассвет. Промозглая погода. Я еду на работу, на швейную фабрику, где весь день буду заниматься трусами для маленьких мальчиков, срезая на них нитки, торчащие из швов; за дюжину трусиков мне платят семь долларов. Фабрика чем-то напоминает ниточную фабрику в Германии, куда нас с Магдой отправили работать после Аушвица. Тот же насыщенный пылью сухой воздух, тот же холодный бетон и те же дребезжащие машины. Грохот стоит такой, что мастеру при обращении к нам приходится кричать. «А ты пореже отлучайся в уборную!» – орет она кому-то. Резкий голос сразу отбрасывает в прошлое, я вновь слышу окрики надсмотрщицы-немки, любившей напоминать, что мы должны трудиться, пока не сдохнем, а кто выживет, того убьют позже. Я работаю не разгибая спины, чтобы повысить продуктивность и тем самым увеличить свой ничтожный заработок. А еще это стало неотъемлемой привычкой, которую уже не искоренишь: лагерная необходимость выполнять задание, не прерываясь ни на секунду. Кроме того, если находишься в условиях постоянного шума и напряженного рабочего режима, то не приходится оставаться наедине с собственными мыслями. Я работаю на износ, до дрожи в руках – они продолжают трястись, даже когда я возвращаюсь в полной темноте домой.
У тети Матильды и ее мужа не нашлось места или возможности приютить нас – тем более у них уже жила Магда, считайте, лишний рот, – поэтому наша новая жизнь началась не в нью-йоркском Бронксе, как я себе представляла, а в Балтиморе. Мы поселились у брата Белы, Джорджа, в его тесной квартирке в доме без лифта, где он жил с женой и двумя маленькими дочерьми. В Чехословакии он был известным адвокатом; в 1930-е годы, в начале своей иммиграции в Америку, Джордж работал в Чикаго коммивояжером фирмы Fuller Brush, продававшей щетки и чистящие средства. Он ходил по квартирам и предлагал их товар. Теперь, в Балтиморе, он работает страховщиком. Вся жизнь Джорджа пропитана горечью, страхом и унынием. Он ходит за мной из комнаты в комнату, следя за каждым моим жестом, рявкает на меня, если я недостаточно плотно закрываю банку с кофе. Он зол на прошлое: за то, что на него напали в Братиславе, ограбили в Чикаго в первые дни эмиграции. Он зол на настоящее: не может простить нам, что мы приехали без гроша в кармане, не сочли нужным сохранить благосостояние Эгеров. В его присутствии я чувствую себя так скованно, что не могу спуститься по лестнице не споткнувшись.
В один из дней я вхожу в автобус, на котором обычно ездила на фабрику; голова забита самым разным: где найти силы, чтобы вынести темп и грохот еще одного рабочего дня, можно ли преодолеть неприязнь и раздражение Джорджа, – и, конечно, тревожат мысли о деньгах, вернее, их отсутствии (у меня настоящая зацикленность на нашем безденежье). Я слишком ушла в себя и не сразу замечаю, что автобус не трогается с места, все еще стоит на остановке, а пассажиры, нахмурившись и качая головами, пялятся на меня. Я тут же начинаю обливаться потом, и меня охватывает колотун. Ровно то состояние, что я испытывала, когда вооруженные нилашисты ломились к нам в дверь на рассвете. Когда я украла морковку для Магды, а солдат вермахта приставил дуло автомата к моей груди. Липкий страх, от которого цепенеешь, и в висках стучит: я в чем-то виновата, сейчас меня будут наказывать, на кону моя жизнь, смерть неминуема. Чувство угрозы настолько сильно поглощает меня, что я не в состоянии собрать воедино всю картину. А дело вот в чем: задумавшись о своем, я вошла в автобус так, как это принято в европейских странах, то есть заняла место и жду, когда подойдет кондуктор и продаст мне билет. Оказывается, я не опустила жетон в специальный аппарат. И теперь водитель кричит мне: «Плати или выметайся! Плати или выметайся!» Даже если я говорила бы по-английски, я не смогла бы его понять, поскольку меня захлестывает страх: всплывают образы колючей проволоки и вскинутых винтовок, перед глазами густой черный дым, поднимающийся из труб крематория и напрочь заволакивающий реалии настоящей жизни, – короче говоря, вокруг меня нынешней сомкнулись тюремные стены прошлого. Странно, но, когда в свою первую ночь в Аушвице я танцевала перед Йозефом Менгеле, тюремные стены, наоборот, рассыпались. В тот момент пол барака превратился в сцену Венгерского оперного театра. Тогда мой внутренний мир спас меня. Сейчас мой рассудок меня подводит: обычная оплошность, недопонимание вырастают в катастрофу. В данном случае не происходит, собственно, ничего страшного, ничего непоправимого. Водитель рассержен, потому что неправильно истолковывает мое поведение и потому что я не понимаю его. Ситуация конфликтная, много крика. Но моей жизни ничто не угрожает. И тем не менее именно так я считываю реальность. Опасность, опасность, смерть.
«Плати или выметайся! Плати или выметайся!» – кричит водитель. Он встает с места. Идет ко мне. Я падаю, прикрывая голову руками. Теперь он нависает надо мной, хватает за руку, рывком пытается поднять на ноги. Я сжимаюсь на полу автобуса, дрожу и плачу. Одна из пассажирок пожалела меня. Она, как и я, из мигрантов. Она спрашивает сначала на идише, потом по-немецки, есть ли у меня деньги, отсчитывает монеты, вкладывает их в мою потную ладонь, помогает мне пройти снова к моему месту и сидит рядом, ожидая, пока я восстанавливаю дыхание. Автобус выезжает на дорогу.
Она возвращается к своему месту, и кто-то говорит вполголоса: «Какие тупицы эти приезжие».
Когда в письме Магде я рассказываю про этот случай, то перевожу все в шутку: случай из жизни мигранта (вот такие «приезжие») – обхохочешься. Но в тот день во мне что-то изменилось. Пройдет более двадцати лет, я буду владеть английским языком и психологическими техниками, которые позволят мне понять, что это было психопатологическое репереживание: приступ тревоги и мучительные физиологические проявления – колотящееся сердце, потные ладони, слабеющее зрение, – которые я испытала в тот день (и испытаю еще много раз в своей жизни, вплоть до настоящих дней, а ведь мне уже почти девяносто лет), являются непроизвольной реакцией на травму. Именно поэтому сейчас я против того, чтобы патологический посттравматический стресс называли расстройством. Это вполне естественный процесс, а не реакция расстроенной психики на травму. Тем ноябрьским утром в Балтиморе я не знала, что со мной происходит, полагая, что подобная реакция доказывает, насколько глубоко я ущербна. Жаль, я не знала, что это не было признаком дефектности моего сознания, что я переживала последствия искалеченной жизни.
В Аушвице, в Маутхаузене, на марше смерти – там я выжила благодаря тому, что погружалась во внутренний мир. Я обретала в своем внутреннем «я» надежду и веру, даже когда меня окружали голод, пытки и смерть. После первого репереживания я стала думать, что в моем внутреннем мире живут демоны. Что внутри меня гибельная бездна. Мой внутренний мир больше не поддерживал меня, он стал источником боли: неконтролируемые воспоминания, потерянность, страх. Я могла стоять в очереди за рыбой, и, когда продавец называл мое имя, вместо его лица я видела лицо Менгеле. Иногда по утрам, заходя на фабрику, я видела рядом с собой мать, видела яснее ясного, видела, как она поворачивается спиной и уходит. Я старалась изгнать воспоминания о прошлом. Думала, что это вопрос выживания. Только после многих лет я наконец пришла к пониманию, что эскапизм не лечит боль. Он ее усугубляет. По географическим меркам от моих давнишних лагерей Америка находилась дальше всех мест, в которых я жила ранее. Но психологически я была здесь узницей в большей степени, чем прежде. Убегая от прошлого – от своего страха – я не обрела свободы. Я создала тюремную камеру из своего ужаса и молчанием заперла ее на замок.
Между тем Марианна растет безмятежно, в счастье и даже довольствии. Я хочу, чтобы она чувствовала себя нормальной, нормальной, нормальной. Так и случилось. Я боюсь одного: вдруг она поймет, что мы бедняки, что мать ее находится в постоянном страхе, что жизнь в Америке оказалась не такой, как мы ожидали, – но вопреки всему она была счастливым ребенком. В детский сад ей разрешили ходить бесплатно, потому что управляющая, миссис Бауэр, сочувственно относится к иммигрантам. Там Марианна быстро учит английский. Она становится маленькой помощницей миссис Бауэр, заботится о других детях, когда они плачут или капризничают. Никто не просит ее об этом. Она от рождения чувствует чужую боль и с пеленок уверена в своих силах. Мы с Белой называем ее маленьким дипломатом. Миссис Бауэр, собирая Марианну домой, дает ей с собой книги, чтобы поддержать ее и помочь мне учить язык. Я пытаюсь читать «Цыпленка Цыпу». Не могу уследить за персонажами. Что за утка Тьфути? Что за Гуся Дуся? Марианна смеется надо мной. Она снова учит меня. Делает вид, что раздражается. Я делаю вид, что только играю, что только делаю вид, будто не понимаю.
Больше бедности я страшусь, что дочь будет меня стесняться. Боюсь, что она начнет стыдиться быть моей дочерью. По выходным она вместе со мной ходит в прачечную и помогает мне разбираться с машинами, она водит меня в магазины за арахисовым маслом и десятками других продуктов, о которых я никогда не слышала и названия которых не могу выговорить. Марианне исполняется три, и в тот, 1950-й, год она настойчиво требует, чтобы на День благодарения у нас на столе, как и у ее сверстников, была индейка. Как мне сказать дочери, что мы не можем позволить себе такую роскошь? Мне повезло буквально накануне Дня благодарения. По дороге с работы я захожу в магазин, а там по дешевке распродают цыплят – 29 центов за фунт. Выбираю самого маленького.
– Смотри, милая! – говорю я, придя домой. – У нас будет индейка! Индейка-детеныш!
Я так отчаянно хочу, чтобы она вписалась в свое окружение, чтобы мы втроем стали добропорядочной американской семьей.
Отчуждение – мое хроническое состояние, даже среди наших друзей евреев-мигрантов. Зимой, когда Марианне уже пять, мы приглашены на празднование Хануки, где все дети по очереди поют традиционные песни. Хозяйка приглашает Марианну на импровизированную сцену. Я так горжусь своей одаренной, не по годам развитой девочкой, уже говорящей на английском, словно на родном языке. Радостная, активная, с сияющими глазами, она уверенно принимает приглашение и выходит в центр комнаты. Марианна уже в подготовительном классе, а еще ходит на внеклассные занятия – я понятия не имею, что еврей, ведущий ее группу, посещает организацию «Евреи за Иисуса». Она одаряет гостей лучезарной улыбкой, закрывает глаза и начинает петь: «Иисус любит меня, я это знаю, ибо так сказано в Библии…» Гости пялятся на нее, а потом переводят взгляд на меня. Моя дочь приобрела то, что я всегда для нее желала: умение чувствовать себя везде как дома. И в эту секунду – как раз из-за ее непонимания условностей, которые разделяют людей, – мне хочется провалиться сквозь землю. Ощущение неловкости даже в своей среде, чувство приговоренного к изгнанию – это пришло не извне. Все заложено во мне самой. Мое самозаточение исходит от убеждения, что выжила я несправедливо, что никогда не заслужу этого счастья быть «своей».
Марианна в Америке вполне счастлива, а мы с Белой стараемся выживать. Меня по-прежнему мучают панические состояния, проявляющиеся слишком физиологически, и приступы страха – порождение кошмаров моей памяти. Еще я боюсь раздражения со стороны Белы. В отличие от меня ему не нужно из последних сил учить английский. В детстве он какое-то время учился в Лондоне и теперь изъясняется на английском так же свободно, как на чешском, словацком, польском, немецком и нескольких других языках, но его заикание становится здесь, в Америке, более выраженным – определенный знак для меня, что навязанный мною выбор ему в тягость. Бела начинает работать на складе, где приходится поднимать тяжелые ящики; мы оба знаем, чем грозит такая нагрузка больным туберкулезом. Но Джордж и Дучи – его жена, которая была соцработником и помогла нам устроиться, – убеждают нас, что нам очень повезло с этой работой. Мизерная зарплата, тяжелый унизительный труд – такова жизнь мигрантов. Иммигранты не становятся врачами, юристами или мэрами, невзирая на свое образование и профессиональный опыт (моя замечательная сестра Клара представляет собой исключение, так как вскоре после своего с Чичи приезда в Австралию получает место скрипача в Сиднейском симфоническом оркестре). Иммигранты садятся за руль такси. Иммигранты трудятся на фабриках, получая сдельную зарплату. Иммигранты работают в бакалейных лавках, подтаскивая ящики и выкладывая товары на полки. Я усваиваю до мозга костей, какое я ничтожество. Бела сопротивляется этому. Он становится дерганым и вспыльчивым.
В нашу первую зиму в Балтиморе Дучи как-то приносит зимний комбинезон, который она купила для Марианны. Он на длинной молнии. Марианна хочет сразу его примерить. Требуется целая вечность, чтобы надеть плотно прилегающий зимний комбинезон поверх одежды Марианны, но наконец мы готовы идти гулять в парк. Спускаемся по лестнице с пятого этажа. Когда выходим на улицу, Марианна заявляет, что хочет писать.
– А раньше ты не могла сказать?! – взрывается Бела. Прежде он никогда не кричал на Марианну.
– Давай уедем из этого дома, – шепчу я той ночью.
– Размечталась, принцесса, – рявкает он.
Я не узнаю его. Его раздражение пугает меня.
Впрочем, нет, больше всего я боюсь собственной раздраженности.
Нам удается скопить немного денег и переехать в маленькую комнату для прислуги в задней части дома на Парк-Хайтс, в самом большом еврейском квартале Балтимора. Наша хозяйка когда-то сама приехала из Польши, но она прожила в Америке уже несколько десятилетий, так как эмигрировала задолго до войны. Она называет нас желторотыми и смеется над нашим акцентом. Она показывает нам ванную, ожидая, что мы придем в восторг от современной сантехники. Я вспоминаю Маришку и маленький колокольчик в особняке Эгеров, в который я звонила, когда хотела еще хлеба. Проще соответствовать ожиданиям хозяйки и изобразить восхищение, чем объяснять, даже самой себе, пропасть между «тогда» и «сейчас».
Бела, Марианна и я живем в одной комнате. Когда Марианна ложится спать, мы выключаем свет и сидим в темноте. В молчании между нами нет и намека на нежность, оно напряженное, как натянутая веревка, которая вот-вот лопнет под гнетом тяжести.
Мы изо всех сил стараемся быть нормальной семьей. Однажды, в году 1950-м, мы решаем раскошелиться и пойти в кинотеатр по соседству с прачечной на Парк-Хайтс-авеню. Пока наша одежда крутится в машине, мы ведем Марианну на «Красные башмачки»[26] – фильм, снятый, как мы узнаем к нашей гордости, Эмериком Прессбургером, евреем, эмигрировавшим из Венгрии в Великобританию. Я очень хорошо запомнила эту картину, поскольку воспринимала ее как бы с двух точек зрения. Сидя в темном зале вместе с семьей, поедая попкорн, я вдруг ощутила умиротворение, меня охватило какое-то иллюзорное предчувствие – почти вера в то, что все у нас сложится хорошо в это послевоенное время, что заживем мы наконец счастливо. Но в самом фильме – его персонажах, сюжете – была заложена такая мощь узнавания, что он все во мне перевернул. Что-то надломилось внутри, потекла тщательно сохраняемая мною маска, и я честно взглянула прямо в лицо своему голоду, своей жажде.
Фильм рассказывает о балерине Вики Пейдж, которую замечает художественный руководитель знаменитой балетной труппы Борис Лермонтов. Она оттачивает гранд батман у станка, вдохновенно исполняет свою партию в «Лебедином озере». Она жаждет внимания и одобрения Лермонтова. Я не могу отвести взгляд от экрана. Такое чувство, будто мне показывают собственную жизнь, ту самую, которая была бы у меня, не будь на свете Гитлера, не будь войны. На мгновение кажется, что рядом со мной сидит Эрик, я забываю, что у меня есть дочь. Мне всего двадцать три года, но ощущение такое, будто лучшие дни моей жизни уже в прошлом.
– Зачем вы танцуете? – спрашивает Лермонтов у Вики.
– А зачем вы живете? – задает она ему встречный вопрос.
– Не знаю. Я просто… живу, – отвечает он.
– Я бы так же ответила, – говорит она.
Я бы так же ответила – ответила бы до Аушвица и даже в Аушвице. В моей душе всегда сиял божественный свет. Торжество танца, наслаждение движением были неотъемлемой частью меня. Во мне никогда не угасала эта жажда. Теперь единственное, что меня ведет по жизни, – поступать таким образом, чтобы дочь не смогла узнать о моей боли.
Это грустный фильм. Мечта Вики не воплотилась в той степени, в какой балерина ее задумывала. Когда она исполняет главную партию в новом балете Лермонтова, ее терзают демоны. Эта часть фильма такая страшная, что я боюсь взглянуть на экран. Красные пуанты героини Вики, становясь самостоятельной силой, будто овладевают ею, они затанцовывают ее почти до смерти, балерина проносится вихрем сквозь собственные кошмары: странные типы, вампиры, пустынные космические пейзажи, жуткий партнер, созданный из рассыпающихся газет, – но она не может остановиться, не может вырваться из этого морока. Героиня пытается отказаться от вечного кружения и наконец избавляется от красных пуантов. Вики влюбляется в композитора, выходит за него замуж. В конце фильма ее снова приглашают выступить в балете Лермонтова. Муж умоляет ее не соглашаться. Лермонтов предупреждает: «Никто не может прожить две жизни». Она стоит перед выбором. Что заставляет человека выбирать одно, а не другое? Эта мысль не дает мне покоя, пока я смотрю фильм. Вики снова надевает красные пуанты. На этот раз они выносят ее из театрального зала, увлекают на край балкона, и она совершает прыжок навстречу смерти. Танцоры, занятые в балете, выступают без нее, прожектор высвечивает пустой круг на сцене, где должна была танцевать Вики.
Фильм вовсе не о психологической травме. На самом деле я живу с такой травмой, но сама еще этого не понимаю. Однако «Красные башмачки» помогли мне узнать многое: систему образов, кое-что о себе, о противоречии между внешними и внутренними переживаниями. И что-то я поняла о том, как Вики в последний раз надела красные пуанты и взлетела, – это точно не походило на выбор. Это выглядело как нечто непреодолимое. Рефлекторное. Чего она боялась? От чего бежала? Было ли это то, с чем она не могла жить? Или что-то, без чего не могла жить?
– Ты выбрала бы балет или меня? – спрашивает Бела.
Мы возвращаемся домой, едем в автобусе. Интересно, думает ли он сейчас о той ночи в Вене, когда я сказала ему, что заберу Марианну и уеду в Америку – неважно, с ним или без него? Он ведь уже знает, что я могу выбрать кого-то или что-то, но не его.
– Знал бы ты, как я танцую! Тогда вряд ли бы ставил передо мной такой выбор. Ты никогда не видел подобного гранд батмана, как у меня. – Я слегка пускаюсь в кокетство, чтобы не отвечать прямо.
Я притворяюсь. Опять притворяюсь. Где-то глубоко в груди подавляю вопль.
Я не могла выбирать! Безмолвие рвет меня на части. Гитлер и Менгеле сделали за меня выбор. У меня не было права выбора!
Бела первым не выдерживает давления. Это происходит на работе. Он пытается поднять ящик и падает на пол. Он не может дышать. В больнице рентген показывает, что туберкулез вернулся. Он кажется еще более бледным и обессиленным, чем в тот день, когда я вывела его из тюрьмы, в тот день, когда мы сбежали в Вену. Доктора переводят его в туберкулезное отделение. Каждый раз, когда после моей работы мы с Марианной навещаем его, я коченею от страха, что она увидит, как он кашляет кровью, почувствует дыхание смерти, несмотря на все наши усилия скрыть от нее всю серьезность положения. Ей четыре года, она уже умеет читать, берет у миссис Бауэр книжки с картинками, чтобы развлечь отца; она бежит к медсестрам, когда он заканчивает есть, когда ему нужна вода.
– Знаешь, что порадует папу? – говорит она мне. – Маленькая сестренка!
Мы не могли позволить себе завести второго ребенка, мы слишком бедны, и сейчас мне легче оттого, что при моей нищенской зарплате больше никто, кроме меня, не останется голодным в ожидании выздоровления Белы. Но у меня ноет сердце, когда я вижу, как моей дочери нужен друг. Когда я вижу ее одиночество. И я сама начинаю тосковать по сестрам. Магда в Нью-Йорке нашла работу получше, ей пригодились усвоенные от нашего отца портновские навыки, и теперь она шьет пальто для компании London Fog. Я умоляю ее приехать в Балтимор, но она не хочет начинать все сначала в новом городе. В Вене 1949 года я на какой-то миг представила свое будущее именно так: воспитывать Марианну вместе с сестрой, а не с мужем. Тогда это был выбор, жертва, желание спасти дочь от войны. Теперь, если Бела умрет или станет инвалидом, это будет необходимостью. Мы живем в крошечной квартире, и нашей общей зарплаты едва хватает на еду. Я не представляю, как одной платить по счетам. Магда соглашается подумать.
– Не волнуйся, – говорит Бела, кашляя в платок. – Я не допущу, чтобы наша девочка росла без отца. Не допущу.
Он кашляет и заикается так отчаянно, что едва может говорить.
* * *
Бела действительно поправляется, но все еще слишком слаб. Он больше не сможет работать на складе, но он будет жить. Сотрудники туберкулезного отделения, очарованные манерами и обаянием Белы, пообещали, что еще до того, как его выпишут, они помогут ему определиться с профессией, чтобы он мог вывести нас из бедности и прожить еще много здоровых лет. Они проводят тест на профпригодность, хотя до получения результатов Бела считал все это глупостью. Согласно тесту ему больше всего подходит профессия дирижера либо финансового консультанта.
– Мы можем начать новую жизнь с балета, – шутит он. – Ты будешь танцевать, а я дирижировать оркестром.
– Ты когда-нибудь думал о том, что стоило поучиться музыке в детстве?
Это опасная затея – играть с прошлым в «если бы».
– Я в самом деле учился музыке в детстве.
Как я могла забыть. Он учился играть на скрипке, как моя сестра. Он писал об этом в письмах, когда ухаживал за мной. Слышать, как он говорит об этом сейчас, – все равно что узнать о совершенно незнакомой странице его жизни.
– У меня очень хорошо получалось. Учителя говорили, что я могу поступить в консерваторию, и, может, поступил бы, если б не семейный бизнес.
Мое лицо горит. Меня внезапно охватывает злость. Я не знаю почему. Мне хочется сказать что-то ядовитое, но я не понимаю, себя или его я хочу этим наказать.
– Просто представь, – говорю я, – если ты продолжил бы заниматься, то мог бы встретить Клару прежде меня.
Бела старается прочитать выражение на моем лице. Вижу, как он пытается решить, поддразнить или подбодрить меня.
– Ты всерьез пробуешь убедить меня, что жениться на тебе было не самым большим счастьем в моей жизни? То была скрипка. Сейчас это не имеет никакого значения.
Внезапно я понимаю, что именно меня расстроило. Видимая легкость, с которой муж отказался от прежней своей мечты. Если он когда-нибудь и мучился от того, что забросил музыку, то скрывал это от меня. Что со мной не так? Почему меня так терзает голод по тому, чего нет?
Бела показывает своему бывшему начальнику на складе результаты теста, и тот представляет его бухгалтеру, великодушному человеку, который соглашается взять мужа в качестве помощника, пока тот проходит обучение и получает аттестат.
Я не нахожу себе места. Я была так поглощена денежными заботами и болезнью Белы, так погружена в вязкую рутину фабричного труда и подсчета монет перед походом в продуктовую лавку, что хорошие новости вгоняют меня в ступор. Освобождение от беспокойств оставляет меня наедине с зияющей пустотой, которую я не знаю, чем заполнить. У Белы есть планы на будущее, появляется какой-то просвет, а у меня ничего нет. Я несколько раз меняю работу, чтобы заработать больше и немного успокоить себя. Дополнительные деньги приходятся кстати, и успех действительно внушает уверенность в себе. Но это чувство длится недолго. В страховой компании меня переводят из отдела страхования автоматов в бухгалтерию. Моя начальница заметила, как усердно я работаю, и готова обучать меня. Мне нравится быть в компании других секретарей, я рада быть одной из них, пока моя новая приятельница не советует мне: «Никогда не садись за обедом рядом с евреями. От них воняет».
Не стоит забывать, что я чужак. Нужно скрывать, кто я есть. В транспортной компании, куда я устраиваюсь в следующий раз, мой начальник еврей, и я думаю, что наконец-то все уладится. Я чувствую себя уверенно, вполне на своем месте. Я только рядовая служащая, не администратор, но, когда однажды телефон звонит слишком долго, я подскакиваю, чтобы ответить, видя, как загружены секретари. Из кабинета вылетает начальник.
– Кто вам разрешил? – кричит он. – Хотите репутацию мне испортить? Ни один мигрант не будет представлять мою компанию. Я ясно выразился?
Проблема не в том, что он устроил мне разнос. Проблема в том, что я верю его словам о моей никчемности.
Летом 1952 года, вскоре после выздоровления Белы и за несколько месяцев до пятилетия Марианны, Магда все-таки переезжает в Балтимор. Она живет у нас несколько месяцев, пока ищет работу. Мы стелем ей постель неподалеку от обеденного стола, рядом с входной дверью. Летом у нас в квартире всегда душно, даже по ночам, и Магда приоткрывает дверь перед тем, как пойти спать.
– Осторожнее, – предупреждает Бела. – Я не знаю, в каком дворце ты жила в Бронксе, но здесь небезопасный район. Если оставишь дверь открытой, кто-нибудь может зайти.
– У меня и в мыслях такого не было, – мурлычет Магда, хлопая ресницами. Моя сестренка. Ее боль заметна только в шутках, именно так она пытается унять ее.
Мы собираем небольшую вечеринку в честь ее приезда: приходят Джордж с Дучи (Джордж качает головой при виде скромного угощения) и несколько соседей, в том числе наши хозяева, которые приводят своего друга, Ната Шильмана, бывшего судового механика. Магда рассказывает байку о своей первой неделе в Америке, когда тетя Матильда купила ей на улице хот-дог.
– В Европе, когда покупаешь хот-дог в таких местах, всегда получаешь два хот-дога, причем с капустой и луком. Матильда идет оплачивать мой хот-дог и возвращается с одной несчастной сосиской на тонкой маленькой булочке. Я подумала, что ей жалко платить полную стоимость за два хот-дога или она так намекает на мой вес. Я несколько месяцев таила обиду, пока сама не купила себе хот-дог и не узнала, что здесь они такие.
Все смотрят на Магду, все любуются ее выразительным лицом и ожидают следующей забавной истории. И у нее есть такая в запасе, всегда есть. Нат явно очарован ею. Когда гости расходятся и Марианна уже спит, я сижу с Магдой на ее постели, и мы сплетничаем, как во времена нашей юности. Она спрашивает, что мне известно о Нате Шильмане.
– Я знаю, знаю, что он папиного возраста, – шепчет она, – но он мне нравится.
Мы болтаем, пока я не начинаю клевать носом. Но мне не хочется уходить. Есть кое-что, о чем нужно спросить Магду, – кое-что, связанное с пустотой во мне, но если я заговорю о страхе, о бездне внутри меня, то придется признать их, а я так привыкла делать вид, что этого не существует.
– Ты счастлива? – наконец я набираюсь смелости спросить ее.
Я хочу, чтобы она сказала «да», тогда я тоже смогу быть счастливой. Я хочу, чтобы она сказала, что никогда не будет счастливой по-настоящему, и тогда я буду знать, что не я одна ношу пустоту в себе.
– Дицука, послушай совета старшей сестры. Ты либо ранимая, либо нет. Если ранимая, то будет больнее.
– С нами все будет в порядке? – спрашиваю я. – Когда-нибудь?
– Да, – отвечает она. – Нет. Я не знаю. Наверняка ясно одно: Гитлер нас крепко поимел.
Теперь мы с Белой зарабатываем шестьдесят долларов в неделю, этого достаточно, чтобы можно было задуматься о втором ребенке. Я беременна. Моя дочь появляется на свет 10 февраля 1954 года. Когда я прихожу в себя после анестезии, которую американские врачи в то время не глядя назначали всем во время родов, она находится в другой палате. Но я требую, чтобы мне дали подержать моего ребенка, чтобы дали покачать ее. Когда медсестра приносит дочку, я вижу, что она спит и прекрасно себя чувствует, она меньше, чем была ее сестра при рождении, вижу, какой у нее крохотный носик и какие гладкие щечки.
Бела приводит шестилетнюю Марианну, чтобы посмотреть на ребенка.
– У меня есть сестренка! У меня есть сестренка! – веселится Марианна, как будто я отложила деньги в конверт и заказала ей сестру по каталогу, как будто у меня есть способность всегда выполнять ее желания. Скоро у нее появится еще и кузина, потому что Магда, вышедшая замуж за Ната Шильмана в 1953 году, беременна и в октябре родит дочку. Она назовет ее Илона, в честь нашей матери.
Мы называем нашу дочку Одри, в честь Одри Хепберн. Голова еще кружится после всех лекарств, вколотых в меня врачами. Роды, ребенок, которого я впервые качаю на руках, – все случившееся, казалось, не имеет отношения к моей убогой, скрытной жизни.
Это привычка – ждать, что вслед за хорошим произойдет что-то плохое. В первые месяцы жизни Одри Бела готовится к аттестации как к главному экзамену своей жизни, как к решающему испытанию, которое навсегда определит, сможет ли он найти место, примириться с самим собой и нашим выбором.
Он не сдает экзамен. Более того, ему говорят, что с его заиканием и его акцентом он никогда не найдет работы, даже если получит аттестат.
– Путь всегда будет перекрыт, – говорит он, – что бы я ни делал.
Я возражаю. Пытаюсь поддержать его. Говорю, что мы найдем способ, но при этом в голове все время звучит Кларин голос. Двое калек… Ну и что из этого выйдет? Запираюсь в ванной и плачу. Плачу беззвучно, выхожу жизнерадостной. Я не знаю, что подавленные страхи становятся еще более свирепыми. Я не знаю, что моя привычка всех успокаивать и поддерживать – привычка притворяться – только усугубляет наше положение.
Глава 13. Ты была там?
Летом 1955 года, когда Марианне было семь лет, а Одри – год, мы погрузились в наш старый серый «форд» и выехали из Балтимора в Эль-Пасо. Бела, совсем упавший духом из-за плачевных перспектив с работой, уставший от упреков брата, обеспокоенный состоянием своего здоровья, связался со своим кузеном, Бобом Эгером, в надежде на поддержку. Боб был приемным сыном двоюродного дедушки Альберта, который в начале 1900-х годов вместе с двумя братьями уехал в Америку, оставив четвертого брата – дедушку Белы – в Прешове вести торговое дело, унаследованное после войны Белой. Именно чикагские Эгеры поддержали решение Джорджа переехать в Америку в 1930-е годы, и именно благодаря им мы смогли получить визу, так как их семья иммигрировала еще до войны. Я была благодарна чикагским Эгерам за великодушие и дальновидность, без которых мы никогда не смогли бы обосноваться в Америке.
Но когда Боб, на тот момент живший вместе с женой и двумя детьми в Эль-Пасо, написал Беле: «Приезжай на запад!» – я испугалась, что еще один новый шанс в очередной раз обернется для нас безвыходной ситуацией. Боб всячески обнадеживал нас: мол, экономика Эль-Пасо развивается бешеными темпами, в приграничном городе к мигрантам относятся не так пренебрежительно и предвзято, как на востоке, и вообще граница – отличное место, чтобы начать новую жизнь с чистого листа. Он даже помог Беле с работой и подыскал ему место помощника бухгалтера с зарплатой в два раза больше, чем в Балтиморе. Бела решил, что воздух пустыни должен пойти на пользу его легким, более того, по его мнению, мы сможем арендовать там дом, а не крошечную квартиру.
И тогда я соглашаюсь.
Мы пытаемся превратить внезапную жизненную перемену в веселое приключение, в импровизированный отпуск. Выбираем живописные дороги, останавливаемся в мотелях с бассейнами и выезжаем рано утром, чтобы до ужина успеть освежиться и поплавать в другом мотеле. Я замечаю, что стала чаще улыбаться, – и это несмотря на мои тревоги по поводу переезда, по поводу цен на бензин, на номера в мотелях и на еду в ресторанах; несмотря на многие мили, вновь протянувшиеся между мной и Магдой. Я улыбаюсь по-настоящему, по-доброму, улыбаюсь так, что глаза сияют, а не натягиваю улыбку, словно маску, чтобы ободрить семью. Между мной и Белой вновь возникают дружеские отношения, он рассказывает Марианне избитые шутки и плещется с Одри в бассейнах.
В первую очередь, когда мы приехали на место, я обращаю внимание на небо. В Эль-Пасо оно вообще чистое, незамутненное, бескрайнее. Меня притягивают горы, обступающие город с севера. Я всегда смотрю вверх. В определенное время дня лучи солнца падают под таким углом, что весь пейзаж кажется плоским, выцветшим картонным макетом, декорацией к фильму, а горные пики приобретают тусклый, ровный коричневый цвет. Затем свет меняется, окрашивая горы в розовый, оранжевый, лиловый, красный, золотой, темно-синий, пейзаж внезапно становится рельефным – точно аккордеон, который растягивают в разные стороны, а потом сжимают, – и проявляются все объемные складки.
Культурная среда тоже имеет свой характер. Я ожидала увидеть запыленную, отрезанную от мира приграничную деревню – типичное место из ковбойского фильма. Там живут закаленные одинокие мужчины и еще более одинокие женщины. Но Эль-Пасо оказывается вполне европейским городом, более современным, чем Балтимор. Здесь говорят на двух языках. Мирно сосуществуют представители разных культур, не испытывая абсолютно никакой сегрегации. Здесь пролегает государственная граница, но есть союз двух миров. Эль-Пасо и Хуарес[27] были не двумя разными городами, а, скорее, половинками одного целого. Посередине течет Рио-Гранде, разделяя город на две страны, и эта граница настолько же условна, насколько она наглядна. Я вспоминаю свой родной город: из словацкого Кошице его делают венгерским Кашша, потом он снова становится словацким Кошице – государственная граница и меняет все, и не меняет ничего. Мой английский оставляет желать лучшего, испанский мне вовсе неведом, но здесь, в Эль-Пасо, я чувствую себя менее отверженной, чем в Балтиморе. В Балтиморе – где мы надеялись найти приют и жили в среде еврейских мигрантов – мы ощущали себя чужаками, выброшенными на обочину. В Эль-Пасо мы просто влились в его население и растворились в этой разношерстности.
Как-то днем, вскоре после переезда, я гуляю с Одри в соседнем парке и слышу, как мать зовет своих детей по-венгерски. Я смотрю на эту венгерскую женщину в течение нескольких минут, надеясь узнать ее, а потом ворчу на себя. Сколь наивно думать, что только из-за ее голоса, звучащего на моем родном языке, между нами может быть что-то общее. Тем не менее я не перестаю следить за ней, пока она играет с детьми, – не могу избавиться от чувства, что я ее знаю.
Внезапно я вспоминаю об открытке, о которой не думала с той ночи, как Клара вышла замуж, – об открытке, вставленной в раму зеркала в комнате Магды в Кошице. Поверх изображения моста от руки написано слово Эль-Пасо. Как я могла забыть, что десять лет назад Лаци Гладштейн переехал сюда, в этот город? Лаци – тот самый юноша, которого вместе с нами освободили из Гунскирхена, который вместе со мной и Магдой ехал на крыше поезда из Вены в Прагу, он утешал нас и держал за руки; в свое время я думала, что однажды он женится на Магде; он переехал в Эль-Пасо, чтобы поработать в мебельном магазине тети и дяди и накопить денег на медицинское образование. Эль-Пасо. Тогда я глядела на открытку и думала о городе где-то на краю света, и в этом городе я сейчас живу.
Одри прерывает мои грезы, требуя, чтобы ее покачали на качелях. Когда я поднимаю дочь, венгерка вместе с сыном тоже подходит к качелям. Я быстро заговариваю с ней по-венгерски – прежде чем успеваю остановить себя.
– Вы из Венгрии? Возможно, вы знаете моего старого друга, который переехал сюда после войны.
Она смотрит на меня весело, как будто восхищается моей невероятной наивностью – так взрослые обычно глядят на детей.
– А кто ваш друг? – спрашивает женщина, как бы подыгрывая мне.
– Лаци Гладштейн.
– Я его сестра! – вскрикивает она.
Судя по слезам на ее глазах, она расшифровала мой код: старый друг, после войны.
– Он доктор, – добавляет она. – Теперь он Ларри Глэдстон.
Как описать, что я чувствовала в тот момент? Десять лет прошло с тех пор, как я ехала с Лаци на поезде вместе с другими никому не нужными выжившими. За десять лет он воплотил свою мечту стать врачом. После такой новости кажется, что не существует недостижимых целей и пустых надежд. Он начал новую жизнь в Америке. Значит, смогу и я.
Но это не вся история. Я стою в парке под жарким пустынным солнцем, действительно находясь на краю света – по времени и в пространстве я слишком далека от той истекающей кровью брошенной в яму девочки, задыхающейся под грудой мертвых тел в сыром лесу в Австрии. Однако я впервые, впервые с окончания войны, так близка к ней – а все потому, что подпускаю чужого человека к себе самой, к той девочке. Здесь, в парке, при ярком солнечном свете я сталкиваюсь с призраком прошлого, в то время как моя дочь требует раскачивать качели сильнее и еще сильнее. Возможно, продвигаясь вперед, я, одновременно ходя по кругу, возвращаюсь к исходной точке.
Я нахожу Ларри Глэдстона в телефонной книге, но проходит еще неделя или даже больше, прежде чем я решаюсь позвонить. Трубку снимает его жена, американка. Она слушает меня, несколько раз спрашивает, как пишется мое имя. Я твержу себе, что он меня не вспомнит. В тот вечер Боб и его семья приглашены к нам на ужин. Марианна просит меня приготовить гамбургеры, и я делаю их так, как готовила бы мама: говяжий фарш с яйцом и чесноком скатываю в шарики, обваливаю в панировочных сухарях, подаю с брюссельской капустой и картофелем, приготовленным с семенами тмина. Когда я ставлю блюдо на стол, Марианна закатывает глаза:
– Мам, я имела в виду американские гамбургеры.
Она хочет плоские котлетки на безвкусных белых булках, с жирным картофелем фри и кляксой пресного кетчупа. Она чувствует себя неловко перед Дики и Барбарой, своими юными американскими родственниками. Ее неодобрение больно жалит. Я совершила то, чего пообещала себе никогда не допускать. Из-за меня ей стало стыдно. Звонит телефон, я бегу к нему.
– Эдит, – говорит мужской голос. – Миссис Эгер. Это доктор Ларри Глэдстон.
Он говорит по-английски, но голос все тот же. С его голосом на мою кухню врывается прошлое – резкий порыв ветра на крыше поезда, и у меня от слабости кружится голова. Я такая же истощенная, как тогда. Как тогда, я испытываю страшный голод. У меня болит сломанная спина.
– Лаци, – выдыхаю я.
Мой голос звучит издалека, как будто из радио в другой комнате. Наше общее прошлое повисает в воздухе, но о нем нельзя упоминать.
– Вот и снова встретились, – говорит он.
Мы переходим на венгерский. Он рассказывает о жене, ее благотворительной деятельности, о своих трех дочерях; я рассказываю о Беле, его попытках получить диплом. Он зовет меня зайти к нему на работу, приглашает всю мою семью в дом на ужин. Так начинается – начинается заново – дружба моя и Лаци, которая продлится до конца наших с ним дней. Когда я вешаю трубку, небо становится розово-золотым. Я слышу голоса, доносящиеся из столовой. Сын Боба Дики спрашивает у своей матери обо мне: действительно ли я американка? Почему у меня такой плохой английский? Напряжение сковывает тело – это происходит каждый раз, когда прошлое подбирается слишком близко. Так я выбрасываю руку перед детьми, когда машина тормозит чересчур резко. Инстинктивный порыв защитить. С тех пор как я была беременна Марианной, когда отмахнулась от предупреждений врача, когда выбрала, что моя жизнь всегда будет служить новым жизням, я решила, что не допущу, чтобы лагеря смерти накрыли своей тенью моих детей. Мои дети никогда не должны узнать. Это убеждение становится целью жизни. Они никогда не представят меня с торчащими костями, умирающей от голода и мечтающей о мамином штруделе под затянутым густым дымом небом. Этот образ никогда не поселится в их душах. Я уберегу их. Однако вопрос Дики напоминает мне о простой истине: хотя я сама хозяйка своему молчанию, хотя я вольна соглашаться или не соглашаться с молчанием других, но я не в состоянии диктовать кому-либо, что ему говорить и делать в мое отсутствие. Что могли услышать мельком мои дочери? Что другие могли открыть им, несмотря на мои усилия запереть правду на замок?
К моему облегчению, мать Дики переводит разговор в другое русло. Она предлагает Дики и его старшей сестре Барбаре рассказать Марианне, какие учителя в школе, куда она пойдет осенью, самые лучшие. Интересно, Бела наказал ей поддерживать заговор молчания? Или она поняла это интуитивно? Она делает это ради меня, ради детей, ради себя? Позже, когда их семья уже стоит у дверей, собираясь уходить, я слышу, как мать Дики по-английски шепчет сыну: «Никогда не спрашивай тетю Дицу о прошлом. Мы об этом не говорим». Моя жизнь – семейное табу. Мой секрет в безопасности.
Мы всегда существуем в двух мирах. В том, который выбираю я, и том, который выбирает меня, – хотя я отвергаю последний, но он самовольно внедряется в мою жизнь.
Приходит 1956 год. Бела сдает экзамен и получает диплом. За несколько месяцев до рождения третьего ребенка – сына Джонни – мы покупаем скромный одноэтажный дом на три спальни на Фиеста-драйв. За домом тянется сплошная пустыня: розовые и лиловые цветы крестовников, красные соцветия юкки, треск гремучих змей. Мы обставляем гостиную и кабинет мебелью в светлых тонах. Ради свежей папайи Бела по воскресным утрам пересекает границу и идет в Хуарес на рынок. Поедая папайю, мы просматриваем газеты. В Венгрии восстание. Для подавления антикоммунистических выступлений в страну вводят советские танки. Чтобы сгладить заикание, Бела говорит с девочками отрывисто. Жарко, я на последних месяцах беременности. Мы собираемся смотреть трансляцию летних Олимпийских игр в Мельбурне – включаем испарительный охладитель, здесь его называют «болотный», и усаживаемся в кабинете.
Мы настраиваем телевизор ровно в тот момент, как Агнеш Келети разминается перед вольными упражнениями; она еврейка из Будапешта, входит в состав женской сборной Венгрии по гимнастике. Ей тридцать пять – на шесть лет старше меня. Живи она в Кашше (Кошице) или живи я в Будапеште, мы могли бы тренироваться вместе.
– Обратите внимание! – говорит Бела девочкам. – Она, как и мы, из Венгрии.
Следить, как Агнеш Келети выполняет упражнения, – все равно что наблюдать за раздвоившейся самой собой, за второй половиной себя. Той половиной, которая избежала Аушвица. (Келети, как я узнала позже, купила паспорт у девушки-христианки в Будапеште и бежала в отдаленную деревню, где пережидала войну, работая служанкой.) Той половиной, чья мама осталась в живых. Той половиной, которая по окончании войны смогла подхватить оборванную нить своей прежней жизни. Той половиной, которая не позволила ни невзгодам, ни возрасту разрушить свою мечту. Келети поднимает руки, вытягивается, она собрана и готова начинать. Бела неистово хлопает в ладоши. Одри его копирует. Марианна смотрит на меня, как я всем телом тянусь к телевизору. Она не знает, что когда-то я была перспективной гимнасткой, принимавшей участие в соревнованиях. Правда, достигла я немногого, поскольку вмешалась война – война, которая прервала профессиональную жизнь Агнеш, оборвала мое занятие гимнастикой и которая до сих пор вторгается в мою жизнь. Я чувствую, что дочь замечает, как я сижу перед экраном: я слежу за движениями Келети не только взглядом, затаив дыхание, но и всем телом. Бела, Марианна и Одри рукоплещут каждому сальто. У меня захватывает дух, когда Келети, двигаясь размеренно и замедляя темп, наклоняется вниз и достает до пола, потом резко уходит из переднего наклона в мостик, а из него в стойку на руках. Все ее движения плавные и грациозные. Выступление закончено.
Выходит ее советская соперница. Из-за восстания в Венгрии напряжение между венгерской и советской спортсменками чувствуется особенно сильно. Бела громко фыркает. Маленькая Одри, которой два годика, повторяет за ним. Я прошу обоих успокоиться. Я оцениваю движения Ларисы Латыниной так же, как это делают судьи, как, возможно, оценивает Келети. Я вижу, что ее растяжка, наверное, чуть лучше, чем у Келети, вижу, какие стремительные у нее сальто, как она садится на поперечный шпагат. Марианна одобрительно выдыхает. Бела снова фыркает.
– Пап, у нее правда здорово получается, – говорит Марианна.
– Она из страны угнетателей и громил, – отвечает Бела.
– Она не выбирала, где рождаться, – вступаю я. Бела пожимает плечами.
– Попробуй так походить «колесом», когда твоя страна в осаде. В этом доме мы болеем за венгров, – говорит он.
В итоге в вольных упражнениях Келети и Латынина делят золото между собой. Латынина задевает Келети плечом, когда они стоят бок о бок на награждении. Келети, стоя на пьедестале, морщится.
– Мама, почему ты плачешь? – спрашивает Марианна.
– Я не плачу.
Отрицай. Отрицай. Отрицай. Кого я защищаю? Свою дочь? Или себя?
Марианна читает запоем и становится еще пытливее. Прочитав все книги в детской секции городской библиотеки Эль-Пасо, она начинает рыться в шкафах в нашем доме, берется за мои книги по философии и литературе, книги Белы по истории. В 1957 году, когда ей было десять лет, она усадила меня и Белу на бежевый диван в кабинете. Стоит перед нами, как маленькая учительница. Открывает книгу, которую, по ее словам, она обнаружила запрятанной между другими книгами на полке. Указывает на картинку, где изображены сваленные в кучу обнаженные скелетоподобные трупы.
– Что это? – спрашивает она.
Меня прошибает пот, комната начинает вращаться. Я могла предугадать, что рано или поздно это случится, но сама ситуация оказалась слишком неожиданной, как арест. Мне страшно. Наверное, я впала бы в такое же оцепенение, если бы вошла в дом и обнаружила в своей гостиной пруд с живыми крокодилами из парка Сан-Хасинто Плаза. Смотреть в лицо правде, посмотреть в глаза дочери, которая увидела правду, – то же, что оказаться перед лицом зверя. Я выбегаю из комнаты. Запираюсь в ванной, где меня рвет в раковину. Я слышу, как Бела рассказывает дочери о Гитлере, об Аушвице. Слышу, как он произносит страшные для меня слова, что я была там.
– Твоя мама была там, – говорит мой муж нашей дочери.
Я готова расколотить зеркало. Мне хочется завопить.
«Нет! Нет! Нет! – мысленно кричу я в ответ. – Меня не было там!» Конечно, подразумеваю я совсем иное. Это не твоя ноша!
– Твоя мама очень сильная, – Бела продолжает разговор с Марианной. – Но ты должна понимать, что ты дочь выжившей узницы лагеря смерти, ты должна всегда, всегда оберегать ее.
Это могло бы дать хоть какой-то шанс. Возможность утешить Марианну. Избавить ее от необходимости беспокоиться обо мне или жалеть меня. Сказать ей, как сильно любили бы ее бабушка и дедушка. Теперь все хорошо, теперь мы в безопасности. Вот что она должна была услышать. Но я не могу выйти из ванной. Я не доверяю себе. Если я произнесу хоть одно слово о прошлом, я вновь разожгу в себе ярость, вновь испытаю все потери, вновь упаду в темную бездну и утащу ее за собой.
Моя жизнь сосредоточена на детях, я делаю что могу, чтобы в нашем новом доме мы все чувствовали себя на своем месте, находились в безопасности и были счастливыми.
Есть ежедневные ритуалы, метки недели и времени года, то, что мы делаем ради удовольствия, то, что мы предвкушаем. Вроде странной манеры Белы каждое утро брить лысую голову, перед тем как отвести Одри в школу. Или еще. Бела регулярно ходит за покупками в супермаркет Safeway, который построили в раскинувшейся за нашим домом пустыне. Я неизменно что-нибудь забываю вписать в список и звоню ему в магазин. Служащие уже знают мой голос. «Мистер Эгер, ваша жена на проводе», – объявляют они по громкой связи. Я ухаживаю за садом, подстригаю лужайку, работаю неполный день на службе Белы. Он становится любимым и заслуживающим доверия финансовым консультантом всех преуспевающих мигрантов в Эль-Пасо: сирийцев, мексиканцев, итальянцев, европейских евреев. По субботам Бела берет детей на встречи с клиентами, и если я не догадывалась бы, до какой степени все боготворят Белу, то я это поняла бы сразу по той щедрой любви, которой клиенты окружают наших детей. По воскресеньям Бела ездит в Хуарес, чтобы купить свежие фрукты у торговца Чуи, после чего мы всей семьей завтракаем дома, слушаем бродвейские мюзиклы, подпеваем актерам (Бела может петь без заикания); потом все вместе идем плавать в бассейн при Юношеской христианской ассоциации. На Рождество мы ходим в парк Сан-Хасинто Плаза, расположенный в исторической части Эль-Пасо. Мы не отмечаем этот праздник и не дарим на него подарки, но дети упорно пишут письма Санта-Клаусу. На Хануку мы обмениваемся практичными подарками – носки или одежда. Новый год встречаем обильной едой и зрелищем карнавального шествия, которое возглавляет Королева Солнца, играют школьные оркестры, а мужчины местного ротари-клуба дают представление на мотоциклах. Весной выбираемся в заповедник «Уайт-Сэндс»[28], где устраиваем пикник, и в Санта-Фе. Осенью снова начинаются занятия; кстати, школьную одежду мы покупаем в фирменном магазине Amen Wardy. Провожу рукой по стопке одежды и на ощупь определяю качественную ткань – у меня есть умение находить лучшее по самой низкой цене. (И у меня, и у Белы есть свои, почти ритуальные тактильные приемы: у него – для овощей и фруктов, у меня – для одежды.) Осенью также ездим в Мексику на праздник урожая, на какой-нибудь мексиканской ферме наедаемся домашним тамалес – это толченая кукуруза с рубленым мясом, красным перцем и специями. Еда – наша любовь. Если дети приносят домой хорошие отметки, мы покупаем им банановое мороженое в киоске за домом.
Одри уже девять лет, она увлекается плаванием и начинает участвовать в соревнованиях. К тому времени, когда Одри переходит в среднюю школу, она тренируется ежедневно по шесть часов, в юности я так же напряженно занималась балетом и гимнастикой. Когда Марианне исполняется тринадцать, мы делаем пристройку к дому, увеличив количество спален, – теперь у каждого из детей есть своя комната. Мы покупаем пианино. Марианна и Одри берут уроки, мы устраиваем домашние музыкальные концерты, как когда-то делали мои родители. Мы часто собираемся поиграть в бридж. Мы с Белой ходим в книжный клуб, организованный Молли Шапиро, которая широко известна в Эль-Пасо своими вечеринками, куда она приглашает интеллектуалов и людей искусства. Я хожу в Техасский университет на курсы английского языка. Мой английский достигает такого уровня, что в 1959 году я могу стать студентом бакалавриата. Давнее желание продолжить образование в конце концов осуществляется – отсроченная мечта, которая теперь получает возможность сбыться. Я хожу на свои первые занятия по психологии, сижу в одном ряду с баскетболистами, пишу конспекты на венгерском языке и каждый раз, когда нужно сдать письменную работу на английском, прошу помощи у Белы. Мне тридцать два года. Внешне мы счастливы, душевно нередко тоже.
Есть одно «но» в нашей совместной жизни – то, как Бела смотрит на нашего сына. Он хотел сына, однако не такого. Джонни страдал атетоидной формой детского церебрального паралича, возможно, сказался энцефалит, который он перенес до рождения. Болезнь в основном проявляется в функциях двигательного аппарата. Ему с трудом даются те движения, которым Марианна и Одри научились походя: одеваться, разговаривать, пользоваться ложкой и вилкой. Внешне он тоже отличается от них. У него слезятся глаза. Течет слюна. Бела относится к Джонни критически, раздражается, видя его трудности. Я помню, как надо мной потешались из-за моего косоглазия, и мне больно за сына. Когда Бела видит неудачи Джонни, то от бессилия кричит на него. Кричит на чешском, так как дети не знают этого языка, но, разумеется, по тону все и так ясно (кстати, дочери немного понимают по-венгерски, несмотря на мое стремление, чтобы они говорили исключительно на безупречном американском английском). Я ухожу в нашу спальню. Я мастерски научилась прятаться. Я веду четырехлетнего Джонни в 1960 году к доктору Кларку – специалисту из клиники Джонса Хопкинса. «Ваш сын будет таким, каким вы его воспитаете, – сказал он мне. – Джон научится делать все то же, что и остальные, но не так быстро. Вы можете слишком давить на него, что возымеет негативные последствия, но слишком ослаблять контроль тоже будет ошибкой. Вам следует учить его адекватно уровню его способностей».
Я бросаю институт, чтобы водить Джонни на сеансы с логопедом, на реабилитационную терапию. Я вожу его во все клиники, какие только могу найти, ко всем специалистам, которые могут помочь. (Сейчас Одри говорит, что из детства ей ярче всего запомнились не тренировки в бассейне, а приемные отделения.) Я выбираю не смиряться с тем, что наш сын будет жить с отклонениями. Я уверена, если мы в него поверим, он станет развиваться. Но когда Джонни был маленьким, ел руками, жевал с открытым ртом, потому что иначе не получалось, Бела смотрел на него с таким неодобрением, таким разочарованием. И у меня появлялось ощущение, что я должна защищать сына от его собственного отца.
Страх прочно занимает свое место в нашей размеренной жизни. Однажды, когда Одри десять лет, я прохожу мимо открытой двери в ее комнату, где она сидит с подружкой, прохожу как раз в тот момент, когда на улице проезжает, завывая, машина скорой помощи. Я закрываю голову руками – въевшаяся привычка со времен войны, которая сохранилась у меня до сегодняшнего дня. Не успев понять, что это просто сирена, и осознать собственную реакцию на нее, я слышу пронзительный крик Одри: «Быстро лезь под кровать!» Она падает на пол и перекатывается под свисающее с кровати покрывало. Ее подружка смеется и ползет за ней, наверняка решив, что это какая-то особенная игра. Но Одри, насколько я вижу, не шутит. Она в самом деле думает, что эта сирена – сигнал тревоги. Именно поэтому нужно прятаться. Не желая этого, абсолютно бессознательно, именно я научила ее такому поведению.
Чему еще мы неосознанно учим своих детей, что они узнают от нас о мерах предосторожности, жизненных ценностях, любви?
У Марианны должен состояться школьный выпускной вечер. Дочь стоит на нашем крыльце в шелковом платье, на запястье – прелестная бутоньерка. Когда она спускается к своему спутнику, Бела говорит ей вслед: «Хорошо повеселись там, милая. Ты знаешь, в твоем возрасте твоя мама была в Аушвице и ее родители были мертвы».
После ухода Марианны я кричу на Белу. Я называю его холодным и жестоким, говорю, что он не имеет права портить ей радость в такой особенный вечер, не имеет права лишать меня счастья радоваться за нее. Если он не в состоянии контролировать свои слова, то и я не буду. Я говорю ему: если он не в состоянии сделать так, чтобы наши дочери думали о хорошем, то почему бы ему не умереть.
– То, что ты была в Аушвице, а она нет, это и есть счастливая мысль, – защищается он. – Я хочу, чтобы Марианна радовалась жизни, которой живет.
– Тогда не отравляй ей ее жизнь! – кричу я.
Хуже объяснения Белы только то, что впоследствии я так и не обсудила эту ситуацию с Марианной. Я делаю вид, будто не замечаю, что она тоже живет двойной жизнью: той, которой живет для себя, и той, которой живет для меня, потому что я не разрешаю себе жить.
Осенью 1966 года, когда Одри уже двенадцать лет, когда Марианна ходит в старшую школу, а десятилетний Джонни подтверждает прогнозы доктора Кларка, что он может быть физически и интеллектуально крепким, у меня снова появляется время на себя. Я возвращаюсь в институт. Теперь мой английский хорош настолько, что я могу делать письменные работы без помощи Белы (когда он помогал мне, выше удовлетворительной отметки я не получала, теперь у меня только отличные). Я чувствую, что наконец продвигаюсь, наконец выхожу за границы своего прошлого. Но снова два мира, которые я изо всех сил стараюсь разделить, соединяются. Я сижу в аудитории, жду, когда начнется вводное занятие по политологии. За мной садится человек с волосами песочного цвета.
– Ты была там, верно? – спрашивает он.
– Где? – спрашиваю я.
– В Аушвице. Ты из выживших, не так ли?
Его вопрос настолько ошеломляет, что мне даже не приходит в голову мысль спросить его в ответ, почему он так решил. Откуда он знает? Как он догадался? Никому в своей настоящей жизни я ни слова не говорила об этой странице моего прошлого, даже моим детям. У меня даже нет татуировки с номером на руке.
– Ты пережила холокост? – снова спрашивает он.
Он молод, ему, наверное, около двадцати – чуть ли не в два раза моложе меня. Что-то в его молодости, открытости, добром, участливом голосе напоминает мне Эрика. Снова всплывает в памяти, как мы вместе сидим в кинотеатре после сигнала, возвещающего о начале комендантского часа, как он фотографирует меня на берегу, сидящую на шпагате, как он в первый раз целует меня в губы, его руки лежат на тонком пояске. Через двадцать один год после освобождения я чувствую, как груз потери давит на меня. Потери Эрика. Потери нашей юношеской любви. Потери будущего – того будущего, в котором должны были быть наши свадьба, семья, работа. Я никогда не забуду твои глаза. Я никогда не забуду твои руки. В течение целого года заключения – когда я каким-то образом избегала смерти, а ведь она казалась неизбежной, неотвратимой – я держалась за эти слова Эрика. Память была моей дорогой жизни. А сейчас? Я закрываюсь от своего прошлого. Помнить – означает снова и снова впускать в себя ужас. Но голос Эрика тоже в прошлом. В прошлом наша любовь, слова которой я мысленно повторяла как заклинание все долгие месяцы, пока умирала от голода.
– Да, я из выживших.
– Ты читала это?
Он показывает мне маленькую книжку в бумажной обложке – это «Человек в поисках смысла» Виктора Франкла. Видимо, что-то философское. Имя автора мне ни о чем не говорит. Я отрицательно качаю головой.
– Франкл был в Аушвице, – объясняет студент. – Потом он написал эту книгу, сразу после войны. Я подумал, тебе будет интересно. – Он протягивает мне книгу.
Я беру ее в руки. Она тонкая. Она внушает мне ужас. Зачем мне по собственной воле возвращаться в ад, пусть и через призму опыта кого-то другого? Но я не могу отвергнуть участливый жест юноши. Пробормотав «спасибо», я заталкиваю книжку в сумку, где она лежит весь вечер, точно тикающая бомба.
Я собираюсь готовить ужин, чувствуя себя разбитой и рассеянной. Отправляю Белу в магазин за чесноком, а потом за перцем. Я едва чувствую вкус еды. После ужина занимаюсь с Джонни, отрабатывая с ним произношение слов. Мою посуду. Целую детей на ночь. Бела уходит в кабинет, чтобы послушать Рахманинова и почитать еженедельник. В прихожей у входной двери висит моя сумка, в ней по-прежнему лежит книга. Сам факт, что она находится в моем доме, уже внушает мне беспокойство. Я не буду читать ее. Не обязана. Я была там. Я не стану причинять себе боль.
После полуночи любопытство берет верх над страхом. Я крадусь в гостиную и долгое время сижу в лужице света от настольной лампы, книга у меня в руках. Я начинаю читать.
Эта книга не стремится быть отчетом о событиях и фактах, а лишь <стремится> рассказать о личном опыте и переживаниях – каждодневном мучительном существовании миллионов заключенных. Это голос изнутри концлагеря, как определил ее один из выживших[29].
Мурашки бегут по коже. Он обращается ко мне. Он говорит для меня.
Другими словами, книга пытается объяснить, какова была будничная жизнь концлагеря и как она отражалась в душе обычного заключенного.
Он пишет о трех фазах жизни узника, начиная с прибытия в лагерь смерти и ощущения «иллюзии отсрочки». Да, я очень хорошо помню, как мой отец услышал играющую на перроне музыку и сказал, что это место не может быть плохим. Помню, как Менгеле провел пальцем между жизнью и смертью и сказал абсолютно будничным тоном: «Ты очень скоро увидишь свою маму». Затем наступает вторая фаза: попытка адаптироваться к немыслимому, к тому, чего не должно быть. Выдерживать избиения, которыми руководят капо, вставать вне зависимости от того, насколько ты голоден, замерз, устал или болен, есть суп и прятать хлеб, смотреть, как исчезает собственная плоть, отовсюду слышать, что смерть – единственное спасение. Даже третья фаза, спасение и освобождение, не является окончанием заключения, пишет Франкл. Оно может продолжаться в горечи, разочаровании, борьбе за смысл жизни и счастье.
Я смотрю в лицо тому, что изо всех сил пыталась спрятать. И пока я читаю, понимаю, что не чувствую себя запертой или пойманной, вновь заключенной в том месте. К моему удивлению, мне не страшно. С каждой новой страницей мне хочется написать свои десять. А если я расскажу собственную историю, тогда когти прошлого не сожмутся сильнее, а разомкнутся? Если разговоры о прошлом способны излечить от него, а не упрочить? Если тишина и отрицание не единственный выбор, который можно сделать после чудовищной потери?
Я читаю, как Франкл идет на свой рабочий участок в ледяной темноте. Холод собачий, надсмотрщики грубые, узники спотыкаются. В центре физической боли и нечеловеческой несправедливости Франкл начал думать о своей жене. Ему привиделись ее улыбка, ее взгляд, и его пронзила мысль:
…Любовь – это конечная и высшая цель, к которой может стремиться человек…
Я понял, что человек, у которого ничего не осталось на этом свете, все еще может познать блаженство, хотя бы только на короткое мгновение, в мысленном общении со своими любимыми.
Мое сердце раскрывается. Я плачу. Просто запомни: никто не отнимет то, что у тебя в голове. Моя мама говорит со мной с этих страниц, из давящей тьмы поезда. Не нам выбирать, изгнать ли тьму, но в наших силах разжечь огонь.
В те предрассветные часы осенью 1966 года я читаю эти строки, в которых заключена вся суть учения Франкла:
…У человека можно отнять все, кроме одного – его последней свободы: выбрать свое отношение к любым данным обстоятельствам, выбрать свой путь.
Каждое мгновение – это выбор. Неважно, сколь разрушительным, ничтожным, несвободным, болезненным или тягостным был наш опыт, мы сами всегда выбираем, как к нему относиться. И я наконец начинаю понимать, что у меня тоже есть выбор. И осознание этого изменит мою жизнь.
Глава 14. «Выжившему от выжившего»
Никто не излечивается мгновенно – да мы и не ищем прямых дорог.
Январским вечером 1969 года, когда Одри приходит домой после работы (она нанимается детской няней), мы с Белой просим ее и Джона сесть на коричневый диван в гостиной. Я рассматриваю чистые современные линии нашего скандинавского дивана, его тонкие, легкие ножки – рассматриваю, поскольку не могу взглянуть ни на Белу, ни на детей. Бела начинает плакать.
– Кто-то умер? – спрашивает Одри. – Просто скажите нам.
Джонни нервно пинает пятками диван.
– Все хорошо, – говорит Бела. – Мы вас обоих очень любим. Мы с вашей мамой решили, что нам лучше какое-то время пожить раздельно.
Он сильно заикается, и три предложения не кончаются целую вечность.
– О чем ты? – спрашивает Одри. – Что происходит?
– Нам нужно понять, как сохранить мир в нашей семье, – говорю я. – Это не ваша вина.
– Вы больше не любите друг друга?
– Любим. Я люблю, – отвечает Бела.
Это удар с его стороны, нож, который он вонзает в меня.
– Вы… вот так внезапно взяли и совсем разочаровались друг в друге? Я думала, вы счастливы. Или вы просто лгали нам всю жизнь?
Одри сидит, сжимая в руке заработанные деньги: когда ей исполнилось двенадцать, Бела открыл на ее имя счет и сказал, что удвоит любую сумму, которую она туда положит, – но сейчас она швыряет деньги на диван, как будто мы испортили все сколько-нибудь хорошее и ценное.
К разводу с Белой меня приводит не внезапное прозрение, а постепенное осознание происходящего. До известной степени мое решение продиктовано мыслями о матери, а точнее, о том, кем она хотела бы стать и кем ей не позволили быть. До замужества мать работала в Будапеште в министерстве иностранных дел, сама зарабатывала на жизнь, посещала собрания космополитов и была вхожа как своя в профессиональную среду. Для того времени она считалась довольно эмансипированной девушкой. Но когда вышла замуж младшая сестра, на матери начало сказываться давление семьи и ее круга, рассчитывавших, что она успеет найти себе мужа до того, как ее положение станет неприемлемым. По делам ее министерской службы ей встретился некто, кого она полюбила, – человек, подаривший ей тот самый том «Унесенных ветром». Но поскольку он не был евреем, отец запретил дочери выходить за него замуж. Однажды она пришла к известному в городе портному заказать новое платье; снимая с нее мерки, мой папа – а это был он – пришел в восторг от ее фигуры. И мама решила оставить жизнь, которую выбрала для себя, в пользу той жизни, которую от нее все ожидали. Меня страшит, что я совершила то же самое: выйдя замуж за Белу, отказалась от ответственности за свои мечты в обмен на защиту, которую он мог мне обеспечить. Теперь те черты характера, которые когда-то привлекли меня в нем: его заботливость и способность прокормить семью, – кажутся удушающими. Наш брак представляется мне отречением от самой себя.
Я не хочу брака, подобного родительскому, – брака, в котором оба одиноки, брака, лишенного душевной близости. И я не хочу страдать, как они, из-за разбитых надежд (папа думал стать врачом, мама – быть самостоятельной женщиной, имеющей профессию и живущей с любимым человеком). Чего хочу для себя я? Не знаю. По этой причине – для самоутверждения – я и наделяю Белу силой, якобы мне противодействующей. Вместо того чтобы найти собственное призвание и свой истинный путь, я обретаю смысл в борьбе с ним и его образом жизни – всем тем, что, по моему мнению, ущемляет мои интересы. Но на самом деле Бела всячески поддерживает меня: помогает с заданиями, оплачивает мою учебу, с удовольствием обсуждает со мной разные научные концепции, ему интересна моя учебная литература, особенно исследования по психоанализу, – он открыл для себя метод психоанализа применительно к истории (Бела очень любит все связанное с исторической тематикой). Правда, время от времени он выражает недовольство, как много времени я уделяю учебе, и просит – исключительно ради моего же здоровья – сбавить темп. Наверное, оттого во мне и укореняется, вырастая до твердого убеждения, одна зловредная мысль: он мешает моему саморазвитию, и если я собираюсь чего-то добиться в жизни, то должна остаться одна. Просто я совершенно измучена самоуничижением и настолько изголодалась, что стала ненасытной.
Я вспоминаю один случай. 1967 год. Одри лет тринадцать, мы с ней вдвоем отправляемся на ее соревнование по плаванию в Сан-Анджело. Вечерами в гостинице собираются родители – пьют и кутят. А я смотрю на них и представляю, как было бы, если бы Бела поехал с нами: мы находились бы в центре внимания всей этой веселой компании. Не подумайте, что кто-то из нас двоих считает себя докой по части выпивки, вовсе нет, просто в Беле море природного обаяния. Он не может остаться в стороне, если видит собравшихся вместе людей, и, где мой муж ни появляется, вокруг него сразу возникает водоворот общения всех со всеми – он сам и создает эту атмосферу открытости и дружелюбия. Все в нем меня и восхищает, и возмущает. Возмущает потому, что звучит только его голос, а мне самой приходится замолкать и отползать на задний план. Совсем как в детстве… лишь одна звезда в нашей семье имела право на голос – то был голос скрипки. В Эль-Пасо каждую неделю мы собираемся с друзьями на барбекю; после копченых ребрышек наступает время танцев, обычно для нас с Белой специально высвобождают место на площадке – вот когда я купаюсь в лучах славы. Друзья говорят, что вместе мы смотримся обалденно, так, что глаз невозможно оторвать, – настолько мы привлекательные и чувственные. Нами восхищаются как парой, но вне Белы, для меня самой, в их душе места нет. В ту ночь в Сан-Анджело мне неприятно находиться рядом с шумными, подвыпившими людьми. Становится одиноко и слегка жаль себя. В тот миг, когда я собираюсь вернуться к себе в номер, мне на память приходят слова Франкла. Про свободу выбора собственного пути, про то, что у меня есть право – при любой ситуации – дать свой ответ.
Я решаюсь на то, чего никогда не делала раньше. Стучусь в номер Одри. Она удивлена, но приглашает войти. Они с друзьями смотрят телевизор и играют в карты.
– В вашем возрасте я тоже была спортсменкой.
Одри широко распахивает глаза.
– Девочки, вы такие красивые и счастливые… Владеть своим сильным телом. Упорно трудиться. Быть в команде. Все это вы знаете не понаслышке.
Я рассказываю, как мой преподаватель балета – что было уже целую вечность назад – наставлял меня: «Все эмоции и силы в своей жизни ты будешь черпать изнутри». Желаю им спокойной ночи и направляюсь к двери. Но перед тем как выйти из комнаты, делаю свой любимый мах ногой. Глаза Одри светятся гордостью. Ее друзья хлопают и восхищаются. Я уже не тихая мамаша со странным выговором. Я танцовщица, я гимнастка, я мать, которой восхищается дочь. Подсознательно связываю возникшее чувство самоуважения и ликования с Белой, вернее, его отсутствием. Если я хочу чаще испытывать такую пьянящую радость, весьма возможно, мне нужно реже бывать с ним.
Мое изголодавшееся самосознание порождает и ненасытность в учебе. Я всегда пребываю в поисках новых знаний, а заодно в желании вызвать уважение и одобрение – только это докажет мне, что я чего-то стою. Ночи напролет я просиживаю над письменными работами, движимая страхом, что они будут не слишком хороши – или просто сойдут за приемлемые, – хотя они и так очень качественные. Когда в начале семестра наш профессор психологии объявляет группе, что всем поставил удовлетворительные отметки, я вхожу к нему в кабинет и заявляю, что привыкла получать исключительно отличные, и сразу интересуюсь, что нужно сделать для сохранения высокой успеваемости. Профессор предлагает мне место своего ассистента, что, безусловно, наполнит мои книжные знания практическим опытом – обычно такой привилегии удостаиваются только аспиранты.
Однажды днем несколько однокурсников приглашают меня выпить пива после занятий. Я сижу с ними в находящемся недалеко от кампуса затемненном баре. Поставив запотевший стакан на стол, как завороженная я слушаю их, таких наполненных молодой энергией, таких увлеченных политикой. Я восхищаюсь ими – пацифистами и поборниками социальной справедливости. Радуюсь, что пришла сюда. И одновременно печалюсь. Из моей жизни этот этап вырезан. Становление индивидуальности и формирование независимости от семьи. Свидания и любовные отношения. Участие в общественных движениях, что реально влечет какие-то изменения. Война лишила меня детства, лагеря смерти лишили меня юности, послевоенная навязчивая потребность никогда не заглядывать в свое прошлое просто сожрала первые годы моего взросления. Оставшись в живых, я слишком рано и слишком рьяно приступила к попыткам казаться полноценным человеком. Я родила ребенка, не успев толком оплакать свою мать. Вины Белы нет ни в том, что я выбрала отречение от своего прошлого, ни в том, что я до сих пор притворяюсь, закрываюсь от всех, в том числе и от него, не только скрывая воспоминания, но и не обнаруживая истинных взглядов и переживаний. Однако я на слишком долгие годы увязла в своем состоянии – и теперь именно на него, Белу, возлагаю за это ответственность.
В баре за пивом однокурсница спрашивает меня, как я познакомилась с Белой.
– Я люблю красивые истории любви, – объясняет она. – У вас была любовь с первого взгляда?
Не помню своего ответа, но я точно знаю, что тот вопрос вновь заставляет меня задуматься, какой любви хотелось бы мне. Между мной и Эриком проходил электрический разряд, все тело пылало, когда он находился рядом. Даже Аушвиц не убил во мне мечтательной девочки, девочки, каждый лагерный день твердившей себе, что снова его встретит. После освобождения мечта об Эрике умерла. Я не была влюблена в Белу, когда он появился в моей жизни; я была элементарно голодна. В буквальном смысле. А он приносил швейцарский сыр. Он приносил салями. Я помню, как в первые годы с Белой чувствовала себя счастливой; когда я забеременела, то ходила каждый день на рынок и покупала цветы, разговаривала с дочерью, пока она находилась внутри меня, рассказывала ей, как она будет расцветать, словно бутон. И она расцвела. Все мои дети расцвели. Теперь мне сорок лет – возраст моей матери, когда ее убили, – а я до сих пор не могу расцвести, у меня не было и до сих пор нет любви, которая, на мой взгляд, мне все еще причитается. Я чувствую себя обманутой, лишенной неотъемлемого человеческого права, ощущаю себя запертой в браке – браке, который превратился в жвачку, поглощаемую без всяких ожиданий на насыщение, без всякой надежды на утоление голода.
Насыщение приходит, но из самого неожиданного источника.
Однажды – это был 1968 год – я прихожу домой и обнаруживаю в почтовом ящике письмо. Мой адрес написан по-европейски, но обратный адрес указывает на Южный методистский университет в Далласе, вместо имени отправителя стоят инициалы В. Ф. Я вскрываю конверт, читаю обращение и застываю. Выжившему от выжившего. У меня в руке письмо Виктора Франкла.
Прошло два года с моего предрассветного погружения в его «Человека в поисках смысла». Тогда, по горячим следам, я пишу очерк «Я и Виктор Франкл». Я делаю его для себя – не в качестве учебного задания, а как опыт исследования, – это моя первая попытка рассказать о своем прошлом. Я рассматриваю написанное как робкий шаг в сторону своего личностного роста и с опасливой надеждой показываю работу нескольким преподавателям и друзьям; в итоге ее публикуют в университетском журнале. Какой-то аноним без моего ведома отсылает мою статью Франклу в Даллас, где с 1966 года он как приглашенный профессор читает свой курс. Франкл на двадцать три года старше меня; когда его депортировали в Аушвиц, ему было тридцать девять[30], до этого, в мирной жизни, он уже состоялся как успешный невролог и психиатр с собственной практикой. Теперь он знаменитый основатель логотерапии. Он служит врачом, практикует, обучает и читает лекции по всему миру. Мой небольшой очерк производит впечатление на Франкла, и он выясняет, как со мной связаться. В письме он обращается ко мне как к выжившему собрату по катастрофе, как к равному. В очерке было воспоминание о том случае, когда Менгеле потребовал, чтобы я танцевала перед ним. Я описала, как лагерный барак силой моего воображения превратился в сцену Будапештского оперного театра. Франкл пишет мне, что делал нечто похожее: в самые худшие минуты он представлял себя свободным человеком, читающим в Вене лекции о психологии заключенных. Он, как и я, находил убежище во внутреннем мире, который одновременно защищал его от страха и боли в настоящем и поддерживал в нем надежду и целеустремленность, – это наделяло жизнь смыслом и помогало обрести волю к выживанию. Книга Франкла и его письмо поддерживают и направляют меня: благодаря им я найду нужные формулировки и позже уже смогу делиться своим опытом.
Так начинается наша переписка и дружба, которая продлится долгие годы, в течение которых мы пытаемся найти ответы на вопросы, пронизывающие всю жизнь – его и мою. Почему выжил именно я? В чем смысл моего существования? Есть ли смысл в моих страданиях? Могу ли я извлечь из них какой-то опыт? Как я могу помочь себе и другим выдержать тяжелейшие испытания и все-таки обрести любовь и радость? Впервые мы встречаемся где-то в 1970-х годах – на лекции, которую он читает в Сан-Диего. Франкл приглашает меня за сцену, знакомит с женой и даже хочет услышать критическую оценку своей лекции – это крайне ответственный момент, когда твой наставник обращается к тебе как к коллеге. Уже в первом его письме я нащупываю для себя предпосылки того, что позже сформируется в мое призвание. Вот они: обрести смысл жизни в том, чтобы помогать другим его обретать; излечить самоё себя, чтобы иметь возможность лечить других; лечить других, чтобы получить возможность излечиться самой. Кроме того, первое письмо Франкла помогает мне утвердиться в намерении выбирать собственный путь и собственную жизнь. Для этого я найду в себе и силу, и возможность, я смогу взять на себя эту ответственность. Правда, последовавший вскоре развод с Белой оказался совершенно неправильным осуществлением моего свободного выбора.
Первый осознанный шаг в поисках своего пути я делаю в конце 1950-х годов, когда сталкиваюсь с проблемами в развитии Джонни. Чтобы принять их, мне требуется помощь. Приятель рекомендует мне психотерапевта, который, в свое время учась в Швейцарии, стал приверженцем психологической школы Карла Юнга. Я почти ничего не знаю о клинической психологии как таковой и школе Юнга в частности, но, после того как я слегка вхожу в тему, некоторые его идеи находят во мне отклик. Мне нравится его обращение к мифам и архетипам – они напоминают о сказках, которые я любила читать в детстве. Меня привлекает мысль Юнга привести в равновесие две составляющие человеческой психики – сознательное и бессознательное. Я вспоминаю диссонанс внешних и внутренних переживаний Вики Пейдж из «Красных башмачков». В те годы мне так и не удалось вырваться из когтей своих внутренних конфликтов. Да и сейчас, чтобы избавиться от напряженного душевного состояния, у меня не возникает осознанной потребности в психотерапевтических сеансах. На самом деле психотерапевт мне нужен лишь для одного: я просто желаю выяснить, что мне делать с сыном и как по этому поводу преодолеть разногласия с Белой. К тому же у меня вызывает явный интерес взгляд Юнга на психоанализ: «Главное – сказать “да” самому себе, принять самого себя в качестве ведущей цели, осознанно совершать все действия и никогда не забывать об этом с учетом всех неоднозначных проявлений; воистину это испытание, которое подводит нас к пределам возможного». Сказать «да» самому себе. Я хочу это сделать. Я хочу расцветать и совершенствоваться.
Мой психотерапевт советует мне наблюдать за своими снами, и я скрупулезно записываю все сновидения. Я почти всегда летаю. Могу выбирать: лететь высоко или низко над землей, быстро или медленно. Могу выбирать, над какими местами пролетать: европейскими соборами; горами, покрытыми лесами; океанскими пляжами. Я с нетерпением ожидаю, когда наконец окажусь внутри своих снов, где я свободно парю – такая радостная, сильная и уверенная в себе. В этих снах я обретаю силу, преодолевающую образы печального будущего – будущего, которое обычно пророчат моему сыну. Я обнаруживаю в себе стремление выйти за пределы давящих на меня ограничений. Мне еще невдомек, что те ограничения находятся не вовне, – все они сосредоточены внутри меня. Именно поэтому, когда несколькими годами позже, под влиянием Виктора Франкла, я начинаю задаваться вопросом, чего я все-таки хочу от жизни, то сразу решаю, что сказать «нет» Беле – великолепный повод сказать самой себе «да».
Через несколько месяцев после развода я чувствую себя лучше. Несколько лет я страдаю мигренью (полагаю, это наследственное, так как мою мать тоже мучили изнуряющие головные боли), но сразу после расставания с Белой мигрень исчезает. Думаю, потому, что теперь я не подвержена бурным настроениям мужа: его крикам, циничным замечаниям, постоянным беспокойствам и разочарованиям. Уходят головные боли, а вместе с ними исчезает мое вечное желание прятаться – найти какое-нибудь убежище и укрыться в нем. Я приглашаю домой однокурсников и преподавателей, устраиваю шумные вечеринки, нахожусь в центре внимания и чувствую себя открытой миру.
Я думаю, что живу так, как мне всегда хотелось жить. Но довольно скоро опускаются сумерки. Вокруг все погружается в серые тона. Мне приходится напоминать себе, что надо поесть.
Наступает май 1969 года, субботнее утро, я в доме одна, сижу в своем кабинете. Сорокадвухлетняя женщина. Сегодня мой выпускной. Я с отличием оканчиваю Техасский университет в Эль-Пасо и получаю степень бакалавра психологии. Но не могу заставить себя пойти на вручение диплома. Мне слишком стыдно. «Я могла бы это сделать много лет назад», – твержу я себе. О чем на самом деле я думаю в тот момент? «Я не должна была выжить, я не заслужила этого» – вот подтекст моего бесконечного выбора и моих убеждений. Я настолько одержима идеей доказательства своей хоть какой-то значимости, идеей занять хоть какое-то место в этом мире, я так часто твержу себе: «Как ни старайся, что ни делай, ты навсегда останешься такой… неудачницей», что никакой Гитлер мне не страшен. Я давно стала собственным тюремщиком.
* * *
Больше всего, когда я думаю о Беле, я скучаю по тому, как он танцует. Особенно венский вальс. Каким бы циничным и злым он ни был, он умеет впускать в свою жизнь радость, умеет выражать радость – все его тело будто наполняется счастьем. Он может отдаваться ритму и все равно уверенно вести в танце. Иногда он мне снится. Его детство, о котором он мне рассказывал в письмах, когда ухаживал за мной. Я вижу его отца, погребенного под лавиной, вижу пар, идущий из его рта и сливающийся с белизной гор. Вижу его мать, в приступе паники подбегающую на рынке к эсэсовцам и кричащую им, что она еврейка. Думаю о том, какую роль мать Белы сыграла в судьбе его близких – тех, кто умер, и тех, кто выжил. Думаю о заикании Белы – следствие детской травмы после гибели отца. Однажды летом Бела приезжает забрать Джона. Приезжает на новом автомобиле. В Америке мы всегда брали дешевые подержанные машины – убогие, как говорили наши дети. Сегодня он приезжает на «олдсмобиле» с кожаными сидениями. «Купил его с рук», – говорит он с гордостью и в то же время как бы оправдываясь. Но мой неверящий взгляд направлен не на машину, а на элегантную женщину, сидящую на переднем сидении. Он нашел другую.
Я благодарна необходимости работать ради того, чтобы обеспечивать себя и своих детей. Работа – мое спасение. И с ней у меня есть четкая цель. Я теперь работаю учителем обществознания в одной из средних школ пригорода Эль-Пасо. Меня приглашают и в более престижные школы в богатых районах города, но я хочу работать с двуязычными учениками, которые сталкиваются с теми же трудностями, что были у нас с Белой после переезда в Америку: бедностью и несправедливостью. Я хочу подвести учеников к выбору, показать им, что чем больше у них возможностей сделать свой выбор, тем меньше они будут чувствовать себя жертвами. Самая трудная часть работы – противостоять негативному отношению к образованию, с которым сталкиваются в своей среде мои ученики, чаще всего эти возражения исходят от их родителей: мол, школа не дает ничего, с чем им придется столкнуться в реальной жизни; мол, учебная программа не курс выживания. Я рассказываю им что-то из своего детства, даже вспоминаю косоглазие и ту глупую песенку-дразнилку. Ты тщедушная уродка, таких замуж не берут! Объясняю им: проблема не в том, что сочинили ее мои родные сестры, – проблема в том, что я им верила. Но я не допускаю, чтобы ученики догадались, насколько я вижу в них себя, насколько глубокие переживания вызывает во мне это отождествление. Мне тоже знакомо, как ненависть уничтожает твое детство, как тьма поглощает твою душу, когда все вокруг внушают тебе, что ты никто. Однако я храню в памяти голос, пришедший ко мне из глубин Татр. Если ты все-таки живешь, придется многое отстаивать. Мои ученики дают мне то, за что я готова ради них постоять. Благодаря им я чувствую себя нужной, но для меня самой все остается по-прежнему: так я и живу – в оцепенении, вечной тревоге и внутренней изоляции; мое унылое существование до сих пор слишком непрочно.
Репереживания сохраняются, иногда они накрывают, даже когда я за рулем. Я вижу стоящего на обочине полицейского в форме – и туман сразу застилает глаза, состояние близко к обморочному. Я не знаю, как называется подобное самочувствие, еще не понимаю, что это физиологическое проявление моего горя, с которым я так и не разобралась. Это подсказка – мое тело посылает мне напоминание о тех чувствах, которые я не то что сознательно подавляю, а начисто блокирую. Это гроза, обрушивающаяся на меня, когда я отказываю себе в праве испытывать душевную боль.
Каковы они – мои отвергнутые чувства? Они словно посторонние, живущие в моем доме, невидимые, если не брать во внимание еду, которую крадут, мебель, которую портят, грязные следы, которые оставляют в прихожей. Развод не освободил меня от их нежелательного присутствия. Вместе с разводом уходят псевдопроблемы – привычные «подушки» для моих обвинений и обид – и оставляют меня лицом к лицу с моими чувствами.
Иногда я звоню Магде. Она тоже развелась с Натом и вышла замуж за Теда Гилберта, с которым они ближе по возрасту и который становится участливым слушателем и добрым отчимом. Она и Нат остаются близкими друзьями. Он приходит к ней на ужин два-три раза в неделю.
– Будь осторожнее, когда места себе не находишь. В голову начинают лезть дурные мысли. Всякая ерунда. Он слишком то, он слишком сё. Ты уже довольно настрадалась. Да и я знаю, что это такое. В итоге начинаешь тосковать по всему, что раньше выводило тебя из себя, – предостерегает сестра.
Похоже, сестра читает мои мысли. Зацепила краем сознания этакое легкое сомнение, промелькнувшее признанием: возможно, разводом не удалось починить то, что, как мне казалось, было сломано.
Однажды вечером мне звонит женщина. Она ищет Белу. Не знаю ли я, где он может быть? Я понимаю, что это его подружка. Она звонит мне домой, как будто я по пятам хожу за своим бывшим мужем, как будто я обязана, если б я что-то знала, все выложить ей, как будто я его секретарша.
– Никогда мне больше не звоните! – кричу я в трубку. После этого разговора я как на иголках. Не могу уснуть. Пытаюсь сбежать в свой полет, в светлый сон, но не могу взлететь – постоянно падаю и просыпаюсь. Это ужасная ночь. И не бесполезная. Одри ночует у друзей, Джонни уже спит. Мне некуда сбежать от нахлынувшего волнения, волей-неволей, но мне приходится переживать его. Я плачу, жалею себя, впадаю в ярость. Я ощущаю каждую волну ревности, горечи, одиночества, негодования, сожаления и далее по кругу. Наутро я чувствую себя лучше, хотя и не спала. Мне спокойно. Ничего не изменилось. Как бы нелогично это ни звучало, я по-прежнему чувствую себя покинутой мужем, от которого я сама ушла. Но гнев и волнение иссякли. Их нельзя испытывать постоянно. Эмоции преломляются, меняются. Я чувствую себя почти умиротворенной.
У меня впереди много дней и ночей, подобных этой ночи. Я проживу еще какое-то время в ощущении одиночества, но научусь, как бы ни было это болезненно, испытывать эмоции, поддаваться им, а не подавлять их. Самопризнание, что придется прямо взглянуть на то, что я ношу в себе, – это настоящий дар, преподнесенный мне моим разводом. Если я действительно собираюсь улучшить свою жизнь, нужно менять не Белу, не наши отношения. Менять нужно себя.
Я понимаю необходимость перемен, но не знаю, что и как нужно изменить, чтобы чувствовать себя свободнее и счастливее. Я хожу к новому психотерапевту, чтобы рассмотреть наш брак в ином ракурсе, но ее подход не работает. Она грозит мне пальцем и наставляет: ходить по магазинам – не мужское занятие, не следовало перекладывать эту ответственность на Белу; не следовало мне самой подстригать лужайку, то есть брать на себя его, мужскую, обязанность. Она отбирает для разбора такие эпизоды, которые никак не мешали нашему браку, и превращает их в ошибки и проблемы. Я меняю работу, преподаю в старших классах, где читаю вводный курс психологии, и служу штатным психологом. Но ощущение продвижения к цели, которое я испытывала со своими прежними учениками, начинает стираться под давлением школьной бюрократии, огромных классов, количества рабочих часов и невозможности работать эффективно с отдельными школьниками. Пусть я еще не знаю, в чем мое призвание, но мне понятно, что я способна на большее.
Ни в профессиональной, ни в личной жизни я до сих пор не приобрела своего истинного, самого важного для меня дела, я лишь смутно осознаю его – и эта мысль мучает меня. Лили и Арпад – первые из моих друзей, кто попытается сказать, в чем именно мне следует искать свое призвание, хотя я еще не буду готова даже признаться самой себе в этом. Однажды они приглашают меня к себе в Мексику на выходные. Много лет мы с Белой вместе отдыхали у них; на этот раз я еду одна. В воскресенье мне пора возвращаться домой, мы сидим за завтраком – кофе, фрукты, яйца, которые я приготовила по-венгерски, с перцем и луком.
– Мы волновались за тебя, – говорит Лили, ее голос звучит ласково, успокаивающе.
Я знаю, наш развод удивил ее и Арпада, знаю, они считают, что я совершила ошибку. Сложно не воспринимать заботу Лили как осуждение. Я рассказываю им о подружке Белы: она писательница или музыкант, я не помню, кто именно, – для меня она не личность, а концепт. Ну что же, Бела пошел дальше и оставил меня позади. Мои друзья слушают меня, они сочувствуют. Потом переглядываются, и Арпад деликатно кашляет.
– Эди, – говорит он, – прости, если я вторгаюсь в личное пространство, ты вправе сказать, что это не мое дело. Но мне интересно: ты когда-нибудь думала, что тебе может быть полезно поработать с твоим прошлым?
Поработать с ним? Я уже прожила его, с чем тут еще работать? Я добровольно прервала заговор молчания. Но и разговоры не спасли меня. Мои страхи и вспышки воспоминаний никуда не делись. Мне хочется выпалить и это, и еще многое.
На самом деле разговоры только усугубили мои симптомы. Я не пыталась обсуждать это специально ни с детьми, ни с друзьями, но по крайней мере я больше не живу в страхе, что меня спросят о прошлом. Недавно я решила воспользоваться возможностью рассказать о нем – моя бывшая однокурсница, учившаяся в магистратуре на историка, попросила дать ей интервью для статьи о холокосте. Я думала, мне станет легче после того, как я поделюсь своей историей. Сделав это, я ушла от нее и поняла, что меня опять трясет. Я пришла домой, и меня вырвало, ровно как десять лет назад, когда Марианна показала нам книгу с фотографиями узников концентрационного лагеря.
– Прошлое в прошлом, – отвечаю я друзьям. Я не готова прислушаться к словам Арпада или хотя бы вникнуть в его совет «поработать с прошлым». Но, как после первого письма Виктора Франкла, мысль друга останется в моей душе в виде предпосылки, которая со временем обернется единственно правильным решением.
Однажды в субботу я сижу на кухне за столом, проверяю контрольные работы учеников. Звонит Бела. Сегодня его день с Одри и Джоном. Страх впивается в мозг.
– Что случилось?
– Ничего не случилось. Они телевизор смотрят.
Он умолкает, выжидает, когда голос начнет его слушаться.
– Приглашаю тебя на ужин, – наконец выговаривает он.
– С тобой?!
– Со мной.
– Я занята, – отвечаю я.
Так и есть. У меня свидание с профессором социологии. Я уже звонила Марианне, спрашивала совета. Что лучше надеть? Что говорить? Что делать, если пригласит к себе домой? «Не спи с ним. Не на первом свидании», – предупреждает дочь.
– Эдит Ева Эгер, – умоляет меня бывший муж, – пожалуйста, пожалуйста, пусть наши дети переночуют у друзей, соглашайся поужинать со мной.
– Что бы это ни было, мы можем обсудить все по телефону или при встрече, когда ты привезешь детей.
– Нет, – говорит он. – О таком не говорят по телефону или в прихожей.
Я решаю, что разговор как-то связан с детьми, и соглашаюсь встретиться с ним в нашем любимом ресторане, на нашем старом месте свиданий.
– Я заберу тебя, – говорит он.
Он приезжает точно вовремя, одетый как на свидание, в темном костюме и шелковом галстуке. Он наклоняется, чтобы поцеловать меня в щеку, и я не хочу отстраняться, я хочу чувствовать его одеколон, его чисто выбритый подбородок.
В ресторане, за нашим прежним столиком, он берет меня за руку.
– Как ты думаешь, – спрашивает он, – может ли у нас еще быть общее будущее?
От его вопроса у меня кружится голова, будто мы уже вальсируем. Попробовать снова? Вместе?
– А как же она? – спрашиваю я.
– Она прекрасный человек. С ней весело. Очень хороший товарищ.
– И?
– Позволь закончить. – Слезы набухают у него на глазах и стекают по щекам. – Она не мать моих детей. Она не вытаскивала меня из тюрьмы в Прешове. Она никогда не слышала о Татрах. Она не может выговорить «куриный паприкаш» и уж тем более приготовить его на ужин. Эди, она не женщина, которую я люблю. Она не ты.
От его признаний мне становится так хорошо, как в его объятиях в нашем далеком прошлом. Но до глубины души меня поражает другое – готовность Белы пойти на риск. Насколько я могу судить, ему всегда была свойственна отвага. Он принял решение сражаться с нацистами в лесу. Чтобы покончить с невообразимым злом, он рисковал жизнью под пулями и в болезни. Меня принудили к опасности. Бела осознанно выбирал ее, и за этим столом он снова отваживается рисковать, добровольно ставя себя в очень уязвимое положение: кто сказал, что я дам согласие? Я так привыкла подсчитывать его недостатки, что напрочь забыла о его достоинствах, совсем перестала брать в расчет, кто он есть на самом деле. О чем я думала, когда желала развестись с ним? Я должна расторгнуть этот брак, или я умру. Возможно, годы, которые я провела без него, помогли мне повзрослеть, помогли понять, что не может быть «мы», пока есть только «я». Теперь я лучше разбираюсь в себе и понимаю, что пустота, которую я ощущала, будучи с ним в браке, образовалась не из-за проблем в наших отношениях. Это бездна, которую я всегда несла и до сих пор ношу в себе, – бездна, которую никакой человек, никакой жизненный успех не смогут заполнить. Ничто и никто и никогда не восполнит потерю родителей и утраченные детство и юность. И никто не ответственен за мою свободу. Только я.
Через два года после развода, в 1971 году, Бела встает передо мной, сорокачетырехлетней, на колено и дарит кольцо. Более двадцати лет назад мы поженились в городской ратуше Кошице, сейчас мы выбираем еврейскую церемонию. Свидетелями выступают наши друзья, Глория и Джон Лавис.
– Это ваша настоящая свадьба, – произносит раввин. Он не случайно говорит так, поскольку у нас еврейская свадьба, но, думаю, он хочет сказать и другое: на этот раз мы осознанно выбираем друг друга, мы ни от чего не спасаемся и никуда не бежим.
Мы покупаем новый дом на Коронадо-Хайтс, оформляем его в ярких цветах – красный, оранжевый, – устанавливаем солнечные панели, делаем бассейн. На медовый месяц едем в Швейцарию, в Альпы, останавливаемся в отеле на горячих источниках. Воздух холодный. Вода теплая. Я сижу у Белы на коленях. Зубчатые цепи гор протянулись на фоне изменчивого неба, окрашивающего в разные цвета то вершины, то воду. Наша любовь кажется непоколебимой, как горы, всеобъемлющей и ровной, как море. Адаптивная и гармоничная, она готова принять любую форму, которую мы ей придадим. Суть нашего брака не изменилась. Изменились мы.
Глава 15. Что жизнь потребует от нас…
Через год после нашей второй свадьбы, в 1972 году, меня объявляют учителем года Эль-Пасо, и, хотя награда льстит мне и я считаю за честь служить своим ученикам, мне трудно избавиться от чувства вины: ведь я так и не смогла разобраться, что меня ждет в этой жизни. Как писал Виктор Франкл в «Человеке в поисках смысла», на самом деле имеет значение не то, что мы ждем от жизни, а то, что жизнь ожидает от нас.
– Вы получили наивысшее признание не на излете, а в самом начале своей профессиональной деятельности, – говорит мне директор школы. – Мы все ждем от вас больших свершений. Что дальше?
Именно такой вопрос я задаю себе. Для этого даже приходится посетить своего юнгианского психотерапевта. Я выслушиваю его сентенцию, что ученые степени не заменят мне ни работы над собой, ни личностного роста, но все-таки и дальше тешу себя мыслью о продолжении образования. Мне нужно еще во многом разобраться: почему люди выбирают одно, а не другое; как справляются с повседневными трудностями; как переносят сокрушительные удары судьбы; как уживаются со своим прошлым и справляются со своими ошибками; как залечивают свои раны. Как сложилась бы жизнь моей матери, если бы у нее была возможность с кем-то обсудить свои проблемы? Стала бы она счастливее в браке с моим отцом? Или предпочла бы иную жизнь? А как быть моим ученикам и, кстати, моему сыну – тем, кто выбирает вместо модели «я смогу» модель «я не могу»? Как помочь людям преодолеть собственные убеждения, которыми они добровольно отгораживаются от жизни? Как сделать так, чтобы человек смог достичь того, ради чего пришел в этот мир?
Одним словом, я признаюсь директору, что собираюсь получить ученую степень по психологии. Я вслух заявляю о своей мечте, но тут же делюсь сомнениями:
– Не знаю, к тому времени, как я завершу образование, мне уже будет пятьдесят.
Он улыбается:
– Вам в любом случае будет пятьдесят.
В ближайшие шесть лет я обнаруживаю, что и мой директор, и мой психотерапевт-юнгианец оказались правы. Не было никакого смысла ограничивать себя, позволив возрасту влиять на мой выбор. И поэтому я прислушиваюсь к тому, что диктует мне моя жизнь. В итоге в 1974 году получаю в Техасском университете в Эль-Пасо степень магистра в области педагогической психологии, а в 1978 году в Сейбрукском университете степень доктора клинической психологии.
В начале моего пути в науку я знакомлюсь с деятельностью двух исследователей – это Мартин Селигман и Альберт Эллис, а направляют меня два потрясающих ученых, которые становятся моими педагогами и научными руководителями, – Карл Роджерс и Ричард Фарсон. Все они помогли мне понять аспекты моей душевной жизни и осмыслить мои переживания.
Мартин Селигман, позднее ставший основателем нового направления в психологической науке – позитивной психологии, – в конце 1960-х годов проводит ряд исследований, результат которых дает ответ на вопрос, терзающий меня с мая 1945 года, со дня моего освобождения из Гунскирхена. По какой причине многие спасенные заключенные возвращались на территорию своих лагерей и продолжали жить в грязных, зараженных, прогнивших бараках? Получается, они только затем и выходили за лагерные ворота, чтобы день ото дня возвращаться на место своего заключения? Франкл отмечал тот же феномен. С точки зрения психологии что заставляет освобожденных узников отказываться от свободы?
На первом этапе своих экспериментов Селигман использует собак – хотя опыты проводились задолго до того, как начали действовать современные законы о защите животных от жестокого обращения, говорить об этом, конечно, неприятно. Эксперименты помогают ему установить явление, которое он назовет синдромом выученной, или приобретенной, беспомощности. Собаки первой группы получают сильный удар током, но могут легко прекратить болезненное воздействие, нажав на рычаг и выключив электрошоковое устройство, – таким образом они быстро научаются избегать боли. В последующих экспериментах этих собак помещают в специальные ящики с низкой стенкой; подопытные животные, чтобы избежать даже самой возможности удара током, сразу перепрыгивают через перегородку. Собаки второй группы также получают сильный удар током, однако у них нет возможности нажимать на рычаг и прерывать боль – эти подопытные животные быстро понимают, что бессильны перед электрошокером. Потом их тоже помещают в ящики с низкой стенкой и посылают заряды тока, но собаки этой группы, полностью игнорируя путь к спасению, просто ложатся на дно ящика и начинают скулить. Исходя из этого, Селигман делает вывод: когда мы знаем, что неприятные обстоятельства нам неподвластны и у нас нет над ними никакого контроля, когда мы верим, что ничто и никогда не облегчит наших страданий и не улучшит нашей жизни, – мы перестаем предпринимать какие-либо действия, так как убеждены в их бессмысленности. Подобное происходило в концлагерях: не зная, что им делать с долгожданной свободой, бывшие узники в прострации разбредались из мест своего заключения, а затем возвращались, проходили через лагерные ворота обратно, входили в бараки и отрешенно сидели на нарах.
Страдание неизбежно. Страдание универсально. Но реакция на страдание у каждого своя. Во время учебы меня привлекают труды тех психологов, которые исследуют человеческие характеры, обладающие волей к трансформации. Альберт Эллис, автор рационально-эмоциональной поведенческой терапии, которая стала предтечей когнитивно-поведенческой терапии, раскрывает масштабы негативного отношения, которое мы сами себе внушаем, и негативного, или деструктивного, поведения, которое следует за этим отношением. Он выявляет, что подспудные переживания наших наименее действенных и наиболее пагубных эмоций складываются в мыслительное идеологическое ядро – ядро иррациональное, но определяющее наше восприятие себя и мира, – зачастую мы не осознаем, что воспринимаем реальность через призму отдельного убеждения, поскольку не понимаем, с какой настойчивостью следуем этому убеждению в нашей повседневной жизни. Убеждение определяет наши чувства (грусть, гнев, беспокойство и т. д.), а наши чувства определяют наше поведение (эпатаж, закрытость, злоупотребление алкоголем или сильнодействующими препаратами с целью избавиться от нагрузки). Эллис учит, что мы можем изменить свое поведение, лишь изменив свои чувства, а чтобы изменить чувства, следует изменить мысли.
Я наблюдаю Эллиса за работой: он проводит публичный сеанс терапии с эффектной молодой женщиной, вполне уверенной в себе, но разочарованной в личной жизни. Как ей кажется, она вряд ли сможет заинтересовать того гипотетического мужчину, с которым ей захочется построить длительные отношения. Женщина обращается за консультацией, чтобы понять, как ей знакомиться и вступать в отношения с понравившимися мужчинами. Звучит признание: когда встречается подходящий ей человек, она сразу становится подозрительной и зажатой и, чтобы не обнаружить свою сущность и скрыть интерес к этому мужчине, начинает вести себя недоверчиво и настороженно. Буквально за несколько минут доктор Эллис определяет основополагающую внутреннюю установку, лежащую в основе всех ее встреч с мужчинами, – иррациональное убеждение, которое можно сформулировать так: «Я никогда не буду счастливой», – она неосознанно и неустанно твердит себе это, пока не уверует в его истинность. После очередного паршивого свидания она не только говорит: «Черт, снова так вышло, опять я была колючей и непривлекательной», но и возвращается к первичной установке, что никогда не быть ей счастливой, а значит, встречаться с кем-то не имеет никакого смысла. Именно страх, провоцируемый этим убеждением, заставляет ее относиться к каждому кандидату с опаской и прятать свое подлинное лицо, что, в свою очередь, делает ее иррациональное, или деструктивное, убеждение еще более правдоподобным.
Следить, как буквально на глазах меняется ее самооценка, – такое зрелище производит довольно сильное впечатление. Женщина буквально стряхивает с себя иррациональное убеждение, словно выскальзывает из старого халатика. Внезапно глаза становятся сияющими, спина распрямляется, плечи и грудь расправляются – точно она уже согласна принять счастье, которое должно на нее пролиться. Доктор Эллис предупреждает, что вряд ли то самое главное свидание, столь ею воображаемое, поджидает женщину прямо за порогом. Он также просит ее не бояться признаваться себе в очередном поражении после возможных неудачных свиданий – принятие истинной ситуации является частью работы при расставании со своим иррациональным убеждением.
По правде говоря, в жизни всегда есть место для неприятных моментов. Мы будем совершать ошибки, не всегда получать то, что хотим. Такое положение дел привычно воспринимается как неотъемлемая часть человеческого существования. Проблема – и основа постоянных страданий – заложена в другом: мы убеждены, что неприятности, ошибки, разочарования, то есть все наши горестные обстоятельства, дают нам понять, чего мы на самом деле стоим. Нет хуже убеждения, чем вера, будто беды и огорчения – это все, что мы заслуживаем в жизни. И хотя я выберу другой подход и буду выстраивать отношения с пациентами иначе, чем доктор Эллис, его умение обращаться с людьми, направлять их, обучать переосмысливать и преобразовывать деструктивные мысли окажет глубокое влияние на мою практику.
Карл Роджерс, мой научный руководитель и один из самых авторитетных психологов, виртуозно умеет помочь пациентам полностью понять и принять самих себя. По теории Роджерса в том случае, если наша потребность в самореализации входит в конфликт с нашей потребностью в одобрении и наоборот, перед нами встает вопрос, как поступать со своими истинными качествами и желаниями. Возникает определенная проблема выбора: подавлять их, скрывать или, может быть, пренебречь ими? Когда человек начинает верить, что невозможно быть любимым и при этом оставаться самим собой, он рискует отречься от своей истинной природы.
Самой трудной частью моего личного лечения оказывается процесс самоприятия. Собственно, я до сих пор борюсь за свою адекватную самооценку. Перфекционизм проявлялся у меня с малых лет, поскольку он в полной мере удовлетворял мою детскую потребность в одобрении, получении похвалы; со временем перфекционизм становится крепко встроенным в меня механизмом психологической адаптации – так сказывается преодоление вины выжившего. Перфекционизм представляет собой обратную сторону нашего убеждения, что в нас что-то разрушено, – а скорее всего, разрушены мы сами. И тогда мы маскируем свои руины научными степенями, достижениями, дипломами, наградами – обвешиваемся разными клочками бумаги, ни один из которых не способен исправить то, что мы всю жизнь стараемся отремонтировать. Все мои попытки бороться со своей низкой самооценкой приводят лишь к одному – крепнущему с годами ощущению собственной никчемности. И наконец, научившись помогать пациентам овладевать наукой любить и принимать себя, я, к счастью, начинаю понимать, как важно предложить то же самое себе.
Роджерс блестяще умеет выявлять переживания человека, помогать ему переосмыслять самооценку без отрицания своей сущности. Между собой и пациентом он устанавливает безусловное позитивное отношение, поэтому, находясь в условии полного одобрения, человек легко сбрасывает свои маски, освобождается от самоограничений и начинает строить жизнь в согласии с собой. Я понимаю вас, понимаю, о чем вы говорите. Расскажите мне больше… Эти абсолютно необходимые фразы я усвоила от доктора Роджерса – они должны звучать на любом психотерапевтическом сеансе, групповом или персональном. Благодаря ему я учусь не только считывать жесты своих пациентов, но и использовать собственный язык тела, чтобы они сразу увидели, насколько я бескорыстна и откровенна с ними, почувствовали мое доброе к ним отношение. Никогда не скрещиваю руки, не сцепляю пальцы, не закидываю ногу на ногу – так я показываю, что отношусь к ним открыто и искренне. Поддерживаю зрительный контакт, часто наклоняюсь вперед – так я навожу мосты между мной и пациентами, они должны знать, что я вся без остатка принадлежу им. В доказательство полного согласия с ними и признания их права на переживания я копирую состояние пациентов: если они беседуют тихо, я тоже говорю тихо; если они хотят злиться и кричать, я кричу вместе с ними – то есть я подстраиваю свою речь под их манеру разговора. Я подбираю способ дыхания, жестикуляцию и позы, искреннюю интонацию, манеру слушать, иными словами, конструирую модель поведения, которая будет способствовать их исцелению и укреплению моего авторитета.
Изучение трудов Селигмана и Эллиса, учеба под руководством Роджерса помогают мне, помимо всего прочего, приобрести умение внимательно слушать и обобщать все услышанное и увиденное. Опираясь на их принципы работы, извлекая из них самое важное, я формирую собственный эклектический интуитивный подход, представляющий собой когнитивно-ориентированную инсайт-терапию. Если когда-нибудь мне понадобится придумать ей название, то, наверное, выберу «терапия выбора», потому что, если мы говорим выбор[31], всегда подразумеваем «свобода». Быть свободным – это жить настоящим. Когда мы застреваем в прошлом, когда бесконечно повторяем: «И зачем только я пошла туда, а не сюда…», «И зачем только я вышла замуж за этого, а не того…» – мы живем в тюрьме, которую возводим собственными руками. Когда мы устремлены лишь в будущее, твердя как заклинание: «Я не буду счастлива, пока не окончу университет…», «Я не буду счастлива, пока не встречу нужного человека», мы живем в той же тюрьме, возведенной теми же руками. Единственный путь реализовать свою свободу выбора – это жить настоящим.
Есть специальные техники, с помощью которых мои пациенты освобождаются от ролевых ожиданий. Стоит им только прекратить подпитывать иррациональные убеждения и деструктивные поведенческие установки, державшие их в заточении, они превращаются по отношению к себе в добрых, любящих родителей и, выйдя из своей тюрьмы, обнаруживают – как достойную замену – любовь. Я подвожу пациентов к тому, чтобы они разобрались в двух вещах: что вызывает и что поддерживает их саморазрушительное поведение. Саморазрушительное (или иррациональное, или деструктивное) поведение сначала проявляется как полезное; люди поступают так или иначе, чтобы удовлетворить некую потребность, чаще всего в одной из составляющих триады: одобрение, привязанность, внимание. Как только пациенты начинают понимать, по какой причине ими усвоена та или иная модель поведения (пренебрежительное отношение к другим, влечение к агрессивным людям, голодание, переедание и т. п.), они уже могут взять на себя ответственность и решить, продолжать ли так себя вести или отказаться. Причем им под силу выбрать, от чего отказываться (потребность в одобрении, потребность ходить по магазинам, потребность быть перфекционистом и т. п.), – ведь свобода не дается просто так! Таким образом пациенты научаются больше беречь себя. В итоге они обретают формулу самоприятия: «Делать то, что я делаю и как делаю, могу только я».
Для меня усвоение установки «Делать то, что я делаю и как делаю, могу только я» означало взять верх над живущим во мне патологическим отличником, отчаянно охотящимся за очередным клочком бумаги в стремлении доказать собственную состоятельность. Это означало научиться переосмысливать свою травму, прекратить всматриваться в мучительное прошлое, чтобы находить там лишь подтверждение своей слабости и ущербности, и увидеть наконец свидетельства силы и таланта; означало признать, что существует возможность роста.
Для своей диссертации мне нужно собрать рассказы людей, переживших холокост, поэтому в 1975 году я еду в Израиль. (Бела сопровождает меня, я подумала, что его знание языков, включая идиш, которого он нахватался у клиентов в Эль-Пасо, сделает мужа бесценным спутником и переводчиком.) Я хочу разобраться в исследовании другого моего научного руководителя, профессора Ричарда Фарсона, рассмотревшего теорию личностного роста применительно к экстремальным ситуациям. В частности, он утверждает, что очень часто кризисные ситуации помогают нам становиться лучше, что они парадоксальным образом подталкивают человека к росту, хотя иногда способны уничтожить его; что опасные ситуации нередко «вынуждают людей произвести переоценку своих жизненных установок и изменить их в соответствии с новым, более глубоким пониманием собственных возможностей, идеалов и целей»[32].
Я планирую встретиться с моими собратьями по концентрационным лагерям, чтобы выяснить, как человек, испытавший в прошлом такое потрясение, не только живет дальше, но даже процветает. Каким образом, невзирая на все перенесенные муки, он выстраивает жизнь, наполненную радостями, стремлениями и страстями? Может ли сама травма стать предпосылкой для полного развития личности и дальнейшего ее совершенствования? Мне еще не приходилось прорабатывать собственные воспоминания, как когда-то советовал сделать мой друг Арпад, но я уже подступаю к этому в беседах с людьми, с которыми у меня было общее травмирующее прошлое, – мне явно удается положить начало своему излечению.
Как именно сказываются переживания катастрофических событий на повседневной деятельности моих собеседников? Я встречаюсь с оставшимися в живых, которые возвращались к учебе, которые заводили свой бизнес (как когда-то собирались мы с Белой), которые завязывали невероятно крепкие дружеские отношения, которые относились к любому будничному делу как к познанию неизведанного. В Израиле пережившим холокост совсем не просто: трудно жить там, где соседние страны относятся к тебе с ненавистью, и при этом самим не превратиться в хищников. Я встречала людей, храбро и с достоинством державшихся во время вооруженных конфликтов, по очереди ночами дежуривших в школах, чтобы пришедшие наутро дети не видели бомб. Я восхищаюсь ими, их стойкостью духа, их волей к жизни – всем тем, что дает им силы выстоять еще в одной очень долгой войне. Восхищаюсь тем, что они не позволяют чудовищному прошлому, которое несут в себе, уничтожить их завтрашний день. Выдержав заключение, испытав на себе процесс расчеловечивания, полностью растоптанные пытками и голодом, пройдя сквозь немыслимые потери, они не позволяют превратностям судьбы – ни прошлым, ни настоящим – навязывать им свои условия.
Разумеется, не все, кого мне приходилось опрашивать, живут полноценной, насыщенной жизнью. Я видела многих подавленных, безмолвных взрослых и их детей, не знавших, как относиться к родительскому молчанию и оцепенению, винивших себя за их состояние. Я встречала многих, кто так и не вышел из своего прошлого. От скольких мне приходилось слышать: «Никогда не прощу», «Вечно буду помнить». Простить – значит предать забвению и оправдать. Не для этих людей. Многие из них вынашивают мечты о мести. Мне такое ни разу не приходило в голову, но первые годы в Америке, особенно в Балтиморе, я задумывалась о встрече с моими мучителями. Исключительно ради предъявления своего счета. Чаще всего думала о Менгеле, даже хотела разыскать его в Парагвае, куда он сбежал, спасаясь от Нюрнбергского процесса. Я представляла, как под видом американской журналистки приду к нему в дом и, только когда встану лицом к лицу, назову себя.
– Я та девочка, которая танцевала для тебя. Ты погубил моих родителей. Ты погубил родителей стольких детей. Как ты мог быть таким жестоким? Ты был доктором. Давал клятву Гиппократа «не навреди». Ты хладнокровный убийца. У тебя нет совести?
Я швыряла бы комья гнева в его иссохшее, пятящееся тело, я сунула бы ему под нос его позор. Важно возлагать вину на виновных. Мы ничего не достигнем, если закроем глаза на зло, если позволим выдавать им охранные грамоты, если освободим преступников от ответственности. Но, как научили меня оставшиеся в живых, кто-то выбирает жить ради мести, обратившись к дням минувшим, кто-то выбирает жить ради полноценного дня сегодняшнего. Кто-то живет в тюрьме прошлого, а кто-то относится к своему прошлому как к трамплину, с которого можно достичь желаемой жизни.
Выжившие, с которыми мне удается встретиться, имеют одну общую со мной черту: мы не можем взять под контроль самые тяжелые факты нашей жизни, но у нас есть власть решать, какой будет наша жизнь после травмы. Выжившие могут оставаться жертвами даже после освобождения, а могут научиться вести жизнь насыщенную и яркую. В ходе моего диссертационного исследования я открыла и четко для себя сформулировала твердое мнение, которое станет краеугольным камнем моей терапии: мы можем выбирать, быть ли собственными тюремщиками или быть свободными.
Перед тем как покинуть Израиль, мы с Белой навещаем Банди и Марту Вадаш, старых друзей Белы, с которыми он должен был встретиться на перроне в Вене. Они жили в Рамат-Гане, рядом с Тель-Авивом. Этот опыт окажется болезненным: встретиться с нашей непрожитой жизнью, которую мы чуть было не выбрали. Банди по-прежнему сионист, по-прежнему интересуется политикой и готов тут же начать обсуждать готовящийся мирный договор между Израилем и Египтом, по которому Израиль должен будет вывести войска с Синайского полуострова. Он до мельчайших подробностей описывает все атаки арабов, когда они бомбили Иерусалим и Тель-Авив. Они с Белой еще долго сидят за столом, когда все уже съедено, оживленно обсуждая военную стратегию Израиля. Мужчины говорят о войне. Марта поворачивается ко мне, берет меня за руку. Ее лицо стало более пухлым, чем было в молодости, некогда рыжие волосы потускнели, в них пробивается седина.
– Эдитка, годы тебя пощадили, – говорит она со вздохом.
– Это все мамины гены, – отвечаю я. И вдруг вспышка воспоминания пронзает мозг. Мамина гладкая кожа. Призрак, преследующий меня все годы, опять возвращается. Опять меня поглощает тьма.
Марта, должно быть, заметила, что мысли мои где-то далеко.
– Прости. Я не имела в виду, что ты легко отделалась.
– Ты мне комплимент сказала, – заверяю я ее. – Ты такая, какой я всегда тебя помню. Добрая.
Родив мертвого ребенка, Марта не допустила, чтобы наша дружба распалась из-за моей здоровой малышки, – она никогда не была завистливой или жестокой. Я навещала ее тогда каждый день и всегда брала с собой Марианну. Каждый день в год ее скорби.
Она как будто читает мои мысли.
– Знаешь, в моей жизни не было ничего горше потери ребенка сразу после войны. Мне было так тяжело.
Она ненадолго умолкает. Мы сидим в тишине, в нашей общей и каждая в своей боли.
– Кажется, я никогда не благодарила тебя, – говорит она наконец. – Когда мы похоронили ребенка, ты сказала мне две вещи, которые я никогда не забывала. Первая: «Жизнь снова наладится». И еще: «Если ты переживешь это, то переживешь все что угодно». Я все время повторяла про себя твои слова.
Она достает из сумочки фотографии детей – двух девочек, которые родились в Израиле в начале 1950-х годов.
– Я была слишком напугана, чтобы пытаться снова… Но, видимо, время все-таки лечит. Я не могла остановиться в своей скорби. А потом собрала всю любовь к несуществующему ребенку, которая жила во мне, и решила, что не буду вкладывать ее в свою потерю. Я хотела вложить ее в наш брак, а потом в детей, которые будут жить.
Я сжимаю в руке ее пальцы. Возникает прекрасный образ семени. Семя моей жизни и любви было вложено в трудную почву, но оно пустило корни и проросло. Я смотрю на Белу, сидящего на другом конце стола, думаю о наших детях, о новости, которую недавно сообщила мне Марианна (она и ее муж Роб планируют завести ребенка). Новое поколение. В нем будет жить моя любовь к родителям.
– На следующий год в Эль-Пасо, – обещаем мы друг другу при расставании.
Дома я дописываю диссертацию и заканчиваю последнюю преддипломную стажировку в Медицинском центре сухопутных войск имени Уильяма Бомонта, который находится в Техасе на военной базе Форт-Блисс. Это настоящее везение – проходить и магистерскую, и докторскую стажировки в центре Уильяма Бомонта. Чтобы попасть сюда, требуется выдержать высокую конкуренцию. Завидное место, престижное назначение, которое проходили лучшие из лучших наших лекторов и преподавателей. Я еще не знаю, что главное преимущество этого места заключается в том, что работа потребует от меня заглянуть внутрь себя. Заглянуть очень глубоко.
Однажды я прихожу на работу, надеваю белый халат и бейдж с надписью: «Доктор Эгер, психиатрическое отделение». За время работы в центре я зарекомендовала себя человеком, готовым в лепешку разбиться и нарушить все должностные предписания, только чтобы напроситься на лишнее ночное дежурство, спасти чью-нибудь душу от самоубийства, забрать себе самые обескураживающие истории болезней, от которых все уже отказались.
Сегодня мне назначают двух новых пациентов, оба ветераны вьетнамской войны, у обоих паралич нижних конечностей. Диагноз один и тот же – повреждение нижнего отдела спинного мозга; один и тот же прогноз – нарушение детородной и сексуальной функций, слабая вероятность вновь встать на ноги, хорошее владение корпусом и руками. Направляясь в их палату, я еще не знаю, что встреча с одним из них будет судьбоносной. Сначала я захожу к Тому. Он лежит на кровати в позе эмбриона, проклиная Бога и страну. Выглядит как узник – узник своего искалеченного тела, своего несчастья, своего гнева.
Когда я захожу в палату другого ветерана, вижу, что Чак уже не в кровати, а сидит в инвалидном кресле.
– Любопытно, – говорит он. – Мне подарили шанс на вторую жизнь. Разве это не замечательно?
Он весь сияет при мысли о своем открытии и возможностях.
– Я сижу в этом кресле, я могу поехать на лужайку, на природу, близко к цветам. Смогу вглядываться в глаза моих детей.
Сейчас, когда я рассказываю эту историю своим пациентам и своей аудитории, всегда указываю, что каждый из нас наполовину Том, наполовину Чак. Мы сломлены под тяжестью потери и думаем, что больше никогда не отыщем ни себя, ни цели в жизни, что никогда не восстановимся. Но, несмотря на трудности и трагедии в нашей жизни – а на самом деле благодаря трудностям и трагедиям, – у каждого из нас есть возможность посмотреть на ситуацию под таким углом, что мы сразу превратимся из жертвы в победителя. Это наш выбор – взять на себя ответственность за все трудности и исцеление. Это наш выбор – быть свободными. Однако признаюсь, мне до сих пор трудно принять, что при первой встрече с Томом его ярость довольно сильно подействовала на меня.
– К черту Америку! – орет Том, когда я захожу к нему в палату в тот день. – К черту Бога!
Я понимаю, что он выпускает всю свою ярость. И его ярость вызывает во мне невероятный подъем моей ярости, потребность выплеснуть ее, отпустить. К черту Гитлера! К черту Менгеле! Каким облегчением это стало бы. Но я врач. Я обязана соответствовать роли. Производить впечатление. У меня все должно быть под контролем. Всегда есть правильное решение. И неважно, что на самом деле я хочу бить стены, вышибать двери, кричать, плакать, кататься по полу. Я смотрю на свой бейдж – «Доктор Эгер, психиатрическое отделение», и на мгновение мне кажется, что там – «Доктор Эгер, лицемерка». Какая я настоящая? Знаю ли я себя? Мне так страшно, когда возникает чувство, будто маска сейчас распадется на куски и я увижу свой надлом внутри, всю ярость, вопящую во мне. Почему я? Как такое могло случиться?! Мою жизнь бесповоротно изменили, сломали. И я в ярости.
Зрелище ругающегося Тома выглядит слишком захватывающим. Заразительно смотреть, как он открыто выражает то, что я всегда глубоко прячу. Я слишком боюсь чужого неодобрения, боюсь злости не только в другом человеке, но и в самой себе, потому что это разрушительная сила. Я не позволяла и не позволяю себе испытывать и проявлять эмоции, боясь, что если выпущу их на свободу, то никогда не смогу остановиться – и превращусь в чудовище. В этом смысле Том свободнее меня, потому что дает себе право на ярость, право выкрикивать слова, о которых я едва ли могу позволить себе подумать, не то что прокричать. Мне хочется упасть на пол и орать вместе с ним.
На сеансе терапии я робко признаюсь, что хочу попробовать это, хочу выпустить гнев, но чтобы рядом был профессионал, который сможет меня вытащить, если я застряну в своих чувствах. Я ложусь на пол. Я пытаюсь кричать, но не могу, я очень боюсь, сворачиваюсь калачиком, все крепче и крепче. Мне нужно ощутить границу вокруг, предел, нужно на что-то давить, чему-то противодействовать. Я прошу моего терапевта сесть на меня. Он тяжелый, я задыхаюсь под его весом. Мне кажется, что я сейчас отключусь. Я готова бить пол, умолять его отпустить меня, бросить этот глупый эксперимент. Но потом из меня исходит крик – долгий, громкий, мучительный. Я даже пугаюсь: какое искалеченное, жуткое существо способно его издавать? Но остановить этот звук я уже не могу. Мне это нравится. Призраки, молчавшие больше тридцати лет, с ревом выходят из меня, на полную громкость извергая мою тоску. Я отрываюсь по полной. Я кричу, кричу, сталкиваю давящий на меня груз. Мой терапевт не поддается, от напряжения я плачу, плачу и обливаюсь потом.
Что происходит? Что происходит, когда я выпускаю на свободу столь долго отрицаемую, лишенную права голоса часть меня?
Ничего не происходит.
Я чувствую силу гнева, но он меня не убивает.
Я в порядке. Я в порядке. Я живая.
Мне все еще нелегко говорить о прошлом. Всякий раз, когда я вспоминаю или рассказываю о нем, мне становится очень больно. Больно снова натыкаться на страх, снова нести потери. Но с того момента я понимаю, что, какими бы сильными ни казались мне мои чувства, они не фатальны. Они конечны. Если их подавлять, сложнее будет отпускать на свободу. Проживать эмоции – прямая противоположность депрессии.
Для нашей семьи 1978 год триумфальный. Мой сын Джон оканчивает Техасский университет, он в десятке лучших выпускников. Я получаю степень доктора клинической психологии. И принимаю решение получать лицензию в Калифорнии, поскольку это труднее всего (опять надеваю красные башмачки!). Так я снова удовлетворяю эгоистическую потребность в очередной раз доказать свою значимость (будто кусок красивой бумаги в состоянии это сделать!). Помимо прочего, калифорнийская лицензия дает полезное преимущество: с ней я могу практиковать по всей стране. Помню, сколько усилий потратил Бела, чтобы получить свой диплом, и морально готовлюсь к тяжелому путешествию.
Чтобы быть допущенной к экзамену, мне нужно отработать в клинике три тысячи часов, но я в два раза перевыполняю норму. Даже не записываюсь на экзамен, пока не набираю шесть тысяч – то есть почти все часы в центре Уильяма Бомонта, где обо мне складывается настолько хорошее мнение, что меня просят проводить сеансы за односторонним зеркалом, чтобы мои коллеги наблюдали, как я налаживаю взаимопонимание, устанавливаю доверительные отношения и подвожу пациентов к возможности сделать собственный выбор. Затем наступает время письменного экзамена. Я не выношу заданий с несколькими вариантами ответов – мне несколько месяцев пришлось потратить на учебу, чтобы сдать экзамен на водительские права. Однако каким-то образом, благодаря настойчивости, а может быть чистой удаче, я сдаю письменный экзамен. Но не с первой попытки.
Мне остается сдать только устный экзамен, который, как я ожидаю, будет из всех самым легким. Спрашивают двое мужчин: у одного волосы забраны в хвост и он носит синие джинсы; второй в костюме и коротко подстрижен. Они мучают меня несколько часов. Мужчина с длинными волосами говорит резко, кратко, задает вопросы по статистике, этике и положениям закона. Мужчина с короткой стрижкой задает только философские вопросы, которые мне нравятся больше, так как требуют творческого подхода. Однако в общем и целом это неприятный опыт. Я чувствую себя зажатой и уязвимой. Экзаменаторы не позволяют расслабиться: их бесстрастные лица, холодные голоса и эмоциональная отстраненность создают отталкивающее впечатление. Трудно сосредоточиться на новом вопросе, когда после каждого предыдущего я барахтаюсь в паутине самоуничижения, желании вернуться назад и исправить уже сказанное, произнести что угодно, только бы вызвать у них кивок признания и одобрения. Когда экзамен наконец заканчивается, у меня кружится голова, дрожат руки, мне ужасно хочется есть и в то же время меня тошнит. Я почти уверена, что не пройду.
Уже находясь у входной двери, я слышу шаги за своей спиной, кто-то бегом догоняет меня. Я забыла взять сумочку? Ведь я так подавлена. Они уже готовы сказать мне, что я провалилась?
– Доктор Эгер, – зовет мужчина с короткой стрижкой.
Я собираюсь с духом, как будто ожидаю наказания. Он подходит, молчит, восстанавливая дыхание. Я сжимаю зубы, плечи напрягаются сами. Наконец мужчина протягивает руку.
– Доктор Эгер, вы оказываете нам честь. У вас богатейшие познания. Вашим будущим пациентам очень повезло.
Я возвращаюсь в гостиницу и прыгаю на кровати, как маленькая девочка.
Глава 16. Выбор
Восторг и энтузиазм, которые я испытываю, удовлетворенность от получения сертификата, подтверждающего мою профессиональную состоятельность, ощущение, что я наконец смогла воплотить и выразить себя настоящую, – весь этот щенячий пыл мгновенно схлопывается, когда я приступаю к частной практике и встречаюсь со своим первым пациентом. Я навещаю его в больнице, где он лежит месяц в ожидании диагноза; правда, ему уже назначили лечение – как позднее выяснится – от рака желудка. Он в ужасе. Чувствует себя преданным своим телом, все-таки оно действительно оказалось смертным и стало для него реальной угрозой. Он подавлен из-за неопределенности и накрывшего его одиночества. Сквозь такую бездну прорваться я не могу. Куда делись мои практические навыки, мои профессиональные техники? Ведь я умею создавать теплую, доверительную атмосферу, а как я навожу мосты между собой и пациентами. Все улетучивается. Я чувствую себя ребенком, почему-то напялившим белый докторский халат. Фальшивкой. Мои ожидания от себя так высоки, страх провала так силен, я настолько поглощена собственным состоянием, что не в силах преодолеть личный эгоцентризм и постараться достучаться до человека, который нуждается в моей помощи и любви. «Я выздоровею… когда-нибудь?» – спрашивает он, и мой мозг начинает крутиться в режиме картотеки: замелькали теории, методики, техники – взглядом упираюсь в стену, стремясь скрыть, насколько нервничаю и боюсь.
Я не помогу ему. Больше он не позовет меня. После этого случая – как и в тот судьбоносный момент, когда я впервые вошла в палату к Тому, парализованному ветерану войны, – я усваиваю раз и навсегда: мою профессиональную деятельность следует определять моим внутренним состоянием – но не той маленькой отличницы, которая пытается угодить другим и завоевать их одобрение, а той, кто уязвим и пытлив, кто принимает себя и готов к развитию. Следовательно, моя работа с пациентами будет осуществляться за счет внутренних ресурсов моей личности – цельной, подлинной и самобытной.
Иными словами, я начинаю по-новому выстраивать отношения со своей травмой. Нет нужды ни замалчивать ее, ни подавлять, ни избегать, ни отрицать. Моя травма становится колодцем, из которого я черпаю логическое и интуитивное понимание переживаний моих пациентов; моя травма – это глубокий источник познаний об их боли и путях к излечению. Частная практика, в первые ее годы, помогает мне переосмыслить свою душевную боль как что-то необходимое и полезное, а также сформировать и развить терапевтические принципы, выдержавшие проверку временем. Во многих случаях пациенты, с которыми я уже заканчиваю работать, постигая собственные пути к свободе, делают буквально те же шаги, что приходилось совершать мне. В равной степени они дают понять, насколько еще далек от завершения мой поиск освобождения, – и задают вектор дальнейшего моего излечения.
Эмма – идентифицированный пациент[33], тем не менее я сначала встречаюсь с ее родителями. Они никогда ни с кем, тем более с посторонними, не говорят о своей семейной тайне: их старший ребенок Эмма пытается уморить себя голодом. Это консервативная немецко-американская семья: сдержанные, необщительные люди с изнуренными от вечного беспокойства лицами, с глазами, полными страха.
– Мы ищем практические решения, – говорит мне отец Эммы при первой встрече. – Мы должны заставить ее снова начать есть.
– Мы слышали, что вы бывший узник концлагеря, – добавляет мать Эммы. – Думаем, может быть, Эмма что-то узнает от вас, а вы сможете вдохновить ее.
Душа разрывается при виде их панического страха за жизнь Эммы, при виде их смятения. Ничто в жизни не предвещало, что у них будет ребенок с нарушением пищевого поведения; они никогда не думали, что что-то подобное может случиться с их дочерью в их семье. Ни один из известных методов воспитания, ни один из существующих родительских подходов не оказал благоприятного воздействия на ее здоровье. Мне хочется обнадежить их. Хочется облегчить их страдания. Но вместе с тем я хочу, чтобы родители начали видеть правду: они тоже к этому причастны – наверное, признать это окажется более мучительным, чем даже болезнь дочери. Когда в семье ребенок страдает анорексией, идентифицированным пациентом становится ребенок – но реальным пациентом является семья.
Они хотят рассказать, что их больше всего беспокоит, обрисовать мне во всех подробностях поведение дочери: еда, которую она отказывается есть или делает вид, что ест; еда, которую они находят после семейных обедов завернутой в полотняные салфетки; еда, которой забиты ящики ее комода; то, как она отдаляется от них, как уходит в себя, запирает дверь в свою комнату. Описывают пугающие изменения в ее теле. Но я прошу рассказать о них самих, что доставляет им явное неудобство.
Отец Эммы – невысокий, крепко сбитый мужчина. Как я узнала, в прошлом он был профессиональным футболистом. Мне тревожно сознавать, что отец немного напоминает Гитлера: жидкие усики, темные прилизанные волосы, несколько лающая манера говорить, будто за каждым его сообщением стоит настойчивая потребность быть услышанным. Позже я буду проводить индивидуальные сеансы с обоими родителями Эммы и тогда спрошу его, почему он решил выбрать профессию полицейского. Он расскажет, что в детстве хромал и отец дразнил его коротышкой-хромоножкой. Тогда он решил стать полицейским, потому что эта профессия связана с постоянным риском и требует физической силы; он хотел доказать отцу, что он не коротышка и не калека. Когда человеку требуется что-то доказывать, он несвободен. Во время нашей первой встречи я еще ничего не знаю о детстве отца Эммы, но вижу, что он живет в тюрьме, которую сам для себя соорудил: внутри ограниченного представления о том, каким он должен быть. Ведет он себя скорее как инструктор по боевой подготовке, а не как заботливый муж и любящий отец. Он не задает вопросов – он ведет допрос. Он не признает своих страхов, не считает себя уязвимым – он самоутверждается.
Его жена, одетая в простое хлопчатобумажное платье на пуговицах спереди и с тонким поясом, которое выглядит одновременно и модным, и практичным, кажется слишком подчеркнуто настроенной на волну своего мужа: она улавливает малейшие изменения в его интонациях. Несколько минут он говорит о своих неудачах на работе, рассказывая, как его не повысили в должности. Я вижу, что жена виртуозно лавирует, то безоговорочно поддерживая его возмущение, то осторожно гася слишком яростные вспышки гнева. Она явно давно усвоила, что муж должен быть во всем правым, что он не потерпит, если ему начнут возражать. Во время нашей персональной встречи меня впечатляет ее смекалка: эта женщина стрижет лужайку, многое делает по ремонту дома, сама шьет себе одежду и в то же время всю власть отдает мужу, но кажущееся противоречие между ее бесправным положением и навыками крепкой хозяйки лишь та цена, которую она платит за мир в семье. Для самочувствия дочери и здоровых домашних отношений привычка матери любыми средствами избегать конфликта с мужем так же опасна, как и деспотическое поведение отца семейства. Вместе они умеют только контролировать: ни матери, ни отцу неведомы ни сочувствие, ни бескорыстная любовь – то, что формирует семейную атмосферу.
– Все это напрасная трата времени, – говорит наконец отец Эммы во время нашей первой встречи, после того как отвечает на мои вопросы о работе, семейном распорядке и привычках проводить праздники. – Просто скажите нам, что делать.
– Да, просто скажите нам, как заставить Эмму являться к столу во время обеда, – умоляет мать. – Скажите, как заставить ее есть.
– Я вижу, насколько вы обеспокоены состоянием Эммы. Вижу, как отчаянно ищете ответы и нуждаетесь в решении своей проблемы. Могу вам сказать точно: если вы хотите, чтобы Эмма стала здоровой, ваша первая задача – понять, что при анорексии проблема не только в том, когда Эмма начнет есть, – она скорее в том, что съедает ее.
Я поясняю, что не смогу просто починить ее и вернуть им абсолютно здоровую дочь. Предлагаю стать на время моими коллегами и помочь понаблюдать за Эммой, но не с целью заставлять ее что-то делать или кем-то быть, а просто обращать внимание на ее эмоциональное состояние и поведение. Вместе мы сможем составить более четкую картину ее эмоциональной палитры и ознакомиться с психологическими аспектами болезни. Заручившись их поддержкой и содействием, я надеюсь подвести родителей к пониманию их роли в появлении болезни. Я хочу вплотную приблизить их к мысли, что за пищевое поведение Эммы несут ответственность только они.
На следующей неделе я впервые встречаюсь с Эммой. Ей четырнадцать лет. И она похожа на привидение. Выглядит как некогда я в Аушвице: скелетоподобная, бледная. Она истощена. В обрамлении длинных, свисающих светлых волос ее лицо кажется совсем прозрачным. Она стоит в дверях моего кабинета, слишком длинные рукава кофты полностью скрывают кисти рук. Эмма похожа на человека, который несет в себе некую тайну.
При знакомстве с новым пациентом важно с самых первых минут чутко ощутить его психологические границы. Я должна мгновенно почувствовать, хочет ли человек, чтобы его взяли за руку, или ему необходима дистанция, нужен ли этому человеку приказ или можно обойтись деликатным советом. Для пациента с анорексией решающее значение имеют буквально первые секунды, поскольку его болезнь целиком держится на регламентации, на безжалостных правилах, что и когда ему есть или не есть, что он раскрывает или скрывает. Начнем с того, что при анорексии неизбежно проявляются физиологические признаки. Из-за недостатка питательных веществ в организме и оттого, что основная масса калорий уходит на поддержание элементарных функций (дыхание, выделение), мозг не получает достаточного притока крови, приводя к искаженному мышлению, а в отдельных случаях – к паранойе. Начиная лечение человека с анорексией, я как психолог обязана помнить, что имею дело с пациентом, у которого, скорее всего, уже запущен процесс нарушения когнитивных функций. Обычный жест – положить руку на плечо, подвести к удобному креслу или дивану – легко может быть принят за проявление угрозы и даже агрессии. Приветствуя Эмму, стараюсь сделать так, чтобы мои жесты выглядели нейтральными, но при этом участливыми. Поскольку человек с анорексией мастерски умеет все регламентировать, важно сразу умиротворить его, предлагая чувствовать себя свободно и таким образом нейтрализуя потребность все держать под контролем. В то же время принципиально важно создать формализованную обстановку, в которой безопасность пациента будет обусловлена четкими правилами и ритуалами.
Я уже знакома с ее родителями и знаю, что семейная атмосфера перенасыщена критическими замечаниями и обвинениями, поэтому начинаю сеанс с похвалы.
– Спасибо, что пришла. Я очень рада наконец лично с тобой познакомиться. И спасибо, что пришла точно вовремя.
Эмма предпочитает устроиться на диване, я сообщаю ей, что вся беседа строго конфиденциальна, за исключением случаев, если ее жизни будет угрожать опасность. И потом мягко, без нажима предлагаю поговорить.
– Знаешь, твои родители очень беспокоятся о тебе. Мне интересно узнать, что происходит на самом деле. Есть что-то такое, что ты хотела бы мне рассказать?
Эмма не отвечает. Она смотрит на ковер, сильнее растягивая рукава кофты.
– Можно молчать, – говорю я.
Между нами сплошная тишина. Я жду. Жду еще немного.
– Знаешь, – говорю я через некоторое время, – все нормально, ты спокойно молчи столько, сколько тебе захочется. А я пойду пока немного поработаю с бумагами. Я буду в соседней комнате. Дай знать, когда будешь готова.
Она с подозрением смотрит на меня. В семьях с суровой дисциплиной дети привыкают слышать угрозы, и эти угрозы либо быстро становятся более жесткими, либо оказываются пустыми. Хотя я говорю ласково, Эмма пытается найти в моих словах и тоне намек на агрессивную критику или упреки, ей важно понять, уйду ли я из комнаты в самом деле или просто хочу ее обмануть.
Думаю, ее удивляет, когда я просто встаю, пересекаю комнату и открываю дверь. И только когда моя рука ложится на дверную ручку, Эмма начинает говорить:
– Я готова.
– Спасибо. – Я вернулась на свое место. – Рада это слышать. У нас еще сорок минут. Давай проведем их с пользой. Ты не против, если я задам тебе несколько вопросов?
Она пожимает плечами.
– Расскажи мне про свой обычный день. Когда ты просыпаешься?
Она закатывает глаза, но на вопрос отвечает. Я продолжаю в том же ключе. У нее радиобудильник или часы с будильником? Может быть, мама с папой приходят ее будить? Нравится ей валяться в кровати под одеялом или сразу вскакивать с постели? Я задаю самые обычные вопросы, подбираясь к сути повседневной жизни, – но ни один из вопросов не связан с едой. Для человека с анорексией очень трудно обращать внимание на что-то кроме еды. От родителей Эммы я уже знаю, что ее зацикленность на еде имеет огромное влияние на семью, что все их внимание сосредоточено на ее болезни. У меня складывается ощущение, что она ожидает, когда я начну интересоваться только ее болезнью. Своими вопросами я пытаюсь сместить фокус ее внимания на другие стороны жизни, а также ослабить или хотя бы смягчить защитные механизмы.
Когда мы обсудили обычный день Эммы, я задаю вопрос, на который она не знает ответа.
– Что ты любишь делать?
– Я не знаю.
– Какие у тебя увлечения? Чем ты любишь заниматься в свободное время?
– Я не знаю.
Я подхожу к доске, которая есть у меня в кабинете, и пишу на ней: «Я не знаю». Пока я задаю другие вопросы: ее интересы, увлечения, желания, – я ставлю каждый раз галочку при ответе «я не знаю».
– О чем ты мечтаешь в жизни?
– Я не знаю.
– Если ты не знаешь, то догадайся.
– Я не знаю. Я подумаю.
– Многие девочки в твоем возрасте пишут стихи. Ты пишешь стихи?
Эмма пожимает плечами.
– Иногда.
– Кем ты хотела бы стать через пять лет? Какая жизнь тебе могла бы понравиться? Какая работа?
– Я не знаю.
– Я заметила, ты довольно часто повторяешь слова «я не знаю». Но меня огорчает, что это «я не знаю» – единственный ответ, который приходит тебе на ум. Вероятно, ты сама не знаешь, какие варианты у тебя есть. А без вариантов выбора, по сути, ты не живешь. Можешь кое-что для меня сделать? Можешь взять эту ручку и нарисовать мне картинку.
– Наверное.
Она подходит к доске. Из рукава высовывается тонкая кисть. Берет ручку.
– Нарисуй себя, прямо сейчас. Какой ты себя видишь?
Она снимает колпачок, плотно сжимает губы, быстро рисует. Отходит, давая мне возможность рассмотреть рисунок. Низенькая толстая девочка с абсолютно бессмысленным лицом. Контраст душераздирающий: похожая на скелет Эмма рядом с пустым толстым изображением.
– Помнишь ли ты время, когда ощущала себя иначе? Когда ты чувствовала себя счастливой, красивой и веселой?
Думает довольно долго. Но не говорит «я не знаю». Наконец кивает.
– Когда мне было пять.
– Можешь нарисовать ту счастливую девочку?
Когда она отходит от доски, я вижу танцующую, кружащуюся девочку в балетной пачке. Чувствую, как в спазме узнавания сжимается горло.
– Ты занималась балетом?
– Да.
– Мне хотелось бы больше узнать об этом. Как ты себя чувствовала, когда танцевала?
Она закрывает глаза. Я вижу, как ее пятки сдвинулись в первой позиции. Это движение неосознанное – память тела.
– Что ты чувствуешь сейчас, когда вспоминаешь? Можешь назвать это чувство?
Она кивает, по-прежнему с закрытыми глазами.
– Свобода.
– Ты хотела бы снова ощутить себя такой? Свободной? Полной жизни?
Она кивает. Кладет ручку и снова натягивает рукава на кисти рук.
– А как голодание приближает тебя к твоей цели быть свободной? – спрашиваю я так тепло, так по-доброму, как только могу. Это не обвинение. Это попытка подвести Эмму к пониманию ее самосаботажа и того, как далеко она уже зашла. И попытка помочь ей ответить на самые важные вопросы, стоящие в самом начале любого пути к свободе: «Что я сейчас делаю? Это помогает мне? Это приближает меня к цели или уводит от нее?» Эмма не ответит вслух на мой вопрос. Но по ее полному слез молчанию я чувствую, как она нуждается в переменах и хочет их.
Когда я в первый раз встречаюсь с ними тремя, Эммой и родителями, я радостно приветствую их.
– У меня очень хорошие новости! – говорю я.
Я делюсь с ними надеждой и уверенностью в том, что они могут работать в команде. Вношу свой вклад в командные условия, договариваясь, что Эмму будут наблюдать медики из клиники для больных с расстройством пищевого поведения, поскольку анорексия – опасное, потенциально смертельное состояние. Если вес Эммы снизится до того уровня, который будет определен в ходе врачебной консультации в клинике, ее придется госпитализировать.
– Я не могу допустить, чтобы ты лишилась жизни из-за того, что можно предотвратить, – говорю я Эмме.
Через месяц или два после того, как я начинаю работать с Эммой, ее родители приглашают меня на семейный обед. Я знакомлюсь с их остальными детьми. Замечаю, что мать представляет каждого своего ребенка вместе с характеристикой: это Гретхен – она застенчивая, это Питер – он смешной, это Дерек – он ответственный. (Эмму мне представили намного раньше – больная.) Какую роль детям отведешь, такую они и будут играть. Именно поэтому я часто спрашиваю своих пациентов: «Какой у вас был входной билет в семье?» (В моем детстве Клара была гением, Магда – бунтаркой, я – конфиденткой. Удобнее всего для своих родителей я становилась, когда была слушателем, вместилищем их чувств – незаметным вместилищем.) Разумеется, за столом Гретхен стесняется, Питер забавен, а Дерек чувствует свою ответственность.
Мне хочется увидеть, что будет, если я сломаю стереотипы и предложу кому-нибудь из детей другую роль.
– Знаешь, – обращаюсь я к Гретхен, – у тебя такой красивый профиль.
Мать Эммы пинает меня под столом.
– Не говорите так. – Она едва шевелит губами. – Дочь загордится.
После ужина, пока мать Эммы прибирается в кухне, Питер, только недавно научившийся ходить, дергает ее за юбку, ища внимания. Она лишь отмахивается от него, но ребенок требует, чтобы она взяла его на руки, его поведение становится все более исступленным. Наконец он выходит из кухни и направляется к кофейному столику, на котором стоят фарфоровые безделушки. Мать бежит за ним, хватает, несколько раз шлепает, приговаривая: «Сколько раз я тебе говорила не трогать здесь ничего?!»
Подход к дисциплине в формате «розги пожалеешь – ребенка испортишь» создает атмосферу, в которой дети получают только негативное внимание (но в конце концов и плохое внимание лучше, чем никакое). Жесткие условия, черно-белая схема правил и ролей, отведенных детям, ощутимое напряжение между родителями – все создает в доме атмосферу эмоционального голода.
Я теперь вижу своими глазами, как отец Эммы выражает ей крайне неуместное внимание.
– Привет, красотка, – говорит он, когда она присоединяется к нам в гостиной после обеда. Я вижу, как Эмма вжимается в диван, стараясь спрятаться. Контроль, суровая дисциплина, эмоциональный инцест – неудивительно, что Эмма умирает среди изобилия.
Как и любой семье, Эмме и ее родителям нужны правила, но крайне отличные от тех, которых они придерживаются. Именно поэтому я помогаю Эмме и ее родителям выработать семейную конституцию – список правил, которые будут способствовать улучшению атмосферы в доме. Прежде всего они обсуждают поведенческие модели, не приносящие успеха. Эмма рассказывает родителям, как сильно ее пугают их крики и обвинения, как обидно бывает, когда в последний момент меняются правила и задания: в котором часу ей приходить домой, какие дела по дому сделать прежде, чем смотреть телевизор. Отец признается ей, как одиноко чувствует себя в своей семье: ему кажется, будто он один занимается воспитанием детей. Любопытно, что мать говорит почти то же самое. От списка нежелательных привычек и моделей поведения – от чего они хотели бы отказаться – мы постепенно перешли к составлению короткого списка того, с чего они хотели бы начать.
1. Вместо того чтобы обвинять других – брать ответственность за свои поступки и слова. Перед тем как что-нибудь сказать или сделать, спросить у себя: «Это не обидит? Это важно? В этом есть смысл?»
2. Для общих целей работать в команде. Если нужно убрать дом, каждый член семьи получает работу в соответствии с возрастом. Если вся семья идет в кино, все вместе выбирают фильм или выбирают по очереди. Думать о семье как о машине, где все колеса взаимосвязаны и все вместе везут машину в пункт назначения, – ни одно колесо не мешает другим колесам и не ограничивает их, ни одно колесо не везет всю машину в одиночку.
3. Придерживаться плана. Если распорядок уже согласован, правила нельзя менять в последний момент.
В общих чертах конституция семьи Эммы направлена на отказ от тотального контроля.
Я работаю с Эммой два года. За это время она проходит амбулаторный курс в клинике для пациентов с расстройством пищевого поведения и перестает играть в школьной футбольной команде (отец заставил ее, когда Эмма перешла в среднюю школу). Возвращается в балетный класс, а потом начинает учиться танцу живота и сальсе. Творческое самовыражение, радость, которая наполняет ее, когда она танцует в ритм музыке, дают возможность полюбить свое тело, и ее самовосприятие становится более здоровым. Ближе к концу нашей терапии, когда ей исполняется шестнадцать, в школе она знакомится с мальчиком и влюбляется. Эти отношения дают ей новый стимул жить и быть здоровой. К тому времени, когда мы завершаем наш курс лечения, ее тело восстанавливается, волосы выглядят густыми и блестящими. Она становится реальной версией своей картинки кружащейся, танцующей девочки.
Летом, после того как Эмма заканчивает первый год в старшей школе, ее родители приглашают меня на барбекю. Они накрывают замечательный стол: мясо, фасоль, немецкий картофельный салат, домашние роллы. Эмма стоит со своим парнем, накладывает на тарелку еду, смеется, кокетничает. Ее родители, сестра, братья, друзья – все рассаживаются на траве или на раскладных стульях и принимаются за еду. В этой семье еда больше не говорит о плохом. Родители Эммы, хотя и не изменили полностью свою манеру общения с детьми и друг с другом, научились давать Эмме то, что она научилась давать себе, – личное пространство и доверие, возможность искать свой путь в счастливую жизнь. Избавившись от страха за Эмму, они находят в себе силы, чтобы жить собственной жизнью. Каждую неделю они собираются с друзьями на всю ночь поиграть в бридж, их жизнь уже свободна от того гнетущего беспокойства, от гневных выпадов и потребности контролировать каждого ребенка, что так долго отравляло их семью.
Я рада, что пришла к ним в гости и вижу своими глазами: возвращение Эммы к самой себе завершено. Я чувствую облегчение. Путь, который проходит эта девочка, заставляет меня задуматься о себе. Об Эди. Могу ли я отождествить себя со своей внутренней танцующей девочкой? Остались ли в моей жизни ее любопытство и восторженность? Примерно в то время, когда заканчивается лечение Эммы, моя первая внучка Линдси, дочка Марианны, начинает ходить в детский балетный класс. Марианна присылает фотографию Линдси в маленькой розовой пачке, ее пухлые ножки обуты в крошечные розовые пуанты. Я плачу, глядя на эту фотографию. Скорее всего, слезами радости. Но в груди живет боль, связанная с потерей. С этого момента я могу представить дальнейшую жизнь Линдси: ее выступления, школьные концерты; разумеется, она продолжит обучение и каждую зиму девочкой и подростком будет танцевать в «Щелкунчике». Радость, что я испытываю за нее в предвкушении всего ей предстоящего, неотделима от горечи, с которой я думаю о собственной прерванной жизни. Мы скорбим не только по тому, что имело место быть, – мы скорбим по тому, что не случилось. Внутри меня год ужаса. И еще осталось вакантное, пустое место для той огромной жизни, которой никогда не было. Я несу в себе и боль, и несбыточность, я не могу отпустить ни кусочка своей правды, но и держать ее в себе нет больше сил.
Еще одно зеркало и еще одного учителя я обретаю в Агнес, с которой знакомлюсь в штате Юта, в оздоровительном центре, где у меня встреча с женщинами, перенесшими рак груди. Я рассказываю им, как важно заботиться о себе, чтобы избежать рецидива. Агнес молода, ей около сорока лет, у нее длинные черные волосы, которые она убирает в пучок. Носит свободное платье нейтрального оттенка, застегнутое на все пуговицы до самой шеи. Возможно, если бы она не была первой в очереди на частную консультацию в моем номере в отеле, я вообще не заметила бы ее. Она держится в тени. Даже когда стоит прямо передо мной, под одеждой едва можно различить очертания ее тела.
– Простите, – говорит она, когда я открываю дверь и приглашаю ее войти. – Я уверена, есть другие люди, которые в большей степени заслуживают вашего внимания.
Я предлагаю ей сесть на стул у окна и наливаю стакан воды. Кажется, мое обычное, просто вежливое, поведение смущает ее. Она садится на самый край стула и крепко сжимает стакан, держа его перед собой, будто если сделает глоток, то этим оскорбит мое гостеприимство.
– Мне действительно не нужен целый час. Я просто быстро задам вопрос.
– Да, дорогая. Скажите мне, чем я могу вам помочь.
Она говорит, что кое-что заинтересовало ее в моей лекции. На ней я поделилась старой венгерской присказкой, которую запомнила еще с детства: «Не вдыхай грудью гнев». Я рассказывала о чувствах, которые держала в себе в течение жизни: про свою злость, свое убеждение, что мне нужно добиваться одобрения людей, и свое ощущение, что все равно никогда не заслужить мне ничьей любви, что бы я ни делала для этого. Тогда, на лекции, я предложила женщинам спросить себя: «За какие чувства и убеждения я держусь? Хочу ли я их отпустить?» Сейчас Агнес спрашивает меня:
– Как узнать, есть ли какие-то убеждения, за которые держишься?
– Замечательный вопрос. Когда мы говорим о свободе, нет никаких универсальных рецептов. У вас есть какие-нибудь догадки? Ваша интуиция не говорит вам, что внутри есть что-то, что пытается привлечь ваше внимание?
– Сон.
Она рассказывает, что с тех пор, как несколько лет назад ей диагностировали рак, и даже теперь, когда болезнь находится в состоянии ремиссии, ей все время снится один и тот же сон. В нем она готовится к хирургической операции. Она надевает синий костюм и маску. Убирает длинные волосы под одноразовую шапочку. Стоит у раковины, трет и трет руки.
– А кто пациент?
– Не знаю. Всегда разные люди. Иногда это мой сын. Иногда муж или дочь или кто-то из прошлого.
– Почему вы проводите операцию? Какой диагноз у пациента?
– Я не знаю. Думаю, он меняется.
– Что вы чувствуете, когда проводите операцию?
– Мои руки как будто в огне.
– А как вы себя чувствуете, когда просыпаетесь? Вы полная сил или уставшая?
– По-разному. Иногда хочу дальше спать, чтобы продолжить работу, операция еще не завершена. Иногда грустно и тяжело, как будто все было напрасно.
– Как вы думаете, о чем этот сон?
– Когда-то я хотела пойти учиться на медика. После старшей школы я думала поступать в университет. Но нужно было платить за повышение квалификации мужа, потом появились дети, а потом рак. Никак не получалось найти время. В связи с этим я решила поговорить с вами. Думаете, мне снится этот сон, потому что теперь я должна получить медицинское образование, уже в таком возрасте? Или вам кажется, что сон о другом: пора мне наконец оставить мечту стать врачом?
– Что вас привлекает в медицине?
Она думает, прежде чем ответить.
– Помогать людям. Еще узнавать, что происходит на самом деле. Находить правду. Узнавать глубинные причины болезней и решать проблемы.
– В жизни нет ничего абсолютного – как и в медицине. Как вы знаете, болезни лечат по-разному. Боль, операция, медикаменты, физиологические изменения, перепады настроения. И нет гарантии выздоровления. Что помогает вам жить с раком? Какие истины и убеждения вывели вас из болезни?
– Не быть обузой. Я не хочу, чтобы моя боль мешала кому-то еще.
– Какой вы хотите, чтобы вас запомнили?
В серых глазах стоят слезы.
– Хорошим человеком.
– Что значит для вас хороший?
– Отдающий. Великодушный. Добрый. Бескорыстный. Делающий то, что правильно.
– Может ли хороший человек когда-нибудь жаловаться? Или злиться?
– Это не мои ценности.
Она напоминает меня – еще до того, как парализованный ветеран поставил меня лицом к лицу с моей яростью.
– Гнев – это не ценность, – говорю я Агнес. – Это чувство. Его наличие не означает, что вы плохая. Оно просто говорит, что вы живая.
Мои слова ее явно не убеждают.
– Я хотела бы, чтобы вы попробовали одну технику, – продолжаю я. – Упражнение. Вам нужно будет вывернуть себя наизнанку. То, что вы обычно держите в себе, нужно вывести наружу, а то, от чего обычно избавляетесь, придержать.
Я беру блокнот из гостиничного канцелярского набора и протягиваю ей вместе с ручкой.
– На каждого близкого члена вашей семьи есть одно предложение. Я хочу, чтобы вы написали то, что никогда не говорите этим людям. Это может быть желание, секрет или сожаление, может быть что-то незначительное, например: «Я хочу, чтобы ты клал носки в корзину с грязным бельем». Единственное правило – это должно быть что-то, о чем вы никогда не говорите вслух.
Она улыбается слабой, нервной улыбкой.
– Вы хотите, чтобы я все-таки сказала это?
– Вы сами решите, что вам с этим делать. Вы можете порвать эту бумажку на мелкие кусочки и смыть в унитаз или сжечь. Я просто хочу, чтобы эти фразы перешли из вашего тела хотя бы на бумагу.
Молча сидит несколько минут, потом начинает писать. Несколько раз что-то вычеркивает. Наконец поднимает глаза.
– Как вы себя чувствуете?
– Слегка ошарашенно.
– Растерянно?
– Да.
– Значит, пора наполнять вас заново. Тем, что вы обычно отдаете другим. Вы должны вернуть в себя всю любовь, внимание и заботу.
Я прошу ее представить, как она становится такой маленькой, такой крошечной, что может забраться себе в ухо. Затем она должна проползти по каналу в гортань и пищевод, до самого желудка. Пока она путешествует внутри, я прошу ее прикладывать крошечные любящие ручки к каждой части тела. К легким, к сердцу. К позвоночнику, к каждой связке и мышце внутри рук и ног. Я учу ее накладывать сострадательные руки на каждый орган, мышцу, кость, кровеносный сосуд.
– Распространите любовь везде. Будьте собственным уникальным, самым добрым покровителем.
Ей требуется некоторое время, чтобы настроиться, отвлечься от внешних факторов. Она по-прежнему ерзает на стуле, смахивает со лба прядь волос, покашливает. Затем ее дыхание становится глубоким и замедленным, она перестает двигаться. Погрузившись в себя, она полностью расслабляется, на лице безмятежность. Еще не выводя Агнес обратно из ушного канала, я спрашиваю, есть ли что-то, чем она хочет поделиться со мной, какие-нибудь чувства, новые ощущения.
– Я думала, тут будет очень темно. А здесь столько света.
Через несколько месяцев Агнес звонит мне со страшной новостью: ремиссия закончилась. Рак вернулся и быстро прогрессирует. «Не знаю, сколько у меня времени», – признается она.
Агнес говорит, что хочет каждый день делать упражнение на погружение в себя, чтобы избавиться от неизбежного гнева и страха, которые испытывает, и наполнить себя вновь любовью и светом. Она говорит, что как ни парадоксально, но чем чаще она рассказывает в кругу своей семьи об отрицательных эмоциях, тем больше благодарности ощущает. Она призналась своему мужу, как обидно ей было, когда он поставил свою карьеру на первое место. Разговор по душам помог ей осознать, что бессмысленно цепляться за обиды, она поняла, что теперь отчетливее видит, как он помогал ей на протяжении всего брака. Она осознала, что может простить его. В общении с сыном-подростком она не утаивает свой страх перед смертью, ни в чем не заверяет его. Открыто говорит о неопределенности болезни и сроках жизни. Объясняет ему, что иногда ни в чем нельзя быть уверенным. Своей дочери, которая еще учится в средней школе, она рассказывает, как злится из-за того, что столько всего пропустит: не узнает о ее первом свидании, не увидит, как она открывает пригласительное письмо из колледжа, не поможет ей надеть подвенечное платье. Она не подавляет свой гнев как неприемлемую эмоцию. Она может увидеть то, что скрывается за ним: глубину и волнение своей любви.
Когда звонит ее муж и говорит, что Агнес умерла, он добавляет: «Я всегда буду жить с этой скорбью, но ее уход был мирным». За последние месяцы ее жизни любовь в семье сильно укрепилась. Она научила остальных искренне относиться друг к другу. Я вешаю трубку и плачу. Никто не виноват, но прекрасный человек ушел слишком рано. Это нечестно. Это жестоко. И эта ситуация заставляет меня задуматься о своей смерти. Если я умру завтра, я умру с миром? Усвоила ли я сама то, что открыла Агнес? Нашла ли свет среди своей тьмы?
Эмма помогла мне задаться вопросом, как я отношусь к прошлому. Агнес сподвигла встретиться лицом к лицу с моим отношением к настоящему. А Джейсон Фуллер – тот самый армейский капитан, страдающий кататонией, впервые вошедший в мой кабинет жарким днем 1980 года и подчинившийся отданному приказу пойти вместе в парк, чтобы выгулять собаку, – научил меня, как принять решение, которое определит мое будущее. То, что я приобрету благодаря ему в тот день, повлияет на качество моей жизни в течение всех последующих лет, а также на качество наследия, которое я решу передать своим детям, внукам и правнукам.
Пока мы гуляем по парку, походка Джейсона смягчается. Не только походка, но и лицо с каждым шагом приобретает здоровый цвет и нормальное выражение. Настроен капитан доброжелательно. Он на глазах становится моложе, уже не чувствуется, что он опустошен. Однако по-прежнему неразговорчив. Я не думаю о том, что будет, когда мы вернемся в мой кабинет. Я просто продолжаю идти, дышать, каждая минута, которую в моем присутствии Джейсон ассоциирует с собственной безопасностью, поможет его раскрыть.
Неторопливо пройдясь по парку, я веду его обратно в кабинет, наливаю нам воды. Что бы сейчас ни произошло, я знаю, что спешка недопустима. Я должна создать пространство абсолютного доверия – пространство, где Джейсон может рассказать мне обо всем, о любых чувствах; пространство, где он знает, что находится в безопасности, где он знает, что его не будут осуждать. Он снова садится на белый диван, лицом ко мне, а я наклоняюсь вперед к нему. Как удержать его здесь со мной? Не просто физически в моем кабинете. Готов ли он к открытости, готов ли впустить в себя новое? Вместе мы должны найти путь к прозрению и лечению, путь, по которому Джейсон сможет двигаться, какие бы эмоции и чувства ни захлестывали его в кататонических припадках. И как я должна привести его к улучшению, если не могу заставить говорить? Я должна слиться с его сознанием, его выбором и условиями и остаться открытой для возможных откровений и изменений.
– Вы не поможете мне? – наконец говорю я. Это прием, который я иногда использую с закрытыми пациентами и трудными клиентами. Увожу внимание от проблемы. Проблема теперь у меня. Я апеллирую к сочувствию пациента. Мне надо, чтобы Джейсон почувствовал, что именно он находится в сильной позиции и может принимать решения, а я просто человек, любопытный и в каком-то смысле отчаянный, просящий о помощи.
– Я в самом деле очень хочу знать, как вы хотите провести время здесь со мной. Вы молодой человек, солдат. Я просто бабушка. Вы поможете мне выйти из этого затруднения?
Он начинает было говорить, но эмоции встают поперек горла, и он качает головой. Как помочь ему выстоять под напором такого смятения – неважно, внешнего или внутреннего – и не позволить подавить его, замкнуться в себе?
– Не могли бы вы помочь мне чуть лучше понять, чем я могу быть вам полезна? Я хочу быть вашим рупором. Пожалуйста, помогите мне немного.
Он щурит глаза, будто от яркого света. Или сдерживает слезы.
– Моя жена, – говорит он наконец, но после этих слов у него снова встает ком в горле.
Я не спрашиваю, какую именно боль причиняет ему жена. Не спрашиваю о деталях. Меня интересует исключительно чувство, скрытое за этими словами. Я хочу, чтобы он провел меня прямо к правде, таящейся глубоко в душе. Я хочу, чтобы он стал человеком, каким, я верю, он может быть, – человеком, который способен раскрыться и чувствовать. Нельзя вылечить то, что не чувствуешь. Это знание далось мне непросто, после десятилетий выбора в пользу закрытости и оцепенения. Как и Джейсон, я закупоривала свои чувства, надевая маску.
Что прячется под маской Джейсона, за его закрытостью? Потеря? Страх?
– Похоже, вас что-то огорчает, – говорю я. Гадаю, предполагаю. Либо я права, либо он меня поправит.
– Я не огорчен, – сквозь зубы отвечает Джейсон. – Я зол. Зол как собака. Я мог бы убить ее!
– Вашу жену.
– Эта сука мне изменяет!
Вот оно что. Правда всплыла. Начало положено.
– Расскажите подробнее, – прошу я.
Он рассказывает, что у его жены есть любовник. Лучший друг поведал ему. Он не мог поверить, что сам ничего не заметил.
– О боже, – произносит он. – Боже, боже.
Встает. Ходит по комнате. Пинает диван. Он пробился сквозь свою скованность и теперь становится буйным и агрессивным. Он бьет стену, пока не морщится от боли. Как будто выключатель щелкает, и эмоции выплескиваются через край неистовой волной. Он больше не закрыт и сдержан. Он приходит в исступление. Взрывается. И теперь, когда он мечется по комнате, ничем не защищенный от боли, моя роль меняется. Я сумела подвести его к чувствам. Теперь я должна помочь ему прожить их, не уходя в них с головой, не теряя себя в этом буйстве. Не успеваю и слова сказать, как он замирает в центре комнаты и начинает кричать:
– Я так больше не могу! Я убью ее. Я убью их обоих.
– Вы так злитесь, что можете убить ее.
– Да! Я убью эту суку. Я сделаю это прямо сейчас. Смотрите, что у меня есть.
Он не преувеличивает. Он говорит серьезно. Вытаскивает из-за пояса пистолет.
– Я убью ее прямо сейчас.
Мне следует позвонить в полицию. Предупредительные сигналы, отдававшиеся болью в затылке, когда Джейсон вошел в мой кабинет, не ошиблись. Сейчас, возможно, уже слишком поздно. Я не знаю, есть ли у Джейсона дети, но, когда он выхватывает пистолет, я представляю, как дети плачут на похоронах матери, Джейсон за решеткой, дети теряют обоих родителей на волне секундного желания отомстить.
Но я не звоню в полицию. Я даже не звоню помощнице, чтобы дать ей знать, что мне может потребоваться помощь. Ситуация этого не подразумевает.
Я буду подавлять его. Я доведу его порыв до последствий.
– И что будет, если вы убьете ее прямо сейчас?
– Я это сделаю!
– Что произойдет?
– Она этого заслуживает. Она свое получит. Она пожалеет, что врала мне все время.
– Что случится с вами, если вы убьете свою жену?
– Мне все равно!
Он направляет пистолет на меня, прямо мне в грудь, держа его обеими руками, указательный палец замер рядом с курком.
Я мишень? Он хочет выместить свой гнев на мне? Случайно нажмет курок, выпустит пулю? Не время бояться.
– А вашим детям? – Я действую интуитивно.
– Не говорите мне о детях! – шипит он.
Слегка опустил пистолет. Если он спустит курок сейчас, то попадет мне в руку или в стул, но не в сердце.
– Вы любите своих детей?
Каким бы всепоглощающим ни был гнев, он никогда не является основной эмоцией. Это всего лишь самая внешняя грань, слегка приоткрытый верхний слой намного более глубокого чувства. Настоящее чувство, которое обычно прячется за маской гнева, чаще всего страх. Невозможно одновременно испытывать любовь и страх. Если я смогу обратиться к сердцу Джейсона, если смогу помочь ему ощутить любовь хотя бы на секунду, этого может быть достаточно, чтобы перекрыть сигнал страха, который вот-вот перейдет в насилие. Его ярость уже слегка приостановлена.
– Вы любите своих детей? – снова спрашиваю я.
Джейсон не отвечает. Он будто застрял на перепутье, запутавшись в противоречье чувств.
– У меня трое детей, – говорю я. – Две дочери, один сын. А у вас?
– Двое.
– Дочь и сын?
Он кивает.
– Расскажите мне о вашем сыне.
Внутри у Джейсона что-то разжимается. Новое чувство. Я вижу это по его лицу.
– Он похож на меня.
– Как сын на отца.
Его взгляд больше не направлен на меня или пистолет, он сейчас где-то в ином месте. Пока еще не понимаю, что это за новая эмоция, но чувствую: что-то меняется. Я не отступаю от курса.
– Вы хотите, чтобы ваш сын вел себя как вы?
– Нет! О боже, нет.
Он трясет головой. Джейсон не хочет идти туда, куда я веду его.
– Тогда чего вы хотите? – тихо спрашиваю я. Это вопрос из тех, на которые страшно отвечать, вопрос, который может изменить всю жизнь.
– Я этого не вынесу! Я не хочу этого чувствовать!
– Вы хотите освободиться от боли?
– Я хочу, чтобы эта сука поплатилась! Я не позволю ей дурачить меня.
Он снова поднимает пистолет.
– Вы снова будете хозяином своей жизни.
– Буду, черт возьми!
Теперь меня пробирает пот. Я должна помочь ему бросить пистолет. Нет никакого сценария, никакой подсказки.
– Она плохо поступила с вами.
– Больше этого не повторится! Скоро все закончится.
– Вы защитите себя.
– Именно.
– Вы покажете своему сыну, как справляться с трудностями. Как быть мужчиной.
– Я покажу ему, как не позволить другим людям причинять ему боль!
– Убив его мать.
Джейсон замирает.
– Если вы убьете его мать, разве вы не причините боль своему сыну?
Джейсон не отрывает глаз от пистолета у себя в руке. На последующих сеансах он расскажет, что в ту секунду было у него на уме. Он расскажет мне о своем отце, жестоком человеке, который вбивал в Джейсона, иногда словами, иногда кулаками, то, каким должен быть мужчина: мужчина неуязвим, мужчина не плачет, мужчина всегда все держит под контролем, мужчина всегда главный. Он расскажет, что всегда хотел быть лучшим отцом, чем его собственный. Но он не знал как. Он не знал, как учить и воспитывать детей без угроз и запугивания. Когда я прошу его подумать, как выбор в пользу мести скажется на его сыне, ему внезапно приходится искать вариант, о котором до этого момента он был не в состоянии помыслить. О жизни, которая не подразумевает насилия и уязвимости, которая приведет его – и его сына – не к гибельному соблазну мести, а к широкому, открытому небу надежд и силы.
Если я что-то понимаю о том дне, о всей своей жизни, так это то, что иногда худшие моменты, бросающие нас в круговерть извращенных желаний, грозящие столкнуть с болью, от которой мы любыми средствами хотели бы откреститься, на самом деле заставляют нас прочувствовать собственную ценность. В такие мгновения мы как будто осознаем себя в качестве моста между тем, что было, и тем, что будет. Мы осознаем все, что получили, и все, что можем выбрать – или не выбрать, чтобы сохранить навсегда. Это словно головокружение, пугающее, захватывающее дух, прошлое и будущее предстают перед нами как широкий, но проходимый каньон. Мы такие маленькие на обширном чертеже Вселенной и времени, каждый из нас – хрупкий механизм, заставляющий вращаться целое колесо. И куда мы направим колесо собственной жизни? Будем жать на все тот же клапан потерь и сожаления? Будем бесконечно проигрывать и прокручивать все прошлые обиды? Мы бросим тех, кого любим, только потому, что нас когда-то бросали? Мы заставим детей платить по счетам за наши потери? Или мы, исходя из того, что знаем, приложим все усилия и взрастим новый урожай на поле нашей жизни?
Обуреваемый жаждой мести, сжимая пистолет, Джейсон, увидев себя глазами сына, внезапно смог рассмотреть все открывшиеся ему варианты. Он мог выбрать убить или мог выбрать любить. Сразить или простить. Принять печаль или проживать боль снова и снова. Он бросает пистолет. Теперь он плачет, гулко, отрывисто всхлипывая, горечь сотрясает его тело. Он не может вынести силу переполнившего его чувства. Джейсон падает на пол, на колени, склоняет голову. Я буквально вижу, как разные эмоции импульсами прорываются сквозь него: боль, стыд, попранная гордость, уничтоженное доверие, одиночество, тоска по человеку, каким он не мог быть и каким не будет никогда. Он не мог быть человеком, который никогда не проигрывает. Он всегда будет тем, которого в детстве бил и унижал отец, навсегда останется тем, кому изменила жена. Как и я всегда остаюсь той, у кого родителей отравили газом, сожгли и обратили в дым. Джейсон и я всегда будем теми, кем является каждый, – теми, кто будет нести страдания. Мы не сможем стереть свою боль. Но мы всегда свободны в своем праве принять то, какие мы есть и что с нами сделали, и двигаться дальше. Джейсон плачет, стоя на коленях. Я сажусь рядом с ним на пол. Люди, которых мы любили и которым доверяли, исчезли или подвели нас. Ему нужна поддержка. Я поддержу его. Я притягиваю его к себе, он склоняется мне на колени, и я держу его, и мы оба плачем, пока моя шелковая блузка насквозь не промокает от слез.
Перед тем как Джейсон покинет мой кабинет, я потребую, чтобы он оставил мне пистолет. (Я долгие годы хранила его у себя – так долго, что даже забыла, что он лежит в шкафу. Когда я собирала вещи, готовясь к переезду в Сан-Диего, то нашла его, все еще заряженный, в ящике с документацией. Напоминание о слабости, о боли, воспоминания, которые мы обычно предпочитаем прятать, – разрушительный потенциал, продолжающий нарастать, пока мы сознательно не повернемся к нему лицом и не уничтожим его.)
– Вы сейчас готовы уйти? – спрашиваю я. – Вы готовы пойти домой?
– Я не уверен.
– Без пистолета вам будет некомфортно. Вам есть куда пойти, если ярость вернется? Если почувствуете, что хотите причинить кому-то вред или кого-то убить?
Он говорит, что может пойти к другу, тому, который рассказал ему об измене и посоветовал прийти ко мне.
– Мы должны отрепетировать, что вы скажете своей жене.
Мы составляем план. Он переписывает его. Джейсон скажет ей: «Мне очень грустно и тоскливо. Я надеюсь, сегодня вечером мы найдем время поговорить об этом». Ему не разрешалось говорить больше, пока они не окажутся одни, – и только в том случае, если он будет в состоянии общаться с помощью слов, а не насилия. Он должен сразу позвонить мне, если почувствует, что не может пойти домой. Если смертоубийственные мысли вернутся, он должен найти безопасное место, чтобы посидеть или пройтись.
– Закройте дверь. Или идите на улицу. Будьте с собой. Дышите, дышите и дышите. Эмоции отхлынут. Пообещайте, что позвоните мне, если почувствуете, что теряете контроль. Отстранитесь от ситуации, найдите безопасное место и позвоните мне.
Он снова заплакал.
– Никто никогда так не заботился обо мне, как вы.
– Вдвоем мы составим отличную команду. Я знаю, что вы меня не подведете.
Через два дня Джейсон снова приходит в мой кабинет, и начинается наша терапия, которая продлится пять лет. Но еще до того как я узнаю, чем закончится эта история, мне предстоит вынести очередную очную ставку с самой собой.
Когда Джейсон уходит, я прячу пистолет, сажусь на свой стул, глубоко и медленно дышу, восстанавливая равновесие. Принимаюсь разбирать почту, которую помощница принесла как раз перед неожиданным визитом Джейсона. Среди конвертов я нахожу еще одно письмо, которое изменит мою жизнь. Оно от бывшего коллеги из центра Уильяма Бомонта, капеллана армии США Дэвида Вёра (на описываемый момент он возглавляет религиозный ресурсный центр в Мюнхене и отвечает за клиническую подготовку всех американских военных капелланов и их ассистентов, которые на то время служат в Европе). В письме Дэйв приглашает меня на конференцию, которую будет проводить через месяц для шестисот капелланов. В любых других обстоятельствах я приняла бы приглашение, для меня было бы честью, что моя скромная персона может оказаться полезной на таком собрании. После моей стажировки в центре Уильяма Бомонта и успехов в лечении действующих военных и ветеранов разных войн меня несколько раз приглашали выступить перед большими военными аудиториями, и я всегда чувствовала, что эти лекции не просто честь, но и мой моральный долг – как бывшей узницы концлагерей, как человека, освобожденного американскими солдатами. Но конференция Дэйва должна проходить в Германии. И не просто где-то в Германии. В Берхтесгадене. Бывшем убежище Гитлера в горах Баварии.
Глава 17. Тогда Гитлер победил
Я дрожу, но вовсе не от прохладного воздуха, идущего из вентиляционного отверстия в моем кабинете. Скоро мне будет пятьдесят три. Я больше не осиротевшая девочка, не юная мать, бегущая из растерзанной войной Европы. Я больше не мигрантка, прячущаяся от собственного прошлого. Теперь я доктор Эдит Ева Эгер. И я выжила. Я долгие годы работала над своим исцелением. То, что я вынесла из травмирующего прошлого, я использую, чтобы лечить других. Ко мне часто обращаются социальные службы, медицинские и военные центры с просьбой помочь в лечении пациентов с посттравматическим стрессом. Я прошла огромный путь с тех пор, как сбежала в Америку. Но со времен войны я не была в Германии.
В тот вечер, чтобы отвлечь себя от беспокойных мыслей о Джейсоне и его конфликте с женой, чтобы унять тревожное состояние, я звоню Марианне в Сан-Диего и спрашиваю, что она думает о поездке в Берхтесгаден. Теперь она мать и психолог. Мы часто советуемся друг с другом насчет самых трудных пациентов. Как и для Джейсона в те долгие минуты, когда он держал в руке пистолет, мое предстоящее решение сейчас сильно связано с моими детьми: какая рана останется у них, когда я уйду, – зарубцевавшаяся или открытая.
– Я не знаю, мам, – говорит Марианна. – Мне хотелось бы, чтобы ты поехала. Ты выжила и теперь должна вернуться назад и рассказать свою историю. Это будет твой триумф. Но… ты помнишь ту датскую семью, у друзей которых я жила, когда училась в колледже? Они вернулись в Аушвиц, думая, что это принесет им успокоение. Однако это только растревожило травму. У них был очень серьезный стресс. У обоих по возвращении домой случились сердечные приступы. Они умерли, мам.
Я напоминаю ей, что Берхтесгаден не Аушвиц. Мое географическое местоположение будет скорее связано с прошлым Гитлера, а не моим собственным. Однако даже повседневные дела в Эль-Пасо способны спровоцировать репереживания. Я слышу сирены – и меня бросает в холод, я вижу колючую проволоку вокруг стройки – и вот я уже не в настоящем. Я вижу синие тела, свисающие с ограждений, я скована страхом, я борюсь за свою жизнь. Если самые обычные вещи служат спусковым крючком, способным спровоцировать мою травму, что будет, когда я окажусь в окружении людей, говорящих по-немецки? Думать, не нахожусь ли я среди бывших гитлерюгендов, сидеть в тех же самых комнатах, где когда-то жили Гитлер и его приспешники?
– Если ты считаешь, что эта поездка может многое принести тебе, то поезжай. Я поддержу тебя, – говорит Марианна. – Но решение должно быть твоим. Ты не должна ничего никому доказывать. Ты не обязана ехать.
Как только я это слышу, мне моментально становится легче.
– Спасибо, Марчука, – говорю я. Теперь я в безопасности. Я счастлива. Я выполнила свою работу. Я выросла. Теперь я могу отпустить. Я могу все закончить. Я могу сказать, что польщена этим приглашением, но мне будет слишком больно его принять. Дэйв поймет.
Но когда я рассказываю Беле, что решила отказаться от приглашения, он хватает меня за плечи.
– Если ты не поедешь в Германию, – говорит он, – то Гитлер выиграл войну.
Совсем не то, что мне хотелось бы услышать. У меня чувство, словно меня ударили исподтишка. Но приходится допустить, что в одном он прав: легче думать, что кто-то или что-то отвечает за твою боль, чем принять на себя ответственность и выйти из образа жертвы. Этому научил меня наш брак: каждый раз, когда досада на Белу отвлекает меня от работы и моего развития, каждый раз мне легче обвинить его во всех несчастьях, чем взять ответственность на себя.
Многим из нас нужен диктатор – благосклонный, но диктатор, – чтобы было на кого свалить вину, чтобы можно было говорить: «Ты заставил меня это сделать. То не моя вина». Но мы не можем всю жизнь прятаться под чужим зонтом, а потом жаловаться, что промокли. Хорошее определение состояния жертвы – это когда ваше внимание сосредоточено вовне, когда вы ищете во внешнем мире кого-то еще, чтобы кто-то был виноват в ваших нынешних обстоятельствах и этот кто-то определил вам и цель, и судьбу и еще отвечал за ваше достоинство.
Именно поэтому Бела говорит мне, что если я не поеду в Берхтесгаден, то Гитлер победил. Он имеет в виду, что я сижу со своим прошлым на доске и качаюсь с ним вверх-вниз, вверх-вниз. До тех пор пока я буду помещать на другой конец доски Гитлера или Менгеле или мою бездну, полную потерь, я всегда смогу как-то оправдаться, у меня всегда найдется отговорка. Вот почему я беспокоюсь. Вот почему мне грустно. Вот почему я не могу рискнуть поехать в Германию. Я не ошибаюсь, когда испытываю беспокойство, грусть и страх. Дело не в том, что в глубине моей души нет настоящей травмы. И не в том, что Гитлер, Менгеле и другие адепты насилия и жестокости не несут ответственности за то зло, что они причинили. Но если я остаюсь на качелях, я передаю прошлому ответственность за то, что сейчас выбираю.
Давным-давно палец Менгеле указал мою судьбу. Менгеле решил, что моей маме – идти в печь, Менгеле решил, что мне и Магде – продолжать жить. На каждой селекции в каждом лагере кто-то решал за нас: жить или умирать, – у меня самой никогда не было права выбора. Но даже тогда, в лагерях, в аду, я могла выбирать, как мне реагировать, могла выбирать, что говорить и делать, могла выбирать, о чем думать. Я могла выбрать броситься на бьющую током колючую проволоку, могла отказаться вставать с нар, могла выбрать бороться и жить, думать о голосе Эрика и мамином штруделе, думать о Магде рядом со мной, помнить все, ради чего я должна жить, даже среди ужаса и потерь. Прошло тридцать пять лет, как я вышла из ада. Панические атаки приходят в любое время дня и ночи, они могут накрыть меня в моей гостиной так же легко, как и в старом бункере Гитлера, потому что моя паника не есть следствие исключительно внешних возбудителей. Это проявление воспоминаний и страхов, живущих внутри. Если я добровольно изгоняю себя из определенной части земного шара, это значит, что я хочу изгнать ту свою ипостась, которая боится. Возможно, если приблизиться к ней, той части, я смогу узнать что-то новое.
А как же мое наследие? Всего несколько часов назад Джейсон стоял на перепутье своей жизни: в тот момент, когда он держал пистолет в руках, но не спустил курок, когда подумал о наследии, которое хочет передать своим детям, когда выбрал что-то другое, отличное от насилия. Какое наследие я хочу передать? Что останется после меня в мире, когда я умру? Я уже решила распрощаться с секретами, отрицанием и стыдом. Неужели действительно я примирилась с прошлым? Должна ли я разобраться еще с чем-то, чтобы не увековечивать больше никакой боли?
Я думаю о матери своей мамы, которая внезапно умирает во сне. О своей матери, чья печаль от внезапной потери детства становится ее травмой, с самых ранних лет пометившей ее голодом и страхом. И вот наша мама передает уже своим детям смутное чувство утраты. Что я передам дальше своим – помимо ее гладкой кожи, ее густых волос, ее глубоких глаз, помимо боли, печали и гнева, что потеряла ее еще такой молодой? А если я должна вернуться на место, где была нанесена травма, чтобы завершить цикл и создать другое наследие?
Я принимаю приглашение в Берхтесгаден.
Глава 18. Кровать Геббельса
Доктор Дэвид Вёр по телефону ввел меня в курс дела. В рамках программы Центра отдыха и реабилитации вооруженных сил проводится конференция для военных капелланов по оказанию клинической психологической помощи. На конференцию соберутся шестьсот священнослужителей, и мне предлагается выступить перед этой аудиторией. Конференция будет проходить в Баварии, в высокогорном отеле «Генерал Уокер», ранее служившем местом отдыха и деловых встреч офицеров СС[34]. Нам с Белой предоставят номер в ближайшем отеле «У турка», когда-то отданном в распоряжение членам гитлеровского кабинета и гитлеровским высоким зарубежным гостям[35]. Именно в нем останавливался в 1938 году британский премьер-министр Невилл Чемберлен, когда приезжал на встречу с Гитлером, а потом вернулся домой с победоносным и трагически ошибочным известием, что он обеспечил «мир нашему времени»[36]. Вероятно, в его стенах Адольф Эйхман лично посвящал Гитлера в подробности реализации окончательного решения[37]. Отель, предназначенный для меня и Белы, во времена нацистов находился в пешей доступности от резиденций Гитлера – «Бергхоф» и «Орлиное гнездо»[38].
Моими слушателями будут профессионалы искусства врачевания душ. Однако, кроме того что капелланы в армии служат духовными наставниками, они отвечают и за психическое здоровье военных, по этой причине, в дополнение к их богословскому образованию, им надлежит впервые, как сказал мне Дэйв, пройти годовой курс клинического пастырского образования. Капелланы должны освоить клиническую психологию в такой же степени, в какой они разбираются в вопросах религиозных доктрин. С этой целью Дэйв проводит недельные выездные семинары по клинической психологии для капелланов, служащих в Европе. Сейчас они все собираются на конференцию, которую я буду открывать своей лекцией.
Дэйв рассказывает мне немного подробнее о капелланах и солдатах, несущих сегодняшнюю службу. Они не похожи на солдат моей юности или моих пациентов-военных, которых я вела в центре Уильяма Бомонта: они солдаты мирного времени, солдаты холодной войны – войны, скрытой от глаз. Им не надо жить в условиях каждодневного насилия, тем не менее они всегда находятся в полном всеоружии, охраняя мир, но готовые к войне. Большинство солдат холодной войны служат в местах размещения ракет. Ракеты установлены на подвижных пусковых установках, заранее спрятанных на стратегически выгодных позициях. Для современных военнослужащих естественно жить в постоянной угрозе войны, когда вой ночных сирен может означать как учебную тревогу, так и настоящее нападение. (Напоминает душ в Аушвице. Вода или газ? Мы никогда не знали.) Капелланы, перед которыми мне предстоит выступить с докладом, обязаны поддерживать в солдатах душевное равновесие и обеспечивать их психологические потребности, поскольку наши военные ежедневно делают все от них зависящее, чтобы сдерживать тотальную войну и быть готовыми противостоять всему, что бы ни случилось.
– Что им нужно услышать? – спрашиваю я. – О чем было бы ценно поговорить с ними?
– Надежда, – отвечает Дэйв. – Великодушие. Если капелланы не могут обращаться к таким вещам, если мы не осознаём этого, как мы сможем выполнять свою работу.
– Почему я?
– Одно дело, когда о надежде и великодушии проповедует духовное лицо или богослов, – объясняет Дэйв. – Но ты одна из немногих, кто может рассказать, как сохранить надежду, когда тебя лишают всего, когда ты погибаешь от голода, когда тебя обрекают на смерть. Я не знаю никого, кроме тебя, кто имел бы такое же моральное право говорить об этом. Никого, кто заслуживает такого доверия.
Месяц спустя мы с Белой едем на поезде из Берлина в Берхтесгаден, и я совсем не чувствую себя человеком, заслуживающим хоть какого-то доверия. Вот уж точно я самый последний человек на планете, кто должен рассуждать о надежде и великодушии. Я закрываю глаза и в несмолкающем стуке колес вновь слышу звуки своих кошмаров. Вижу родителей: моего отца, который отказывается бриться, взгляд матери – взгляд человека, погруженного в себя. Бела держит меня за руку. Он касается пальцем золотого браслета, подаренного мне, когда я родила Марианну, и спрятанного в ее подгузнике, когда мы бежали в Прешов, браслета, который я ношу не снимая. Это символ победы. Мы справились. Мы выжили. Мы отстояли свою жизнь. Но ни чувство покоя, которое дает мне присутствие Белы, ни легкое, нежное поглаживание моей кожи гладким металлом – ничто не может рассеять сгущающийся внутри меня ужас.
Мы сидим в купе вместе с немецкой парой примерно одного с нами возраста. Приятные люди, они угощают нас пирожками, которые взяли с собой, им нравится, как я одета, и женщина говорит мне об этом. Что бы они сказали о моем ветхом полосатом платье, когда я в свои семнадцать сидела на крыше немецкого поезда под градом бомб? Когда из меня делали живой щит, заставляя ценой жизни защищать нацистские боеприпасы? Где они были, когда я дрожала там, на крыше поезда? Где они были во время войны? Они были в толпе тех детей, которые плевали в меня и Магду, когда мы шли через немецкие города? Состояли ли они в гитлерюгенде? Думают ли они сегодня о прошлом или ограждаются от него, как я, на протяжении всей последующей жизни?
Ужас внутри меня превращается в нечто иное, в одновременно и обжигающее, и скребущее чувство – ярость. Я вспоминаю злобное исступление Магды. Я убью мать немца. Немец убил мою мать, я убью мать-немку. Она не могла стереть из памяти нашу потерю, но могла перевернуть ее с ног на голову, могла отплатить той же монетой. Иногда я разделяла ее жажду открытого отпора и никогда не принимала ее жажду мести. Мое опустошение проявлялось в суицидальном порыве, но не убийственном. Сейчас во мне нарастает гнев, накатывает шквал ярости, набирая скорость и мощь. Я сижу совсем близко от людей, которые могут быть моими бывшими мучителями. Я боюсь того, что могу сделать.
– Бела, – шепчу я, – кажется, я зашла слишком далеко. Я хочу домой.
– Ты и раньше боялась, – отвечает он. – Приветствуй это, приветствуй.
Бела напоминает мне, что все затевалось ради излечения. Я и сама верю, что так. Мы отвергаем то, чего боимся, отталкиваем от себя все, что причиняет боль. Любой ценой, но избежать этого. Затем отыскиваем способ не убегать, а освоить свою боль, поприветствовать свои самые гнетущие страхи. И тогда мы их наконец отпускаем.
Мы прибываем в Берхтесгаден, нас встречают и отвозят в отель «У турка», который теперь не только гостиница, но еще и музей. Я стараюсь не думать о зловещей истории этого места и смотрю на величие природы, на горные пики, вздымающиеся вокруг. Скалистый заснеженный хребет напоминает мне Татры, где мы с Белой впервые встретились, когда он с неохотой сопровождал меня в туберкулезную клинику.
В отеле мы с мужем от души смеемся, когда администратор обращается к нам «доктор и миссис Эгер».
– Мы доктор и мистер Эгер, – поправляет Бела.
Эта гостиница – настоящий анахронизм, как будто меня перенесли сюда на машине времени. Комнаты обставлены в стиле 1930-х и 1940-х годов, повсюду толстые персидские ковры, и нет телефонов. Нам с Белой дают номер, в котором останавливался Геббельс, гитлеровский министр пропаганды. Номер с той же кроватью, тем же зеркалом, шкафом, ночным столиком – всем, что когда-то было в его распоряжении. Стою в дверях комнаты и чувствую, как рушится мое внутреннее спокойствие. Что это все означает? Почему я сейчас здесь? Бела проводит рукой по шкафу, покрывалу, подходит к окну. Прошлое сдавливает ему череп, как и мне? Я уже собираюсь грохнуться, но хватаюсь за стойку кровати. Бела поворачивается, подмигивает мне и громко запевает:
– Весна для Гитлера… и для Германии! Германия веселится и ликует!
Это из «Продюсеров» Мэла Брукса[39]. Бела отбивает у окна чечетку, крутя в руке воображаемую трость. Мы вместе смотрели «Продюсеров», как только фильм вышел на экраны, за год до развода, в 1968-м. В кинозале сидела сотня человек, и все хохотали. Бела смеялся громче всех. Я не смогла даже выдавить улыбку. Умом понимала: это сатира. Знала, что смех воодушевляет, что он помогает прожить и пережить тяжелые времена. Знала, что он лечит. Но слышать эту песню тогда и особенно сейчас, в таком месте, – это уже слишком. Я безумно злюсь на Белу, даже не столько за отсутствие такта, сколько за его способность быстро и безболезненно выходить из состояния душевного надрыва. Мне нужно уйти.
Одна я иду гулять. Сразу за вестибюлем отеля начинается тропа, ведущая к «Бергофу» – бывшей резиденции Гитлера. Не пойду я той тропой. Не стану тешить самолюбие Гитлера признанием его дома, его существования. Я не блуждаю в прошлом. Вместо этого пойду другой тропинкой, к другой вершине, к широкому небу.
Затем останавливаюсь. Вот вечно я даю этому покойнику лишать меня возможности самопознания! Разве не для того я нахожусь здесь, в Германии? Чтобы физически оказаться ближе к своим страхам? Чтобы выяснить, что еще остается в моем прошлом, чего я так и не усвоила?
Поскальзываясь на гравии, бреду по тропинке к краю утеса, к неприглядным развалинам некогда большого особняка Гитлера. Все, что осталось от дома, – старая, поросшая мхом несущая стена, щебень и трубы, торчащие из земли. Я оглядываю с высоты долину, как, должно быть, когда-то делал Гитлер. Дом Гитлера исчез. Его не существует. В последние дни войны американские солдаты сожгли его руины до основания, не забыв перед этим наведаться в гитлеровские погреба за вином и коньяком. Они сели на выступ утеса и подняли стаканы, дом за их спинами был окутан пламенем и дымом. Дом исчез. А сам Гитлер? Чувствую ли я его присутствие здесь? Проверяю себя: не сводит ли кишечник, не подступает ли тошнота, не прошибает ли озноб. Стараюсь услышать его голос. Не разносится ли эхом его ненависть, его беспощадный и бесчеловечный зов. Но здесь тихо. Я смотрю на гору, на дикие цветы, подернутые первыми холодными крупинками тающего снега, слетающего с окружающих вершин. Ступаю по той же тропе, по которой когда-то вышагивал Гитлер, но его нет здесь, сегодня здесь я. Сейчас действительно весна, но не для Гитлера. Для меня. Тает толстая кора снежного безмолвия, тихо умирающая долгая зима сдается под напором новых листьев и стремительного бега ручьев. Из-под слоев чудовищной печали, которую я всегда ношу в себе, прорывается новое чувство. Эта первая струйка талой воды на многолетнем снегу. Сбегающий с гор ритмично бурлящий поток говорит, пульсирующее ему в унисон мое сердце говорит. Я жива. Я справилась с этим. Победная песня переполняет меня, вырывается из груди, вылетает из горла, поднимается прямо в небо над головой и спускается в долину.
– Я отпускаю тебя! – кричу я старому горю. – Отпускаю тебя!
Следующим утром я начинаю свою вступительную лекцию словами: «Tempora mutantur, et nos mutamur in illis. Эту латинскую фразу я выучила еще девочкой. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Мы всегда находимся в процессе становления».
Я прошу капелланов вместе со мной перенестись на сорок лет назад, в эту горную деревню, где мы сейчас находимся. Возможно, в эту самую комнату, где пятнадцать высокообразованных людей прикидывают, сколько граждан можно сжечь в печи за один раз. В истории человечества есть место войнам. Есть место жестокости, есть место насилию, есть место ненависти. Но никогда в истории человечества не уничтожали людей с таким научным и систематическим подходом. Я прошла через гитлеровские чудовищные лагеря смерти и осталась жива. А прошлой ночью мне привелось спать на кровати Йозефа Геббельса. Люди спрашивают меня, как я научилась преодолевать прошлое. Преодолевать? Одолеть? Я никогда ничего не преодолевала. Каждое избиение, каждая бомбежка, селекция, смерть, каждый столб дыма, поднимавшийся к небу, каждый миг ужаса, казавшийся мне последним, – все это живет во мне, моей памяти и моих кошмарах. Прошлое не исчезает. Через него не переступишь, его не ампутируешь. Оно существует вместе со мной. Но оно дает мне понимание жизни, понимание того, что я выжила благодаря надежде, стучавшей в моем сердце, – это надежда увидеть освобождение. Она дает понимание, что я выжила – чтобы увидеть свободу – благодаря умению прощать.
Прощать – непросто. Намного легче таить злобу, искать мести. Я говорю им о выживших в лагерях, о тех мужественных людях, с которыми познакомилась в Израиле; им было больно, когда я заговаривала о прощении, они настаивали, что простить означает смириться и забыть. Зачем прощать? Разве это не снимает с Гитлера ответственности за все, что он совершил?
Я рассказываю о моем дорогом друге Лаци Гладштейне – Ларри Глэдстоне, – о том единственном случае, когда спустя десятилетия после войны он позволил себе открыто заговорить со мной о прошлом. То было время моего развода, и он знал, как у меня туго с деньгами. Позвонил и рассказал, что знаком с адвокатом, который ведет дела о компенсациях пережившим холокост, настаивал, чтобы я заявила о себе и забрала то, что мне причитается. Для многих это был правильный выбор, но не для меня. Подобные деньги казались кровавыми. Словно можно назначить цену за головы моих родителей. Это был способ приковать меня к тем, кто пытался нас уничтожить.
На фундаменте боли, на фундаменте прошлого легко построить тюрьму. В лучшем случае месть бессмысленна. Она не может изменить то, что нам причинили, она не может стереть несправедливость, которой мы подверглись, она не способна вернуть наших мертвых. Что хуже, месть поддерживает цикл ненависти. Она заставляет ненависть ходить по кругу. Получается, у нас нет развития, если мы ищем мести, пусть даже не насильственной.
Вчера, приехав сюда, я на минуту допустила, что мое присутствие здесь – здоровая месть, заслуженная кара, сведение счетов. Но когда я стояла на утесе и рассматривала «Бергхоф», пришло понимание, что месть не делает нас свободными. Так, стоя на месте бывшего дома Гитлера, я простила его. Это вообще не имеет никакого отношения к Гитлеру. Я поступила так ради себя. Я отпустила, освободила ту свою ипостась, которая большую часть жизни направляла все умственные силы, всю духовную стойкость, чтобы держать Гитлера в цепях. В течение всего времени, что я цеплялась за свою ненависть, я была в цепях вместе с ним, запертая в своем травмирующем прошлом, запертая в своем горе. Простить – значит скорбеть о том, что случилось, чего не случилось, и расстаться с желанием иметь другое прошлое. Принять жизнь такой, какая она была и какая она есть. Разумеется, я не собираюсь заявлять, что Гитлер имел право убить шесть миллионов человек. Просто факт остается фактом, и я не хочу, чтобы случившееся уничтожило жизнь, за которую я держалась и боролась вопреки всему.
Капелланы поднимаются. Сильно рукоплещут. Я стою на сцене и думаю, что никогда раньше не чувствовала себя такой летящей и свободной. Я еще не знаю, что простить Гитлера – не самый трудный поступок, который я совершу. Тяжелее будет простить того, с кем еще придется столкнуться, – мне опять предстоит вынести очную ставку с собой.
В нашу последнюю ночь в Берхтесгадене я не могу спать. Лежу без сна на Геббельсовой кровати. Из-под двери просачивается свет, и я вижу рисунок лоз на старых обоях, как они переплетаются и поднимаются. Tempora mutantur, et nos mutamur in illis. Если я меняюсь, кем я постепенно становлюсь?
Эта ночь без сна, это чувство неопределенности дают мне временную передышку. Пытаюсь быть честной с собой, прислушаться к голосу интуиции. Почему-то вспоминается история одного талантливого еврейского мальчика, художника. Ему советуют ехать в Вену, в художественную школу, но у него нет денег на поездку. Он идет пешком из Чехословакии в Вену – как выясняется, идет только затем, чтобы ему отказали в экзамене. Ведь мальчик еврей. Он умоляет. Он пришел издалека, весь путь проделал пешком – можно ему все-таки сдать экзамен, можно ему не откажут хотя бы в этой малости? Ему разрешают держать экзамен, и он его сдает. Он настолько талантлив, что ему, несмотря на происхождение, предоставляют место в школе. Рядом с ним на экзамене сидит мальчик по имени Адольф Гитлер, которого не берут в школу. Принимают еврейского мальчика. И всю жизнь тот человек, уехавший из Европы в Лос-Анджелес, испытывает чувство вины. Если бы Гитлер не провалился тогда на экзамене, если бы не проиграл еврею, возможно, ему не пришло бы в голову отыгрываться на всех евреях. холокоста могло не быть. Мы словно дети, которых унижали или чьи родители развелись, – всегда найдем способ обвинить себя.
Самобичевание бьет не только по тебе, оно достает и других. Вспоминаю пациента, чью семью я недолго консультировала около года назад. Они сидели передо мной как разбросанные кусочки очень сложного пазла: грозный полковник в парадном мундире, молчаливая белокурая жена с выпирающими под белой блузкой ключицами, дочь-подросток с черными крашеными волосами, взбитыми в высокую прическу, с подведенными черным карандашом глазами, тихий сын восьми лет, уткнувшийся в комиксы.
Полковник указал на дочь.
– Посмотрите на нее. Она распутница. Наркоманка. Не уважает наши законы. Грубит матери. Не приходит домой в назначенное время. С ней уже невозможно жить.
– Мы все выслушали вашу версию. Давайте теперь послушаем Лию.
Как будто издеваясь над ним, говоря словно по сценарию, не упуская ни одного пункта из озвученного только что списка, Лия пускается в воспоминания о своих выходных. У нее был секс с парнем после вечеринки, на которой они, несовершеннолетние, пили вино и она также приняла ЛСД. Лия провела с ним всю ночь. Казалось, ей нравится смаковать подробности.
Мать моргала и разглядывала наманикюренные ногти. Лицо отца налилось краской. Он поднялся со стула и навис над дочерью, потрясая кулаками.
– Смотрите, с чем мне приходится мириться? – проревел он.
Дочь видела его гнев, а я видела человека на грани сердечного приступа.
– Смотрите, с чем мне приходится мириться? – сказала Лия, закатив глаза. – Он даже не пытается понять меня. Он никогда меня не слушает. Он просто указывает мне, что делать.
Брат еще внимательнее уставился в комиксы, будто силой воли пытаясь вырваться подальше от зоны военных действий, от того, во что превратилась его семья, и улететь в вымышленную вселенную, где добро и зло четко определены, где хорошие парни в итоге всегда побеждают. Он говорил меньше всех остальных, но у меня сложилось впечатление, что именно он может раскрыть самые важные детали.
Я сказала родителям, что следующую часть сеанса проведу с ними, без детей, отвела Лию с братом в соседний кабинет, вручила им бумагу и маркеры и дала задание, которое, на мой взгляд, помогло бы выпустить пар после напряженных минут, проведенных рядом с родителями. Я попросила нарисовать портрет их семьи, не изображая людей.
Вернулась к родителям. Полковник орал на жену. Она будто на глазах таяла, теряя в весе, я даже боялась, что она находилась на ранней стадии нарушения пищевого поведения. Когда я обращалась к ней с вопросом, она оглядывалась на мужа. Каждый член семьи был заперт в своей крепости. Я видела проявления их внутренней боли, когда они обвиняли друг друга или замыкались. Но в попытках подвести отца и мать к источнику боли я, похоже, только провоцировала еще более сильный обстрел, с одной стороны, и более поспешное отступление – с другой.
– Мы поговорили о том, что, на ваш взгляд, происходит с детьми, – сказала я, перебив полковника. – Как насчет того, что происходит с вами?
Жена моргнула. Муж холодно уставился на меня.
– Чего вы хотите достичь, будучи родителями?
– Научить их, как быть сильными в этом мире, – ответил полковник.
– И какие у вас успехи?
– Дочь шлюха, сын тряпка. Сами-то как думаете?
– Я вижу, что вас пугает поведение дочери. А что насчет сына? Чем он вас разочаровывает?
– Он слабый. Всегда сдается.
– Можете привести пример?
– Когда мы играем в баскетбол, он ведет себя как полная размазня. Даже не пытается выиграть. Он просто уходит.
– Он мальчик. Намного меньше вас. Что будет, если вы позволите ему выиграть?
– Чему это его научит? Что мир прогибается под тебя, если ты неженка?
– Есть разные приемы, помогающие деликатно, а не пинком под зад учить детей расти и развивать свои способности, – сказала я.
Полковник что-то проворчал.
– Каким вы хотите быть в глазах детей?
– Тем, кто главный.
– Героем? Лидером?
Он кивнул.
– Каким, вы думаете, дети видят вас на самом деле?
– Они думают, что я треклятый слюнтяй.
Далее я вновь собрала семью вместе и попросила детей показать портреты семьи. Лия нарисовала только один предмет – огромную бомбу, взрывающуюся в центре страницы. Ее брат нарисовал свирепого льва и трех дрожащих мышей.
Лицо полковника снова налилось краской. Жена опустила глаза. Полковник что-то пробормотал и уставился в потолок.
– Скажите мне, что вы чувствуете прямо сейчас.
– Я потерял свою семью, да?
Я почти надеялась, что больше никогда не увижу полковника и его семью. Но на следующей неделе он позвонил, чтобы записаться на личную консультацию. Я попросила его рассказать больше о том, что он чувствовал, когда дети показали рисунки.
– Если мои дети боятся меня, как они будут выживать в этом мире?
– Что заставляет вас думать, что они не смогут защитить себя?
– Лия не может отказать ни парням, ни наркотикам. Робби не может разобраться с хулиганами.
– А что насчет вас? Вы можете защитить себя?
Он выпятил грудь так, что медали засияли на солнце.
– Доказательство перед вами.
– Я не говорю о поле боя. Я говорю о вашем доме.
– Я думаю, вы не понимаете, под каким давлением я нахожусь.
– Что вам требуется, чтобы почувствовать себя в безопасности?
– Дело не в безопасности. Если я не держу руку на пульсе, люди умирают.
– Это для вас означает безопасность? Свобода от страха, что люди могут пострадать во время вашего дежурства?
– Не только от страха.
– Поясните, что вы имеете в виду. О чем вы думаете?
– Сомневаюсь, что вы хотите это услышать.
– Вам не стоит беспокоиться обо мне.
– Вы не поймете.
– Вы правы, никто не способен в полной мере понять другого человека. Но я могу сказать вам, что когда-то была узницей концлагеря смерти. Что бы вы мне ни сказали, скорее всего, я слышала – и видела – кое-что похуже.
– В армии либо убиваешь, либо будешь убитым. Именно поэтому, когда я получил приказ, я над ним не раздумывал.
– Где вы находитесь, когда получаете этот приказ?
– Во Вьетнаме.
– Вы в помещении? На улице?
– В моем кабинете на авиабазе.
Я следила за его жестами, когда он погружался в прошлое. Я внимательно следила за его волнением, чтобы настроиться на любой сигнал, означающий, что мы ушли слишком далеко или слишком быстро. Он закрыл глаза. И как будто погрузился в транс.
– Вы стоите или сидите?
– Я сижу, когда поступает звонок. Но я сразу же встаю.
– Кто звонит?
– Мой командир части.
– Что он говорит?
– Что отправляет моих людей на спасательную операцию на плоскогорье.
– Почему вы встаете, когда слышите приказ?
– Мне жарко. Тесно в груди.
– О чем вы думаете?
– Что это небезопасно. Что на нас нападут. Что нам нужно больше поддержки с воздуха, если мы направляемся в ту часть плоскогорья. А нам ее не предоставят.
– Вы злитесь из-за этого?
Он резко открывает глаза.
– Конечно, злюсь. Они отправляют нас туда, пичкают дерьмом про то, что американская армия лучшая в мире, что у узкоглазых нет никаких шансов.
– Война оказалась не такой, как вы ожидали.
– Они нам врали.
– Вы чувствуете себя преданным.
– Да, черт побери, именно так.
– Что случилось в тот день, когда вы получили приказ отправить ваш отряд на спасательную операцию?
– Это было ночью.
– Что случилось в ту ночь?
– Я скажу вам, что случилось. Там была засада.
– Ваши люди пострадали?
– Мне вам все разжевывать? Они погибли. Они все погибли в ту ночь. И это я их туда отправил. Они доверяли мне, а я отправил их на смерть.
– Люди всегда погибают на войне.
– Знаете, что я думаю? Погибнуть легко. А мне каждый день приходится жить с мыслью обо всех родителях, которые похоронили своих сыновей.
– Вы выполняли приказ.
– Но я знал, что это было неверное решение. Я знал, что моим парням нужна поддержка с воздуха. А у меня кишка оказалась тонка запросить ее.
– Чем вы пожертвовали, чтобы стать командиром полка?
– В каком смысле?
– Вы выбрали стать солдатом и командиром. Чем вам пришлось пожертвовать, чтобы получить это назначение?
– Приходилось подолгу разлучаться с семьей.
– Что еще?
– Когда у тебя шесть тысяч человек, чья жизнь зависит от тебя, у тебя нет права на страх.
– Вам пришлось пожертвовать чувствами к родным. Пожертвовать ими, чтобы ваши подчиненные могли видеть своих родных.
Он кивнул.
– Вы сказали, что погибнуть легко. Вы когда-нибудь хотели умереть?
– Каждую минуту.
– Что вас останавливает?
– Мои дети. – Он кривится от боли. – А они считают, что я чудовище. Что без меня им было бы лучше.
– Хотите знать, какой я вижу вашу ситуацию? Я думаю, вашим детям было бы куда лучше с вами. С вами, с человеком, которого я начинаю узнавать и которым начинаю восхищаться. Человеком, который способен рискнуть и заговорить о своем страхе. Человеком, у которого есть мужество принять и простить себя.
Он замолчал. Вероятно, в тот день он в первый раз увидел возможность освободить себя от вины за прошлое.
– Я не могу отправить вас назад в тот день, чтобы вы спасли своих ребят. Я не могу гарантировать безопасность вашим детям. Но я помогу вам защитить хотя бы одного человека – себя самого.
Он уставился на меня.
– Чтобы спасти себя, придется пожертвовать своим образом, с которым вы уже сжились.
– Надеюсь, от этого будет толк, – сказал он.
Вскоре полковника перераспределили, и они с семьей уехали из Эль-Пасо. Я не знаю, что стало с ними. Надеюсь, все изменилось к лучшему, очень за них переживаю. Но почему сейчас я думаю об этом? Как их история переплетается с моей? Что-то связанное с виной полковника, с его самобичеванием цепляет мое внимание. Память выводит меня на задачу, которую я уже выполнила или только буду выполнять? Я так далеко продвинулась со времени моего буквального освобождения, когда американские солдаты спасли меня в 1945 году. Я сняла маску. Научилась чувствовать и выражать эмоции, перестала сдерживать страхи и печаль. Я работала над тем, чтобы выразить и высвободить свою ярость. Даже приехала сюда, в дом моего гонителя. Даже простила Гитлера, выпустила его во Вселенную, пусть только на один день. Но что-то завязано узлом внутри, и опять тьма, поднимающаяся от живота к сердцу, опять напряжение в позвоночнике, и если сложить все вместе – неослабевающее чувство вины. Я была жертвой? Я не была жертвой? Почему я думаю, что к кому-то была несправедлива?
Вспоминается другой пациент. Ей был семьдесят один год, в семье она была постоянным источником проблем. У нее проявлялись все симптомы клинической депрессии. Она спала слишком много, ела слишком много, отгородилась от своих детей и внуков. Когда она изредка общалась с семьей, то обрушивала на них такой гнев, что внуки боялись ее. Ее сын подошел ко мне после лекции в их городе и спросил, найдется ли у меня час, чтобы поговорить с его матерью. Я не знала, чем смогу помочь ей за один-единственный короткий визит, пока мужчина не сообщил, что она, как и я, лишилась матери в возрасте шестнадцати лет. Я ощутила сочувствие к его матери, постороннему для меня человеку. Меня осенило, что я сама легко могла стать таким человеком и чуть им не стала – погрязшим в печали, которую прятала от людей, безумно меня любивших.
В тот день женщина, о которой шла речь, Маргарет, пришла в мой гостиничный номер. Она была тщательно одета, но враждебность превращала ее в дикобраза. Она сразу начала с жалоб: на свое здоровье, на родных, домработницу, почтальона, соседей, директора школы для девочек на ее улице. Казалось, она находила несправедливость во всем, что окружало ее в этой жизни. Час истекал, женщина так упивалась мелкими неурядицами, что мы даже не подобрались к тому, что, как я знала, было более серьезным источником ее недовольства жизнью.
– Где похоронена ваша мать? – внезапно спросила я.
Маргарет отшатнулась, словно я превратилась в дракона и дыхнула огнем прямо ей в лицо.
– На кладбище, – наконец сказала она, собравшись с силами.
– Где это кладбище? Поблизости?
– В этом самом городе, – сказала она.
– Вы нужны вашей матери прямо сейчас.
Я не дала ей времени возразить. Мы вызвали такси. Сели в машину и в окна смотрели на мокрые оживленные улицы. Она без остановки ругала других водителей, медленные светофоры, качество магазинов и заведений, которые мы проезжали, даже цвет чьего-то зонтика. Миновали железные ворота кладбища. Рослые деревья нависали над нами. Узкая мощеная дорожка вела от ворот в поле мертвых. Шел дождь.
– Там, – сказала наконец Маргарет, указав на скопление могильных плит на грязном холме. – Теперь, ради бога, скажите, что мы здесь делаем.
– Вы же знаете, что матери не могут уйти с миром, пока не убедятся, что их дети живут полной жизнью?
Я попросила ее снять туфли. Снять чулки. Встать босыми ногами на могилу матери. Соединиться с ней напрямую, чтобы она наконец обрела покой.
Маргарет вышла из такси. Она стояла на скользкой от дождя траве. Я оставила ее одну. Оглянулась только один раз и увидела, что Маргарет, скорчась на земле, обнимает могильный камень матери. Я не знаю, что она говорила, если вообще что-то говорила. Знаю только, что она стояла босыми ногами на могиле, что кожей своей коснулась этого места скорби. Знаю, что когда она снова села в такси, то все еще была босая. Она немного поплакала, затем умолкла.
Позднее я получу чудесное письмо от ее сына: «Я не знаю, что вы сделали с моей матерью, но теперь она другой человек – спокойная и радостная».
То был порыв, почти каприз, просто удачный эксперимент. Я решала задачу помочь ей переосмыслить жизнь, превратив проблему в благоприятный случай, дать ей возможность сыграть роль – оказать услугу матери. Маргарет поможет матери стать свободной и таким образом поможет самой себе.
Теперь, когда я снова оказалась в Германии, мне приходит на ум, что та же схема пойдет и мне на пользу. Голой кожей прикоснуться к месту потери. Почувствовать и отпустить. Венгерский экзорцизм.
Лежа без сна на Геббельсовой кровати, я понимаю, что должна пойти на то же самое, что сделала Маргарет: исполнить обряд скорби, от которого уклонялась всю свою жизнь.
Я решаю вернуться в Аушвиц.
Глава 19. Положить камень
Не могу представить, что спущусь в ад без Магды.
– Прилетай вечером в Краков, – молю сестру на следующее утро по телефону из вестибюля гостиницы. – Пожалуйста, возвратимся в Аушвиц вместе.
Без нее я бы не выжила. Да и теперь вряд ли. Я не перенесу возвращения в концлагерь, если она не рядом, не держит за руку. Я знаю, нельзя воскресить прошлого, стать тем, кем я была тогда, нельзя снова обнять маму, хотя бы единожды. Нет силы, способной переделать прошлое, сделать меня не той, кто я есть, изменить то, что было сделано с моими родителями, со мной. Пути назад нет. Я это знаю. Но не могу отрешиться от чувства, что что-то ожидает меня на месте прошлой неволи, что-то, что нужно восстановить. Или обнаружить. Некая, давно забытая, моя ипостась.
– Ты за кого меня принимаешь, за чокнутую мазохистку? – спрашивает Магда. – За каким чертом мне туда возвращаться? И зачем это тебе?
Справедливый вопрос. Что, если я только наказываю себя? Хочу разбередить рану? Возможно, я пожалею об этом. Но думаю, что пожалею больше, если не возвращусь туда. Сколько ни стараюсь убедить, Магда отказывается. Она выбирает никогда не возвращаться, и я уважаю ее за это. Но предпочитаю сделать другой выбор.
* * *
Семейство, когда-то принимавшее Марианну у себя в Копенгагене, предлагает погостить у них, пока мы находимся в Европе. Мы с Белой получаем приглашение и, как планировали, собираемся из Берхтесгадена ехать к ним.
Наш путь лежит через Зальцбург, идем на экскурсию к римско-католическому кафедральному собору, возведенному на месте, где когда-то стоял первый христианский храм, построенный в романском стиле. Узнаём, что за долгие столетия собор восстанавливался трижды, последняя реставрация закончилась совсем недавно. В конце войны во время бомбардировок рассыпался центральный купол, но сейчас не видно никаких следов разрушения. «Он вроде нас. Живучий», – говорит Бела, беря меня за руку.
Из Зальцбурга направляемся в Вену, проезжаем той местностью, которой когда-то, незадолго до нашего освобождения, шли мы с Магдой. Рассматриваю овраги, бегущие по обеим сторонам дороги, и вижу на их месте рвы, заваленные трупами, но одновременно замечаю, что, сегодняшние, они зеленеют летней травой. Мне становится ясно: прошлое не оскверняет настоящего, а настоящее не умаляет прошлого. Время – это среда. Это посредник. Время – путь, который мы проходим. Поезд проезжает Линц. Проезжает Вельс. Где я девочка с переломом позвоночника, которая учится заново танцевать и заново выводить прописную G.
Ночь проводим в Вене, недалеко от больницы Ротшильда. Мы жили в ней, когда ожидали визы в Америку, в ней до войны заведовал неврологическим отделением Виктор Франкл, мой старший мудрый друг. Наутро садимся в поезд, везущий нас на север.
Мне кажется, Бела надеется, что со временем мое желание возвратиться в Аушвиц слегка поубавится, но на второе утро в Копенгагене я прошу приятелей помочь нам пройти к польскому посольству. Как и Марианна ранее, они предостерегают меня, рассказывая о своих друзьях, выживших узниках концлагеря, которые умерли после посещения Аушвица.
– Не расковыривай раны, – молят они меня. Бела тоже выглядит обеспокоенным.
– Гитлер не победил, – напоминаю я ему.
Признаться, мне кажется, что самое трудное – собственное сомнение – уже пройдено, поскольку я принимаю окончательное решение – ехать. Но в посольстве мы с Белой узнаем, что Польша, охваченная забастовками и демонстрациями, с минуты на минуту ждет вмешательства Советского Союза, чье руководство настроено подавлять рабочие волнения, поэтому посольским рекомендовали не выдавать туристические визы гражданам западных стран. Бела собирается сказать мне что-то успокаивающее, но я только отмахиваюсь. В такие минуты проявляется настоящая сила воли, направляющая куда и к кому надо: так в Прешове я отдаю бриллиантовое кольцо тюремному надзирателю, так в Вене в рентгеновский кабинет входит вместо моего туберкулезного мужа здоровый муж сестры Клары. Я уже столь многого добилась в своей жизни и своем излечении, что не отступлю ни перед какими препятствиями.
– Я пережила холокост, – говорю я служащему посольства. – В Аушвице я была узницей. Там погибли мои родители, мои бабушка и дедушка. Там я изо всех сил боролась за свою жизнь. Пожалуйста, не отправляйте меня ни с чем.
Я еще ничего не знаю. Не знаю, что за этот год отношения между Польшей и Америкой начнут стремительно ухудшаться. Что они останутся напряженными до конца десятилетия. Что для меня и Белы фактически это последний шанс оказаться в Аушвице вместе. Но я твердо знаю, что не могу быть выставленной за дверь.
Служащий по-чиновничьи глядит на меня. Потом отходит от стойки. Возвращается. «Паспорта», – говорит он. В наших синих американских паспортах проставлены недельные туристические визы. Он добавляет так же бесстрастно: «Приятно провести время в Польше».
Вот тогда мне становится по-настоящему страшно. В поезде, который идет до Кракова, кажется, что меня окунают в плавильный котел, что еще чуть-чуть – и я достигну точки невозврата: либо сломаюсь, либо провалюсь в бездну, либо страх обратит меня в пепел. Начинаю уговаривать ту свою ипостась, которая чувствует, как с каждой милей теряет – слой за слоем – подкожную ткань. Вот здесь. Вот сейчас. К тому времени, когда окажусь в Польше, я снова стану скелетоподобной. Мне больше не хочется быть ходячими костями.
– Давай сойдем на следующей станции, – говорю я Беле. – Совсем не обязательно проходить весь путь до конца. Вплоть до Аушвица. Давай вернемся домой.
– Эди, – отвечает он, – с тобой все будет хорошо. Это всего лишь место. Оно не сможет причинить тебе зла.
Я остаюсь в поезде и проезжаю следующую станцию, а потом еще одну. Проезжаю Берлин. Познань. И тут в голову приходит формула стресса, выведенная доктором Гансом Селье, кстати тоже венгром. Стресс – это реакция организма на любое предъявленное ему требование извне. Наши непроизвольные реакции, когда мы включаем защитный механизм, – либо драться, либо бежать. В Аушвице – где мы вытерпели больше, чем стресс, где само существование было противоестественным, где вопрос жить тебе или умереть решался вмиг и где никто не знал, продолжится или прервется жизнь сейчас, – нам не оставляли ни выбора драться, ни выбора бежать. Меня сразу бы пристрелили, попробуй я сопротивляться, меня моментально убило бы током, попытайся я сбежать. Вот откуда моя способность плыть по течению, вот почему я усвоила привычку не высовываться и всегда оставаться в тени. Однако там, в лагере, я сумела развить единственное, что у меня осталось, – умение искать опору в себе, проникая в самую глубь своей души, которую ни один нацист никогда не сможет убить. Умение искать, находить и держаться за свою сущность. Возможно, это исчезают не слои подкожной ткани. Возможно, это просто растягивается моя кожа. Растягивается, чтобы вобрать все мои ипостаси – прошлые, настоящие и будущие.
Когда человек выздоравливает, он начинает принимать как себя нынешнего, так и себя вероятного, то есть того, кто он есть на самом деле, и того, кем мог бы стать. Вспоминаю пациентку, страдавшую ожирением. Она была слишком сурова к себе: каждый раз, смотрясь в зеркало или вставая на весы, женщина обзывала себя отвратительной коровой. Уверяла, что муж разочаровался в ней, а дети стыдятся. Говорила, что любящие ее люди заслуживают лучшего. Но для того чтобы стать той, кем она хотела быть, сначала нужно было полюбить себя такой, какая она есть. Мы сидели в моем кабинете, я попросила женщину мысленно остановиться на любой части ее тела: пальце на руке, пальце на ноге, животе, шее, подбородке – и с любовью поговорить о выбранном. Это выглядит так, это на ощупь такое-то, это прекрасно, потому что… Сначала ей было неловко, даже мучительно. Проще было клеймить себя, чем с вниманием и охотой отнестись к собственному телу. Мы продвигались медленно, осторожно. Я начала замечать небольшие перемены. Однажды она пришла ко мне на прием, и на ней был новый красивый и яркий шарф. В другой раз она сделала себе педикюр. Еще через день сказала, что позвонила сестре, с которой последнее время не общалась. Через некоторое время она обнаружила, что ей нравится гулять в парке, где дочь обычно играла в футбол. Женщина находила жизнь все более радостной и легкой, по мере того как училась любить части своего тела. Она даже начала худеть. Освобождение от проблемы начинается с принятия.
Ради выздоровления мы должны вобрать в себя тьму. К свету мы идем через долину теней. Я работала с ветераном вьетнамской войны, который, закончив воевать, отчаянно старался наладить прошлую, довоенную жизнь. Но с войны он вернулся человеком, тяжело травмированным физически и психологически. Уже в мирной жизни у него, вследствие ранений, развилась импотенция, его бросила жена, и он долго не мог найти работу. Когда ветеран обратился ко мне за помощью, в его душе царил полный хаос. Он был раздавлен разводом и тем, что казалось ему страшнее смерти, – половым бессилием и потерей идентичности. Я отдавала ему все свое сострадание, но он погряз в озлоблении и потерянности. Чем сильнее я пыталась установить с ним безусловную позитивную связь и вытащить его из бездны отчаяния, тем дальше он погружался в нее. Перед лицом его переживаний я сама ощущала собственное бессилие.
В качестве последнего средства я решила попробовать гипнотерапию. Мне пришлось вернуть его на войну, чтобы он снова почувствовал себя пилотом бомбардировщика. Находясь под гипнозом, ветеран проговорил: «Во Вьетнаме я мог пить сколько хотел. Я мог трахать кого хотел и сколько хотел». Его лицо налилось краской, и он выкрикнул: «Я мог убивать сколько хотел!» На войне он убивал не людей, а «узкоглазых», убивал недочеловеков. Так же как нацисты – они не убивали людей в лагерях смерти, а вырезали раковую опухоль. Война нанесла ему увечья и перевернула его жизнь, и все-таки он скучал по боевым вылетам. Ему не хватало ощущения могущества: его он обретал, сражаясь с противником и чувствуя себя неуязвимым, поскольку принадлежал к расе избранных, которая выше и сильнее другого народа.
От метода безусловной любви не было никакой пользы, пока я не разрешила ветерану выговориться и освободиться от той, одновременно и могущественной, и темной, ипостаси, по которой он тосковал и которую ему больше нечем было выразить. Меньше всего я хочу сказать, что у этого человека наблюдалась потребность убивать людей, потому что только так он мог почувствовать себя полноценной личностью. Дело в другом: чтобы выйти из состояния жертвы, в которое он сам себя загнал, ему понадобилось смириться и со своей прошлой силой, и со своим нынешним бессилием, и с тем, как он причинял страдания, и с тем, как ему нанесли увечья, травмирующие его гордость и вызывающие стыд. Единственное противоядие от душевной уязвимости – цельная идентичность.
Может быть, само понятие выздоровления не подразумевает удалять и шлифовать шрамы? Может быть, напротив, их следует оставлять? Вылечиться – значит дорожить своими прошлыми ранами и ценить свою былую душевную боль.
В полдень мы приезжаем в Краков. Сегодня ночью я и Бела будем спать здесь – если сможем уснуть. Завтра возьмем такси до Аушвица. Бела настоял пойти на экскурсию по Старому городу, я тоже пытаюсь выказать хоть какой-то интерес к средневековой архитектуре, но мой ум слишком занят ожиданием – странная смесь предвкушения и ужаса. Мы останавливаемся у Мариацкого костела, чтобы послушать, как горнист проиграет хейнал – звуки горна отмечают начало каждого нового часа. Мимо нас проталкивается компания подростков, они громко шутят по-польски. А мне не весело, скорее неспокойно. Эти совсем юные ребята, ненамного старше моих внуков, напоминают мне, как скоро следующее поколение станет совершеннолетним. Хорошо ли мое поколение обучило их? Смогут ли они предотвратить следующий холокост? Или наша выстраданная свобода погибнет в новом витке ненависти?
В моей жизни было немало способов повлиять на подрастающее потомство: мои дети и внуки, бывшие ученики, слушатели, к которым я обращаюсь по всему миру, юные пациенты. Накануне моего возвращения в Аушвиц моя ответственность перед ними кажется особенно сильной. Я возвращаюсь не только ради себя. А потому, что это нужно всем, кто так или иначе со мной связан.
Хватит ли у меня багажа, чтобы приносить пользу? Довольно ли сил, чтобы влиять на что-то? Смогу ли я передать свою силу, а не свои потери? Свою любовь, а не ненависть?
Однажды я уже подверглась подобному испытанию. По распоряжению суда ко мне на курс лечения направляют четырнадцатилетнего мальчика, принимавшего участие в краже автомобиля. Он входит в мой кабинет. Высокие ботинки, коричневая футболка. Облокачивается на мой стол и произносит: «Пришло время Америке снова стать белой. Я собираюсь убить всех евреев, всех чернокожих, всех мексиканцев, всех узкоглазых».
Подступает тошнота. Я борюсь с собой, чтобы не выбежать из кабинета. Хочется хорошенько встряхнуть парня. Громко закричать. Ору внутренним голосом. Что все это значит? Ты понимаешь, с кем разговариваешь? Я видела, как моя мать шла в газовую камеру. Даже если мое поведение сочтут за насилие, меня точно оправдают. Возможно, в этом и заключается моя работа – не только урезонить его, но и просветить, наставить, так сказать, на путь истинный. Именно поэтому Господь отправил его ко мне. Пресечь эту ненависть в зародыше. Я чувствую праведный гнев. Я злюсь? Ну что ж, лучше злиться, чем бояться. Сразу становится легче.
Но потом слышу внутренний голос: «Найди в себе фанатика». Пытаюсь его заткнуть. Но он опять за свое: «Найди в себе фанатика». Я придумываю целый список аргументов, что я не фанатик. Я без гроша приехала в Америку. Я ходила в уборную для «цветных» из солидарности к моим афроамериканским коллегам. Вместе с доктором Мартином Лютером Кингом я выступала против сегрегации. Но голос не унимался: «Найди в себе фанатика». Найди такую свою ипостась, которая осуждает, навешивает ярлыки, отрицает права другой личности, умаляет ценность другой человеческой жизни.
Мальчик продолжает разглагольствовать об упадке этнической чистоты американцев. Я дрожу от негодования и борюсь с желанием погрозить ему пальцем, поднести к носу кулак и заставить отвечать за его ненависть. При этом я сама не несу никакой ответственности за собственную. Не этот мальчик убивал моих родителей. Лишив его своей любви, я не одолею его предрассудки.
Я молю о возможности испытать его любовью. Вспоминаю все известные мне примеры безусловной любви. Я думаю о Корри тен Бом – она праведник мира. Вместе с семьей сопротивлялась гитлеровской пропаганде и скрывала у себя дома евреев. Корри спасла сотни человек, в итоге оказалась в концлагере. Ее сестра тоже – она угасла на руках Корри. Из-за канцелярской ошибки Корри отпустили за день до того, как все заключенные Равенсбрюка были казнены. Через несколько лет после войны она встретила одного из самых злобных охранников этого концлагеря, который был непосредственным виновником смерти ее сестры. Она могла проклясть его, пожелать ему смерти. Но она помолилась, чтобы ей даровали силу прощения, и взяла его руки в свои. Корри говорит, что в тот миг, когда она, бывшая узница, сжала руки бывшего тюремщика, она ощутила самую чистую и глубокую любовь. Я пытаюсь найти это чувство в себе, отыскать в своем сердце сострадание, наполнить взгляд добротой самой высокой пробы. Я думаю, может ли быть так, что этот мальчик-расист отправлен судом ко мне по воле судьбы, поскольку я с ним лучше разберусь в практике безусловной любви. Какие возможности есть у меня на этот момент? Какой выбор мне надо сделать в эту секунду, чтобы найти любовь и прощение?
Например, я могу полюбить этого мальчика только ради него самого, потому что он есть, вот такой неповторимый, в нашей жизни. Могу полюбить, наконец, ради общих гуманитарных представлений. Более того, я позволю ему говорить все, что он захочет, он может испытывать любые чувства – без страха, что его осудят. Вспоминаю немецкую семью, жившую какое-то время на военной базе Форт-Блисс: маленькая девочка забиралась ко мне на колени и называла меня oма – на немецком это означает «бабушка». Тот немецкий ребенок был послан мне как маленькое благословение, как прозвучавший через десятилетия ответ на мои полубредовые мысли, что немецкие дети, плевавшие в заключенных, когда мы брели через немецкие города, в один прекрасный день поймут, что им не нужно меня ненавидеть. В моей жизни такой день наступил. Однажды я прочитала в журнальной статье, что большинство современных американских расистов в возрасте до десяти лет лишились одного из родителей. Это потерянные дети, у которых явная проблема с самоидентификацией, которые ищут способ почувствовать себя сильными и стать социально значимыми людьми.
Вспомнив эту статистическую выкладку, я беру себя в руки и смотрю на этого мальчика с такой любовью, на какую только способна. Говорю ему свои заветные три слова: «Расскажи мне больше…» И не произношу в тот первый сеанс ни одного другого слова. Только слушаю. Сочувствую. Он так похож на меня послевоенную. Мы оба потеряли родителей: его – просто пренебрегли своим родительским долгом и отказались от мальчика, мои – погибли. Мы оба относимся к себе как к порченному товару.
Отказавшись от своих категорических суждений о нем, отступив от желания заставить его быть кем-то иным или верить во что-то иное, я сразу увидела его уязвимость, его тоску по любви и участию. Позволив себе, преодолевая собственные страхи и гнев, принять и полюбить этого мальчика, я смогла дать ему то, чего коричневая футболка и высокие ботинки дать не могли, – подлинный образ его собственной ценности. В тот день, когда он покинул мой кабинет, он ничего не знал о моей истории, но понял, что можно транслировать не только ненависть и предубеждения. Мальчик больше не говорил об убийствах. У него оказалась приятная мягкая улыбка. А я, в свою очередь, взяла на себя ответственность не распалять вражду и не бросаться обвинениями. Я не стала отдавать дань ненависти и делать вывод, что мальчик мне не по силам.
Теперь, накануне моего возвращения в концлагерь, я напоминаю себе, что в каждом из нас живут и Адольф Гитлер, и Корри тен Бом. В нас заложена способность любить и способность ненавидеть. К кому из них мы потянемся – к своему внутреннему Гитлеру или своей внутренней Корри – зависит от нас.
Наутро мы собираемся ехать в Аушвиц и вызываем такси. Бела тут же начинает болтать с водителем о его семье и детях. Я смотрю на пейзаж, который не видела с шестнадцати лет, с той минуты, когда поезд приближался к Аушвицу, а я всматривалась в окрестности из темноты нашего вагона для скота. Фермы, деревни, зелень. Жизнь продолжается сейчас, жизнь продолжалась тогда – во всем окружающем нас мире, пока мы были заключены в этом лагере.
Водитель высаживает нас, и мы с Белой одни стоим перед моим бывшим местом неволи. Над нами нависает металлическая надпись: ARBEIT MACHT FREI – «Труд делает свободным». При виде ее, при мысли о папе у меня подкашиваются ноги. Эти слова подарили ему надежду. Мы только поработаем немного, пока не закончится война. Он так и думал, что поработаем до конца войны. Продлится недолго, а потом нас отпустят. ARBEIT MACHT FREI. Эти слова убаюкивали до самых газовых камер, пока двери не замыкались и все, кого мы любили, не оставались внутри, – тогда паника уже была бессмысленна. С той минуты слова «Arbeit macht frei» взирали на нас с ежедневной, ежечасной насмешкой, поскольку ничто не могло нас освободить. Кроме смерти. Она становилась спасением. И тогда сама идея свободы сводилась еще к одной формуле безнадежности.
Трава здесь сочная. Деревья с пышной листвой. Но облака цвета кости. Под ними постройки, подавляющие пейзаж – и сохранившиеся, и даже разрушенные. Многие километры беспощадных заборов. Огромное пространство, заполненное крошащимися кирпичными бараками и голыми прямоугольными участками, где раньше стояли здания. Унылые горизонтальные линии – бараков, заборов, башен – правильные и упорядоченные, но в этих геометрических формах нет жизни. Это геометрия планомерных пыток и смерти. Математически выверенное уничтожение. Я снова замечаю то, что преследовало меня все те адские месяцы, когда это был мой дом: я не вижу и не слышу ни одной птицы. Птицы здесь не живут. Даже сейчас. В небе не видно их крыльев, тишина давит сильнее, потому что не слышно их пения.
Собираются туристы. Начинается экскурсия. Группа небольшая, восемь – десять человек. Необъятность подминает тебя. Я чувствую это в нашей неподвижности, в том, как мы почти перестаем дышать. Невозможно охватить грандиозность ужаса, который творился на этом месте. Такое даже мне трудно определить, а я была тут, когда горели огни, я спала, просыпалась и трудилась в зловонии сжигаемых трупов. Мозг пытается вместить цифры, пытается воспринять сбивающие с толку скопления вещей, которые были собраны, отсортированы и выставлены на обозрение туристам: чемоданы, отобранные у тех, кого скоро умерщвлят; миски, тарелки, кружки; тысячи и тысячи очков, сцепленных в единый клубок, точно сюрреалистическое перекати-поле. С любовью связанные детские вещи для младенцев, которые никогда не стали детьми, а потом женщинами и мужчинами. Стеклянный ящик, шестьдесят семь метров, до краев набит человеческими волосами. Мы считаем: четыре тысячи семьсот трупов сгорело в каждой печи, семьдесят пять тысяч убитых поляков, двадцать одна тысяча убитых цыган, пятнадцать тысяч убитых советских граждан. Цифры растут и растут. Мы можем составить уравнение – мы можем работать с примерами, которые охватывают более миллиона погибших в Аушвице. К этому числу мы можем прибавить списки тех, кто погиб в тысячах других лагерей в Европе во времена моей юности, а также трупы людей, сваленные в канавы и выброшенные в реки до того, как этих людей отправляли в лагеря смерти. Но нет уравнения, которое могло бы адекватно суммировать общее последствие подобной потери. Нет языка, которым можно описать систематическую бесчеловечность этой фабрики смерти, созданной человеком. Более миллиона были убиты прямо здесь, где я стою. Это самое большое кладбище в мире. И над всеми десятками, сотнями, тысячами, миллионами погибших, над всем сначала упакованным, потом насильственным образом отобранным скарбом, над километрами забора и кирпича вырисовывается, принимая угрожающие размеры, еще одна цифра. Цифра ноль. Здесь, на самом большом кладбище в мире, нет ни одной могилы. Только пустые участки, где стояли крематории и газовые камеры, поспешно уничтоженные нацистами перед освобождением. Голые участки земли, где истребили моих родителей.
Наша экскурсия завершается в мужском лагере. Я все еще должна пойти в женский лагерь, в Бжезовицу. Именно за этим я здесь. Бела спрашивает, не хочу ли я, чтобы он пошел со мной, я качаю головой. Эту последнюю часть пути я должна пройти одна.
Я оставляю Белу у входных ворот и снова возвращаюсь в прошлое. Через громкоговорители играет музыка, радостные звуки, не вяжущиеся с мрачным пространством. Подбадривающий голос отца. Вот видишь, не похоже на то, что это ужасное место. Мы только поработаем немного, пока не закончится война. Это временно. Мы сможем это пережить. Он подходит к своей очереди и машет мне. Махнула ли я ему в ответ? О память, скажи мне, что я помахала отцу перед его смертью.
Мать держит меня под руку. Мы идем бок о бок. «Застегни пальто. Не сутулься», – говорит она.
Я снова внутри той картинки, которая всю жизнь стоит перед моим внутренним взором: на безжизненном пространстве двора три женщины в темных шерстяных пальто крепко держатся за руки. Моя мать. Моя сестра. Я.
На мне пальто, которое я надела тем апрельским рассветом, я тощая и плоскогрудая, волосы убраны под шарф. Мать снова бранит меня, напоминая, чтобы я стояла прямо: «Ты женщина, не ребенок». Ее придирки не беспричинны. Она хочет, чтобы я выглядела на свои шестнадцать и даже старше. От этого зависит моя жизнь.
И все же я ни за что на свете не выпущу руку матери. Охранники тычут и толкают нас. Наша очередь медленно продвигается. Впереди я вижу тяжелый взгляд Менгеле, его улыбку, щель между зубами. Он дирижирует очередью. Радушный хозяин. «Кто-нибудь болен? – участливо спрашивает он. – Кто старше сорока? Кому нет четырнадцати? Идите налево, идите налево».
Это наш последний шанс. Поделиться словами, поделиться молчанием. Обнять друг друга. На этот раз – сейчас – я знаю, что это конец. И все равно я не справляюсь. Я просто хочу, чтобы моя мать посмотрела на меня. Успокоила. Чтобы смотрела и никогда не отводила взгляд. Что за необходимость обращаться к ней снова и снова? Что за невозможная вещь, которую я хочу?
Теперь наша очередь. Доктор Менгеле поднимает палец.
– Она твоя мать или твоя сестра? – спрашивает он.
Я цепляюсь за руку матери, Магда обнимает ее с другой стороны. Хотя никто из нас не знает, что означает, когда тебя отправляют налево или направо, моя мать интуитивно понимает, насколько важно, как я выгляжу – на свой возраст или чуть старше. Нужно выглядеть довольно взрослой, чтобы пройти первую очередь селекции и остаться живой. Ее волосы седые, но кожа такая же гладкая, как моя. Она могла бы сойти за мою сестру. Но я не думаю, какое слово защитит ее – мама или сестра. Я вообще не думаю. Я только чувствую, что люблю ее и нуждаюсь в ней каждой клеточкой. Она моя мать, моя мама, моя единственная мама. И я говорю слово, которое всю оставшуюся жизнь буду пытаться изгнать из сознания, слово, которое до сегодняшнего дня не позволяла себе вспоминать.
– Мама! – говорю я.
Как только оно слетает с моих губ, я хочу затолкать его обратно. Она твоя мать или сестра? Я слишком поздно поняла значение его вопроса. Сестра, сестра, сестра! Мне хочется кричать, умолять, визжать. Менгеле указывает ей налево. Она идет вслед за маленькими детьми, пожилыми женщинами, матерями, которые держат детей на руках, беременными. Я пойду за ней. Я не выпущу ее из вида. Я бросаюсь к матери, но Менгеле хватает меня за плечо.
– Ты очень скоро увидишь свою маму, – говорит он.
И отталкивает меня направо. К Магде. В другую сторону. К жизни.
«Мама!» – кричу я. Мы снова разделены, даже в моей памяти, как были и в жизни. Но я не позволю воспоминаниям опять стать тупиком, не позволю окончиться вот так. «Мама!» – произношу я. Меня не устраивает видеть ее затылок. Я должна увидеть ее лицо целиком. Ее светлое лицо.
Она поворачивается и смотрит на меня. Она стоит неподвижно среди уходящего потока других обреченных. Я чувствую ее сияние, красоту, которая больше чем красота, – она ее так часто скрывала под печалью и недовольством. Она видит, что я смотрю на нее. Улыбается. Слабая улыбка. Грустная улыбка.
«Я должна была сказать “сестра”! Почему я не сказала “сестра”?» – взываю к ней после стольких лет, молю о прощении. Вот за чем я вернулась в Аушвиц. Чтобы услышать, как она говорит мне, что я сделала все возможное. Что я сделала правильный выбор.
Но она не может этого сказать, а если и сказала бы, я не поверю. Я могу простить нацистов, но как мне простить себя? Я прожила бы это снова: каждую селекцию, каждый душ, каждую леденящую ночь, каждую смертельную перекличку, каждый в страхе съеденный паек, каждый вдох в отравленном дымом воздухе, каждый раз, когда я была близка к смерти или желала ее, – если бы я только могла прожить этот миг снова, этот миг и еще один перед ним, когда была возможность сделать иной выбор. Когда я могла дать другой ответ на вопрос Менгеле. Когда я могла спасти, пусть даже на один день, жизнь моей матери.
Мать отворачивается. Я смотрю на ее серое пальто, ее мягкие плечи, ее волосы, вьющиеся и блестящие, – все это отдаляется от меня. Я вижу, как она идет с другими женщинами и детьми к раздевалкам, где она снимет пальто, в кармане которого еще лежит Кларин «чепец», где всем скажут запомнить номер крючка, на который они повесят свою одежду, как будто вернутся к этому платью, этому пальто, этой паре туфель. Моя мать будет стоять нагишом рядом с другими матерями – бабушками, молодыми мамами с младенцами на руках – и с детьми тех матерей, которых отправили в ту же очередь, что и меня с Магдой. Она спустится по стертым ступеням лестницы в зал с душевыми насадками на стенах, туда будут заталкивать все больше и больше людей, пока не станет душно от пота, слез и отдающихся эхом криков детей и женщин, пока зал не набьется голыми телами и станет нечем дышать. Заметит ли мать небольшие квадратные отверстия в потолке, через которые надсмотрщики подадут газ? Как долго она будет сознавать, что умирает? Довольно долго, чтобы подумать обо мне, Магде и Кларе? О моем отце? Довольно, чтобы помолиться за свою мать? Довольно, чтобы разозлиться на меня, которая одним словом за одну секунду отправила ее на смерть?
Если бы я знала, что мою мать уничтожат в тот день, я сказала бы другое слово. Или вообще ничего. Я пошла бы за ней в душ и погибла бы вместе с нею. Я могла бы сделать что-то другое. Я могла бы сделать большее. Я верю в это.
И все же. (Опять это «все же» – опять этот щелчок затвора автомата.) Как легко жизнь может превратиться в литанию вины и сожаления, песнопение с одним и тем же рефреном о невозможности простить себя. Как легко жизнь, которой мы не жили, становится единственной жизнью, которую мы превозносим. Как легко мы поддаемся искушению нашего воображения, что владеем собой, что когда-то владели собой, что слова или поступки, которые нам следовало сказать или совершить, обладают силой излечивать боль, стирать страдания, уничтожать потерю – только бы произнести или исполнить их. Как легко мы поклоняемся культу выбора, который, как нам кажется, мы могли или должны были сделать.
Могла ли я спасти свою мать? Возможно. И всю оставшуюся жизнь придется жить с этой возможностью. Я могу казнить себя за то, что сделала неверный выбор. Это моя прерогатива. Или могу принять, что более важный выбор не тот, который я сделала тогда, когда была голодна и перепугана, когда нас привезли в неизвестность и окружили автоматчиками с собаками, когда мне было всего шестнадцать, – а тот, что делаю сейчас. Выбор принять себя той, какая я есть, а я человек несовершенный. И выбор принять ответственность за собственное счастье. Простить свои слабости, недостатки и восстановить свою невиновность. Прекратить спрашивать себя, чем я заслужила свою жизнь, чем заслужила свое выживание. Делать лучшее, на что я способна, и служить людям. Делать все, что в моих силах, и почитать родителей, чтобы их смерть не была напрасной. Делать все, что в моих силах, – а в этом мои возможности ограничены, – чтобы будущие поколения не испытали того, что познала я. Быть полезной, работать до последнего дня, жить полной жизнью и наслаждаться ею и каждый миг делать мир немножко лучше. И наконец, наконец, перестать убегать от прошлого. Сделать все, чтобы искупить его и затем отпустить. Я могу сделать выбор, который способен сделать каждый из нас. Я никогда не смогу изменить прошлого. Но смогу спасти жизнь – она моя. Та, которой я живу прямо сейчас, в этот драгоценный миг.
Я готова идти. Беру с земли камень, маленький, шершавый, серый, неприметный. Сжимаю его в руке. По еврейской традиции мы кладем маленькие камни на могилы в знак уважения к мертвым, чтобы совершить мицву – благодеяние. Камень означает, что мертвые живут в наших сердцах и нашей памяти. Камень в моей руке – знак непреходящей любви к родителям. Знак вины и печали. С этим я пришла сюда, чтобы оказаться лицом к лицу с беспредельным и ужасающим. Это смерть – смерть моих родителей, смерть прежней жизни, смерть того, чего не случилось. Но все-таки я могу подчинить это своей воле. Так происходит рождение той жизни, что есть в настоящем. Здесь я когда-то узнала, что такое терпение и сострадание. Здесь и сейчас научаюсь больше не осуждать себя и откликаться, а не реагировать. Я пришла сюда за правдой и миром – и тем, что я наконец могу отпустить и оставить позади.
Я кладу камень на землю, на то место, где когда-то стоял мой барак, где я спала на деревянных нарах с пятью другими девочками, где танцевала вальс «Голубой Дунай», крепко закрыв глаза, потому что танцевала его за свою жизнь. «Я скучаю по вас. Я люблю вас. И всегда буду любить», – говорю я своим родителям.
Я приношу последние слова прощания огромному лагерю смерти, поглотившему моих родителей и многих людей; всем его комнатам ужаса, хранившим для меня тайные знания этой жизни, чтобы научить меня, как жить. Меня мучили, но я не стала жертвой, мне причиняли боль, но не сломили, душа никогда не умирает, а смысл и цель нашей жизни мы находим в тайниках нашего самого большого кошмара. Прощай. И спасибо тебе. Спасибо за жизнь. Спасибо за возможность принять наконец то, что у меня есть.
Я иду к железным воротам моей прежней неволи, к Беле, который ждет меня, сидя на траве. Краем глаза вижу человека в форме, который ходит под металлической надписью туда и обратно. Это не солдат, а охранник музея. Но когда я вижу, как он вышагивает в своей форме, нельзя не замереть, не затаить дыхания, не приготовиться услышать автоматную очередь. На долю секунды я снова становлюсь испуганной девочкой, девочкой, которая в опасности. Я заключенный в камере. Но дышу и жду, когда этот миг пройдет. Касаюсь синего американского паспорта в кармане пальто. Охранник доходит до надписи и поворачивает обратно, идет в лагерь. Он должен остаться. Это его долг. Но я могу уйти. Я свободна!
Я покидаю Аушвиц. Я ухожу! Прохожу под словами ARBEIT MACHT FREI. Какими жестокими и циничными они оказались. Но когда я ухожу прочь от бараков, разрушенных крематориев, караульных, туристов и музейного охранника, когда я прохожу под темными железными буквами и иду к мужу, я вижу искорку истины в этих словах. Моя работа действительно освободила меня. Я выжила, чтобы делать свое дело. Не то, которое насаждали нацисты, – каторжный труд, несущий голод и рабство, превращающий людей в изнемогающих животных. Я говорю о внутренней работе. Учиться жить, учиться получать удовольствие от жизни, учиться прощать себя и помогать другим учиться тому же. Моя работа дает мне уверенность, что я больше никогда не буду ни заложником, ни узником. Я свободна.
Часть IV. Исцеление
Глава 20. Танец свободы
Одна из последних моих встреч с Виктором Франклом происходит в 1983 году в Регенсбурге на Третьем мировом конгрессе по логотерапии. Ему почти восемьдесят, мне пятьдесят шесть. Во многих отношениях я продолжаю оставаться тем же человеком, каким была в 1966-м в Эль-Пасо, когда, сидя в университетской аудитории на лекции, испытала приступ паники от вопроса своего соседа, находилась ли я в Аушвице. Он дал мне тогда тонкую книжку в бумажной обложке, которую я положила в сумку и подумала, что вряд ли когда-нибудь открою. Прошло семнадцать лет. Я еще не избавилась от сильного акцента. У меня еще случаются приступы репереживаний. Во мне еще живы мучительные образы прошлого, и я еще оплакиваю свои потери. Но больше я не ощущаю себя жертвой. Всю свою жизнь я испытываю и всегда буду испытывать огромную любовь и благодарность к двум людям: американскому солдату и Виктору Франклу – они мои освободители. Солдат вытащил меня из-под груды трупов в Гунскирхене. Франкл освободил от потребности закрываться от всех, помог найти слова для осмысления моих переживаний и указал путь, как справиться с душевной болью. Благодаря его наставлениям и дружеским советам я обнаружила, что горе мое не бесцельно, и открыла для себя, в чем его смысл. Это помогло не только научиться жить в мире с прошлым, но и выйти из испытаний с таким сокровенным знанием, что им стоит делиться, – как найти свой путь к свободе. В последний вечер, после всех заседаний и встреч, все танцевали. Мы были там, двое танцующих немолодых людей. Два человека, которые наслаждаются священным даром. Два человека, которые пережили холокост, которые научились жить счастливо и быть свободными.
Моя многолетняя дружба с Виктором Франклом, как и целительные, в первую очередь для меня, отношения с пациентами, включая тех, кого я упоминала выше, преподала мне тот же главный урок, основы которого я начала познавать в Аушвице: болезненные жизненные переживания – это не бремя, а дар. Они расширяют границы понимания и наполняют его новым смыслом, дают возможность найти свою единственную цель и обрести силу духа.
Не существует универсального шаблона излечения, но есть шаги, которые стоит изучить и практиковать, шаги, которые каждый может делать, продолжая идти собственным путем. Будем считать, что это шаги танца свободы.
Первым таким танцевальным шагом для меня становится отношение к собственным чувствам. Я учусь брать за них ответственность. Чтобы перестать подавлять и избегать их, чтобы не обвинять в них Белу или кого-то еще, чтобы принимать их, понимая, что принадлежат они только мне. Это становится жизненно важным шагом в лечении капитана Джейсона Фуллера. Как и я, он находится во власти привычки подавлять свои чувства, убегать от них до тех пор, пока они не достигнут такой степени, что уже он подпадает под их власть, а не наоборот. Я предупреждаю Джейсона, что, игнорируя собственные чувства, он все равно не избавится от боли. Он должен взять на себя ответственность, чтобы пережить их, потом в конце концов выразить – только безопасным способом, – а затем отпустить. В первые недели терапии мы с ним проходим аутотренинг управления эмоциями, заучивая своеобразную мантру: замечать, принимать, проверять, оставаться.
Когда чувства начинают овладевать Джейсоном, первым шагом к управлению ими становится признание, что он испытывает их, то есть необходимо заметить чувства. Ага! Вот оно. Это злость. Ревность. Грусть. Что-то подобное мог бы произнести капитан. (Мой юнгианский психотерапевт рассказал одну вещь, которую я нашла довольно удобной: хотя нам кажется, что палитра человеческих чувств безгранична, на самом деле каждый эмоциональный оттенок, как и оттенки цвета, выводится из нескольких базовых эмоций – грусть, злость, радость, испуг. Тем, кто только знакомится с эмоциональным спектром, учась различать свои эмоции, как я в тот момент, намного проще усвоить именно эти четыре позиции.)
Как только Джейсон сможет назвать свои чувства, он должен признать, что они его собственные, то есть принять. Они могут быть вызваны чьими-то действиями или словами, но принадлежат ему. Сорваться на другого человека или наброситься на него – этот шаг не приведет к тому, что чувства исчезнут.
Затем, определившись со своими чувствами, он должен проверить реакцию организма. Мне жарко? Холодно? Сильное сердцебиение? Что творится с моим дыханием? Со мной вообще все в порядке? Настроиться непосредственно на чувство, понять, как на него реагирует тело, – все это поможет Джейсону остаться со своим чувством, пока оно не пройдет или не изменится. Джейсону не нужно закрываться, убегать от своих чувств или глушить их лекарствами. Он мог выбрать проживать их. Это всего лишь чувства. Он мог принять их, хранить, остаться с ними – потому что чувства всегда временные.
Как только Джейсон приобретает какой-то навык настраиваться на свои чувства, мы начинаем учиться отвечать на них, а не просто регистрировать. Прежние привычки Джейсона можно сравнить с принципом скороварки. Он держал себя под жестким контролем, пока не взрывался изнутри. Я помогаю ему научиться брать пример с чайника – выпускать пар. Когда он приходит на сеанс, я его спрашиваю, как он себя чувствует. Иногда он отвечает, что ему хочется кричать. На что я говорю: «Отлично! Давай покричим. Давай выпустим все это, чтобы оно не вылилось в болезнь».
Когда Джейсон осваивает, как принимать и смотреть в лицо своим чувствам, а не отворачиваться от них, он начинает обращать внимание, что в своей семье часто выступает источником страха, давления и насилия и воспроизводит тем самым модель родительской семьи своего детства. Он усвоил от отца-тирана, что любое проявление чувств нуждается в неусыпном контроле и жестком подавлении, отсюда развилась его потребность надзирать за женой и детьми.
Иногда терапия помогает нашим пациентам восстановить отношения со своими близкими, иногда настолько освобождает человека, что тот уже готов пойти по собственному пути. Я провожу несколько семейных консультаций для Джейсона и его жены, через несколько месяцев жена сообщает Джейсону, что готова с ним развестись. Джейсон разъярен и огорошен. Я боюсь, что горе из-за разрушенного брака повлияет на его отношение к детям. Сначала им овладевает жажда мести, он хочет добиваться полной опеки, но все-таки преодолевает столь категоричную, не допускающую компромиссов установку, и вместе с женой они приходят к соглашению о совместной опеке. Ему удается восстановить и поддерживать отношения с детьми – собственно, именно мысль о них и воодушевляет его сложить оружие. Он отрекается от отцовского наследия, положив конец своим буйствам и жестокому обращению с родными.
Как только мы начинаем признавать свои чувства и брать за них ответственность, мы учимся отвечать и за свою роль в довольно динамичных процессах, формирующих отношения между людьми. Именно так когда-то произошло со мной. Благодаря собственному браку и своим отношениям с детьми я усвою урок, что наша связь с близкими становится одним из испытательных полигонов нашей свободы. С этим мне приходится часто сталкиваться в моей работе.
В то утро, когда я впервые принимаю эту семейную пару, Джун одет в помятые широкие брюки и простецкую рубашку, на Линг – идеально сшитая юбка и пиджак в тон, профессионально нанесенный макияж и тщательно уложенные волосы. Джун забивается в угол дивана, рассматривает развешанные на стенах фотографии и дипломы – смотрит на что угодно, только не на Линг. Она выбирает противоположный конец дивана, изящно приседает на край и смотрит прямо на меня.
– У нас проблема. Мой муж слишком много пьет, – без прелюдий заявляет Линг.
Джун краснеет. Кажется, он вот-вот заговорит, но все-таки решает промолчать.
– Это должно прекратиться, – продолжает Джун.
Я спрашиваю, что означает ее «это». Какое именно поведение она считает предосудительным до «такой» степени?
По словам Линг, раньше Джун выпивал изредка, по вечерам или выходным, но за последние год-два пьянство мужа стало ежедневным ритуалом. Он начинает до прихода домой стаканом виски в баре рядом с университетом, где читает лекции. За той порцией уже дома повторяется еще одна, а потом еще. К ужину, когда они садятся за стол вместе с двумя детьми, у него вполне остекленевший взгляд, голос чересчур громкий, а шутки чересчур плоские. Линг чувствует себя одинокой, ей претит одной тянуть обязанности по уборке дома и довольно тяжело выполнять весь церемониал по отходу детей ко сну. К тому времени, когда пора ложиться спать самой, она чувствует, что буквально вскипает от отчаяния. Я спрашиваю об интимной стороне их жизни. Линг вспыхивает, но рассказывает, что раньше Джун хотел ее, когда они спали вместе, но она, как правило, была слишком расстроена, чтобы отвечать взаимностью. Теперь он обычно засыпает на диване.
– Это еще не все. Он разбивает посуду, потому что пьяный. Приходит домой поздно. Забывает, о чем я его прошу. За руль садится в пьяном виде. Рано или поздно он попадет в аварию. Как я могу доверить ему поездки с детьми?
Пока Линг говорит, Джун как будто растворяется. Он утыкается взглядом себе в колени. Выглядит обиженным, замкнутым, пристыженным – и разозленным, но его неприязнь направлена внутрь себя. Я спрашиваю Джуна, как он видит их повседневную жизнь.
– Я всегда ответственно отношусь к детям. Она не имеет права обвинять меня, что я подвергаю их опасности.
– А как насчет ваших отношений с Линг? В каком направлении, по-вашему, движется ваша семейная жизнь? – задаю я следующий вопрос.
– Ну я же пришел сюда, – пожимает он плечами.
– Я вижу, вы сели на большом расстоянии друг от друга. Не верный ли это знак, что между вами образовалась большая пропасть?
– Точно, – быстро реагирует Джун.
Линг хватается за сумочку.
– А все потому, что он пьет! Вот из-за чего мы отдаляемся, – вмешивается она, все сильнее сжимая сумку.
– Судя по всему, между вами много гнева, который разъединяет вас, – продолжаю я.
Перед тем как кивнуть, Линг окидывает мужа быстрым взглядом.
Через меня проходят многие пары, застревающие в этом танце. Она пилит – он начинает пить. Он пьет – она начинает пилить. Они сами выбирают подобную хореографию. Интересно, сможет ли один из них выполнить иной танцевальный шаг?
– Любопытно… – начинаю я. – Любопытно, сохранится ли ваш брак, если Джун перестанет пить.
Джун сжимает зубы. Линг выпускает сумочку на волю.
– Именно, – говорит она. – Это то, что и должно произойти.
– А что, собственно, должно произойти, если Джун перестанет пить? – спрашиваю я.
Я рассказываю им о своей знакомой паре. Муж пристрастился к бутылке. Однажды он решил, что с него хватит. Не хотел больше пить. Ему понадобилась помощь. Он решил, что лучшим вариантом будет пройти курс лечения от алкоголизма, и начал усердно работать над своей трезвостью. Именно об этом молилась его жена. Оба думали, что отказ от спиртного решит все проблемы. Но по мере того как продвигалось лечение, их брак все больше трещал по швам. Когда жена навещала его в реабилитационном центре, почему-то в ее памяти всплывало только злое и горькое. Она не могла удержаться, чтобы не напомнить ему картинку из прошлого. Помнишь, лет пять назад тебя вырвало на мой любимый ковер? А тот раз, когда ты испортил праздник в честь нашей годовщины? Ее уже ничто не могло сдержать, словно она наизусть читала длинный и скучный перечень всех его ошибок, разочаровавших ее, всех проступков, причинивших ей боль. Чем успешнее муж шел на поправку, тем хуже становилось ей. Он стал чувствовать себя сильнее, его мозг был свободен от токсического воздействия алкоголя, он уже не стыдился самого себя, стал лучше разбираться в себе и вообще был настроен на дальнейшую жизнь и отношения с женой. А она все сильнее и сильнее бесилась. Муж перестал пить, но жена не смогла перестать критиковать и обвинять.
Я называю этот эффект «доска – качели». Один человек наверху, другой внизу. Множество браков и отношений строятся по такому принципу. Двое людей живут по негласному договору: один – хороший, другой – плохой. Вся система отношений держится на неадекватном поведении одного человека. «Плохой» партнер получает карт-бланш на проверку степени дозволенности, «хорошему» партнеру только и остается, что самоутверждаться: «Смотрите, как я благороден! Смотрите, как я терпелив! Смотрите, с чем приходится мириться!»
Но вдруг «плохому» партнеру надоест его роль? Ему не терпится выступить в другом амплуа. Что тогда? Тогда в системе отношений место «хорошего» оказывается под ударом. Чтобы остаться в сильной позиции, «хорошему» приходится напоминать, какой он хороший, а партнер все равно плохой. Или придется срочно менять позицию: «хороший» становится «плохим», то есть агрессивным, раздражительным, – и тогда оба могут продолжать качаться на качелях. В любом случае обвинения – сердцевина-крепление, удерживающая доску и позволяющая ей раскачиваться; это стержень, скрепляющий пару.
Безусловно, в жизни масса случаев, когда в семьях поступки людей действительно способствуют несчастью других. Я не утверждаю, что стоит мириться с агрессивным или деструктивным поведением. Но мы остаемся жертвами до тех пор, пока считаем, что только второй из нас несет ответственность за наше благополучие. Если Линг говорит, что будет счастлива и спокойна, только если Джун перестанет пить, она оставляет открытой возможность продолжать жить в горестных метаниях. Расстояние между ее счастьем и очередным крушением надежд всегда будет измеряться бутылкой со спиртным или даже одним глотком. Аналогично, если Джун заявляет, что пьет исключительно из-за назойливой придирчивости Линг, он лишает себя полной свободы выбора. Он перестает быть человеком действующим, превращаясь в марионетку жены. Он сможет временно забыться в алкоголе, спасаясь от ее черствости, но уже не будет свободным человеком.
Довольно часто мы несчастливы оттого, что берем на себя слишком много ответственности или, напротив, слишком мало. Вместо того чтобы быть самостоятельными и выбирать, опираясь только на себя, мы можем стать агрессивными – когда выбираем по настоянию другого, индифферентными – когда позволяем другому выбирать за нас; пассивно-агрессивными – когда сами выбираем за другого или когда мешаем своему партнеру достичь того, что он выбрал для себя. Мне неприятно признавать, что когда-то я была пассивно-агрессивной с Белой. Он всегда был и остается очень пунктуальным человеком, для него крайне важно приходить в любое место вовремя, и, когда он меня раздражал, я вполне сознательно тянула время, медлила, чтобы мы вышли из дома как можно позже. Просто чтобы позлить его. Он решил в своей жизни быть точным, никогда не опаздывать – я мешала ему добиваться того, чего он хотел.
Я говорю Линг и Джуну, что, обвиняя друг друга во всевозможных несчастьях, они таким образом уходят от своей прямой обязанности: наполнять семейную жизнь счастьем. Хотя оба подавали себя людьми вполне самодостаточными: Линг всегда все знает про Джуна, Джун делает то, что хочет, а не то, о чем просит его Линг, – они мастерски избегают таких честных фраз, как «я хочу», «я сделаю», «я могу». Линг использовала выражение «я хочу» в своем пожелании «чтобы муж бросил пить», правда, «хочет» она что-то от другого, но что она желает для себя – этого она еще не осознает. Джун может объяснять свое пьянство лишь виной Линг – это его способ самоутвердиться, защита от угнетающих его душу критических замечаний и завышенных ожиданий жены. Но если вы отказываетесь от своей возможности выбирать, значит, соглашаетесь быть жертвой – и узником.
В Агаде, еврейском тексте, рассказывающем историю исхода евреев из Египта и содержащем молитвы и ритуалы пасхального седера, особого ужина, есть четыре вопроса, которые традиционно задает самый младший член семьи. В моем детстве эта привилегия всегда принадлежала мне, я задавала их и в тот вечер, который последний раз провела дома с родителями. В моей психотерапевтической практике есть собственная версия четырех вопросов, разработанная в свое время при участии моих коллег, когда мы обсуждали методы начала сеанса с новыми пациентами. Именно на эти вопросы я предложила ответить Линг и Джуну, ответить письменно, чтобы они смогли высвободиться из состояния жертвы.
1. Чего вы хотите? Это обманчиво простой вопрос. Бывает гораздо сложнее, чем нам кажется, позволить самому себе узнать себя, прислушаться к себе, соизмерить себя со своими желаниями. Как часто, отвечая на этот вопрос, вы говорите то, что хотите от кого-то другого? Линг и Джун, вы должны отвечать то, что хотите только для себя и от себя. Варианты «Хочу, чтобы Джун перестал пить» или «Хочу, чтобы Линг перестала меня пилить» означают, что вы уклоняетесь от ответа.
2. Кто этого хочет? Наша ответственность и наша борьба – это понять собственные ожидания в отношении себя, вместо того чтобы жить согласно ожиданиям других. Мой отец стал портным, потому что его отец не позволил ему стать врачом. Мой отец был настоящим профессионалом, его ценили в городе, и он не знал недостатка в заказах – но сам никогда этого не хотел и всегда жалел о своей нереализованной мечте. Наша ответственность – действовать в согласии со своей истинной сущностью. Это означает, что придется отказываться от необходимости угождать другим, жертвовать потребностью в чужом одобрении.
3. Что вы собираетесь сделать для этого? Я верю в силу позитивного мышления – но перемены и свобода потребуют от вас и позитивного действия. Мы совершенствуемся во всем, в чем практикуемся. Если мы упражняемся в проявлении гнева, в нас будет больше гнева. Если мы упражняемся в проявлении страха, в нас будет больше страха. Во многих случаях мы усердно работаем, чтобы в итоге лишь убедиться, что движемся в никуда. Перемена заключается в том, чтобы обратить внимание на то, что уже потеряло смысл, и выйти за ограничивающий вас круг привычных обстоятельств.
4. Когда? В «Унесенных ветром», любимой книге моей матери, Скарлетт О’Хара, столкнувшись с трудностями, обычно говорит: «Я подумаю об этом завтра… В конце концов, завтра будет другой день». Если мы хотим развиваться, а не деградировать, время действовать прямо сейчас.
Линг и Джун отвечают на все вопросы, складывают листы и передают мне. Мы вместе проанализируем их на следующей неделе. Когда они собираются уходить, Джун пожимает мне руку. А когда они уже вышли от меня, я вижу необходимое подтверждение, что они готовы попытаться преодолеть пропасть, угрожающую их браку, что хотят соскочить с качелей обвинений. Линг, повернув голову, смотрит на Джуна и робко улыбается ему. Я не могу сказать, отвечает ли он на ее улыбку, поскольку Джун идет от моих дверей и я смотрю в их спины, – но я вижу, как он нежно похлопывает ее по плечу.
Когда мы встречаемся на следующей неделе и разбираем ответы, Линг и Джун узнают то, что едва ли могли предсказать. В ответе на вопрос «Чего вы хотите?» у обоих – счастливый брак. Просто сформулировав это желание, они уже тогда были на пути к его реализации. Все, что им нужно, – новые техники.
Я прошу Линг поработать над своим поведением именно тогда, когда Джун возвращается домой. В это время она особенно чувствует себя злой, уязвимой и испуганной. Он придет пьяный? Насколько пьяный? Сильно ли напьется? Есть ли возможность какого-нибудь сближения, или их ждет очередной вечер отчуждения и враждебности? Она уже давно умеет справляться со своим страхом, но исключительно с помощью надзора. Раньше она принюхивалась к дыханию Джуна, обвиняла, отстранялась. Я учу ее одинаково здороваться с мужем вне зависимости от того, пьяный он или трезвый, – приветствовать его добрым взглядом и простой фразой: «Я счастлива тебя видеть. Я рада, что ты дома». Если он приходит навеселе, а ей обидно и неприятно, – можно поговорить об этих чувствах. Она может сказать: «Я вижу, что ты пил, и от этого мне грустно, потому что тяжело быть рядом с тобой, когда ты пьяный» или «Это заставляет меня беспокоиться о твоей безопасности». Она может делать свой выбор в ответ на его выбор пить. Может сказать: «Хотелось бы поговорить с тобой вечером, но я вижу, что ты пил. Займусь-ка я чем-нибудь другим».
Я рассказываю Джуну о физиологических составляющих алкогольной зависимости и предупреждаю, что могу помочь ему избавиться от любой боли, которую он пытается заглушить алкоголем, но, если он выберет трезвую жизнь, ему понадобится дополнительная поддержка. Предлагаю ему посетить три собрания анонимных алкоголиков и посмотреть, не узнает ли он себя в одной из историй. Он слушается меня и идет на встречи, но, насколько мне известно, больше туда не возвращается. В то время, когда я работаю с ним, он все-таки продолжает пить.
Когда Линг и Джун проходят курс терапии, что-то улучшается, что-то нет. Они умеют теперь выслушивать друг друга без претензий на свою правоту, проводят больше времени, удерживаясь от гнева, и тогда могут признаться в своем страхе и грусти. Между ними больше теплоты. Но все равно чувствуется одиночество каждого. И конечно, присутствует страх Линг, что зависимость Джуна выйдет из-под контроля.
История Линг и Джуна представляет собой хороший пример и напоминание, что ничто не закончено, пока не наступает конец. Пока мы живем, всегда существует риск, что страдания усилятся. Правда, есть возможность найти способ страдать как можно меньше, способ выбрать счастье – для этого необходимо взять ответственность за себя.
Нужно ли опекать другого человека, стараясь удовлетворить любую его нужду, – проблема крайне противоречивая, равная по значению другой: можно ли избежать ответственности перед самим собой. Для меня это вопрос принципиальный, как и для большинства психологов. Прозрение наступает, когда я работаю с матерью-одиночкой, безработным инвалидом, воспитывающей пятерых детей и пребывающей в депрессии. Ей тяжело выходить из дома. Я с радостью помогаю ей, захожу, забираю чеки на оплату социальных нужд, развожу детей по секциям и разным мероприятиям. Как ее психотерапевт, я чувствую свою ответственность за то, чтобы помочь ей всеми возможными способами. Но однажды я стою в очереди в учреждении социального обеспечения, чувствую себя, как всегда, щедрой, великодушной и достойной, и вдруг звучит мой внутренний голос: «Слушай, Эди, а чьи, собственно, потребности ты удовлетворяешь?» Я понимаю, что ответ точно не будет иметь отношения к моей милой пациентке. Ответ напрямую связан со мной. Разъезжая по ее делам, я чувствую себя счастливой. Но какой ценой? Я подпитываю ее зависимость – и ее голод. Она и так долгое время лишала себя того, что можно найти только внутри себя, и, пока я думаю, что поддерживаю ее здоровье и благополучие, на самом деле лишь укрепляю ее лишения. Это нормально – помогать людям, нуждаться в помощи, но, если ваши действия позволяют кому-то не помогать самому себе, вы вредите тому, кому хотите помочь.
Обычно я спрашиваю пациента: «Чем я могу вам помочь?» Но такая постановка вопроса делает из него Шалтая-Болтая, который только и ждет, когда его соберут. А я становлюсь королевской конницей и королевской ратью, по определению бессильными исправить другого человека. Я меняю свой вопрос. Теперь я спрашиваю: «Чем я могу быть вам полезна?» Как я могу поддержать вас, когда вы примите ответственность за себя?
Я никогда не встречала человека, который сознательно выбрал бы жизнь в неволе. Однако я постоянно сталкиваюсь с тем, как легко мы отдаем нашу духовную, психологическую, интеллектуальную свободу, когда вручаем другому человеку или организации ответственность за управление нашей жизнью, предоставляем им делать выбор за нас. Молодая пара помогает мне понять последствия отказа от ответственности, передачи ее кому-то другому. Они затрагивают во мне особую струну, потому что оба юны, потому что находятся на том этапе жизни, когда жаждешь самостоятельности, правда, по иронии судьбы именно на этом этапе жизни не мешает задуматься, готовы ли мы к независимой жизни, хватит ли у нас сил выдержать этот груз.
Когда Элиза приходит ко мне за помощью, она в таком отчаянии, что уже находится на пути к суицидальным мыслям. Ей двадцать один год. Вьющиеся светлые волосы забраны в хвост. Глаза красные от слез. На ней свободный мужской шерстяной свитер, доходящий ей почти до колен. Светит яркое октябрьское солнце, пока мы сидим, и Элиза пытается объяснить мне причины своей боли. Это Тодд. Харизматичный, амбициозный, красивый баскетболист Тодд – чуть ли не местная знаменитость.
Немного истории. Они познакомились два года назад, когда она только поступила в колледж, а он был старшекурсником. Тодда знали все. Для Элизы стало откровением, что он захотел узнать ее поближе. Его физически влекло к ней, и ему понравилось, что она не слишком пыталась произвести впечатление и понравиться ему. Она не была поверхностной. Казалось, их характеры дополняли друг друга: она тихая, застенчивая, он открытый, общительный; она – наблюдатель, он – деятель. Довольно быстро после знакомства Тодд предложил переехать к нему.
Элиза сияет, вспоминая о первых месяцах их отношений. Она говорит, что в сиянии его любви чувствовала себя не просто хорошо, а необыкновенно. Не то чтобы она когда-то была отверженной, обделенной или нелюбимой в детстве или нежеланной в прошлых отношениях. Но внимание Тодда заставило ее по-новому ощутить жизнь и почувствовать себя иной. Ей полюбилось это чувство и нравились их отношения.
К сожалению, это те отношения, которые приходят и уходят. Иногда Элиза чувствует неуверенность. Особенно во время баскетбольных матчей и вечеринок, когда другие девушки кокетничают с Тоддом, она ощущает озноб ревности и неприязни. После таких выходов, если ей кажется, что он флиртует в ответ, она бранит Тодда. Иногда он успокаивает ее, иногда недоволен ее неуверенностью в нем. Она не хочет быть мнительной. Пытается найти способ стать ему незаменимой подружкой. Она его главная опора в учебе. Он изо всех сил должен поддерживать хороший уровень оценок, чтобы сохранить свою спортивную стипендию. Сначала Элиза помогала ему готовиться к тестам. Потом начала помогать с домашним заданием. Вскоре она уже выполняла все письменные работы, просиживая до поздней ночи, чтобы сделать и свои, и его задания.
Сознательно или нет, но Элиза находит способ сделать Тодда зависимым от нее. Отношения должны продолжаться, потому что она нужна ему для стипендии. Чувство незаменимости оказывается таким опьяняющим и убаюкивающим, что вскоре вся жизнь Элизы окажется построенной вокруг одного уравнения: чем больше я делаю для него, тем больше он будет меня любить. Не осознавая этого, она начинает приравнивать свое чувство собственного достоинства к его любви.
Недавно Тодд признается в том, чего Элиза боится больше всего: он переспал с другой женщиной. Ей больно, она злится. Он просит прощения и плачет. Но не в силах порвать с той девушкой. Он любит ее. Ему очень жаль. Он надеется, что они с Элизой все еще могут быть друзьями.
В первую неделю Элиза практически не может заставить себя переехать. У нее нет аппетита. Она не может одеться. Она боится остаться одна, и ей стыдно. Она понимает, до какой степени позволила отношениям регулировать свою жизнь – и какой ценой. Потом звонит Тодд. Он хочет узнать, может ли она сделать ему огромнейшее одолжение, если не слишком занята. Ему нужно сдать работу в понедельник. Может ли она написать ее?
Она пишет эту работу. И еще одну. И еще.
– Я до сих пор отдаю ему все, – плачет она.
– Милая, в этом твоя первая ошибка. Ты мучишь себя ради него. Зачем тебе это нужно?
– Я хотела, чтобы он был успешным, и он так радовался, когда я помогала ему.
– А что происходит сейчас?
Она рассказывает, как вчера узнала от общего знакомого, что Тодд съехался с новой девушкой. А на следующий день ему нужно сдавать работу, которую она соглашается написать.
– Я знаю, что он ко мне не вернется. Знаю, что должна перестать делать за него работы. Но я не могу.
– Почему?
– Я люблю его. Я знаю, что все еще могу сделать его счастливым, если буду выполнять его задания.
– А как же ты? Ты становишься лучшей версией себя? Ты делаешь себя счастливой?
– Из-за ваших слов я понимаю, будто поступаю неправильно.
– Когда перестаешь делать то, что лучше всего для тебя, и начинаешь делать то, что, на твой взгляд, необходимо кому-то еще, ты делаешь выбор, у которого есть свои последствия. Для Тодда тоже есть последствия. Почему ты выбираешь посвятить себя ему, а не сказать, что он сам способен справиться со своими трудностями?
– Я могу ему помочь. Я здесь ради него.
– Но при этом ты ему не доверяешь.
– Я хочу, чтобы он меня любил.
– Ценой его роста? Ценой твоей жизни?
Я очень беспокоюсь за Элизу, когда она покидает мой кабинет. Отчаяние пускает в ней глубокие корни. Но я не думаю, что она лишит себя жизни. Все-таки она приходит ко мне за помощью, значит, она хочет измениться. Я даю ей свой домашний телефон и номер линии доверия. Прошу ее созваниваться со мной каждый день до следующего сеанса.
Элиза приходит на следующей неделе, и я удивлена, увидев ее с молодым человеком. Это Тодд. Элиза вся сияет. Депрессия кончилась. Тодд порвал с той женщиной, и теперь они снова вместе. Она чувствует себя обновленной. Теперь она видит, что его оттолкнули ее неуверенность и комплексы. Она будет больше доверять их отношениям, покажет, насколько ему предана.
Во время сеанса Тодд выглядит скучающим и нетерпеливо поглядывает на часы, ерзая на диване, будто у него затекают ноги.
– Нельзя вновь сойтись без нового начала. Какие новые отношения вы хотели бы? От чего вы готовы отказаться, чтобы прийти к ним? – спрашиваю я.
Они таращатся на меня.
– Давайте начнем с того, что у вас общего. Что вам нравится делать вместе?
Тодд смотрит на часы. Элиза придвигается ближе к нему.
– Вот вам домашнее задание. Я хочу, чтобы каждый из вас нашел одно дело, которое ему нравится делать в одиночку, и одно, которое вам нравится делать вместе. Это не должен быть баскетбол, домашнее задание и секс. Придумайте что-нибудь забавное и выйдите за границы привычного.
В течение следующих шести месяцев Элиза и Тодд иногда приходят ко мне вместе. Иногда Элиза приходит одна. Ее главная цель – сохранить их отношения, она может делать что угодно, но этого недостаточно, чтобы стереть все ее сомнения и недоверие к нему. Она хочет чувствовать себя лучше, но все еще не готова меняться. А Тодд, когда приходит на сеансы, тоже, кажется, застревает. Он имеет все, что, как ему кажется, он хочет: восхищение, успех, любовь и, конечно, хорошие отметки, – но при этом выглядит грустным. Он как-то обмяк, явно отступает. Как будто его чувство собственного достоинства и уверенность в себе атрофированы из-за зависимости от Элизы.
В конце концов визиты Элизы и Тодда прекращаются, и я много месяцев ничего о них не знаю. А однажды получаю два письма с подтверждениями об окончании колледжа. Первое – от Элизы. Она закончила свой курс и поступила на магистерскую программу по сравнительному литературоведению. Она благодарит меня за время, которое мы провели вместе. И пишет, что, однажды проснувшись, поняла, что с нее хватит. Она перестает делать домашнюю работу за Тодда. Их отношения заканчиваются, что, безусловно, очень непросто, но теперь она счастлива, что не цепляется за то, что выбрала вместо любви.
Второе письмо – от Тодда. Он тоже закончил учебу – годом позже, но закончил. И он тоже хочет поблагодарить меня. Он пишет, что мог вылететь из колледжа, так как Элиза перестала делать за него задания. Сначала приходят возмущение, ярость. Потом он учится нести ответственность за свою жизнь, нанимает репетитора и соглашается с тем, что должен сам прикладывать некоторые усилия для собственного блага. «Я был придурком», – пишет он. И признается, что все то время, пока Элиза делала за него задания, он чувствовал себя подавленным, хотя и не сознавал этого. Он не любил себя. Теперь он может смотреть в зеркало и испытывать уважение, а не презрение.
Виктор Франкл пишет:
Поиск смысла жизни – это основная мотивация человеческой жизни, а вовсе не «вторичная рационализация» (сознательное объяснение) инстинктивных побуждений. Этот смысл уникален и специфичен, так как должен быть найден и осуществлен только самим человеком; только тогда он может удовлетворить его собственную волю (стремление) к смыслу.
Когда мы отказываемся брать ответственность за себя, мы отрекаемся от способности творить и открывать новые смыслы. Иными словами, мы отвергаем жизнь.
Глава 21. Девочка-безручка
Второй шаг в танце свободы – научиться идти на риск, что необходимо для истинной самореализации. Для меня на этом пути предельным риском стало мое возвращение в Аушвиц. Были люди, предостерегавшие меня: наши и Марианнины знакомые из Копенгагена, служащий в польском посольстве. Был мой внутренний сторож, та моя ипостась, которая хотела ощущать себя в безопасности больше, чем я хотела быть свободной. Но в ту ночь, когда я лежала без сна на кровати Геббельса, я интуитивно поняла истину: что не смогу стать полноценным человеком, пока не попаду туда, что во имя собственного здоровья мне нужно снова оказаться в том месте. Идти на риск не означает слепо подвергать себя опасности. Это значит принять наши страхи, чтобы освободиться от их оков.
Я начинаю работать с Карлосом, учеником старшей школы. Мальчик борется со своей социофобией и низкой самооценкой. Он так боится быть отвергнутым сверстниками, что не рискует заводить дружеские или еще какие-либо отношения. Однажды я прошу рассказать мне о десяти самых популярных девочках в школе. А потом даю ему задание. Он должен позвать на свидание каждую из этих девочек. Он говорит, что это невозможно, что это равносильно самоубийству, что они никогда никуда с ним не пойдут, что над ним будут смеяться все оставшиеся школьные годы из-за того, что он такой жалкий. Я отвечаю, что да, это так, можно и не получить того, чего хочешь, – но, даже если этого не случится, ты все равно станешь лучше, потому что будешь лучше знать, где находишься, у тебя будет больше информации, и ты столкнешься с реальным положением вещей, а не реальностью, порожденной твоим страхом. В итоге он соглашается. К его изумлению, четыре из самых популярных девочек принимают приглашение! К этому моменту он уже составит мнение о своей ценности, он уже пятьсот раз скажет себе «нет» – этот страх проявляется даже в жестах и глазах, которые он постоянно отводит и прячет, вместо того чтобы позволить им сиять и смотреть на собеседника. Он сам отрезает себя от радости. Как только он посмотрит в лицо своим страхам, примет свой выбор и пойдет на риск, он откроет возможности, о существовании которых даже не подозревает.
Несколькими годами позже, одним осенним днем 2007 года, Карлос звонит мне из своей комнаты в общежитии.
– Мне нужна помощь, – в голосе чувствуется беспокойство.
Теперь он на втором курсе престижного университета на Среднем Западе. Внезапно услышав его голос, я начинаю думать, что его социофобия снова становится непреодолимой.
– Расскажи мне, что происходит, – прошу я.
– У нас неделя посвящения в братство, – начинает он.
Я уже знаю, что это его мечта со старшей школы – стать частью университетского братства. Как только он поступает в колледж, эта мечта становится для него еще более значимой. Студенческие объединения занимают важное место в жизни колледжа, все его друзья посвящены, поэтому быть в их числе необходимо для его социального выживания. До него доходят слухи о неадекватных, унизительных ритуалах в других сообществах, но он тщательно выбирает свое братство. Ему импонирует расовое разнообразие и упор на социальную помощь. Идеальный вариант. В то время как многие его приятели беспокоятся из-за дедовщины, Карлос совсем не волнуется по этому поводу. Он полагает, что у унижений есть свой смысл: они помогают людям быстрее сблизиться, если, конечно, не переходят допустимых границ.
Но неделя посвящения выдается не такой, как в представлениях Карлоса.
– Что случилось? – спрашиваю я.
– Мой наставник – тиран.
Он рассказывает, что наставник невероятно агрессивный, выискивает малейшее слабое место посвящаемого и давит на него. Он называет музыкальные предпочтения одного юноши «гейскими». Во время первой встречи смотрит на Карлоса и говорит: «Ты выглядишь как парень, который должен подстригать мой газон».
– Что ты чувствуешь, когда он это говорит?
– Я очень злюсь. Хочется ему врезать.
– Что ты делаешь?
– Ничего. Он просто пытается меня спровоцировать. Я не поддаюсь.
– Что происходит потом?
Карлос рассказывает мне, что в то утро наставник приказывает ему и другим новичкам прибраться в общежитии и дает разные поручения. Он вручает Карлосу туалетный ершик и бутылку чистящего средства. Потом протягивает огромное сомбреро.
– Ты будешь носить это, пока драишь унитазы. Ты будешь носить это, когда закончишь и пойдешь в класс. Единственные слова, которые тебе разрешается произносить за этот день, – «Sí, señor».
Это публичное унижение, отвратительное проявление расизма, но, если Карлос хочет присоединиться к обществу, ему придется согласиться.
– Я чувствую, что не могу отказаться, – говорит Карлос дрожащим голосом. – Это ужасно. Но я это делаю. Не хочу ударить в грязь лицом только потому, что у меня конченый наставник. Не хочу, чтобы он победил.
– Я слышу, как ты злишься.
– Я в ярости. И мне стыдно. И я запутался. Я чувствую, что должен принять это и не позволить этому вывести меня из себя.
– Расскажи мне еще.
– Я знаю, это не одно и то же, но вот я в сомбреро драю унитаз и думаю про тот случай в лагере смерти, про который вы рассказывали мне, когда вас заставили танцевать. Я помню, вы сказали, что боялись, но чувствовали себя свободной. Что солдаты были в большей степени узниками, чем вы. Я знаю, что наставник идиот. Почему я не могу просто делать то, что он от меня хочет, и чувствовать себя свободным. Вы всегда говорили мне, что важно не то, что происходит снаружи, а то, что творится внутри меня. Я горжусь своим мексиканским происхождением. Почему этот придурок выводит меня из себя? Почему я не могу быть выше этого?
Это замечательный вопрос. Где обитает сила? Достаточно ли найти внутреннюю силу, внутреннюю истину, или настоящая уверенность приходит только после того, как мы предпринимаем действия вовне? Я искренне верю, что важнее всего то, что происходит внутри нас. Я также верю, что необходимо жить в согласии с нашими ценностями и идеалами – нашей моралью. Я верю, что важно защищать то, что правильно, и противостоять тому, что несправедливо и бесчеловечно. И я верю в выбор. Свобода заключается в изучении доступных нам вариантов выбора и в изучении последствий этих вариантов выбора.
– Чем больше у тебя будет выбора, – говорю я, – тем меньше ты будешь чувствовать себя жертвой. Давай поговорим о твоих вариантах.
Мы составляем список. Один вариант для Карлоса – остаток дня ходить в сомбреро и говорить только «Sí, señor». Он может согласиться подвергнуться другим унижениям, какие только придумает наставник.
Второй вариант выбора – противостоять. Он может сказать наставнику, что отказывается подчиняться.
Или он может отозвать свое заявление на членство в братстве. Может снять сомбреро, отложить ершик и уйти.
Карлосу не нравятся последствия всех вариантов. Ему не нравятся стыд и бессилие, которые он испытает, если уступит обидчику, особенно если учесть, что унижения имеют расистский душок. Он чувствует, что не может дальше плясать под дудку расиста, не уронив собственного достоинства: если он продолжит уступать, то обидчик станет сильнее, а сам он – слабее. Но прямое противостояние наставнику может быть опасно физически и чревато социальной изоляцией. Карлос боится, что на него нападут, а он ответит тем же. Он не хочет подпадать под влияние насилия, не хочет попасть в ловушку наставника, который пытается вывести его из себя и поиграть на эмоциях Карлоса. Короче говоря, он отказывается открыто возражать. Карлос также боится, что все братства его изгонят, в том числе собственное – то самое общество, чье одобрение он пытается заслужить. Третий вариант выбора – просто забыть о братстве – ничем не лучше. Ему придется отказаться от мечты, отказаться от желания быть своим в университетской среде – он не хочет этого.
Тщательно рассматривая возможные варианты, Карлос открывает для себя четвертый. Вместо того чтобы в открытую противостоять наставнику – есть риск, как он опасается, что это обернется жестокой дракой, – он может обратиться с жалобой к тому, кто обладает большей властью. Карлос решает поговорить с президентом братства. Он знает, что может подать жалобу в более высокие инстанции, декану университета, если потребуется, но на первых порах не хочет придавать этому делу широкую огласку. Мы репетируем, что и как он будет говорить. Ему трудно сохранять спокойствие, пока мы тренируемся, но благодаря нашей многолетней совместной работе он уже знает, что когда ты теряешь самообладание, то даже можешь чувствовать себя сильным в данный момент, но на самом деле ты отдаешь свою власть. Сила – это не реакция, а отклик. Сила прощупывает твои чувства, обдумывает их и планирует эффективные действия, чтобы приблизить тебя к цели.
Мы с Карлосом также обсуждаем возможные последствия этой беседы. Скорее всего, президент скажет Карлосу, что поведение наставника приемлемо, и Карлосу остается либо согласиться с ним, либо отказаться от притязаний.
– Если президент так к этому относится, думаю, мне лучше знать, чем не знать, – говорит Карлос.
Карлос звонит мне после встречи с президентом братства.
– Я сделал это! – его голос звенит от восторга. – Я рассказал ему, что происходит, и он сказал, что это отвратительно и он этого не потерпит. Он потребует от наставника немедленно прекратить расистские задания.
Разумеется, я рада, что Карлоса принимают и поддерживают и что ему не приходится жертвовать своей мечтой. Но я верю, что в любом случае его встреча с президентом триумфальна, вне зависимости от ответа президента. Карлос теперь знает свою силу, знает, что может отстаивать собственные интересы и защищать свою правду под угрозой исключения и насмешек. Он выбирает не быть жертвой. Он утверждает моральные принципы. Он действует в согласии с высшей целью: противостоять расизму, защищать человеческое достоинство. Защищая собственные гуманистические принципы, он защищает каждого из нас. Он прокладывает нам путь к жизни в соответствии с моральными ценностями и идеалами. Делать то, что правильно, редко совпадает с тем, что безопасно.
Думаю, определенный риск всегда идет рука об руку с лечением. Так происходит в случае с Беатрисой. В первый день я вижу грустную женщину с бледным лицом и карими глазами – их взгляд рассеянный и отстраненный. Одежда на ней свободная, даже бесформенная, спина вялая и сгорбленная. Я сразу понимаю, что Беатриса не подозревает, как она красива.
Она глядит прямо перед собой, стараясь изо всех сил не смотреть на меня. Но не может удержаться и изредка бросает быстрые взгляды, которые как будто пытаются выведать мои тайны. Она недавно слушала мою лекцию о прощении. Более двадцати лет Беатриса пребывает в убеждении, что невозможно простить украденное детство. Однако моя речь о личном пути к прощению вызывает у нее вопросы. Должна ли я прощать? Могу ли я простить? Теперь она осторожно оценивает меня, как будто пытается убедиться, что я настоящая, а не какая-то картинка. Когда вы слышите, как со сцены кто-то рассказывает об исцелении, подобные истории могут показаться слишком ладно скроенными, чтобы быть правдой. До некоторой степени так и есть. В трудном процессе исцеления не происходит катарсиса по истечении сорока пяти минут. Волшебной палочки не существует. Перемены происходят медленно, иногда удручающе медленно. Ваша история свободы настоящая? Есть ли для меня надежда? Мне кажется, я правильно прочитываю вопросы в ее настороженных взглядах.
Поскольку ее ко мне направляет другой психолог – моя хорошая подруга, тот же человек, который советует Беатрисе прийти на мою лекцию, – я уже частично знаю ее историю. Когда закончилось ваше детство? Этот вопрос я часто задаю своим пациентам. Детство Беатрисы заканчивается почти тогда же, когда начинается. Ее родители крайне халатно относятся к ней, к ее братьям и сестрам, они отправляют их в школу голодными и немытыми. Монахини в школе резко разговаривают с Беатрисой, ругают за неопрятный вид, кричат на нее, чтобы мылась и ела до школы. Беатриса впитала в себя сразу, что это она виновата в безответственности своих родителей.
Затем, когда ей восемь лет, один из друзей ее родителей начинает проявлять к ней нездоровое любопытство. Домогательства растягиваются надолго, она пытается защищаться. Даже объясняет родителям, что происходит, но они обвиняют ее во лжи. На ее десятый день рождения родители разрешают своему другу, который два года непристойно щупает ее, отвести дочь на свидание в кино. После фильма он отвозит девочку к себе домой и насилует в душе. Когда в возрасте тридцати пяти лет Беатриса начинает лечиться у меня, запах попкорна вызывает у нее репереживания.
В восемнадцать лет Беатриса выходит замуж за бывшего наркомана, который эмоционально и физически жесток с ней. Она сбегает от родительского кошмара, только чтобы воспроизвести его в собственной семейной жизни, укрепив веру в то, что быть любимой означает подвергаться мучениям. Беатриса наконец разводится со своим мужем и находит новый путь в жизни, с новой работой и новыми отношениями. На пути в Мексику ее снова насилуют. Она возвращается домой совершенно сломленной.
По настоянию подруги Беатриса начинает лечиться у психотерапевта, моей коллеги. Она все еще находится во власти фобий и едва может встать с кровати. Женщина испытывает постоянный, тяжелый, гнетущий страх и живет в непреходящей тревоге, боясь выйти из дома из-за страха снова подвергнуться нападению и боясь запахов и ассоциаций, которые вызывают изнурительные репереживания.
После первых сеансов с моей коллегой Беатриса соглашается вставать каждое утро, принимать душ, заправлять кровать, а потом пятьдесят минут заниматься на велотренажере в гостиной под фоновый шум телевизора. Беатриса не отрицает свою травму, как когда-то отрицала. Она может говорить о прошлом и логически осмысливать его. Но она еще не оплакивает свою прерванную жизнь. Со временем Беатриса учится сидеть на тренажере просто так, с пустотой в душе, учится верить, что горе – это не болезнь (хотя так может казаться), и понимать, что когда глушишь чувства едой, алкоголем или другим компульсивным поведением, то только продлеваешь страдания. Сначала в течение пятидесяти минут на тренажере Беатриса не крутит педали. Она просто сидит. Через минуту или две она начинает плакать. Плачет, пока не раздается звонок таймера. По мере того как недели идут, она проводит чуть больше времени на тренажере – двадцать минут, потом двадцать пять. Когда она сидит уже по тридцать пять минут, то начинает крутить педали. По чуть-чуть, день за днем, она прокладывает дорогу в тайники своего тела, где прячется ее боль.
К тому времени когда я встречаюсь с Беатрисой, она уже успевает сделать очень много для своего исцеления. Ее работа со своим горем уменьшает ее депрессию и нервозность. Она чувствует себя намного лучше. Но услышав мою лекцию в общественном центре, она задумывается, что еще можно сделать, чтобы освободиться от боли своей травмы. Возможность прощения пустила корни.
– Прощение не означает, что вы прощаете своего мучителя за то, что он с вами сделал, – говорю я ей. – Вы прощаете ту ипостась себя, которая подвергалась пытке, и отпускаете чувство вины. Если хотите, я могу провести вас по пути к свободе. Мы как будто пойдем по мосту. Страшно смотреть вниз. Но я буду рядом. Что вы думаете? Вы хотите продолжить?
В карих глазах вспыхивает тусклый свет. Она кивает.
Я начинаю работать с Беатрисой, и через несколько месяцев она готова мысленно провести меня в кабинет своего отца, где начались домогательства. Это крайне болезненная часть терапии, и продолжаются дебаты между сообществами психологов и нейрофизиологов относительно того, насколько вредно или полезно для пациента мысленно погружаться в травматическую ситуацию или в реальной жизни возвращаться на то место, где была нанесена травма. Когда я проходила обучение, то научилась прибегать к гипнозу, чтобы помогать выжившим заново проживать травматическое событие и больше не быть его заложниками. Исследования последних лет показывают: мысленное погружение человека в травматическую ситуацию может быть опасным – психологическое воспроизведение мучительного события способно повторно травмировать пациента. Например, после трагедии 11 сентября 2001 года зафиксировано, что чем чаще люди видят по телевизору сюжеты с рушащимися башнями, тем большую травму они переживают впоследствии. Повторные встречи с прошлым могут усилить, а не успокоить вселяющие страх и боль чувства. В своей практике и на своем опыте я вижу, насколько эффективным может быть мысленное перепроживание травмирующих ситуаций, но делать это необходимо в полной безопасности, с грамотным профессионалом, который сможет контролировать, как долго и глубоко пациент погружается в прошлое. И даже в таком случае подобная практика годится не для всех пациентов и не для всех психологов.
Для Беатрисы это необходимо сделать, если мы хотим добиться полного излечения. Чтобы освободиться от травмы, ей нужно получить разрешение чувствовать то, что ей не разрешали, когда произошло первое насилие и в последующие десятилетия. Когда она сможет испытать эти чувства, они начнут требовать внимания, и чем сильнее она будет пытаться подавить их, тем яростнее они будут настаивать на признании и тем более жуткой окажется встреча с ними. В течение долгих недель я медленно, осторожно стараюсь подвести Беатрису ближе к этим чувствам. Чтобы они не поглотили ее. Чтобы она смогла увидеть, что это просто чувства.
Из предыдущей терапии Беатриса уже знает, что, в конце концов позволив себе почувствовать свою огромную печаль, она получает некоторое облегчение от депрессии, стресса и страха, которые когда-то приковывали ее к постели. При этом она еще не разрешает себе злиться на прошлое. Однако нет прощения без ярости.
Пока Беатриса описывает маленькую комнату: то, как скрипит дверь, когда друг отца закрывает ее, темные клетчатые шторы, которые он заставляет ее задернуть, – я внимательно слежу за ее телом, готовая в любой момент вернуть Беатрису назад, если вдруг она окажется в беде.
Беатриса сжимается, когда мысленно задергивает шторы в кабинете. Так она запечатала себя в одной комнате с насильником.
– Остановись здесь, милая, – говорю я.
Она вздыхает, не открывая глаз.
– В комнате есть стул?
Она кивает.
– Как он выглядит?
– Это кресло. Цвета ржавчины.
– Я хочу, чтобы ты посадила своего отца в это кресло.
Она морщится.
– Ты видишь, как он в нем сидит?
– Да.
– Как он выглядит?
– Он в очках. Читает газету.
– Во что он одет?
– Синий свитер. Серые штаны.
– Я дам тебе большой кусок клейкой ленты и хочу, чтобы ты залепила ему рот.
– Что?
– Заклей ему рот лентой. Ты сделаешь это?
Она кивает. Слабо улыбается.
– Теперь возьми веревку. Привяжи его к креслу, чтобы он не мог с него встать.
– Хорошо.
– Ты крепко его привязываешь?
– Да.
– Теперь я хочу, чтобы ты орала на него.
– Что орать?
– Я хочу, чтобы ты сказала ему, как сильно ты злишься.
– Я не знаю, что говорить.
– Скажи вот что: «Папа, я так злюсь на тебя за то, что ты не защитил меня!» Но не говори спокойно. Прокричи это!
Я показываю ей.
– Папа, я так злюсь на тебя, – говорит она.
– Громче.
– Папа, я так злюсь на тебя!
– Теперь я хочу, чтобы ты ударила его.
– Куда?
– Прямо в лицо.
Она вскидывает кулак и бьет по воздуху.
– Ударь снова.
Она делает это.
– Теперь пни.
Ее нога взлетает.
– Вот подушка. Можешь бить ее. Прямо молоти по ней.
Я передаю ей декоративную подушку.
Она открывает глаза и пялится на нее. Сначала удары робкие, но чем больше я поощряю ее, тем сильнее они становятся. Я предлагаю ей встать и пинать подушку, если ей хочется. Бросать ее по комнате. Кричать во всю силу легких. Вскоре она сидит на полу и молотит по подушке кулаками. Когда тело начинает уставать, Беатриса перестает бить подушку и падает на пол, часто дыша.
– Как ты себя чувствуешь?
– Как будто я никогда не захочу остановиться.
На следующей неделе я приношу боксерскую грушу, красную, на тяжелой черной подставке. Мы проводим новый ритуал. Начинаем сеанс с высвобождения гнева. Она мысленно привязывает кого-нибудь к стулу – обычно одного из родителей – и кричит, нанося свирепые удары: «Как ты мог допустить, чтобы это случилось со мной! Я была всего лишь маленькой девочкой!»
– Ты заканчиваешь? – спрашиваю я.
– Нет.
Она бьет столько, сколько ей требуется.
На День благодарения, вернувшись домой после ужина с друзьями, Беатриса сидит на диване и играет с собакой, вдруг все тело начинает покалывать. В горле пересыхает, сердцебиение учащается. Она пытается глубоко дышать, чтобы расслабиться, но симптомы только ухудшаются. Она думает, что умирает. Просит свою подругу отвезти ее в больницу. Доктор, который осматривает ее, говорит, что никаких отклонений не наблюдается. У нее паническая атака. Когда мы встречаемся с Беатрисой после этого случая, она подавлена и растерянна, она боится, что ей станет только хуже, что паническая атака может повториться.
Я сделала все, что в моих силах, чтобы порадоваться ее прогрессу, утвердить ее рост. Я говорю ей, что, по моему опыту, после высвобождения гнева люди часто сначала чувствуют себя хуже, чтобы потом стало лучше.
Она качает головой.
– Думаю, я сделала все, что могла.
– Милая, дай себе выдохнуть. У тебя была ужасная ночь. И ты прошла через это, не навредив себе. Ты не сбежала. Я не думаю, что смогла бы справиться так же хорошо, как ты.
– Почему вы пытаетесь убедить меня в том, что я сильный человек? Может, я не такая. Может, я больная и всегда была такой. Может, уже хватит говорить мне, что я та, кем никогда не была.
– Ты считаешь себя ответственной за то, в чем нет твоей вины.
– А если это моя вина? Что, если бы я поступила иначе, и тогда он оставил бы меня в покое?
– А может, винить себя это лишь способ поддерживать вымысел, будто ты можешь контролировать этот мир?
Беатриса падает на диван и заливается слезами.
– Тогда у тебя не было выбора. Ни одного. Сейчас у тебя есть разные варианты. Ты можешь выбрать не возвращаться сюда больше. У тебя всегда есть эта возможность. Но я надеюсь, ты научишься видеть, какой ты удивительный боец.
– Я едва держусь за жизнь. Мне это не кажется удивительным.
– Когда ты была маленькой, было ли у тебя какое-нибудь место, где ты чувствовала себя в безопасности?
– Я чувствовала себя в безопасности, только когда была одна в своей комнате.
– Ты садилась на кровать? Или у окна?
– На кровать.
– У тебя были какие-нибудь игрушки?
– У меня была кукла.
– Ты разговаривала с ней?
Она кивает.
– Ты можешь сейчас закрыть глаза и спокойно сесть на свою кровать? Возьми ту куклу. Поговори с ней, как говорила тогда. Что ты скажешь?
– Как сделать так, чтобы меня здесь любили? Я должна быть хорошей, а я плохая.
– Ты знаешь, что в то время, которое ты ребенком проводила одна, такая печальная и покинутая, ты развила в себе огромный запас силы и жизнестойкости? Ты можешь сейчас приободрить эту девочку? Можешь обнять ее? Скажи ей: «Тебе было больно, но я тебя люблю. Тебе было больно, но сейчас ты в безопасности. Тебе приходилось притворяться и прятаться. Сейчас я вижу тебя. Сейчас я люблю тебя».
Беатриса вздрагивает от всхлипываний, крепко обхватив себя руками.
– Я хочу защищать ее сейчас. Раньше я не могла. Но я не думаю, что когда-нибудь смогу чувствовать себя в безопасности, если не научусь защищать себя сейчас.
Так Беатриса решается пойти на следующий риск. Беатриса признает, что ей хочется чувствовать себя в безопасности, хочется уметь защищать себя. Она узнает, что в клубе по соседству скоро начнутся курсы женской самообороны. Правда, она не спешит записываться. Она боится, что окажется не готовой к тому, чтобы отражать нападение, что физическое столкновение, даже в безопасной и поддерживающей обстановке занятия, может спровоцировать паническую атаку. Она находит любые причины, пытаясь оправдать свой страх: занятия слишком дорогие, группа уже может быть набрана; напротив, участников будет мало, и группу отменят. Со мной она начинает работать над страхами, подпитывающими ее сопротивление двигаться к желанной цели. Я задаю ей два вопроса: «Что самое страшное из того, что может случиться?» и «Ты можешь это пережить?» Самое страшное для нее – вновь испытать паническую атаку в зале, где много незнакомых людей. Она подтверждает, что бланк с медицинскими данными, который ей нужно заполнить при записи на занятие, даст ведущим необходимую информацию о том, что ей может потребоваться поддержка на случай атаки. И мы обсудим то, что паническая атака у нее уже была. Если она повторится, возможно, Беатриса попытается остановить или контролировать ее, но, по крайней мере, она будет знать, что происходит. И она уже на собственном опыте поняла, что паническая атака, пусть пугающая и неприятная, не смертельна. Ее можно пережить. В итоге Беатриса записывается на занятия.
Как только она оказывается в зале, в спортивной форме и кроссовках, в окружении других женщин, самообладание покидает ее. Она чувствует себя слишком неуверенно, чтобы заниматься. Она боится, что будет ошибаться, будет привлекать к себе внимание. Но уйти тоже не может, поскольку подобралась слишком близко к своей цели. Беатриса прислоняется к стене и просто наблюдает за занятием. Так она ходит на каждое занятие, в спортивной форме, но все еще слишком напуганная. Инструктор, конечно, замечает, что какая-то женщина не включается в занятия, а просто наблюдает со стороны. Он предлагает ей позаниматься индивидуально после основного времени. Однажды ко мне приходит сияющая Беатриса.
– Я сегодня смогла швырнуть его об стену! Я припечатала его. Я его победила. Я швырнула его об стену!
Ее щеки горят. Глаза блестят гордостью.
Как только появляется уверенность, что она может защитить себя, Беатриса идет на другие риски: балет для взрослых, танец живота. Ее тело начинает меняться. Оно больше не сосуд для своих страхов. Оно становится инструментом радости. Сегодня Беатриса – писатель, преподаватель балета, инструктор по йоге. Она решает поставить танец по мотивам сказки братьев Гримм, которую читала в детстве, – «Девушка-безручка». В этой сказке родителей девочки обманом заставляют отдать дочь дьяволу. Она чиста и невинна, поэтому дьявол не может овладеть ею, но в порыве отчаяния и мести он отрубает ей руки. Девочка странствует по миру с культями на месте рук. Однажды она приходит в сад короля, и он, увидев ее среди цветов, влюбляется. Они женятся, и он дарит ей пару серебряных рук. У них рождается сын. Однажды она спасает своего сына, когда тот чуть не утонул. Ее серебряные руки исчезают, и на их месте появляются человеческие.
Беатриса, рассказав мне эту сказку из своего детства, вытягивает руки и говорит: «Мои руки снова настоящие. Я спасла не кого-то другого. Я спасла себя».
Глава 22. И расступились воды
Не время лечит. Справляемся мы сами, со временем. Выздоровление придет, когда мы решим взять на себя ответственность, когда примем на себя риск и наконец позволим себе избавиться от душевной боли, то есть освободимся от скорби и отпустим прошлое. И все это – вопрос нашего выбора.
За два дня до своего шестнадцатилетия Джереми зайдет в кабинет, где Рене с мужем смотрят по телевизору вечерние новости. Его смуглое лицо в мерцающем свете экрана выглядит удрученным. Рене вот-вот протянет руку и крепко прижмет сына к себе – на что тот иногда соглашается, – но раздается телефонный звонок. Это ее сестра из Чикаго, тяжело переживающая развод и часто звонящая поздно по вечерам. «Пойду возьму трубку», – вздохнет Рене, быстро потреплет сына по щеке и переключится на страдающую сестру. Джереми пробормочет «спокойной ночи» и направится к лестнице. «Сладких снов, малыш», – успеет крикнуть ему в спину Рене.
На следующее утро Джереми не спустится к завтраку. Она позовет сына снизу, но ответа не услышит. Рене намажет маслом последний тост и направится наверх, к его спальне. Постучит. Он снова не ответит. Рассердившись, она рывком откроет дверь. В комнате темно, шторы еще задернуты. Она вновь позовет его, с удивлением обнаружив, что кровать уже заправлена. По наитию подойдет к шкафу. Откроет дверцу, и ледяной ужас скует ее. Тело Джереми висит на деревянной перекладине, на шее затянут ремень.
На столе записка. Рене находит ее.
Вы ни при чем, это из-за меня. Простите, что разочаровал вас. Дж.
Со смерти Джереми проходит всего несколько недель, когда Рене и ее муж Грег впервые приходят ко мне. Потеря так свежа, что у них нет скорби. Они переживают глубокое душевное потрясение. Человек, которого они только что похоронили, еще остается с ними. Такое чувство, будто они живьем кладут его в землю.
В первые посещения Рене сидит и рыдает: «Я хочу повернуть время вспять! Я хочу вернуться туда, вернуться туда». Грег тоже плачет, но тихо. Часто, пока Рене рыдает, он глядит в окно. Я говорю им, что мужчины и женщины часто скорбят по-разному и что смерть ребенка может либо сломать, либо укрепить их брак. Я убеждаю их беречь себя, заботиться друг о друге, позволить себе негодовать и плакать, пинать предметы, кричать и даже вопить, короче говоря, давать волю чувствам, чтобы сестре Джереми, Жасмин, не пришлось платить по счетам за их горе. Предлагаю им принести фотографии сына, чтобы отметить вместе шестнадцать лет его жизни, шестнадцать лет, которые Джереми провел рядом с ними. Советую обратиться в одну из групп психологической поддержки для тех, кто сталкивается с суицидом, и даю их буклеты. Я работаю в таких группах, когда их участников начинает захлестывать волна гипотетических вопросов. А если бы я уделяла ему больше внимания? Если бы не взяла трубку в тот вечер? Если бы обняла его от всей души? Если бы меньше работала и чаще бывала дома? Если бы не верила в миф, будто только белые дети кончают жизнь самоубийством? Если бы заметила первые звоночки? Если бы не давила на него с учебой? Если бы проведала его перед сном? Все эти «если бы» отзывались глухим эхом на вопрос, не имеющий ответа: почему?
Мы так хотим понять, в чем правда. Так хотим отвечать за свои ошибки, быть честными со своей жизнью. Нам нужны причины и объяснения. Мы требуем от жизни хоть какого-то смысла. Но задаваться вопросом «почему?» – это хоронить себя в прошлом, где уже гуляют под ручку комплекс вины и чувство сожаления. Мы не можем ни управлять жизнью других людей, ни контролировать прошлое.
В первый же год их утраты с какого-то момента Рене и Грег начинают приходить ко мне все реже и реже, а через некоторое время их посещения совсем прекращаются. В течение многих месяцев я ничего о них не слышу. В ту весну, когда Джереми должен бы окончить старшую школу, ко мне по телефону обращается Грег. Обеспокоенный состоянием Рене, он просит разрешения им прийти. Его звонок и радует, и озадачивает меня.
Меня поражает их вид. Оба выглядят постаревшими, но по-разному. Грег становится грузным, а черные волосы уже покрыты сединой. Рене не выглядит измученной, как я думаю после разговора с Грегом. Гладкое лицо, белая блузка сияет чистотой, недавно подстриженные волосы. Она улыбается. Говорит любезности. Уверяет, что чувствует себя хорошо. Но взгляд карих глаз потухший.
Грег, обычно молчавший во время прошлых сеансов, теперь ведет себя довольно эмоционально. «Мне нужно кое-что сообщить вам», – начинает он. И говорит, что в прошлый выходной в школе Джереми был выпускной вечер и они пошли на него, чтобы повидаться с другом сына.
Для обоих это тяжкое испытание, полное скрытых мин. Куда деться от мысли, что у всех родителей есть счастье, утраченное Рене и Грегом. Каждая мелочь напомнит им о Джереми и образовавшейся пустоте, напомнит, что больше никогда новый день не принесет им повседневных мгновений жизни, прожитых вместе с сыном. Любое напоминание утвердит их в мысли о бесконечности скорби, хотя в сущности эта вечность мнимая. Рене и Грег все-таки заставят себя надеть нарядные одежды и отправятся на школьный праздник.
Грег рассказывает, что в какой-то момент ловит себя на мысли, как ему здесь хорошо. Музыка, которую ставит диджей, возвращает его к мыслям о Джереми. Он вспоминает их старые альбомы и классические блюзовые композиции, под которые сын любил делать домашнее задание или болтать с друзьями; Джереми вообще увлекался ритм-энд-блюзом. Грег поворачивается к Рене – она в элегантном синем платье – и обмирает от того, что в чертах ее лица, в высоких крутых скулах, в изгибе рта четко видит Джереми. Он чувствует, как его охватывает любовь – к Рене, сыну, простым радостям вроде хорошей еды под белым навесом в этот теплый вечер. Он приглашает Рене на танец. Она отказывается, встает и оставляет его одного за столом.
Грег плачет, вспоминая тот вечер.
– Я и тебя теряю, – обращается он к жене.
Рене мрачнеет, глаза становятся совсем темными. Мы с Грегом ждем, что она скажет.
– Как ты смеешь, – наконец говорит она. – Джереми не может танцевать. Почему ты должен? Я не могу так легко отвернуться от него.
Она говорит враждебно. Ядовито. Я ожидаю, что Грега передернет от ее тона. Но он только пожимает плечами. И я понимаю, что рассказанный эпизод – далеко не первый случай, когда Грег испытывает вполне безыскусную радость от жизни, а Рене воспринимает его чувство как осквернение памяти сына. Сразу вспоминаю собственных родителей. Я видела, как каждый раз, когда отец пытался обнять, поцеловать мать или просто уткнуться носом ей в плечо, она резко пресекала эти нежности. Она крепко увязла в своей скорби по рано умершей матери и прочно задрапировалась в саван меланхолии. Ее глаза загорались – и то лишь изредка, – когда она слушала скрипку Клары. Моя мать никогда не позволяла себе смеяться от души, кокетничать, шутить, веселиться.
– Рене, милая, – говорю я. – Кто умер? Джереми? Или вы?
Она не отвечает.
– Вы уже ничем не поможете Джереми, даже если сами будете мертвы. И вам, кстати, это тоже никак не поможет.
Рене не прячется от боли, как я когда-то. Она делает горе своим мужем. Выйдя замуж за потерю, она прячется от жизни.
Я прошу ее рассказать, сколько места она выделяет скорби в своей повседневной жизни.
– Грег ходит на работу. Я хожу на кладбище.
– Как часто?
У нее такой вид, будто мой вопрос оскорбителен.
– Она ходит туда каждый день, – объясняет Грег.
– И что, это плохо? – Рене зло огрызается. – Быть преданной сыну?
– Траур очень важен, – говорю я. – Но когда он длится чрезмерно, он становится средством избегать горя.
Траурные обычаи и ритуалы представляют собой крайне важную составляющую работы над горем. Я думаю, именно поэтому культурные и религиозные практики включают досконально продуманные траурные ритуалы: в них есть четко очерченное пространство и жестко регламентированная структура, в рамках которой человеку удобнее начинать испытывать чувство потери. Но траурный период также имеет четко выраженное завершение. С этого момента потеря перестает быть величиной, отдельной от жизни, и полностью интегрируется в жизнь. Если человек пребывает в состоянии постоянного траура, он выбирает мышление жертвы, полагая, что никогда не сможет преодолеть свое горе утраты. Когда мы зациклены на трауре по близким, мы словно даем понять, что наша жизнь закончилась тоже. Траур Рене, хотя и причиняет ей боль, становится своеобразным щитом, ограждающим ее от настоящей жизни. Соблюдая нескончаемый ритуал прощания с сыном, она защищает себя от необходимости принять жизнь.
– Вы проводите больше времени с сыном, который уже мертв, или с дочерью, которая жива? И на кого больше вы тратите свою эмоциональную энергию?
Рене выглядит подавленной.
– Я хорошая мать, но я не собираюсь притворяться, что мне не больно.
– Вам не нужно притворяться. Но вы единственный человек, который может помешать мужу и дочери потерять вас.
Я вспоминаю, как моя мать разговаривала с портретом своей матери, висящим над пианино. Плача, она твердила: «О Боже, Боже, дай мне сил». Ее причитания пугали меня. Ее зацикленность на потере была своеобразным люком, она открывала крышку и проваливалась вниз, к спасению. Я была как дитя алкоголика, стоящее на страже ее ухода от реальности, не способное спасти ее от бездны, но чувствующее, что почему-то это моя задача.
– Было время, когда я думала, что утону, если вовлеку себя в скорбь, – говорю я Рене. – Но это подобно истории про Моисея и Красное море. Каким-то образом воды расступаются. И ты проходишь через свою скорбь, как по дну моря.
Я прошу Рене попробовать что-нибудь новое, чтобы сместить фокус с траура на горе.
– Поставьте фотографию Джереми в гостиной. Не ходите на кладбище, чтобы оплакать его потерю. Найдите способ связаться с ним в доме. Каждый день просто сидите минут пятнадцать-двадцать, чтобы побыть с ним. Вы можете касаться его лица, рассказывать ему, чем вы заняты. Разговаривайте с ним. Потом поцелуйте его и возвращайтесь в свой день.
– Я так боюсь снова оставить его.
– Он покончил с собой не из-за вас.
– Вы этого не знаете.
– Есть множество ситуаций, в которых вы могли повести себя иначе. Этот выбор сделан, прошлое ушло, ничто не может его изменить. По какой-то причине, которую мы уже никогда не узнаем, Джереми решил покончить с жизнью. Вы не можете выбирать за него.
– Я не знаю, как жить с этим.
– Принятие не приходит в одночасье. И вы всегда будете помнить о сыне. Но вы можете выбрать путь вперед. Вы откроете для себя, что жить полной жизнью – лучший способ почтить его память.
В прошлом году я получила от Рене и Грега рождественское поздравление и фотографию: они стоят рядом с елкой вместе с дочерью – прелестной девочкой в красном платье. Грег одной рукой обнимает дочь, другой – жену. Над плечом Рене на каминной полке стоит фотография Джереми – его последняя школьная фотография, он в синей рубашке, и у него невероятно счастливая улыбка. Он в семье не черная дыра. Не святыня. Он присутствует, он всегда с ними.
Портрет матери моей мамы теперь живет в доме Магды в Балтиморе, висит над пианино, на котором она до сих пор дает уроки, ведя разумно и сердечно своих учеников к музыке. Недавно Магда перенесла операцию и попросила свою дочь Илону принести в больницу фотографию нашей матери, чтобы сделать то, чему она нас научила: просить силы у мертвых, позволить мертвым жить в наших сердцах, позволить нашим страданиям и нашему страху вернуть нас к нашей любви.
– У тебя еще бывают кошмары? – спрашиваю я недавно у Магды.
– Да. Всегда. А у тебя?
– Да, – отвечаю я сестре. – Бывают.
Я возвратилась в Аушвиц и отпустила прошлое, простила себя. Я приехала домой и подумала: «Всё! С меня хватит!» Но облегчение оказалось временным. Прошлое не закончится, пока всему не наступит конец.
Несмотря на прошлое, а вернее, благодаря ему мы с Магдой, каждая по-своему, нашли после освобождения смысл и цель в семидесяти (более чем в семидесяти) годах нашей жизни. Я открыла для себя искусство врачевания человеческих душ. Магда, оставаясь преданным своему делу профессионалом – пианистом и преподавателем музыки, открыла для себя два новых мира: госпел и бридж. Госпел – потому что афроамериканские религиозные песнопения похожи на плач, в них заложена сила всех выпущенных на волю эмоций. Бридж – потому что это искусство стратегии и контроля, ну и конечно, способ выигрывать деньги. Магда – действующий чемпион по бриджу; в ее доме напротив портрета нашей бабушки висят все ее награды.
Обе мои сестры, защищая и воодушевляя меня, учили выживать. Клара осталась верна скрипке и играла в Сиднейском симфоническом оркестре. До своего последнего дня (у нее была болезнь Альцгеймера, и она умерла в возрасте чуть старше восьмидесяти лет) сестра называла меня своей малышкой. Она в большей степени, чем я и Магда, оставалась верна еврейским и венгерским традициям. Мы с Белой любили навещать ее и Чичи, наслаждаться едой, языком и культурой нашей молодости. Мы все, пережившие холокост и разбросанные по разным странам, не имели возможности часто бывать вместе, но прилагали все усилия, чтобы встречаться и отмечать самые важные события в жизни. К сожалению, родители уже не могли разделять с нами наши радости. В начале 1980-х годов мы собрались в Сиднее на свадьбе дочери Клары. Мы с нетерпением ожидали эту встречу, и когда наконец увидели друг друга, то бросились обниматься с таким же восторженным исступлением, как тогда, после войны, у нашего дома в Кошице.
Было забавно наблюдать, как быстро три сестры вернулись к моделям поведения своей молодости, при этом неважно, что теперь мы все женщины средних лет и каждая из нас чего-то добилась в этой жизни. Клара, как всегда, оставалась в центре внимания, командовала нами и душила своим вниманием. Магда – вечная соперница и бунтарка. Я была миротворцем, сновала между сестрами, улаживала их конфликты и скрывала свои мысли.
Как легко и быстро мы можем превратить теплую и уютную семью в своего рода тюрьму. Мы полагаемся на свои старые установки, проверенные временем реакции и механизмы психологической адаптации. Мы становимся теми, кем, по нашему мнению, должны быть, чтобы угодить другим. Чтобы противостоять этому и не отступать, не играть старые роли, которые, как мы ошибочно полагаем, обеспечат нам безопасность и защиту, потребуется огромная сила воли и возможность выбора.
В ночь перед свадьбой мы с Магдой застали Клару одну в детской играющей со старыми куклами дочери. То, что мы увидели, было больше, чем ностальгия матери по выросшему ребенку. Клара была поглощена игрой перевоплощения, как ребенок. Я вдруг поняла, что мою сестру на самом деле лишили детства. С малых лет она была гениальным ребенком, играющим на скрипке. Ей никогда не удавалось побыть маленькой девочкой. Когда она не выступала на сцене, она выступала передо мной и Магдой, опекала нас, становясь заботливой маленькой мамой. Теперь, будучи женщиной средних лет, она пыталась подарить себе детство, которое у нее отняли. Клара смутилась, что мы застали ее играющей с куклами, и набросилась на нас.
– Очень плохо, что меня не было с вами в Аушвице. Если я была бы там, наша мама осталась бы живой.
Слышать от нее такие слова было ужасно. Я почувствовала, как меня охватывает старая вина выжившего, вернулся кошмар от того, какое слово я произнесла в первый день в Аушвице на селекции. Кошмар тех воспоминаний. Я старалась противостоять тому старому, давно похороненному убеждению, скорее всего ошибочному, что я отправила нашу маму на смерть.
Но я больше не была узницей. Я своими глазами увидела тюремную клетку своей сестры, услышала ее вину и печаль, прорывающиеся сквозь обвинения, которые она обрушивала на нас с Магдой. Я могла выбрать быть свободной. Я могла точно назвать все свои чувства: чувство гнева, чувство никчемности, чувство печали, чувство сожаления. Я не бежала от них, я могла управлять ими: позволить им закружиться в вихре, дать подняться и схлынуть, приказать им пройти. Могла рискнуть и отпустить необходимость казнить себя за то, что осталась живой. Могла освободиться от своей вины и вновь стать цельной и чистой, не сказавшей слова «мама».
Есть рана. Есть то, что сочится из нее. Желание избавиться от чувства смерти привело меня снова в Аушвиц. Там я смогла окончательно изгнать его из своей жизни. Там, в лагере, я обрела внутреннюю правду, вернула себе, как и хотела, свою сущность, восстановила свою стойкость и невиновность.
Глава 23. День освобождения
Летом 2010 года меня пригласили в Форт-Карсон, чтобы я выступила в воинской части перед солдатами, только что вернувшимися после боевых действий в Афганистане. Воинская часть имела высокую статистику самоубийств. Я решила, что буду говорить о своей травме: как я пережила ее, как перенесла возвращение к привычной жизни, как выбрала быть свободной, – это могло бы помочь солдатам быстрее адаптироваться к мирному обитанию. Пока я шла к сцене, задала себе довольно жесткий вопрос: что может предложить этим бойцам, этим мужчинам и женщинам, вернувшимся с войны, недоучившаяся венгерская балерина? Признаться, я испытывала чувство некоторой неловкости. Пришлось напомнить себе, что нахожусь я здесь ради того, чтобы поделиться с ними необходимой правдой, которой уже владею. Я скажу им, что самая страшная тюрьма – их разум, но ключ от нее лежит практически у них в кармане. Я буду говорить с ними о необходимости: брать на себя абсолютную ответственность за собственную жизнь, уметь рисковать, освободить себя от самоосуждения, вернуть себе свою невиновность, принять и любить себя такими, какие они есть, – людьми хоть и несовершенными, но самодостаточными и полноценными.
Я призвала в помощь своих родителей, детей, внуков и даже правнуков – чтобы они дали мне силы. Сейчас мне пригодится все, чему они меня учили, все, что помогли открыть в себе. Я начинаю.
Мы не знаем, куда нас отправляют. Мы не знаем, что будет дальше. Просто запомни: никто не отнимет то, что у тебя в голове. Эти слова, которые я никогда не забуду, сказала мне моя мать.
Эти слова я говорила бесчисленное количество раз, их слышали от меня морские котики и бойцы специального назначения, военнопленные и их адвокаты из министерства по делам ветеранов, врачи-онкологи и онкологические больные, праведники мира, родители и дети, христиане, мусульмане, буддисты и иудеи, студенты юридических факультетов и трудные подростки; люди, скорбящие по своим любимым, и умирающие. Иногда, когда я повторяю эти слова матери, повторяю с благодарностью и печалью, у меня кружится голова. Но на этот раз, произнося их, я чуть не упала на той сцене. Сознание захлестнуло острое ощущение, которое я держу в самом дальнем, самом глубоком уголке своей памяти, – запах грязной травы, невероятно приторный вкус «Эм-энд-эмс». Я далеко не сразу поняла, что вызвало это очень конкретное, почти сенсорное воспоминание. Но потом увидела. Стены помещения были завешены флагами и штандартами, и со всех сторон на меня глядела эмблема, которую я вполне осознанно не извлекала из памяти все долгие, долгие десятилетия, но которая в моей жизни имеет не меньшее значение, чем мои инициалы. Красный круг со стилизованной наклонной синей цифрой 71 в центре. Знак различия – на дивизионном знамени, на нарукавной нашивке американских солдат, освободивших меня 4 мая 1945 года. Меня пригласили в Форт-Карсон, чтобы я выступила перед военными из 71-й пехотной дивизии, солдаты которой шестьдесят пять лет назад спасли меня. Я несу свою историю свободы детям и внукам тех, кто когда-то принес свободу мне.
Почему я? Почему выжила я? Как часто я задавала себе этот вопрос! Сегодня он ставится мной иначе. Почему бы не я? Там, на сцене, выступая перед следующим поколением борцов за свободу, я смогла, опираясь на свое сознательное понимание, сформулировать то, что часто слишком неуловимо, слишком неочевидно, – мы снова готовы заточить себя в тюрьму, когда продолжаем убегать от прошлого или начинаем бороться с имеющейся болью. Свобода заключается в том, чтобы принять то, что есть, и простить себя. Открыть свои сердца навстречу чуду, которое существует сейчас.
Стоя на сцене, я плакала и смеялась. Адреналин счастья так переполнял меня, что я едва смогла выдавить из себя «спасибо». Я говорила солдатам: «Ваши жертвы, ваши страдания имеют смысл – и когда вы обретете истину внутри себя, вы станете свободными». Закончив свою речь, я делаю высокий мах ногой – как всегда делала, как всегда буду делать, пока мое тело позволит мне. Я здесь! Я справилась! Собственно, об этом свидетельствует мой фирменный гранд батман.
И вы здесь. Вот вы где – в священном настоящем! Я не могу исцелить вас – или кого бы то ни было, – но я могу поддержать ваш выбор разрушить тюрьму в своем сознании, разобрать камень за камнем. Вы не можете изменить то, что случилось, вы не можете изменить то, что сделали вы, или то, что причинили вам. Но вы можете выбирать, как вам жить сейчас.
Дорогие мои, вы можете выбрать быть свободными.
Благодарности
Я верю, что люди не приходят ко мне – они мне посланы. Многим необыкновенным людям, личностям выдающимся, которые были мне посланы, без которых моя жизнь не была бы такой, какая она есть, и без которых не существовало бы этой книги, я приношу свою бесконечную признательность.
В первую очередь моей драгоценной сестре Магде Гилберт – которой сейчас девяносто пять, и она по-прежнему великолепна, которая сохранила мне жизнь в Аушвице. И ее любящей дочери Илоне Шильман, которая всегда отстоит семью, как никто другой.
Кларе Корда, моей грандиозной, моей невероятной сестре, которая воистину стала мне второй мамой, которая каждую нашу поездку в Сидней превращала в медовый месяц, которая творила такие ужины по пятницам – и все искусно приготовлено своими руками, – прямо как у нашей мамы. И Джинни, и Шарлотте, которые пошли по ее стопам.
Моим пациентам, удивительным и уникальным личностям, научившим меня тому, что излечение – это не вопрос восстановления, это вопрос обретения. Выявить надежду в безысходности, обнаружить ответ там, где его нет, обрести понимание, насколько важно не то, что происходит, а то, что ты с этим делаешь.
Моим замечательным учителям и наставникам: профессору Уиворту, Джону Хаддоксу, познакомившему меня с экзистенциалистами и феноменологами; Эду Леонарду, Карлу Роджерсу и Ричарду Фарсону; особенно Виктору Франклу – его книга дала мне вербальную способность поделиться своей тайной, его письма открыли мне, что больше не нужно бежать, его мудрые советы помогли мне понять не только то, что я выжила, но и то, как я могу помочь выжить другим.
Моим потрясающим коллегам и товарищам по искусству врачевания: доктору Харольду Кольмеру, доктору Сиду Цизуке, доктору Саулу Левину, Стивену Смиту, Майклу Курду, Дэвиду Вёру, моему «приемному» сыну Бобу Кауфману, Чарли Хогу, Патти Хеффернан и особенно моему «младшему брату» Филу Зимбардо, который не успокоился, пока не увидел эту книгу в печати.
Многим людям, приглашавшим меня делиться моей историей в аудиториях всего мира: Говарду и Генриетте Пекетт из YPO; доктору Джиму Генри; доктору Шону Данешманду и его жене Марджан из The Miracle Circle; Майку Хогу из Wingmen Ministries и организаторам Мирового конгресса по логотерапии.
Моим друзьям и целителям: Глории Лявис, моим дорогим друзьям-мушкетерам Сильвии Вехтер и Эди Шредеру, Лизе Келти, Венди Уокер, Флоре Салливан, Кэтрин Гилкрест – матери девяти детей, которая зовет меня мамой и на которую я могу положиться и днем и ночью; Дори Битри, Ширли Годвин, а также Джереми и Инетте Форбс, с которыми я открыто могу говорить об этапах жизни, о возрасте и о том, как сделать, когда мы стареем, лучшее из того, что у нас есть; моим докторам Сабине Валлах и Скотту Маккаул; моему акупунктуристу Бэмби Мерриуэтер; Марселле Грелл, моей спутнице и подруге, проявлявшей исключительную заботу обо мне и моем доме последние шестнадцать лет и всегда говорившей открыто и честно, что она думает.
Беле. Спутнику жизни. Родной душе. Отцу моих детей. Любящему, преданному мужу и другу, который рискнул всем, чтобы строить нашу жизнь с чистого листа в Америке вместе со мной. Когда я консультировала военных и мы вместе ездили по Европе, ты обычно говорил: «Эдит работает, а я ем». Бела, именно наша жизнь, в которой только ты и я, наша жизнь, такая богатая чувствами и событиями, была настоящим пиршеством. Я люблю тебя, Бела.
Всю мою любовь и благодарность отдаю моим детям: моему сыну Джону Эгеру, который научил меня, как не быть жертвой, который никогда не прекращал борьбы за людей с инвалидностью; моим дочерям Марианне Энгл и Одри Томпсон, которые неустанно и с любовью поддерживали и подбадривали меня все долгие месяцы работы над книгой и поняли, наверное, раньше меня, что мне труднее будет вновь пережить свое прошлое, чем когда-то пройти Аушвиц. В Аушвице я могла думать только о выживании; чтобы написать эту книгу, мне пришлось прожить все свои чувства. Без вашей силы и любви я не пошла бы на такой риск.
Я благодарю прекрасных спутников жизни моих детей и внуков, людей, благодаря которым появляются новые ветви на семейном древе: Роба Энгла, Дэйла Томпсона, Лурдес, Джастина Ричланда, Джона Уильямсона и Иллингера Энгла.
Моего племянника Ричарда Эгера – моего Дики – и его жену Бирну. Спасибо вам, что были настоящими близкими людьми, спасибо за вашу заботу обо мне и моем здоровье и за наши совместные праздники.
Когда родился первый внук, Бела сказал: «Три поколения – это лучшая месть Гитлеру». Сейчас их уже четыре! Спасибо новому поколению – Сайласу, Грэму и Хейлу. Мое сердце всегда трепещет, когда я слышу, как вы называете меня прабабушкой Дицу.
Юджин Кук, мой партнер по танцам и брат по духу, настоящий мужчина и джентльмен. Спасибо, ты напомнил мне: любовь – это не то, что мы чувствуем, а то, что делаем. Ты всегда рядом, в каждом шаге и каждом слове. Давай танцевать буги-вуги до тех пор, пока это возможно.
И вот я подошла к тем, кто слово за словом и страницу за страницей помогали мне воплощать эту книгу в жизнь, – дружные люди, не случайно собравшиеся вместе.
Талантливые Нэн Грэм и Роз Липпель и их умелая команда в Scribner. Мне так повезло, что меня направили к самым профессиональным редакторам, чьи сердца сияют так же, как их блестящие умы. Ваша редакторская мудрость, упорство и человеческое сострадание помогли этой книге стать тем, чем я так хотела ее видеть, – инструментом исцеления.
Эсме Швалль-Вейганд, моя соавтор, ты не просто находила слова, ты стала мной. Спасибо, что стала моим окулистом, когда видела мой путь к исцелению со стольких различных ракурсов.
Дуг Абрамс, агент мирового класса и настоящий человек мира, спасибо тебе за то, что ты личность с железной волей, характером и душой, способной отдать себя для общего блага. Твое присутствие на этой планете – настоящий дар.
Всем. За девяносто лет жизни я никогда не чувствовала себя такой счастливой, такой благодарной и – такой молодой, как сейчас! Спасибо!
Об авторе
Доктор Эдит Ева Эгер, родом из Венгрии, была совсем юной девушкой, когда ее вместе с семьей в 1944 году отправили в Аушвиц – один из самых чудовищных лагерей смерти. Там погибли ее родители. Сегодня, в возрасте девяноста двух лет, доктор Эгер ведет активную психологическую практику в Ла-Хойя, входит в преподавательский состав Калифорнийского университета и регулярно читает лекции по всей Америке и за границей. На протяжении многих лет она консультирует Военно-морские силы США по вопросам восстановления психики и лечения посттравматического стрессового расстройства. Доктор Эгер – участница нескольких телевизионных программ, в том числе «Шоу Опры Уинфри» и специального выпуска новостей, посвященного семидесятилетию со дня освобождения Аушвица. Она была одной из главных героинь документального фильма о холокосте, вышедшего на голландском национальном телевидении. Доктор Эгер стала учителем года Эль-Пасо в 1972 году, женщиной года Эль-Пасо в 1987 году и получила премию за гуманитарную деятельность сената штата Калифорния в 1992 году. Доктор Эгер открывала Мировой конгресс по логотерапии, приуроченный к девяностолетию Виктора Франкла. «Выбор» – ее первая книга.
Сноски
1
Зимбардо Ф. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев. 5-е изд. М.: Альпина нон-фикшн, 2019. Здесь и далее примечания редактора.
(обратно)2
В мировой практике принято использовать немецкое название Аушвиц, а не польское Освенцим, поскольку именно немецкое название использовалось нацистской администрацией и заключенными.
(обратно)3
Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990.
(обратно)4
Персонаж американской патриотической песенки «Янки Дудл» (Yankee Doodle – букв. «Янки-дурачок»).
(обратно)5
Виктимизация – процесс превращения лица в жертву преступного посягательства или преследования, а также результат этого процесса. Виктимность – приобретенные человеком психические, физические или социальные черты, предопределяющие его склонность быть жертвой.
(обратно)6
«На прекрасном голубом Дунае» (1866) – самый знаменитый вальс Иоганна Штрауса-сына.
(обратно)7
Венгрия, будучи союзником нацистской Германии, 2 ноября 1938 года оккупировала часть Словакии в результате Мюнхенского соглашения (29 сентября 1938 года), по которому Чехословакия была уничтожена как независимое государство.
(обратно)8
Нилашисты (венг. nyilasok), или салашисты (от имени лидера Ференца Салаши), – члены венгерской крайне правой национал-социалистической партии «Скрещенные стрелы» (1937–1945).
(обратно)9
Три бомбардировщика появились над Кошице 26 июня 1941 года в 13:08 по местному времени, с небольшой высоты они сбросили 30 бомб, каждая по 100 кг. Эта бомбардировка стала поводом для Венгрии на следующий же день вступить на стороне Германии в войну с СССР. Вопрос ответственности до сих пор не выяснен; по сей день существует несколько версий: Советский Союз, провокация Третьего рейха или Румынии.
(обратно)10
Желтая звезда, или лата, – шестиконечная звезда Давида. Желтый цвет и надпись Jude (нем. «еврей») делали ее отличительным знаком для сегрегации евреев. Впервые нацисты применили дискриминационный знак желтой звезды 1 апреля 1933 года, отметив им все еврейские магазины в Германии. Желтая звезда на одежде появилась в 1939 году в оккупированной Польше; с сентября 1941 года нацисты обязали евреев носить отличительные знаки на территории Третьего рейха, а чуть позже в том же году – на всех подконтрольных ему территориях.
(обратно)11
Харосет – пасхальное блюдо: вязкое пюре из сухих и свежих фруктов, орехов, миндаля, корицы и вина; символизирует глину, из которой евреи делали кирпичи в Египте. Во время пасхальной семейной трапезы (седер) в него макают горький хрен в память о рабском труде.
(обратно)12
Здесь имеется в виду пасхальный седер – ритуальная семейная трапеза, которая проводится ночью в начале праздника Песах.
(обратно)13
Пасхальная Агада – канонический пасхальный сборник молитв, песен, притч, комментариев, то есть совершенно разножанровых текстов об Исходе. Перед каждым участником трапезы обязательно лежит экземпляр Агады, и отдельные его части читаются вслух во время седера. Четыре вопроса – в пасхальной Агаде есть глава «И расскажешь сыну своему…», где сын спрашивает отца о четырех особых обычаях праздничной трапезы, поэтому всегда на Песах младший ребенок задает четыре вопроса самому старшему члену семьи. Ритуал начинается с традиционного зачина: «Чем отличается эта ночь от других ночей?»
(обратно)14
Arbeit macht frei (нем. «Труд делает свободным») – лозунг, размещенный над входом многих нацистских концлагерей. Представляет собой парафраз «Истина освободит вас» (Евангелие от Иоанна 8:32). Впервые фраза «Arbeit macht frei» использована немецким писателем Лоренцем Дифенбахом в названии романа (1872). Идея поместить эту фразу на воротах концлагерей принадлежит руководителю системы концлагерей Третьего рейха генералу СС Теодору Эйке. Огромная металлическая надпись над воротами концлагеря Аушвиц II (Биркенау), о которой пишет автор, отличалась перевернутой буквой B; считается, что это знак неподчинения, так как вывеску отливали польские политзаключенные.
(обратно)15
Йозеф Менгеле (1911–1979) – немецкий врач, проводивший медицинские опыты на узниках концлагеря Аушвиц. Он лично занимался отбором узников, прибывающих в лагерь, проводил преступные эксперименты над заключенными. Его жертвами стали десятки тысяч человек. После войны Менгеле бежал из Германии в Латинскую Америку, опасаясь преследований. Попытки найти его и предать суду не увенчались успехом.
(обратно)16
Капо – привилегированная, но презираемая с обеих сторон прослойка заключенных в нацистских концлагерях, работавшая на администрацию; будучи надзирателями, они осуществляли непосредственный контроль над узниками.
(обратно)17
«Когда святые маршируют» (When the Saints Go Marching In) – народная американская песня в жанре спиричуэлс, входит в стандарт джазового репертуара.
(обратно)18
«В настроении» (In the Mood) – композиция Гленна Миллера и музыкантов его оркестра, написанная для отдельного сингла (1939). Позже Гленн Миллер включил ее в фильм «Серенада солнечной долины» (1941).
(обратно)19
Янош Штаркер (или Старкер) (János Starker, 1924–2013) стал выдающимся виолончелистом-виртуозом и педагогом с мировым именем; профессиональный дебют музыканта – виолончельный концерт Дворжака – состоялся в 14-летнем возрасте.
(обратно)20
Государство Израиль было создано на основании резолюции ООН 14 мая 1948 года.
(обратно)21
Лига арабских государств (пять стран) объявила Израилю войну 15 мая 1948 года.
(обратно)22
Закон о возвращении принят кнессетом 5 июля 1950 года, на его основании каждый репатриант автоматически получает статус гражданина Израиля.
(обратно)23
В следующем году в Иерусалиме! – строка из последней молитвы пасхальной Агады (Пасхальная Агада – канонический пасхальный сборник молитв, песен, притч, комментариев, то есть совершенно разножанровых текстов об Исходе. Перед каждым участником трапезы обязательно лежит экземпляр Агады, и отдельные его части читаются вслух во время седера.). Помимо сугубо религиозного смысла, эта фраза, ставшая символической, несет в себе идею стремления евреев на протяжении двух тысячелетий вернуться на историческую родину.
(обратно)24
В начале 1948 года в Чехословакии был спровоцирован правительственный кризис, сопровождавшийся закрытием и запретом оппозиционных газет; завершился он фактически коммунистическим переворотом, который затем представили как «победу социалистической революции». С марта в стране начались массовые чистки, тогда же был утвержден закон об изъятии земельных угодий и национализации предприятий. Национальное собрание одобрило новую конституцию ЧСР, в которой были законодательно закреплены итоги коммунистического переворота.
(обратно)25
Джульярдская школа (Juilliard School) – самая престижная и крупная американская музыкальная школа, основанная в 1924 году в Нью-Йорке.
(обратно)26
«Красные башмачки» (The Red Shoes) – британский фильм, снятый по собственному сценарию режиссерами Майклом Пауэллом и Эмериком Прессбургером в 1948 году. Считается самым знаменитым в истории кино фильмом о балете. В США стал настолько популярным, что его выпустили в общенациональный прокат; в 1949 году он получил награды в двух номинациях на «Оскаре» и имел революционное влияние на развитие как всего американского кинематографа, так и жанра мюзикла. Достаточно сказать, что почитателями этой ленты являются Коппола, Де Пальма, Спилберг и Скорсезе.
(обратно)27
Хуарес – местное название мексиканского города Сьюдад-Хуарес, расположенного на реке Рио-Гранде к югу от Эль-Пасо.
(обратно)28
Государственный заповедник «Уайт-Сэндс» (White Sands National Monument, букв. «Белые пески») – одно из удивительных природных явлений, уникальная бескрайняя пустыня в штате Нью-Мексико с белоснежным песком. Необычный белый цвет песка и его твердая структура объясняются высоким содержанием в нем кристаллов гипса.
(обратно)29
Здесь и далее цитаты приводятся по изд.: Victor E. Frankl. Man’s Search for Meaning. Washington Square Press, 1985 / Перевод Маргариты Маркус (версия для самиздата).
(обратно)30
Виктор Франкл (1905–1997) был переведен в Аушвиц в 1944 году, до этого два года провел в концентрационном транзитном лагере Терезиенштадт, а из Аушвица его отправили в один из филиалов Дахау, где он и был освобожден американскими войсками в апреле 1945 года. За эти годы в разных лагерях были уничтожены его жена, родители и старший брат. Во всех местах заключения Франкл находил своих коллег и вместе с ними создавал службу психологической помощи узникам.
(обратно)31
В оригинальном тексте Э. Э. дает слово choice («выбор») как акроним: CHOICE – about choosing сompassion («сопереживание»), humor («хорошее настроение»), optimism («вера в успех»), intuition («непосредственное восприятие»), curiosity («пытливость») and self-expression («самовыражение»).
(обратно)32
Цитата приводится по кн.: Фарсон Р. Менеджмент абсурда. Парадоксы лидерства / Перевод А. В. Левитский. Киев: София, 2001.
(обратно)33
Идентифицированный пациент (identified patient), или «носитель симптома в семье», – термин клинической психологии, обозначающий человека, на котором особенно сильно отражаются психологические проблемы семьи. Чаще всего носителем симптома выступает ребенок из неблагополучной семьи, которого сознательно или неосознанно выбирают объектом порицания, делая козлом отпущения, или объектом усиленной заботы. Таким образом взрослые члены семьи отводят внимание от реальных конфликтов и семейных заболеваний или подлинных проблем своего поведения. Термин также используется в контексте служебных отношений: как правило, это человек, который при определенных обстоятельствах оказывается носителем проблем в коллективе.
(обратно)34
В высокогорном курортном районе Оберзальцберг, недалеко от резиденции Гитлера «Бергхоф», стоял гостиничный комплекс «Платтерхоф» (нем. Platterhof), где останавливалась вся партийная верхушка Третьего рейха. В 1943 году помещения гостиницы были преобразованы в военный госпиталь. Весной 1945 года авиация союзников разбомбила большинство построек Оберзальцберга. Сразу после окончания войны здание «Платтерхофа» восстановили, и на его базе был создан Центр отдыха и реабилитации ВС США. В 1953 году центр реорганизовали в отель «Генерал Уокер» (General Walker) для военнослужащих американского контингента в Европе, отель просуществовал до 1995 года. Окончательно здание бывшего «Платтерхофа» было снесено в 2001 году.
(обратно)35
Рядом с «Платтерхофом» находился пансион «У турка» (нем. Zum Türken), существовавший в тех местах с XVII века. В 1933 году строение было принудительно выкуплено у владельца и отдано многочисленной команде СС, охранявшей и обслуживающей все владения Гитлера и партии в Оберзальцберге. По окончании войны руины «У турка» выкупила семья бывшего владельца пансиона и в 1949 году, восстановив здание по чертежам в первозданном виде, снова открыла отель, который под тем же названием стоит и поныне. Члены гитлеровского кабинета останавливались в «Платтерхофе» (см. предыдущую сноску), а почетные зарубежные гости Гитлера селились не в пансионе «У турка», а в гостевом доме Hoher Göll. Этот гостевой дом тоже был разбомблен весной 1945 года, и на его месте баварские власти в 1999 году построили Документальный центр-музей Оберзальцберга, экспозиция которого рассказывает исключительно о преступлениях нацистов.
(обратно)36
Чемберлен приехал в Оберзальцберг в середине сентября, чтобы обговорить с Гитлером судьбу Судетской области. Обсуждение закончилось подписанием в Мюнхене 29 сентября 1938 года известного соглашения. Возвратившись в Лондон, Чемберлен прямо на аэродроме предъявил Мюнхенское соглашение со словами: «Я привез вам мир». Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года.
(обратно)37
Речь идет о так называемом окончательном решении еврейского вопроса, то есть массовом уничтожении еврейского населения Европы. Адольф Эйхман был руководителем специальных отделов СС (с 1938 года) и гестапо (с 1939 года), непосредственно осуществлявших эту политику. На Ванзейской конференции в январе 1942 года массовое уничтожение европейских евреев было закреплено документально, однако в протоколе конференции, который составлял Эйхман, остались незафиксированными такие понятия, как «передвижные газовые фургоны», «массовые расстрелы», «концлагеря с газовыми камерами и крематориями». Реальные пути и средства реализации прикрывались эвфемизмами вроде «окончательное решение», «эвакуация на восток», «каторжные работы» и т. п. В результате Ванзейской конференции действия нацистских органов власти стали более согласованными и организованными, а значит, ликвидация людей была поставлена на поток.
(обратно)38
«Бергхоф» (нем. Berghof) – баварская резиденция Гитлера. С 1928 года Гитлер снимал гостиничный коттедж «Вахенфельд», который выкупил в 1933 году и полностью перестроил. По окончании последней реконструкции в 1936 году имение стало называться «Бергхоф». Особняк сгорел в результате бомбардировок союзников, остатки всей усадьбы были окончательно взорваны в 1952 году. «Орлиное гнездо» (Eagle’s Nest) – такое название резиденции дали американцы в 1945 году. На самом деле небольшой домик на вершине почти двухкилометровой горы назывался «Кельштайнхаус» (нем. Kehlsteinhaus); он был специально построен Борманом для Гитлера и преподнесен в подарок на 50-летие вождя от лица всей партии. Это единственное здание на территории Оберзальцберга, чудом не пострадавшее во время бомбардировок союзников. Баварские власти долго не знали, что с ним делать, и решили оставить в виде туристического объекта. В наши дни там находятся рестораны.
(обратно)39
«Продюсеры» (The Producers) – музыкальный комедийный фильм 1968 года, режиссерский дебют Мэла Брукса (премия «Оскар» за лучший сценарий). Фильм также известен под названием «Весна для Гитлера» (Springtime for Hitler).
(обратно)

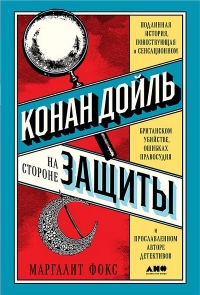
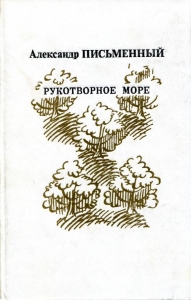







Комментарии к книге «Выбор. О свободе и внутренней силе человека», Эдит Ева Эгер
Всего 1 комментариев
Алина
17 сен
Это невероятная книга!!!! Ее должен прочесть каждый! Очень много открыла для себя, эта книга изменила мои взгляды на жизнь.