Трубецкой В.С.
Записки кирасира
"Трубецкие стяжали роду своему славу подвигами, подъятыми на пользу Отечества ..."
Общий Гербовник дворянских родов Российской Империи
Вступительная статья
Фамилия эта несомненно знакома читателю. Род Трубецких связан с самыми значительными событиями русской истории и культуры. Среди Трубецких были и военоначальники, и государственные мужи, и общественные деятели, и художники, и ученые. Еще в конце XIX века была предпринята попытка создать "каталог" выдающихся Трубецких (Е. Белосельская-Белозерская. Сказания о роде Трубецких. М., 1891), а в наши дни эту работу блестяще выполнили в Канаде С. Г. Трубецкой (С. Г. Трубецкой. Князья Трубецкие. Квебек, 1976) и в Париже В. П. Трубецкой (Генеалогический сборник "Потомство кн. Н. П. Трубецкого". Предисловие В. П. Трубецкого. Париж, 1984). Издание "Записок кирасира" к уже прославленным именам добавляет еще одно, мало кому известное, но заслуживающее своего, особого, места в родословной Трубецких.
Жизнь Владимира Сергеевича Трубецкого (1892-1937) никак нельзя было бы назвать безмятежной. Она сверх меры насыщена событиями столь разными, что из одних мог бы составиться приключенческий роман, а из других - история мученика. Увы, время "возвращения имен" пришло, когда современников Владимира Сергеевича уже не осталось в живых, архив исчез в недрах Гулага, и в нашем распоряжении - лишь отрывочные воспоминания его близких, уцелевшие письма и документы, ставшие известными в самое последнее время.
Человек, появившийся ранней весной 1927 года в редакции популярного журнала "Всемирный следопыт" у В. А. Попова (издателя, который открыл и пригрел А. Грина, А. Беляева и В. Яна), был худ, высок и, несмотря на лохматые от старости куртку и галифе, обтрепанные обмотки и огромные солдатские ботинки, оставлял впечатление удивительной элегантности. Отрекомендовавшись охотником-любителем, он предложил редактору рассказ о том, как кошка украла и съела у него миллион. Миллион обещали заплатить ученые-орнитологи за подбитую им диковинную птицу - желтую хромовую галку, и вот теперь посетитель рассчитывал хотя бы на гонорар за трагикомическую историю о несостоявшемся богатстве.
Редактор прочитал рассказ и предложил автору сотрудничать в журнале. Так во "Всемирном следопыте" появилось новое имя - В. Ветов. Подлинная фамилия автора была Трубецкой. Бывшему князю, гвардейскому офицеру, а ныне лишенцу было 35 лет. Он жил в Сергиевом Посаде и, имея большую семью, днем работал тапером в немом кино, а вечером - в оркестре маленького ресторана. В свое время его дед, Николай Петрович Трубецкой, почти разорился, создавая вместе с Николаем Рубинштейном в Москве бесплатные музыкальные школы и консерваторию. Теперь музыка помогала выжить внуку. Близкий знакомый Владимира Сергеевича писатель Михаил Пришвин вывел его в повести "Журавлиная родина" под именем музыканта Т. Но музыкантом В. Трубецкой стал поневоле (слегка преувеличивая, он говорил, что жизнь выучила его играть одновременно на тридцати инструментах, дирижировать и сочинять музыку). По профессии он был военным.
Когда Владимир Трубецкой появился на свет, родовая традиция ратного служения, идущая от предков - героев Куликова поля, князей Гедиминовичей, была уже поколеблена. Общественную деятельность военной карьере предпочел уже дед Владимира. Последним военным был его прадед - генерал Петр Иванович Трубецкой, небезызвестный орловский губернатор, несколько карикатурный персонаж многих произведений Лескова. Отец Владимира, Сергей Николаевич, и дядя, Евгений Николаевич, стали учеными, философами, другой дядя - Григорий Николаевич Трубецкой - дипломатом, а впоследствии видным церковным деятелем. Двоюродный брат отца, Паоло Трубецкой, был выдающимся скульптором. По словам Н. Бердяева, эта семья принадлежала к духовной элите России.
1905 год был трагичным для Трубецких. В этом году Сергей Николаевич, создатель русской историко-философской науки, яркий публицист, крупный общественный деятель, первый выборный ректор Московского университета, внезапно скончался. Из печати того времени видно, как остро переживалась эта смерть русским обществом. "С именем Сергея Трубецкого связана была вера... в превозмогающую силу правды и возможность общего примирения, - писал философ права П. Новгородцев, - после его смерти все почувствовали, что в русской жизни что-то оборвалось". А из семьи ушел целый мир, связанный с друзьями и знакомыми отца - Л. Лопатиным, В. Герье и В. Ключевским, А. Скрябиным и Л. Толстым, с воспоминаниями об учителе и лучшем друге Владимире Соловьеве, петербургскими философами. Прасковья Владимировна, мать В. Трубецкого, несмотря на довольно жесткий, крутой характер, решающего влияния на сыновей не имела. Интересы старшего, будущего языковеда Николая, определились еще при жизни отца. В тринадцать лет он стал членом Московского этнографического общества, в пятнадцать - опубликовал первую научную работу. А младший, музыкальный и артистичный Владимир, незаменимый маркиз или пастушок в живых картинах и шарадах, предпочел наукам театр, музыку и спорт. Связанные разными степенями родства почти со всей Москвой, братья особенно дружили со своими кузенами - рано умершим талантливым философом Д. Самариным, будущим историком церкви С. Мансуровым, М. и Г. Осоргиными (о Георгии Осоргине, расстрелянном в 1929 году в Соловках, пишет в "Архипелаге ГУЛАГ" А. Солженицын, вспоминают Д. С. Лихачев и О. В. Волков). В эту компанию входил Борис Пастернак, и памяти Трубецких посвящено его позднее стихотворение "Липовая аллея". Окончив гимназию, Владимир Трубецкой поступил в Московский университет, но, не проучившись и полугода на физико-математическом отделении, устроился юнгой на миноносец "Всадник", входивший в эскорт царской яхты "Штандарт", академическая карьера была ему явно не по душе. Правда, вскоре внезапная пылкая влюбленность заставляет его выбрать более короткий, чем у моряка, путь "в люди" - в 1911 году он поступает вольноопределяющимся в гвардию. Этот период его жизни и лег в основу сюжетной линии "Записок кирасира".
Прослужив год нижним чином, Трубецкой, уже корнет и командир взвода гатчинских Синих кирасир, женится на дочери известного московского городского головы В. М. Голицына.
1914 год... Началась война. В самом ее начале за храбрость, проявленную в сражении при Гумбиннене, Трубецкой получил Георгиевский крест. После ранения и госпиталя в 1915 он попал в штаб Юго-Западного фронта к генералу Брусилову. Трубецкой не имел высшего военного образования, но самостоятельно полученные им знания разных видов техники, общая культура и свободное владение европейскими языками выгодно отличали его даже в среде штабных профессионалов. Брусилов назначил его командиром первого в России отдельного автомобильного подразделения. Известно, что в этом качестве он руководил спасением казны румынских союзников, когда германские войска уже входили в Бухарест.
Октябрьскую революцию В. Трубецкой воспринял как разрушительную стихию. В Москве почти сразу же стали формироваться конспиративные офицерские организации всевозможных политических оттенков. Была и чисто монархическая, куда и вошел вместе со своими родственниками-гвардейцами, А. Трубецким, М. Лопухиным и Н. Лермонтовым, Владимир Сергеевич. В начале 1918 года все они участвовали в одной из первых попыток освобождения царя. Больше с новой властью он не воевал, но и России не покинул, хотя почти все его родные оказались в эмиграции. Возможно, удержали его не только семейные обстоятельства (трое маленьких детей и старики, родители жены), но и понятие о гражданском долге и воинской чести.
Началась череда арестов. До поры до времени они сводились для Трубецкого лишь к подтверждению его лояльности. В 1920 году Владимир Сергеевич был призван в армию. И здесь судьба снова свела его с Брусиловым. Шла гражданская война. Брусилов, перешедший на службу в Красную Армию, занимался мобилизацией кадровых военных, и многие откликнулись на его "Воззвание ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились". В памяти близких сохранился рассказ В. Трубецкого о том, как выделил его в наполненной офицерами приемной Брусилов и начал разговор, пригласив в кабинет, словами: "Князь, телега застряла, и некому, кроме нас, ее вытаскивать. Без армии не спасти Россию". Владимир Сергеевич получил назначение в Южный штаб фронта в Орел. Однако и защищать советскую власть Трубецкому не пришлось. По дороге в Орел он сделал крюк, заехав к семье, жившей тогда в Богородицке у Бобринских, чтобы отдать им свой огромный по тем временам паек. На этот раз заметная, "княжеская", внешность сослужила плохую службу - его тут же арестовали. Не помогли ни объяснения, ради чего он завернул в Богородицк, ни рекомендательное письмо Брусилова. Открывшийся в тюрьме туберкулез изменил дальнейшую жизнь Трубецкого - его выпустили, демобилизовали, и он уехал к семье.
Для владельцев Богородицкого имения Бобринских грозные революционные события были смягчены вполне сочувственными и даже покровительственными отношениями к ним крестьян и городских жителей, которые помогали "графьям" обменивать вещи на еду, а иногда и подкармливали их. На фоне всеобщего разорения поместий и поджогов это было редким, но не случайным исключением. К Бобринским и съехались родственные семьи Трубецких и Голицыных. Жили они все во флигеле графского дворца; дворец, объявленный "народным достоянием", зияя выбитыми стеклами, стоял заколоченным. Конечно, это "дворянское гнездо" привлекало внимание властей, и во флигеле периодически происходили обыски, бывшие, по существу, обыкновенными грабежами, "под сенью закона", и аресты, больше для острастки. Все обитатели флигеля вели трудовую жизнь - преподавали жителям городка музыку и иностранные языки, а В. М. Голицын взялся писать для местного Отдела наробраза историю Богородицкого уезда. Трубецкой для заработка работал в военкомате ремонтером - выбраковывал лошадей для Красной Армии. Особенностью тех лет было всеобщее увлечение театром, и заштатный Богородицк не отстал от моды. В нем появился свой "Народный дом имени Луначарского", где в основном силами этих трех семей составилась труппа. Все делали сами - писали декорации, изготовляли реквизит и костюмы, для которых использовали шторы дворца и содержимое графских сундуков. Среди режиссеров и авторов был Владимир Трубецкой. Он унаследовал семейное свойство, которое его отец называл "пружинчатостью" Трубецких: чем тяжелее были обстоятельства, тем сильнее проявлялись у них творческие способности. Первый литературный опыт В. Трубецкого относится к периоду жизни в Богородицке: там он сочинил и поставил в Народном доме оперетту на сюжет новеллы Боккаччо. Успех и полученный гонорар вдохновили его на сочинение текста и музыки следующей оперетты, уже для московского театра. Его племянник писатель С. М. Голицын рассказывал: "Дядя привез ее в Москву и попал к тогдашнему королю оперетты Ярону, который принял его весьма любезно и созвал комиссию из четырех мудрецов. Два битых часа дядя им играл и пел своим надтреснутым козлетоном. Ярон хохотал, мудрецы сидели мрачные. Ярону понравилось, но к этому времени власти начали совать свои носы в дела театров, и мудрецы сказали: "Нет!" В оперетте не было классовой борьбы и ни единого пролетария. Так он потерпел неудачу, но не отчаялся и, вернувшись в Богородицк, организовал любительский оркестр и стал его дирижером. Жизнь в Богородицке той поры была отражена им позже в юмористических рассказах, написанных для "Всемирного следопыта".
С введением НЭП'а богородицкие беженцы стали перебираться в Москву. Трубецкой ни жилья, ни работы для себя в столице не нашел и переехал с семьей в Сергиев Посад, где после революции в "аристократическом квартале" посада слободах Красюковке, Огородной, Нижней - жили Олсуфьевы, Нарышкины, Илловайские, Истомины, Лопухины. Русское дворянство селилось вокруг Сергиева монастыря в поисках спасительного прибежища, и проживая каждый день как последний, находило утешение в близости святынь. Поддерживая традиции, они иногда устраивали домашние концерты, и Владимир Сергеевич, замечательный рассказчик, музыкант и актер, возглавлял эти вечера, а его дом стал одним из центров этого круга. В 1926 году в Сергиевом Посаде недалеко от Трубецких поселился Михаил Пришвин. Началась дружба домами и совместная охота. Уже известный тогда писатель, Пришвин поддерживал и поощрял начинающего литератора В. Ветова. Сотрудничество Владимира Сергеевича со "Всемирным следопытом" шло успешно. Читатели требовали продолжения серии рассказов Ветова, в рецензиях их называли "образцами блестящего стиля и сюжетного мастерства", а Попов дважды посылал Трубецкого в командировки. Результатом их было появление интересных очерков о Байкале и Каспийском море и небольшая повесть для детей "Тюлень Яшка". Однажды он попробовал себя в жанре фантастики и написал в стиле научно-популярного очерка захватывающий рассказ о ферме для китов на одном из островов Тихого океана. Технические подробности доения и переработки ценного китового молока перемежались в нем с яркими описаниями реальных океанских пейзажей. Но фантастика обернулась мистификацией: читатели приняли все за чистую монету. Редакцию завалили письмами с советами по улучшению производства, многие предлагали свои услуги в качестве фермеров, все жаждали познакомиться с автором и просили дать его адрес. Для В. Трубецкого это было время относительного везения. Жизнь представлялась ему такой замечательной игрой, в которой все ставки когда-нибудь выигрывают - надо только дождаться "счастливой полосы". Один из его рассказов тех лет так и начинался: "Не случалось ли с вами когда-нибудь в жизни, что вдруг найдет на вас полоса неудач и невезений?.. Все у вас идет хорошо, пока вдруг что-то не оборвется и не испортится, и тогда у вас ничего уже не выходит, что бы вы ни предпринимали. Попадая в такую полосу, не отчаивайтесь, терпите: ведь это только "полоса". Даю вам слово, что рано или поздно вы выскочите из нее".
Однако полоса везения самого автора была не слишком продолжительной.
Наступили 30-е годы. "Великий перелом" совершался во всех сферах. "Всемирный следопыт" за вредную приключенческую направленность" был закрыт. Сергиев Посад переименовали; сбросили большой колокол со знаменитой колокольни Ухтомского; возами растаскивали богатейшую библиотеку Лавры. О настроениях Трубецкого можно догадаться по дневниковой записи Пришвина 1930 года: "Князь (то есть В. Трубецкой - В. П.) сказал: иногда мне бывает так жалко родину, что до физической боли доходит". Многих знакомых Владимира Сергеевича уже не было в Загорске, некоторые были "выкуплены" родственниками-эмигрантами из Советского Союза за доллары, другие - арестованы. Начиналась волна "дел" научной интеллигенции. В Ленинграде громили историков и краеведов, в Москве было создано так называемое "дело Сперанского". Филологи, академики М. Н. Сперанский, Г. А. Ильинский, М. С. Грушевский, члены-корреспонденты Н. Н. Дурново, А. М. Селищев и многие другие ученые обвинялись в создании монархической организации, подчиненной якобы некоему венскому центру, во главе которого стоял князь Николай Сергеевич Трубецкой, крупнейший лингвист XX века, русский эмигрант, академик Венской академии наук и - родной брат Владимира Сергеевича{*1}. В январе 1934 года Владимир Сергеевич Трубецкой был арестован по обвинению в связи с руководителями "закордонного центра". В ходе дела сценарий НКВД поменялся, и все обвиняемые превратились в членов "национал-фашистской организации". Организации приписывалась целая программа, среди пунктов которой были и национализм, и примат нации над классом, и идеи превосходства славянской расы, и пропаганда исключительного исторического будущего славян. Многие из обвиняемых были сосланы, а славяноведение объявлено лженаукой, глубоко враждебной советскому строю. Владимир Сергеевич был выслан на пять лет в Среднюю Азию.
Семья поселилась в Андижане. Интеллигенции в городе практически не было, а тогдашний "тип русского в Андижане: кепка на боку под углом 45°, голубая майка, из-под которой видна татуировка на груди, в одном кармане - финка, в другом поллитровка", как писал Трубецкой родственникам, к общению не располагал. Но творческая его натура жадно отзывалась на новые впечатления. "Красота! Здесь приключенческий край, полный авантюристов в джеклондоновском смысле. Инженеры, спустившиеся с Памира, врачи, заехавшие из пустыни, золотоискатели, пограничник со свежим шрамом или прокурор, выехавший расследовать преступление, - вся эта публика, попав в Андижан, устремляется в мой кабак, где старый следопыт Ветов расставляет сети и вылавливает свежие темы. Материалов горы... Но когда писать? Вечером - я до двух часов ночи играю в саду-ресторане, а утром до 12 - в узбекском гостеатре, где под извлекаемые мною звуки дуся-балерина, нарочито выписанная из Москвы, приобщает узбекских актеров к европейской культуре... Взял еще сдельную на музыкальное оформление шиллеровского "Коварство и любовь", так что не имею на дню и 10 свободных минут", - отвечал он Владимиру Голицыну на просьбы не бросать литературной работы. Но и письма его из Андижана могли бы стать почти готовыми рассказами и очерками. Родственник и постоянный иллюстратор его рассказов, художник В. Голицын настойчиво уговаривал Трубецкого писать воспоминания. Уговоры эти, а также тоска по России заставили Владимира Сергеевича в 1936 году взяться за мемуары. Задумал он их в четырех частях - детство, записки кирасира, война 1914 года (окопное сидение) и записки советского музыканта. Но начал Трубецкой сразу с воспоминаний о службе в гвардии. Возможно, у него были предчувствия, что он не успеет осуществить все, что наметил, а описать эту часть жизни ему казалось легче, чем прочие. Писать же о тех, кто окружал его в детстве, людях, внесших огромный вклад в русскую культуру "золотого века" - а именно таковым являлось для отечественной мысли начало двадцатого века - было делом большой ответственности. К тому же, жизнь не оставляла Трубецкому иллюзий по поводу публикаций воспоминаний о них, тогда как "Записки кирасира" он надеялся увидеть напечатанными.
Гвардейцы-кавалеристы первыми пали в боях войны 1914 года, и Трубецкому хотелось своими "Записками" почтить их память. И он блестяще это осуществил. В мемуарах в совершенстве проявилось его основное умение - увидеть и рассказать. Превосходная память позволила ему без справочников написать о событиях двадцатипятилетней давности с безукоризненной точностью, и при этом с присущим ему остроумием и элегантностью.
Летом 1937 года Владимир Трубецкой был арестован. Во время обыска один из его сыновей успел незаметно выхватить из стопки бумаг, лежащих на столе, несколько отцовских тетрадок и спрятать их в шароварах младшего брата. Вот так - без начала и конца - были спасены "Записки кирасира". Вместе с отцом были арестованы и трое старших детей Трубецкого, а в 1943 году и его жена, Елизавета Владимировна. Жизнь оставшихся "на воле" была очень трудной, и, если бы не самоотверженное хранение ими уцелевших листов воспоминаний, Владимир Сергеевич Трубецкой так и остался бы для читателя полузабытым автором юмористических охотничьих рассказов.
Глава I
Свидание с дядей Алексеем Капнистом{1} и откровенный разговор с ним имел для меня решающее значение, перевернув вверх дном всю юную мою жизнь. На самом деле до этого я думал о будущем, в сущности, с непростительным легкомыслием. В моих мечтах о будущем все укладывалось вместе - корабль, интересные заграничные плавания, милая моему сердцу повседневная судовая жизнь и тут же бесконечно любимая жена и семейная жизнь, полная "безоблачного бурного счастья". Мечты эти длились годами, и вот достаточно было одной откровенной беседы с дядюшкой, достаточно было хоть немного здравого смысла, чтобы разбить все мои радужные планы. При своем бесконечном оптимизме я никогда серьезно не задумывался над тем, во что же превратится наша семейная жизнь, когда я стану моряком и каково будет моей женушке сидеть на берегу у синего моря в постоянной разлуке со мной. Одновременно чувство мое к невесте все возрастало, переходя прямо в какой-то культ, и каждая более или менее продолжительная разлука с ней переживалась мной бесконечно тягостно. Трудно мне было не видеть ее и не быть возле нее хотя бы месяц... А как же будет, когда корабль постоянно будет нас разлучать, да еще на долгие месяцы! Ведь собственно жить вместе мы будем с женой только урывками. - Хороший моряк должен быть в море. Хороший муж должен быть на берегу у семейного очага. Совместить же море с семейным очагом невозможно, а женушку на крейсер взять нельзя. Недаром же существует поговорка: "Famme de marin - famme de chagrin"{*2}.
Нет надо было решаться на что-нибудь одно и положить на чаши весов любимую девушку и любимое море. Компромиссного решения здесь не могло быть. Однако сама мысль о каких-то весах в этом вопросе казалась мне чем-то подлым. Колебаться нельзя было: чувство наше слишком далеко зашло - мы были с невестой слишком дружны - и я отказался от моря.
Да, это было тяжело. Но невеста, конечно, не должна была этого знать. Ее могла огорчить мысль, что я жертвую из-за нее всем тем, к чему так упорно стремился с самых детских лет. С другой стороны, я в это время даже умилялся над самим собой: вот, дескать, какая у меня удивительная любовь и какой я замечательный рыцарь, что жертвую самым дорогим для любимой женщины. Я восторгался своим чувством и, странное дело, принесенная жертва не только не вызывала во мне чувства досады на невесту, но, наоборот, еще усилила мою пламенную любовь к ней. Невеста же хорошо и правильно меня поняла без всяких моих объяснений и оценила.
А до чего сильны были мои симпатии ко всему морскому! Вот и до сих пор я постоянно ловлю себя на том, что думаю и мечтаю о военных кораблях. В бессоннице ночи я до сих пор с болью в сердце и подолгу вспоминаю Цусиму, живо представляя себе трагическую гибель русских кораблей в этом сражении. Я все еще люблю придумывать проекты каких-то невероятно мощных военных кораблей с наивыгоднейшим расположением артиллерии, брони и т. п. Я и сейчас продолжаю с интересом следить за новыми изобретениями и усовершенствованиями в области военно-морской техники и с увлечением читаю специальную морскую литературу, легко запоминая всегда интересные для меня цифровые данные разных кораблей: их водоизмещение, мощность машин, скорость, толщину брони, калибр и число орудий, радиус действий и прочее.
Итак, с морем было покончено - нужно было поступать на сухопутную военную службу. Я утешал себя мыслью, что и на суше можно было бы так же честно и верно служить идеалам, крепко установившимся в моем сознании и сводившимся тогда к элементарной формуле: "за Царя и Отечество". Нужно было срочно выбрать род оружия, и я без колебаний остановился на кавалерии. Не скрою - очень нравилась красивая, элегантная кавалерийская форма, малиновый звон шпор, особая лихость и дух всегда подтянутых и щеголеватых офицеров.
Огромным утешением служило то обстоятельство, что сделаться сухопутным офицером можно было скорее, нежели моряком, так как в армии требовалось гораздо меньше специальных знаний нежели во флоте. Жениться же я мог только сделавшись офицером - на этом настаивала мать. Она часто говаривала мне: "сделайся сначала человеком, встань на ноги, а потом уже женись". Сделаться человеком - означало достичь известного положения в обществе, приобрести в свете известный удельный вес, и в этом отношении военная дорога была наиболее легкой, приятной и скоровыполнимой. Офицер безусловно был уже "человек", тогда как какой-нибудь студент за такового еще не считался.
План намечался следующий: год нижним чином в кавалерийском полку, в качестве вольноопределяющегося 1-го разряда, офицерский экзамен при военном училище, производство и, наконец, свадьба - то есть достижение "полного счастья".
Правда, моей матери{2} как женщине широко образованной и к тому же вдове крупного ученого, конечно хотелось видеть своих сыновей прежде всего людьми образованными в самом высоком смысле этого слова, однако на меня она, кажется, положила крест, убедившись, что к наукам никакого энтузиазма я не питал, учился скверно и неохотно, придерживаясь формулы "не хочу учиться - хочу жениться". К утешению матери, мой брат Николай науки очень любил и преуспел в них замечательно, подавая большие надежды{3}.
Была весна. Надо было торопиться и выбрать полк. Но чем руководствоваться при выборе того или иного полка? В свете про один полк говорили, что он хорош. Другие хаяли. Например, про квартировавший в Москве Сумской гусарский полк штатские люди почему-то говорили, что это плохой полк{4}. Что было хорошего и что было плохого в полках, я тогда еще хорошенько не понимал. Моя мать все еще была в Лондоне, и как поступить я не знал. Мне казалось, что нужно выбрать такой полк, который квартирует в большом городе, и у которого покрасивее форма. Я тут же купил в магазине главного штаба на Пречистенке таблицы с изображением в красках всех форм русских кавалерийских полков. Их было так много, что разбегались глаза. Все были красивые, но гусары нравились больше всех. (Недаром в афоризмах Козьмы Пруткова говорится - "Если хочешь быть красивым - поступай в гусары"). Я показывал невесте таблицы с пестрыми формами, и мы с ней вдвоем на них гадали, не зная на чем остановиться, покуда не приехала из Лондона мама, которая сразу направила дело о выборе полка в надлежащее русло. Для нее было совершенно очевидным, что если уж быть военным, то, конечно, гвардейцем. Гвардия давала "положение в свете". В смысле карьеры там были лучшие перспективы. Главное же, в гвардию принимали людей с разбором и исключительно дворян. Гвардейский офицер считался воспитанным человеком в светском смысле слова. В армии же такой гарантии не могло быть. Армейский кавалерийский шик, конечно, не нравился матери. Именно потому, что это был шик. Раз шик, то стало быть уже дурной тон (мать ненавидела даже само слово). Если хотите, в гвардейских полках тоже был известный шик, но уже более утонченный и "благородный", и это, конечно, тоже было не совсем хорошо.
Только два полка в глазах матери были вне всякого шика и были действительно настоящими порядочными полками - знаменитый исторический лейб-гвардии Преображенский пехотный полк и кавалергардский. У них был сверхшик, заключавшийся во всяком отсутствии "шика". Это было уже какое-то "рафинэ" джентльменства.
Моя мать, конечно, никогда не интересовалась полками и кроме упомянутых двух, собственно говоря, не знала других, живя почти всегда в таком "штатском городе, каким была Москва, и принимая у себя либо ученых людей, либо московских бояр, которые в огромном большинстве были штатскими. Однако в своей молодости, будучи еще барышней и выезжая в большой свет в Петербурге, мать была как раз в том избранном кругу, в котором в качестве кавалеров преобладали преображенцы и кавалергарды. Отец моей матери - дедушка, князь Владимир Андреевич Оболенский, в молодости был кавалергардом. Другой мой дедушка, со стороны отца, князь Николай Петрович Трубецкой, в молодости был преображенцем. Муж сестры моей матери графини М. Д. Апраксиной - командовал в свое время кавалергардским полком, и двоюродные братья матушки, Оболенские и Озеровы, тоже служили в этих же полках{5}. В оба эти полка поступал цвет высшего дворянского общества. Это были действительно исключительные аристократические полки, куда принимали офицеров с особенным разбором. Носить громкую старинную дворянскую фамилию и обладать средствами и придворными связями, было еще далеко недостаточно, чтобы поступить в один из этих рафинированных полков. Туда мог попасть только безупречно воспитанный молодой человек, о репутации и поведении которого полком собирались тщательные справки. А кавалергарды в некоторых случаях еще и копались в родословной представлявшегося в полк молодого человека и проверяли за несколько поколений назад его бабушек и прабабушек: не затесалась ли среди них какая-нибудь мадам, неподходящая по своему происхождению и тем самым портящая родословную. Ведь она могла бы передать по наследству плебейские черты своему потомству Здесь никакие протекции не помогали. Случаи, когда сыновья министров и высших сановников при представлении в эти полки получали отказ, не были исключением. Итак, мать хотела, чтобы я поступил в один из этих, так сказать, фамильных наших полков. Имея безупречную родословную, громкую фамилию, а равно и подходящее воспитание, я имел все то, что было нужно, дабы сделаться кавалергардом или преображенцем, однако от преображенцев я сам отказался наотрез, поскольку хотел служить в коннице. В отношении же кавалергардов у матери у самой возникли некоторые сомнения. Одно дело быть холостым кавалергардом. Для этого не нужно было иметь особых средств, ибо кавалергардцы вели себя скромно (без показного шика). Другое дело быть женатому, семейному кавалергарду. Холостой мог бы жить у какой-нибудь тетушки или же на холостяцкой квартире. Он мог довольствоваться одним лакеем или денщиком. Женатый же должен был иметь не угол, а приличную хорошую квартиру в столице и иметь такие средства, чтобы не отставать от требований общепринятого в полковой среде светского образа жизни, да еще в добавок в условиях столицы. Моя мать опасалась, что не сможет дать мне таких средств. Ей не хотелось, чтобы ее сын довольствовался лишь минимумом того, что было нужно для семейного кавалергарда. По ее понятиям, я должен был иметь нечто большее. С другой стороны, мать опасалась моей молодости, легкомыслия и неопытности. Она боялась, что у меня и у моей жены появятся соблазны, мы забудем благоразумие, я начну жить выше средств и залезу в долги.
Мать обратилась за советом к своему родственнику, дяде Коле Миллеру, старому холостяку и отставному военному, а также к дяде Мите Лопухину офицеру генерального штаба, командовавшему в то время Бугским уланским полком (впоследствии он принял Лейб-гвардии конногренадерский полк и, командуя этим полком, был убит в начале мировой войны){6}. Оба дяди успокоили матушку, указав ей, что кроме кавалергардов есть вполне "приличные" гвардейские полки с прекрасными традициями. Некоторые из этих полков расквартированы в окрестностях столицы, как то: в Гатчине, Царском Селе и в Петергофе, где самый образ жизни, естественно, скромнее, нежели в столице. Дяди уверили матушку, что в любой из гвардейских полков она может смело меня отдать.
Но решающую роль в выборе полка сыграл бывший Гродненский и Тульский губернатор дядя Михаил Михайлович Осоргин, который как раз в этом году устраивал своего старшего сына Мишу для отбывания воинской повинности в Гатчинские Синие кирасиры. (Официально: Лейбгвардии Кирасирский Ея Величества полк).
Сам дядюшка Михаил Михайлович в молодости был пажем, а затем кавалергардом и, если пристраивать теперь на один год своего Мишу в Синие кирасиры, то только лишь потому, что этим полком командовал его старинный приятель и однополчанин генерал Бернов. Бернов заверил Осоргина, что Мише в его полку будет хорошо - как у Христа за пазухой. Дядя Осоргин предложил моей матери отдать заодно и меня в этот полк. Теперь он писал из своего калужского именья, где безвыездно проживал со всей семьей, что генерал Бернов - прекрасный человек и что благодаря моей молодости для меня будет очень хорошо жить вместе с его благонравным Мишей на одной квартире. Этому Мише было уже 27 лет. Бережливый, набожный и скромный во всех отношениях - он будет влиять на меня благотворно и удержит от всяких дурных соблазнов и легкомысленных поступков. Получив это письмо, мать вспомнила, что в Гатчине тихо доживал своей век ее двоюродный дядя князь Денис Оболенский, скрывавшийся от света вследствие своего уродства. Князь был совершенно глух, совершенно слеп и к тому же горбат, что не мешало ему слыть за очень практичного, живого и энергичного человека. Мать тотчас же письмом запросила этого старика, что слышно в Гатчине о Синих кирасирах, и дядя Денис ответил, что, кроме хорошего, про полк ничего не слыхать. Дядя был бы рад видеть меня у себя в Гатчине.
Участь моя была решена. Я был доволен. У Синих кирасир была очень красивая форма. Но больше всего меня радовало то, что именно эти кирасиры слыли за замечательных кавалеристов-спортсменов, сплошь и рядом выходя победителями на concours hippigues (конных состязаниях) не только в Петербурге, но и за границей. Так, на международных состязаниях в Лондоне и в Вене ежегодно выигрывали первенство кирасирские офицеры фон Эксе и Плешков, - имена которых были известны чуть ли не во всей Европе всем интересовавшимся спортом в то время{7}. В этом полку у меня был только один офицер, лично и хорошо мне знакомый, молодой корнет князь П. Урусов, очень веселый малый, недавно выпущенный в полк из пажей{8}. Он частенько наезжал в Москву, где тогда проживали его мать и сестры Ара и Ира, бывшие приятельницы моей невесты.
Итак, освидетельствовавшись у военного врача и забрав все нужные документы в Университете, в один прекрасный день в мае 1911 года я и сей благонравный кузен Миша Осоргин выехали в Гатчину, дабы представиться кирасирам и их командиру генералу Бернову.
* * *
Гатчина мне сразу понравилась. Удивительно опрятный, с аккуратными, прекрасно вымощенными улочками, чистенькими домами, с образцово содержащимся огромным городским парком, в котором сверкали живописные озера - город выглядел празднично и жизнерадостно, ничем не напоминая российскую провинцию. В то время это был типичный дворцовый городок, где проживало немало людей, так или иначе связанных с дворцом и двором. В Гатчине квартировала знаменитая и богатейшая императорская охота с весьма многочисленным штатом егерей, живших на Егерской слободе. Там же содержался изумительный зверинец, занимавший огромную площадь, где в полной свободе паслись и бродили благородные олени, дикие козы и разводились золотые фазаны. Там же содержались образцовые конюшни дворцового ведомства. Построенный императором Павлом великолепный дворец, утопавший в зелени на берегу прекрасного озера, невольно импонировал своими размерами, величием и мрачной элегантностью, придавая всему городу особый тон какой-то неуловимой парадной подтянутости и добропорядочности, что мне тогда особенно понравилось. В момент нашего приезда в Гатчину в Гатчинском дворце проживала состоявшая августейшим шефом Синих кирасир императрица Мария Федоровна{9}. По случаю ее пребывания в городе на улицах наблюдалось большое количество подтянутых полицейских, весьма приличного и достойного вида, и чинов специальной дворцовой охраны с витыми зелеными жгутами вместо погон, которых в шутку называли "ботаниками". Простые извозчики, городовые, наконец, обыкновенные гатчинские обыватели, - все выглядели добропорядочными, приличными, достойными и немного праздничными.
Добропорядочный и приличный извозчик прямо с Варшавского вокзала подкатил нас к квартире командира Лейб-гвардии Кирасирского полка, который жил в уютном и стильном здании бывшего дворцового охотничьего замка.
"Свиты" его величества генерал-майор Бернов встретил нас очень просто в своем элегантном кабинете, устланном медвежьими шкурами собственной охоты, как он нам объяснил. В наружности Бернова было что-то утрированно генеральское. Он был прямо-таки карикатурен. Небольшой, круглый и необыкновенно пузатый с густыми жирными русыми усами, совсем как у моржа, он имел очень важный, надутый и подчеркнуто строгий вид, однако в его маленьких и слегка выпученных синих глазах, помаргивающих сквозь пенсне, сквозила добродушная глупость и безобидность. Несмотря на поразительные усы, розовая физиономия генерала напоминала собой что-то бабье или даже детское. Впоследствии мы узнали, что ни один генерал не имел в гвардии столько шутовских кличек и прозвищ, какие присваивались гвардейской молодежью пузатому Бернову за его необыкновенную наружность и умственные качества: "Морж", "Тетя Вотя", "Бревнов" и наконец "Хэпэ-э"... Последняя кличка была дана генералу в силу его привычки в официальных случаях после каждой сказанной фразы с важностью прибавлять звук "хэпэ-э". На самом деле это бессмысленное "хэпэ-э", веско произносимое с чувством огромного достоинства, очень шло к генералу, подчеркивая его карикатурность. На полковых банкетах он ораторствовал так: "пью за здоровье обожаемого шефа, хэпэ-э". На ученьи выкрикивал, "здорово, молодцы лейб-эскадрона! хэпэ-э", или "Ротмистр, потрудитесь выровнять эскадрон! Хэпэ-э"...
Бернов был до того тучен, что ему тяжело было много ездить верхом. Поэтому когда полк уходил в Красносельские лагеря, за полком неразлучно следовала комфортабельная коляска, куда генерал частенько пересаживался.
В общем, Бернов был странным исключением. Ни один гвардейский полк не имел подобного командира. Просто непонятно было, почему высшее гвардейское начальство, и прежде всего строгий и требовательный великий князь Николай Николаевич{*3}, терпели во главе такого видного полка, как Синие кирасиры, подобную карикатуру{10}. Ведь в то время гвардия считалась лучшим и образцовым войском. К ней предъявлялись особые повышенные строевые требования и всякие новинки в боевом и техническом смысле испытывались прежде всего на гвардии во время лагерных сборов. Бернова, несомненно, выручало то обстоятельство, что сам по себе кирасирский полк был прежде всего прекрасным строевым полком и сдавал все смотры на "отлично ", благодаря прекрасным старшим офицерам и весьма удачно подобранным вахмистрам. При Бернове полковым адъютантом был некий поручик Плешков - умный и выдающийся молодой человек, имевший большое влияние на толстую "тетю Вотю", а следовательно, и на все полковые дела. Помощником командира по строевой части был полковник фон-Шведер - гроза полка{11}. Это был заядлый спортсмен-кавалерист и умопомрачительно требовательный офицер, нагонявший ужас на нижних чинов и страх на господ офицеров. Вот эти-то лица и ворочали всей полковой машиной. Впрочем, я забегаю вперед и об этих полковых людях скажу в свое время ниже. Итак, генерал "Хэпэ-э" обошелся с нами, двумя штатскими молодыми людьми, просто и мило. Поговорив об охоте, порасспросив Мишу о его папеньке и вспомнив свое доброе старое время, когда он был лихим кавалергардским корнетом, генерал предложил нам прогуляться с ним в полк. Усадив нас перед собой в полковой канцелярии, помещавшейся почти напротив императорского дворца, он принял доклад от полкового адъютанта и передал ему наши бумаги и прошения о поступлении в полк. Подписав полковой приказ, он повел нас завтракать в офицерское полковое собрание. Оно помещалось против казарм, в большом новом и элегантном двухэтажном особняке с большими зеркальными окнами. Мы прошли роскошную переднюю с ливрейным швейцаром, просторный холл с парадной лестницей, уютно обставленную библиотеку, зимнюю столовую с красовавшимися на стенах кабаньими и лосиными головами и массивным резным буфетом, на котором сверкали разные серебряные братины и surtouts des tables{*4}. Столовая выходила в роскошный, но довольно безвкусный грот. Далее мы прошли огромную белую парадную залу с голубыми шторами и большим портретом императрицы Марии Федоровны в золотой раме и, наконец, очутились на длинном балконе, где к завтраку был накрыт большой стол, блиставший белоснежной скатертью и изобиловавший массивными серебряными графинами, солонками и прочей серебряной столовой утварью и приборами. За столом завтракало с десяток офицеров. При появлении Бернова все они привычно и ловко разом вскочили, воинственно брякнув шпорами, и вытянулись в струнку, сделав бесстрастные офицерские физиономии. По тому, как это было ловко проделано, сразу чувствовалось, что выправка и дисциплина царили здесь не шуточные. Во флоте при появлении командира в кают-компании так не делали. Генерал привычно пробурчал: "Господа, прошу не беспокоиться", - и представил нас присутствующим, объяснив причину нашего визита.
Генерал сел во главе стола и усадил нас с Осоргиным рядом с собой, как своих личных гостей.
Присутствующие офицеры обошлись с нами хоть и вполне вежливо, однако с некоторым холодком и даже несколько суховато. Невольно сказывался тот иной раз неуловимый антагонизм, какой существовал у всех них по отношению к штатским, и я почувствовал, что одетая мною по случаю официального визита штатская черная сюртучная пара совсем сюда не идет и стесняет меня в этом сборище ловких военных людей. В те времена военный, а в особенности молодой кавалерист, как правило, относился к штатскому с некоторым пренебрежением и как бы с превосходством.
Лишь добродушный "тетя Вотя" - "Хэпэ-э", несмотря на свой чин, продолжал занимать нас разговорами, выказывая при этом настоящий такт и воспитанность. За столом шел оживленный и громкий разговор. Усевшись на свои места, офицеры, видимо, совсем не стеснялись больше присутствия генерала.
Я с интересом прислушивался к разговорам и пытливо рассматривал всех присутствующих, желая скорее понять и уловить особенности и общий тон того совершенно незнакомого мне общества, в среду которого я со временем должен попасть.
В одном конце горячо говорили о достоинствах какой-то выгодной кобылы, только что купленной кем-то из корнетов. В другой - черноусый поручик говорил о летнем скаковом сезоне на коломяжском ипподроме и о предстоящих конно-спортивных состязаниях в Красном{12}. Дородный лысый ротмистр, видимо, командовавший эскадроном уже не первый год, повествовал своему соседу, моложавому штаб-ротмистру, о том, как и почему его эскадрон на смотрах стрельбы всегда проходит первым по полку. Разговоры эти были для меня совершенно новы и звучали чарующе.
Здесь за столом сильно чувствовался особый полковой замкнутый мирок общих вкусов, интересов, привычек, установившихся взглядов и взаимоотношений, а также своих особенных словечек и выражений. У очень многих в разговоре чувствовалась совершенно одинаковая манерная небрежность, одинаковая аффектированность речи. На всех лежала как бы одинаковая печать полка, а именно - кирасирского полка. Впоследствии я наблюдал, что каждый полк имел свою совершенно особую печать - незримую, но крепко чувствуемую. Почти все были причесаны одинаково, с гладко зализанным и лощеным английским пробором. Почти все выглядели ловкими и гибкими. Кителя и рейтузы на всех были пригнаны удивительно ладно и изящно, свидетельствуя о высокой квалификации скроивших их портных.
Глядя на этих щеголеватых людей, которые теперь неуловимо подчеркивали свое превосходство надо мной, мне, молодому человеку, думалось лишь одно скорее, скорее, как можно скорее сделаться таким, как они, сделаться человеком... Ни у профессоров, ни у студентов, ни у лицеистов, ни у чиновников, ни даже у всех известных мне штатских губернаторов я не наблюдал такого достойного, самоуверенного вида. Я знал министров, знал сановников - и те выглядели куда скромнее, нежели эти люди, чуть ли не каждое движение которых сопровождалось дивным звоном шпор. И думалось мне: прекрасно быть человеком красиво одетым, человеком чести, человеком, всегда носящим оружие военным человеком - защитником родины.
С чувством большого удовлетворения покинул я Гатчину, с тем чтобы вернуться туда осенью уже для поступления в полк. Впрочем, оговариваюсь. Наш прием в полк даже только в качестве вольноопределяющихся зависел в конечном итоге от постановления Общего собрания господ офицеров полка. Об этом постановлении нас должны были уведомить особо. Без разбора в гвардию не принимали никого. Таков уж был обычай.
Помню, на обратном пути в Москву я остановился в Петербурге у дядюшки, князя Петра Николаевича Трубецкого, бывшего в то время членом Государственного Совета по выборам. Его старший сын Володя отбывал тогда повинность в Лейб-гвардии Казачьем Его Величества полку{13}. (Володя был приписан к Донскому казачьему войску, так как у дяди на Дону были именья). Он тогда как раз заканчивал офицерские экзамены экстерном при Николаевском кавалерийском училище. Такие экзамены со временем предстояли и мне. По словам двоюродного брата, окончившего университет, экзамены эти были далеко не шуточными. Программа была очень объемистой. Нужно было сразу сдавать двухгодичный курс по множеству специальных предметов. На вольноперов в училище смотрели косо и резали их почем зря. Требовалась серьезная подготовка, которая очень затруднялась из-за службы в полку, отнимавшей много времени и сил. Таких вольноперов, в большинстве из богатых дворянских фамилий, желавших стать офицерами, готовили к экзаменам некоторые наспециализировавшиеся на этом деле офицеры, взимавшие со своих учеников немало денег. Особенно славился уменьем подготавливать к экзаменам некий капитан Басевич. Готовил он "с ручательством", но брал бешеные деньги - до тысячи рублей с каждого. Впрочем, можно с ним было торговаться. Володя обещал устроить меня именно к нему. Дело осложнялось еще тем, что сдать экзамены кое-как мне было нельзя. В училище была принята так называемая 12-ти балльная система, и в гвардию можно было выйти офицером только получив в среднем не ниже 9 баллов. Получившие на экзаменах средний балл ниже 9, могли выйти только в армию. Отметка же ниже 6 по любому какому-нибудь предмету считалась неудовлетворительной, получивший 5 баллов - проваливался. Помню, это обстоятельство тогда не на шутку встревожило меня, так как в гимназии я учился плохо, а в университете и подавно. На этот раз, однако, я проявил благоразумие и по приезде в Москву тотчас же накупил военных учебников по разным дисциплинам, а оставшееся лето подучивал самые трудные из них, как то: артиллерию, тактику, фортификацию и топографию. Без учителя это было довольно трудно. Тем не менее такая заблаговременная подготовка впоследствии мне очень пригодилась.
Лето мы, как обычно, всей семьей проводили в подмосковном именьи Меньшове{14}, где я практиковался в полуинструментальной съемке местности при помощи приобретенной мензулы, руководствуясь учебником топографии барона Бринкена.
Учитывая предстоящую службу, летом я ежедневно понемногу ездил верхом на лошади, купленной у казака из "собственного Его Величества конвоя". Это был некрупный, но очень ладный гнедой конек, которому я из мальчишества и фасону ради собственноручно отрезал хвост и остриг гриву, придав лошади дурацкий англизированный вид и к тому же назвав ее "Пиф-паф". На этом мустанге я ужасно лихачествовал и проделывал довольно глупые выкрутасы и всякие фокусы, серьезно воображая, что постигаю высшую кавалерийскую премудрость. Все местные и даже отдаленные канавы и загородки я перепрыгивал на бедном Пиф-пафе. Прыгал почем зря, но с таким увлечением и сердцем, что довел несчастную скотину до изнурения и чуть не до полной разбитости передних конечностей.
Так готовился я к службе в коннице. В семье меня, конечно, начали считать уже замечательным кавалеристом. Старый кучер Егор был того же мнения, однако очень печалился за лошадь. С этим сумасбродным стариком, прослужившим в нашей семье около 40 лет, я по-прежнему очень дружил, постоянно бывая на конюшне. Там он без конца рассказывал мне про "старого князя" - моего дедушку, к которому питал совсем особое уважение за дедушкину любовь к лошадям. И каких только лошадей не перекупил Егор для старого князя. И как старый князь доверял Егорке. Рассказывал он и про то, как у него в коляске сосватались мои дядюшки и тетушки, а он, Егор, сидел на козлах и все слушал и только усом крутил, но никому никогда словом не обмолвился, потому "слово - рубль, а молчок иной раз и десяти стоит". Это поговорку он очень любил, несмотря на то, что сам болтлив был до чрезвычайности. Любил он также рассказывать о том, как будучи молодым, еще до поступления к дедушке, и служа у каких-то богатых господ, участвовал в умыкании невесты для своего барина, загнав при этом до смерти прекрасную тройку лошадей, так как за ними гнались братья невесты, богатые, но злые люди.
Кучер Егор был одним из немногих, которого я посвятил в тайны своего сердца, рассказав ему, кто моя зазнобушка.
- Ну, и много ли приданого за ней возьмете? - прежде всего полюбопытствовал он.
- Не знаю, - чистосердечно отвечал я. - Я женюсь не ради приданого, а просто княжна мне нравится.
- Эх, кня-язь... - восклицал Егор, сокрушенно качая головой, - так рассуждать нельзя. По мне была бы невеста богатая - а там хошь горбатая!
В общем, лето 1911 года прошло для меня тихо, без событий. Это было последнее лето, что я жил при своей матери, и я никуда не выезжал из Меньшова, за исключением двух поездок в Калужскую губернию к невесте, которую любил все так же пылко.
Впереди предстояла новая, совсем самостоятельная жизнь, полная заманчивых, но туманных перспектив.
Глава II
В начале октября мы с двоюродным братом М. Осоргиным одновременно прибыли служить в Гатчину, где для нас была уже приготовлена квартира.
В первый же день мы отправились в полк и явились к нашему непосредственному начальнику, поручику Палицыну, занимавшему должность начальника полковой учебной команды, куда сразу попадали все вольноопределяющиеся. Палицын первым долгом потребовал, чтобы мы тотчас же заказали себе на собственные средства полное обмундирование в полковой шивальне, и чтобы это обмундирование решительно ничем не отличалось от казенного солдатского. Сукно, пуговицы, даже подкладки - все должно быть такое же, как у простых рядовых. В полк мы могли являться только одетыми по казенному. Лишь "для города" и вне службы разрешалось одеваться приличнее, опять-таки строго соблюдая установленную для полка форму. Впрочем, надо сознаться, что и казенное гвардейское обмундирование было очень и очень добротно, красиво и прилично. Нам полагались черные вицмундиры с золотыми пуговицами и к ним медные каски "с гренадой". Полагались и белые парадные мундиры, красиво обшитые на обшлагах, воротах и груди яркими желто-голубыми полосами. Такие мундиры назывались колетами. Они были без пуговиц и застегивались на крючках, так как в конном строю поверх них надевались медные латы (так называемые "кирасы"). К этим мундирам полагались позолоченные каски, увенчанные на макушке большими золотыми двуглавыми орлами с распростертыми крыльями. Сюда же полагались краги, то есть особые белые перчатки с огромными твердыми отворотами, чуть не до локтя, как у средневековых рыцарей. Полагались нам и желтые тужурки и простые защитные гимнастерки. Все ремни амуниций белоснежные, как и во всей гвардии.
Молодцеватые ефрейторы сразу же принялись наставлять нас, кому и как отдавать честь. Мундиры сготовили нам быстро, и дня через четыре, облекшись в белые парадные колеты и напялив на голову тяжелые медные каски с орлами, мы наняли полкового извозчика Аверьяна, знавшего адреса всех офицеров{15} и покатили "являться" всем господам офицерам по принятому обычаю к каждому в отдельности.
Это была целая процедура, которая потребовала от нас нескольких предварительных репетиций. Репетировал нас бравый вахмистр учебной команды по фамилии Маляр.
Ведь мы были только солдатами - нижними чинами, и с момента как мы одели солдатскую форму, между нами и господами офицерами сразу же выросла огромная пропасть. Теперь с человеком, одетым в офицерскую форму, мы, одетые только по-солдатски, уже никогда не могли говорить просто и держать себя свободно, и это несмотря на то, что мы принадлежали к высшему дворянскому кругу.
Нужно было уметь, как доложить о себе офицеру, как предстать "пред его очи", как при этом придерживать палаш и каску, как смотреть в лицо начальству одновременно "почтительно и весело".
Смешон штатский человек, когда на него впервые напялят блестящий военный мундир. Ведь настоящая военная выправка в старой армии давалась не скоро и всякий штатский, одевшись по-военному и желавший изобразить военную выправку, всегда был смешон и карикатурен. Мне все-таки было это легче, так как я имел уже в этом отношении некоторый опыт за время пребывания на военном корабле. Миша Осоргин такого опыта не имел и поэтому был очень смешон, тем более, что был несколько мешковат и неуклюж.
Производя невероятный грохот строевыми сапожищами, шпорами и огромной металлической ножной палаша, непривычно болтавшейся с левого бока и задевавшей на ходу за что ни попадало, мы входили в квартиры офицеров "печатным" шагом, который плохо нам удавался. Представ перед начальством, мы корчили "почтительное, но веселое лицо", вытягивались истуканами и громко галдели по очереди: "Ваше высокоблагородие, честь имею явиться по случаю поступления Лейб-гвардии в Кирасирский Ея Величества Государыни императрицы Марии Федоровны полк... Вольноопределяющийся такой-то!"
Это нужно было браво выпалить одним духом. Во время этой тирады офицер, невзирая на свой чин, тоже вытягивался и каменел, после чего подавал нам руку, и тогда мы снова оглашали его квартиру громким и радостным криком: "Здравия желаем, Ваше высокоблагородие!" Некоторые офицеры ограничивались этим и отпускали нас подобру-поздорову. Иные же, произнося традиционное "ради Бога, не беспокойтесь", усаживали нас и пытались завести приятный разговор, который с нашей стороны никак не клеился, потому что мы уже с азартом вошли в свою новую роль "солдат" и старались держать себя браво и дисциплинированно. К тому же, говорить просто мы уже не могли. Вместо "да" и "нет" обязаны были говорить "так точно" и "никак нет" и каждую нашу фразу должны были либо начать, либо закончить обычным обращением "Ваше высокоблагородие" или "Ваше сиятельство", если офицер был князем или графом. С непривычки все это очень стесняло.
Особенно смущал нас бригадный, бывший командир Синих кирасир, блестящий генерал барон Жирар де Су-кантон, состоявший в свите царя{16}. К нему мы с треском вперлись во время его чаепития в семейном кругу. К нашему конфузу генерал усадил нас за стол, а генеральская дочка и генеральша, очень светская и красивая дама, стали нас потчевать чаем. Как держать и вести себя в таких случаях воспитанному, но штатскому молодому человеку было нам хорошо известно и привычно. Однако солдатская форма и сознание, что ты всего навсего рядовой, путали и сбивали нас с панталыка в присутствии такого чина, как генерал, хорошенькая дочка которого поглядывала на нас с еле заметной насмешливой улыбкой.
Покончив с визитами и попав, наконец, вечером домой, мы много смеялись сами над собой, переживая впечатления дня.
Со следующего же дня началась наша настоящая служба. В сущности, она была очень тяжела!
Единственная привилегия вольноперов заключалась в том, что им разрешалось жить не в казармах, а в собственной частной квартире.
Ранним утром, еще при полной темноте мы с Мишей уже бежали через Гатчинский парк, называвшийся почему-то "Приорат", в полк. Надев в казарме желтые тужурки верблюжьего сукна с черным воротником, мы всей командой в строю шли в конюшню, где при ярком свете электричества производилась уборка, чистка коней и дача корма.
Пахнувшая цирком конюшня содержалась в образцовой чистоте, не хуже хорошего жилого помещения и своим блеском была замечательна.
В стойлах стояли строевые кони - огромные рыжие великаны красавцы - все высоких кровей. Это были лучшие лошади страны, строго фильтровавшиеся ремонтными комиссиями и отбиравшиеся в гвардию. Этих исполинов поставляли лучшие конные заводы в большинстве из Польского края (заводы Дрогойовского, Корибут-Дашкевича, Мангушко, Закржевского и других). Первая гвардейская дивизия - так называемая кирасирская дивизия, куда входил наш полк, считалась еще по старинке тяжелой кавалерией (род оружия, теперь уже не существует). Поэтому она комплектовалась рослыми людьми и самыми высокими конями - настоящими чудовищами. Таких коней в наши дни почти не увидишь. Их тип исчез. За время империалистической войны и гражданской войны все они полегли либо от изнурения, либо на поле брани. Но что всего печальнее - у нас погибли и высококровные их производители и матки, которых, увы, не пощадили многократные мобилизации военного времени, подскребавшие начисто весь подходящий конский состав для нужд как белых, так и красных армий.
С великим трудом и не скоро создается племенная конская база. Правда, в современной коннице видишь и теперь неплохих лошадок, выносливых и резвых, однако по кровности, росту и красоте им все еще очень и очень даже далеко до тех парадных красавцев-исполинов, которыми прежде комплектовалась кирасирская дивизия царской гвардии.
Ах, ... что это были за кони! Впрочем, не буду вдаваться в лирику и отклоняться от описания нашего будничного дня. Для нас он начинается с конского туалета, который совершался при помощи щеток и скребниц. Навести лоск на коня так, как это требовалось в полковой учебной команде, было не просто, и если по окончании туалета лошадь была чиста, но не идеально чиста, то за это попадало.
В особенности трудновато было с горячими и нервными экземплярами, не переносившими прикосновения жесткой щетки, при одном виде которой они начинали фыркать, дрожать, бить копытами, лягаться в узких стойлах и всячески пытались укусить. Неопытного человека такая лошадь легко может покалечить. Тут нужна особая сноровка - нужно, чтобы конь боялся тебя и уважал. Когда на скребнице накапливалось достаточно перхоти, ее осторожно опрокидывали на пол и ударяли по ней древком щетки, отчего на полу образовывался всякий раз аккуратный белый квадратик перхоти. Эти квадратики располагались в шашечном порядке перед каждым стойлом, образовывая на полу правильные рисунки. Уже по одной их густоте к концу чистки вахмистр сразу мог определить, насколько основательно каждая лошадь начищена. Однако он этим не удовлетворялся и часто лично проверял чистоту на той или иной лошади, подробно осматривая ее.
Наш начальник, поручик Палицын, приказывал вахмистру давать вольноперам зачищать самых строгих коней, что было довольно-таки неприятно.
В особенности пугал конь Еврей завода Енишерлова - нервный, буйный и злой - настоящий зверь, причинявший в конюшне немало хлопот. Наоборот, чистить ласковую кобылу Вдову - большую умницу - было одно удовольствие.
Мне, впрочем, чистка коней сразу далась легче! Мой друг, кучер Егор, в свое время научил меня в Меньшове этой премудрости. Некоторые же вольноперы (всего вольноперов было 7 человек) всячески "ловчились", стараясь вопреки приказанию Палицына, почистить смирного коня, для чего задабривали вахмистра Маляра хорошим "на-чаем". Впрочем, Маляр шел на это неохотно, так как ежедневно опасался, что сам поручик неожиданно нагрянет на уборку и пропишет ему на орехи. Поручика боялись пуще огня.
После уборки шли строем в казармы, где люди наскоро пили чай. Для нас, вольноперов, сразу установилась привилегия, мы пили чай совместно с вахмистром, в его отдельной комнате, причем угощали Маляра вкусными бутербродами и анекдотами, до которых Маляр был охотник. В этой же комнатушке вахмистр поучал нас полковому уму-разуму. Он, конечно, был не дурак и дружил с нами.
После чая занимались в казармах прикладкой, изучали винтовку. Ефрейтор и виц-унтер-офицеры занимались с каждым солдатом в отдельности на приборах с наводкой. Занимались дельно и толково, индивидуальным методом, подготовляя хороших стрелков.
К восьми часам все собирались в классе за партами. Ровно в восемь с боем часов заявлялся сам поручик. Луженая вахмистерова глотка изрыгала громовое "Встать! ... Смирно!" Мы вскакивали и каменели. Дежурный лихо и браво рапортовал. После чего следовало начальническое: "здорово, молодцы" и ответный стройный хор: "здрав желам ваш сок-бродь", выкрикиваемое громко, "весело и почтительно" особым ускоряющимся ритмом. Поручик снимал серое пальто, которое услужливо подхватывал дежурный, и при гробовой тишине с минуту пристально оглядывал статуями окаменевших людей пронзительными, строгими и все замечавшими глазами. Выждав паузу, он приказывал нам сесть. Усаживался сам и начинал с командой занятия либо топографией, либо уставами. Все уставы зазубривались солдатами чуть не наизусть. Впрочем, Палицын замечательно толково и хорошо разъяснял эти науки людям, терпеливо добиваясь от них осмысленного и отличного знания службы. Иначе и нельзя было: полковая учебная команда готовила унтер-офицеров, то есть младший командный состав.
С 10 до 12 часов в большом и стильном полковом манеже производилась сменная езда учебной команды. Потом перерыв на обед, причем вольноперы опять-таки пользовались привилегией и столовались не из казенного котла в казармах, а за свой счет в офицерском собрании, где нам была отведена для этого совсем изолированная комната, имевшая с улицы отдельный ход, так что мы здесь с офицерами встретиться не могли. В помещения же офицеров нам доступа не полагалось.
После "мертвого часа" (которым мы, вольноперы, почти никогда не пользовались, ибо для этого нам нужно было бы бежать домой) до самого вечера производились занятия гимнастикой, пешим строем, вольтижировкой, фехтованием, стрельбой в тире. Этими занятиями в большинстве ведал помощник Палицына молодой и акробатически ловкий чернявенький корнет Эльвенгрен, финн по происхождению - кумир всех Гатчинских гимназисток.
На всех занятиях жучили лихо, закаливали, муштровали, тянули, отшлифовывали, вырабатывая подлинную выправку. Вечером мы возвращались домой разбитыми и до того усталыми, что стремились скорее в постель. И так изо дня в день долгие месяцы.
Но всего тяжелее была езда в манеже, под командой поручика Палицына, который с первых же дней задал нам невероятного перца и внушил к себе прямо панический ужас всех вольноперов.
Как сейчас вижу его перед собой с бичом в руке, в офицерском пальто пепельного цвета с золотыми погонами и синими петлицами и в безукоризненно белой кирасирской фуражке с бирюзовым околышем. Худощавый, чрезвычайно высокого роста, белокурый, бледный, с длинным горбатым носом и серыми глазами навыкате, он был образцом военной дисциплины, олицетворением строгости, требовательности и "цука". Это был глубоко ненавидящий и презирающий все "штатское", до мозга костей строевой офицер. Бывший юнкер знаменитого кавалерийского училища, где цук был доведен до степени культа, Палицын просто органически не переваривал вольноопределяющихся, усматривая в них людей изнеженных, избалованных и случайно пришедших в полк из штатского мира. И зверствовал же он с нами, несчастными семерыми вольноперами во время сменной езды!..
В первое время ездили совсем без стремян, дабы пригнать правильную уставную посадку. При этом езда строевой рысью очень утомляла, если попадалась тряская лошадь. Вольноперы, конечно, это сразу сообразили и путем дачи "на-чаев" устроились было ездить на покойных смирных лошадях. От глаз Палицына это укрыться не могло. "Вольноопределяющийся такой-то! - ревел он басом на весь манеж, - под вами не лошадь, а трамвай! Сколько дали вы вахмистру "на-чай" за такое удовольствие? Эй, вахмистр, с сегодняшнего дня давать вольноопределяющимся только самых тряских коней!"
Помню, после этого распоряжения на мою несчастную долю выпал как раз знаменитый Еврей - тряский до умопомрачения и выкидывавший меня из седла на строевой рыси.
Без стремян держаться в седле полагалось только усилиями коленей, которые нужно было крепко сжимать в седельные крылья, оставляя шенкель (то есть нижняя часть ноги от колена) свободным. Вначале это у меня выходило плохо, в особенности после того, как раздавалась команда "прибавь рыси". Невольно в поисках более устойчивого положения я начинал прижимать к бокам Еврея шенкеля. Очень горячий и нервный Еврей этого не выносил и сразу же подхватывал в скок, нарушая дистанцию и вызывая громовой окрик Палицына: "Вольноопределяющийся, где дистанция?! Шенкель назад! Уберите ваши "макароны", несчастье маринованное!"
Закусив губы, я впивался что есть силы коленками в скользкие крылья седла, но я был слишком легок, а Еврей слишком тряский, и снова я чувствовал, что болтаюсь в седле, вызывая новые окрики поручика. Через 2-3 дня такой езды колени мои разодрались в кровь, образовались ссадины и весьма болезненные подтеки. Так продолжаться не могло, и я отправился в околоток на прием к полковому врачу. Младший врач - доктор Пикель - дал мне какой-то мази и освободил от езды на три дня. На следующий день я, как полагается в таких случаях, явился в манеж без лошади и подал поручику записку врача с освобождением. "Ну, что же, отлично! - спокойно сказал Палицын, мило улыбаясь, - растерли свои коленочки, бывает!.. Освобождение у вас на три дня!., что же, значит три воскресенья будете без отпуска...
Это было ударом. В праздничные дни мы все обычно любили ездить в Петербург к родным и эти поездки были для нас действительно праздниками. Помню, я уже на следующий день, невзирая на освобождение и на содранную кожу на коленях, снова уже сидел верхом на ненавистном Еврее в надежде, что Палицын это учтет и простит мне хоть два воскресенья. Напрасно! Я этим лишь испортил свое дело: Палицын решил, что раз я не пользуюсь своим освобождением, то, стало быть, я просто привередник, и дал мне вдобавок наряд не в очередь.
Во время строевой рыси по команде "дойди на хвост" всю смену подолгу заставляли проделывать качание шенкелями и нагибание корпуса вперед и назад, сохраняя правильное положение шенкеля, что было утомительно. Но вот, наконец, раздавалась долгожданная команда: "шагом, вольно, оправиться, огладить лошадей!". Казалось, наступал желанный минутный отдых, где можно было, наконец, расправить затекшие и наболевшие члены. Не тут-то было! - Палицын уже басил на весь манеж: "Встать на седла-а!".
Солдаты становились ногами на качавшиеся под ними седла, узкие и скользкие, и, балансируя руками, старались поддержать равновесие. Простых солдат Палицын равнодушно пропускал мимо, не говоря ни слова, но когда мимо него проезжали лошади вольноперов, Палицын начинал, как будто невзначай, тихонько пощелкивать бичом - отчего лошади подхватывали, а стоявшие на седлах вольноперы горохом сыпались с лошадей в опилки.
"Эх, господа вольноопределяющиеся! - сокрушенно басил Палицын, - горе вы мое!.. Выросли такие большие и мне не на радость. Живо на коней!.. Встать на седла-а!"
И снова щелканье бича и неизбежное сальто вольноперов, пока не раздавалась команда: "Сесть по-человечески... Смиррно", - и опять рысь без стремян.
Круто приходилось и во время вольтижировки, которая производилась при полной боевой (то есть при винтовке и шашке). Трудно было приловчиться одним махом вскочить на галопирующую огромную лошадь. Сначала не хватало ловкости, силы в руках и ногах. Шашка путалась между ног и мешала. Неуклюжих Палицын подбадривал бичом, который, надо сознаться, в этих случаях действовал благотворнейшим образом. Бывало, ухватишься одной рукой за кончик гривы на холке, другой рукой упираешься в седло и в таком виде, беспомощно повиснув сбоку лошади, толкаешься ногами в землю, тщетно стараясь взлететь на седло. Вдруг резкий щелчок бича, так и обжигающий самую мягкую часть твоего тела и... о чудо! - сразу же откуда-то появляется у тебя ловкость и сила - ты уже перышком взлетаешь вверх, попадая, как положено, прямо в седло, а Палицын уже басит: "Виноват, вольноопределяющийся, я, кажется, вместо лошади нечаянно вас задел..."
За все время я получил "бича" всего один раз. Его жгучее прикосновение сразу выучило меня вольтижировать, но простить это Палицыну я долго не мог, затаив в душе жгучую обиду и злобу.
Попадало бичом и другим вольноперам, но чаще всего рыхлому и балованному Санговичу, о котором еще речь будет ниже.
Положительно, манеж становился для нас каким-то кошмаром, а между тем, большинство из нас выбрало родом оружия конницу только из любви к конному спорту.
Вот ефрейторы и освобожденные по запискам от езды солдаты втаскивают в манеж каменную стенку. Это массивный деревянный барьер в полтора аршина вышиной, выкрашенный под кирпич и почему-то именующийся "гробом". Барьер этот ставится вплотную к стене манежа. Раздается протяжная команда: "Манежным галопом... марш!.." Палицын пропускает всю смену без стремян через барьер. Не доходя несколько скачков до препятствия, мы должны бросить поводья и взять руки на бедра. Делается это для того, чтобы приучить нас во время прыжка лошади не виснуть на поводу и не вздергивать коня. Такой же метод вырабатывает у людей крепкую устойчивую посадку. Однако, по первоначалу, лишенные стремян и не имея иной опоры, кроме собственных коленей, многие во время могучего взлета лошади над барьером инстинктивно взмахивают руками или растопыривают их, как бы ловя руками воздух. Такой судорожный жест Палицын никому не прощает: "Аэроплан, а не кавалерист!.. наряд не в очередь!!" - кричит он вдогонку провинившемуся.
Почему нас вначале заставляли прыгать именно этим способом - было нам вполне понятно. Другое дело было, когда Палицын заставлял смену проходить через барьер, сидя задом наперед, да еще подбоченясь, и чтобы люди не смели оглядываться назад. Это было, в сущности, и безрассудно, и опасно, и не скрою - просто страшно.
Вот каменная стенка - гроб у манежной стены. Мы идем галопом. Головной номер приближается к препятствию. Вдруг команда: "Сделать ножницы, сесть задом наперед", - мы быстро перевертываемся, усаживаясь лицом к лошадиному хвосту. Седельная лука непривычно толкает тебя в зад и уменьшает точку опоры. "Руки на бедра!.. Не сметь оглядываться назад!" Тут в сердце невольно закрадывается дурной холодок - предвкушение почти неизбежного падения. Секунды две молишься Богу, чтобы было не больно. С тревогой вглядываешься в морду скачущей за тобой огромной рыжей лошади, под чьи копыта ты, очевидно, попадешь, когда кубарем брякнешься на землю. Безудержно хочется оглянуться на барьер, его жуткое и быстрое приближение ты ощущаешь с каждым скачком. Хочется впиться руками в ерзающий лошадиный круп... Поздно... Могучий взлет коня, передняя лука неожиданно резким толчком выталкивает твой зад из седла. Ты брошен в пространство. Руки сами собой судорожно вскидываются вверх. Ты кувырком через голову летишь прямо под ноги скачущего за тобой номера. К счастью, лошади обладают одним удивительным свойством: на скаку они почти никогда не заденут копытом упавшего человека, и в большинстве случаев по какому-то инстинкту благополучно перескакивают через него.
Вскочив на ноги после падения, обалделый человек сам не понимает, как и почему он остался цел. Почесывая ушибленное место и отплевываясь опилками, он бежит, уже нередко прихрамывая, догонять своего унесшегося коня.
Случались и увечья. Бывало, что некоторых тут же приходилось отправлять в полковой лазарет с тяжелыми ушибами или вывихами, а то и без памяти.
"Учитесь падать, - говорил нам вахмистр, - когда падаешь - не теряйся, сожмись в комочек, натужься..." Да, это была особая наука... Один из вольноперов сломал палец. Кто-то сломал ключицу, кто-то - ребро. Три или четыре человека получили даже полное освобождение от службы.
К счастью, практику прыжков задом наперед, имевшую целью развивать в нас "лихость и бесстрашие", Палицын вскоре прекратил. Как мы узнали, помощник командира полка по строевой части полковник фон Шведер обратил внимание на возросшее число увечий в учебной команде и сделал Палицыну соответствующее внушение.
Во время сменной езды много внимания уделялось рубке. Полк славился на состязаниях своими лихими рубаками. Многие молодые офицеры сами увлекались этим делом, возводя его в спорт и, надо сказать, солдат выучивали рубить до степени виртуозности. На полном скаку без промаха перерезали шашкой маленькую картошку, висящую на нитке, вдевали шашку в узенькое колечко, лихо рубили на карьере глиняные головы; толстые соломенные жгуты, лозы и прочее, рубили, прыгая через препятствия. Рубили красиво, стильно. Палицын во время рубки входил в азарт. Беда, если при ударе шашкой заденешь повод левой рукой, цукнешь лошадь, и она рванется вперед. Тут неминуемо раздавался вдогонку бас Палицына: "Эй, такой-то!.. тем же аллюром в караульное помещение!" И провинившегося прямо из манежа отправляли на сутки под арест на полковую гауптвахту.
Мне лично везло, и под арестом я так и не удосужился побывать. Зато дежурств не в очередь имел от Палицына изрядное количество. Дежурил и по казарме, и по конюшне. Последнюю, признаться, я предпочитал, правда, после ночи, проведенной в конюшне, все платье пропахивало специфическим конским запахом и воняло аммиаком, но все же это было лучше, нежели тот душок, который по ночам распространяли сытно поужинавшие кирасиры Ея Величества.
Хоть гвардейские казармы наши и были на вид великолепны, даже разукрашены по стенам настоящими и ценными старинными гравюрами, однако в этих стильных строениях старинного фасона вентиляция заставляла желать лучшего.
На "действия пикой" в полку напирали не менее, чем на рубку.
Я застал еще то время, когда в кавалерии употреблялись деревянные пики толстые, длинные и очень тяжелые, вроде средневековых рыцарских. Наши пики были выкрашены в яркий бирюзовый цвет. У желтых кирасир они были желтые, у кавалергардов и конногвардейцев - красные.
Во время парада к ним навешивались пестрые развевающиеся флюгарки, что было очень красиво. Вскоре, однако, эти неуклюжие пики были заменены легкими трубчатыми из металла и были перекрашены в общий для всех полков защитный цвет.
На учениях в манеже такими пиками кололи на галопе стоячие или лежачие соломенные чучела, одетые в старые кирасирские вицмундиры. Учились также на всем скаку вдевать пику в небольшие колечки, развивая этим упражнением меткость удара. Всей сменой скакали через манеж, делая пикой "фланкировку", то есть с силой особым приемом вращали длинное древко пики кругом туловища, благодаря чему всадник становился в рукопашной схватке неуязвимым для вражеского удара. Некоторые силачи кирасиры вращали при этом пику так, что она буквально гудела.
Было и такое упражнение - подбрасывание пики над головой. Делалось это тоже на галопе всей сменой разом. Подбрасывать нужно было тяжелую пику как можно выше. В первое время частенько случалось, что чья-нибудь пика падала на землю, и это было небезопасно. За свою службу мирного времени я имел случай убедиться в том, какие страшные раны может наносить это древнейшее оружие. Однажды в смене молодых солдат (кажется, второго эскадрона) произошел такой трагический случай. Во время прохождения сменой через манеж галопом кто-то неловко подбросил пику. Она упала на землю вертикально, острием вверх, и сейчас же начала валиться назад. Ехавший сзади номер не видел этого, так как сам ловил свою пику и поэтому смотрел вверх. Получилось так, что он с хорошего хода наехал грудью на падавшее острие, которое мгновение пронзило его насквозь, выйдя из спины на целый аршин. Пику сейчас же вытащили и пострадавшего спешно отнесли в лазарет, но помочь ему уже ничем не могли. Несчастный скончался через два часа на руках у самого командира полка, который, узнав о случившемся, поспешил в лазарет.
Хоронили этого солдата с большой помпой и парадом всем полком. Похороны закатили по первому разряду, а командиры и офицеры по подписке собрали несколько сот рублей, которые послали семье погибшего.
Из моего описания манежа, пожалуй, можно было бы заключить, что Палицын был каким-то бездушным зверем, но это не так. Много после, когда я уже сделался офицером, у меня с Палицыным наладились наилучшие отношения. Он был прекрасный, отзывчивый товарищ, и я убедился, что, в сущности, это был человек с добрым сердцем. Он любил солдат и знал каждого подчиненного со всеми его хорошими и слабыми качествами как свои пять пальцев. Презирая штатский дух, Палицын уважал солдата, и прежде всего потому, что это был солдат. В Палицыне глубоко укоренилось убеждение в необходимости развития в солдате воинской лихости, презрения к опасности, презрения к боли. Обожая и возводя в культ суровую военную дисциплину, Палицын в отношении своей команды был только логичен. На службе это был службист. Вне службы - совсем другой человек. Солдаты относились к нему хорошо. Они чувствовали и воочию убеждались, что их начальник - человек, крепко знающий свое дело. Палицын был в их глазах авторитетом, и поэтому его уважали. Солдатам должно было нравиться и то, как Палицын относился к вольноперам, то есть к барчукам: к нам он был придирчив, а к ним - нет. Над нами он позволял себе иной раз поиздеваться, над солдатом же не издевался никогда, и если "грел" солдата, то всегда за дело и справедливо. Палицын не ограничивался тем, что хорошо заботился о своих солдатах - он интересовался их жизнью, входил в солдатские интересы. Он был остроумен, обладал несомненным юмором, а это нравилось. В сущности, это был в высшей степени требовательный, хороший офицер-строевик до мозга костей. Таких, как он, обычно и назначали начальниками полковых учебных команд.
Палицын изредка любил крепко гульнуть. Приурочивал он это к какому-нибудь особо торжественному случаю. Например, когда ему был за усердие по службе пожалован орден Святого Станислава 3-й степени, он на радостях так загулял, что отставил в этот день занятия. Напился сам и угостил всю команду, которая в этот день торжествовала вместе со своим поручиком.
Другой памятный случай был, когда к нам в полковое офицерское собрание уже не знаю каким ветром - занесло английских морских офицеров.
Приняли их там по обычаю с чисто полковым хлебосольством и угощали всю ночь замечательным ужином, песельниками, трубачами и морем шампанского. Подвыпившие англичане стали хвастаться своими судовыми порядками и рассказывать небылицы о проворстве в выучке своих матросов. Хвастовство англичан задело Палицына за живое. Уже поздно ночью он поспорил с английским коммодором{*5} на пари, что через 6 минут выстроит по тревоге перед собранием всю свою команду при полной амуниции и на конях. Сказано - сделано, и в объятой сном казарме тотчас же затрещал пронзительный телефонный звонок.
Я в это время как раз нес штрафное дежурство по конюшне. Вдруг в 1-м часу ночи врывается в конюшню бледный Палицын с глазами навыкате. Он при походной амуниции и с часами в руке. Я было к нему с рапортом, но он еще издали нетерпеливо отмахивался от меня рукой и паническим голосом орал: "Трр-е-вога!!" Помню, я так обалдел от неожиданности, что опрометью бросился бежать по коридору между стойлами и, обращаясь к дремавшим коням, тоже принялся во всю глотку вопить: "Тревога! Тревога!" В конюшне, кроме меня и двух дневальных, спавших в пустом деннике, людей никого не было. На мои дикие крики оглядывались лишь недоуменно моргающие конские морды.
Через минуту, однако, в конюшне все пошло кувырком. С шумом распахнулись двери, громко забрякали шпоры и, обгоняя друг друга, в коридор разом хлынуло с полсотни запыхавшихся кирасир, только что вскочивших с коек. Люди на бегу застегивали мундиры, торопливо надевали амуницию. Палицын и вахмистр в разных концах уже крепкими словечками энергично торопили людей. В мгновение ока полетели с полок седла, загремели мундштуки на взнуздываемых конях, гулко зацокали подковы коней, рысью выводимых из конюшни. Все это произошло так шумно и стремительно, что я и оглянуться не успел, как конюшня уже оказалась пуста.
Покуда команда галопом выстраивалась и выравнивалась перед подъездом офицерского собрания, Палицын верхом на кобыле Вдове въехал по лестнице прямо в парадную дверь собрания, рысью проехал через переднюю и библиотеку, въехал в ярко освещенную залу и, круто осадив гигантскую кобылу перед стулом обалдевшего английского коммодора, отсалютовал ему по всей форме обнаженной шашкой и отрапортовал. Хозяева и гости толпой высыпали на улицу, где англичанин вынужден был принять ночной парад.
Вот как наш поручик посрамил англичан и поддержал честь русской конницы. Выпита по сему случаю была бездна, как восторжествовавшей, так и посрамленной стороной.
Выезд по тревоге нашей команды прошел замечательно. Поручик на следующий день освободил людей от утренних занятий, предоставив команде некоторый отдых и некоторое угощение.
Выезды ночью по тревоге, вообще говоря, поощрялись начальством. Однако ясное дело, что въехать верхом на коне в офицерское собрание в программу тревог не входило. Подобный номер иному офицеру даром не сошел бы. Но к Палицыну полковое начальство благоволило. Старший полковник на этот раз ограничился лишь "беседой по душам" с поручиком и заставил его уплатить по счету за попорченный паркет в собрании, пострадавший от подков кобылы Вдовы.
Кроме нас с Осоргиным, в полку было еще пять вольноопределяющихся: фон Витторф и Евреинов - два неразлучных друга, державшихся всегда вместе, - и отдельно: Сангович, Искандер и Спешнев. Оба последних, так же как и я, намеревались держать офицерские экзамены при Николаевском кавалерийском училище и выйти в офицеры в наш полк. Искандер - потому что два года подряд "проваливался" на экзаменах, а смелому и симпатичному Спешневу, к сожалению, общество офицеров полка отказало в его желании выйти в полк корнетом.
Как ни странно, причиной отказа послужило то обстоятельство, что Спешнев до службы увлекался театром и как любитель часто выступал на сцене, играя иногда с профессионалами. Старший полковник фон Шведер, щепетильный и строго оберегавший честь полка, усмотрел в этом нечто несовместимое с высоким званием офицера Лейб-гвардии. Человек, выступавший с профессионалами - лицедеями и развлекавший публику с подмостков, пусть даже бесплатно и из одной любви к искусству, был, по мнению полковника, недостоин чести быть принятым в круг офицеров полка, несмотря на то, что Спешнев был не из плохой дворянской семьи, имел средства и закончил высшее и притом привилегированное учебное заведение. Переломить упрямого полковника было невозможно - он уперся на том, что неприлично принять в офицеры полка лицедея.
Когда общество офицеров того или иного гвардейского полка отказывало молодому человеку, желавшему выйти в полк офицером, для последнего это всегда было тяжелым ударом. Получившего отказ в одном гвардейском полку - почти наверняка не принимали и другие полки. Иной раз отказывали из-за пустяков (вроде приведенного случая со Спешневым) или из личной антипатии кого-либо из офицеров. Плохо было то, что из отказа тайны не делали, и об этом обычно становилось известно и вне полка. На получившего отказ молодого человека обычно начинали коситься в обществе, словно он был лицом заклейменным, хотя, быть может, ничего дурного на своей совести он не имел. Впрочем, надо сознаться, что в большинстве случаев отказы в приеме в полк имели под собой более веские основания.
Спешнев дружил со мной и Искандером, родной брат которого был в нашем полку штаб-ротмистром и командовал штандартным (3-м) эскадроном. Эти оба брата Искандеры были законными детьми великого князя Николая Константиновича, сосланного еще при государе Александре II-м, в Туркестан, где он вступил в церковный брак с какой-то дамой, от которой и имел сыновей.
Причина ссылки этого великого князя в то время была мало известна широким кругам, и молва даже приписывала этой истории какую-то политическую подкладку, которой, однако, никогда не существовало. Передаю эту историю так, как я ее слышал от людей, имевших в свое время большие связи при дворе.
Племянник царя Александра II-го великий князь Николай Константинович страстно увлекся в начале 70-х годов гастролировавшей в Петербурге иностранной эстрадной артисткой, с которой пережил бурный роман. Ослепленный страстью, молодой князь дошел до того, что похитил у своей матери, великой княгини Александры Иосифовны, какую-то редкую драгоценность, которую и преподнес в подарок своей возлюбленной. Пропажа драгоценности была, конечно, обнаружена. Это хищение, произведенное в Мраморном дворце, да к тому же еще в царских покоях, было неслыханным делом и вызвало большую шумиху. Подозревали дворцовую прислугу. Государь вызвал генерала N, возглавлявшего департамент полиции и приказал во что бы то ни стало найти вора. Через несколько дней генерал N представил великой княгине похищенную вещь, однако на ее вопрос, кто вор, категорически отказался ответить. Лишь по решительному настоянию императора он открыл ему, наконец, ужасную тайну. Царь был подавлен. Случившееся расценивалось им как тяжелый фамильный позор. На семейном совете кто-то из великих князей предложил государю провинившегося великого князя разжаловать в солдаты, на что царь ответил, что считает звание солдата слишком высоким для своего племянника, опозорившего себя столь постыдным поступком. "Я не хочу марать звание русского солдата!" - будто бы сказал он. Вскоре был издан высочайший манифест, в котором провинившийся великий князь без упоминания о его проступке был объявлен душевнобольным, после чего он был отправлен в Туркестан навсегда. Пленившая великого князя артистка - иностранная подданная - была срочно выслана за пределы России.
Со старшим Искандером у меня было мало общего. Он вскоре по собственному желанию покинул полк. Зато с Искандером младшим мне пришлось прослужить целый год. Будучи в полковой учебной команде, весной 12-го года он получил тяжелые увечья при падении с лошади и был освобожден даже от службы.
Это был болезненно самолюбивый молодой человек. О своем отце он никогда не говорил, хотя в его комнате, убранной, как бонбоньерка, наподобие дамского будуара, висел большой портрет опального великого князя в рамке с золотой императорской короной.
В офицеры Искандера произвели только уже в разгаре мировой войны, и на фронте он выказал себя большим смельчаком.
Самым замечательным вольнопером был у нас Сангович - рыхлый, холеный и здоровенный детина. Этот глуповатый и типичный маменькин сынок побил в полку все рекорды по количеству заработанных им суток ареста при полковой гауптвахте. Не было такого вида дисциплинарного взыскания, которого бы Сангович на себе не испытал и притом неоднократно. Редкая езда не кончалась для этого феномена скандалом. На коне он выглядел карикатурой, был отчаянным трусом и к тому же привередником. Поручик Палицын его прямо-таки не переваривал и говорил, что падает в обморок при одном лишь виде Санговича.
Сангович до того боялся лошадей, и в особенности прыжков через барьеры, что падал с лошади авансом еще за десять шагов до препятствия и отучить его от этой привычки не мог даже чудодейственный бич поручика. Полковой манеж настолько солоно пришелся Санговичу, что он вскоре же подал на врачебную комиссию, ходатайствуя о полном освобождении с военной службы. Освободить по болезни такого здоровяка было, однако, просто смешно. И вот, лежа на испытании в полковом лазарете, Сангович пустился на хитрости: за весьма приличную мзду он подкупил фельдшера, который достал Санговичу мочу от какого-то тяжелого больного с пораженными почками. Исследование этой чужой мочи должно было решить участь Санговича в благоприятную для него сторону.
На радостях Сангович расщедрился и устроил ночью в палате грандиозное пиршество, в котором приняли участие фельдшера, санитары и все легкобольные солдаты. В палате появилась богатая закуска, целый ассортимент наливок, вин и даже шампанского. На пиршество были приглашены полковые солдатские проститутки во главе с некой Машкой Кувшин, славившейся тем, что она по-солдатски отдавала честь самому командиру полка генералу Бернову, становясь во фронт.
На беду, во время этой ночной оргии в лазарет нагрянул старший полковой врач доктор Иванов. Скандал получился невероятный, так как доктор нравом был крут, и Санговичу с фельдшером пришлось прямо с пиршества срочно отправиться на гауптвахту в карцер. Вся хитрая комбинация с мочой была тут же разоблачена, в результате чего как фельдшер, так и его злополучный протеже, загремели под суд.
Все офицеры были глубоко возмущены, и адъютант говорил, что Сангович позор для всего полка.
Дело принимало скверный оборот, и не знаю, чем бы оно кончилось для Санговича, кабы не заступничество его папеньки, почтенного адмирала, бывшего командира императорской яхты "Полярная Звезда". Старик адмирал лично приезжал в полк и очень просил генерала Бернова замять как-нибудь дело. Из уважения к почтенному папеньке дело до суда не дошло, но Сангович отсидел в карцере 60 суток под арестом - небывалый срок - вдвое больше положенного по Уставу для власти командира полка - случай, не имевший прецедентов! Все же это было лучше, чем отдача под суд в дисциплинарный батальон.
По выходе из карцера у Санговича спороли с погон трехцветные нашивки вольноопределяющегося и перевели из учебной команды в нестроевую на положение обыкновенного рядового. Его поселили в казармах, где он жил почти безотлучно до окончания срока своей службы. Замечательный лодырь, Сангович, даже будучи в нестроевой команде, нет-нет, да и ухитрялся зарабатывать себе еще по нескольку суток карцера, который, по-видимому, предпочитал всякой службе.
Сангович с самого начала сделался для нас, вольноперов, ходячим анекдотом и мишенью для острот. Третировали мы его самым невозможным образом. Еще задолго до его удивительного дебюта в лазарете мы за обедом били его ложками по голове, обзывая обидными прозвищами, из которых наиболее приличными были: "граф Гонокок-Соплищев" и "Санжопич". Сангович все сносил. На мой вопрос, почему он добровольно пошел именно в кавалерию для отбывания воинской повинности, тогда как имел право избрать любой род оружия, Сангович ответил, что ему понравилась каска с орлом, которая, по его мнению, очень ему шла. Несчастный корявец вряд ли ожидал, что носить эту самую блестящую каску окажется так тяжело!
Глава III
Наша общая квартира с М. Осоргиным помещалась в отдельном сером домике на Люцевской улице и состояла из четырех небольших комнаток, обставленных, как говорится, просто, но мило, не помню уже теперь чьими стараниями. В так называемой столовой помещался уютный диван, круглый обеденный стол, а в углу красовались замечательные старинные клавикорды великолепного красного дерева, очень стильные, но какие-то простуженные и хриплые, что не мешало нам дубасить на них всякую всячину в свободную минутку. Эту штуку мы приобрели с Осоргиным на общий счет за бесценок у какого-то гатчинского старожила. У каждого из нас была отдельная комнатка, обставленная согласно с вкусом каждого. Мой апартамент, конечно, изобиловал фотографиями невесты, как висевшими на стене, так и стоявшими в рамочках на столе. У Мишеньки же на стене красовались иконы в количестве, более чем достаточном. Впервые в своей жизни я жил самостоятельно, что меня и забавляло, и радовало.
Мой кузен Мишанчик Осоргин привез с собой из отцовского дома своего "человека", некоего Евмения. Это был лакей Осоргиных, прослуживший у них в семье много лет, пожилой и весьма добродушный малый с типичными лакейскими баками на бледном лице. Евмений был очень предан молодому барину, но слегка подтрунивал над ним. Это был настоящий тип старого слуги из "хорошего дома", немного резонер, немного философ. Евменчик сразу внес в нашу квартиру уют и домовитость, одновременно исполняя обязанности дядьки, повара, советчика и управляющего финансами.
Уклад Осоргинской семьи отличался исключительной патриархальностью, подчеркнутой нравственностью и набожностью{17} Глава семьи - дядя Миша, будучи человеком особо строгих житейских правил, воспитал своих сыновей в страхе Божием и в духе, исключающем возможность с их стороны каких бы то ни было легкомысленных эксцессов или отклонений в сторону аморального.
У нас с Мишанчиком были совершенно различные характеры и разные вкусы. Несмотря на то, что моя мать воспитывала нас в большой строгости и всячески старалась оберегать от дурного влияния, у меня тем не менее часто возникало сильное тяготение к полюсу легкомыслия.
Теперь я испытывал в своей жизни перелом. Я выпорхнул из-под крылышка матери, я становился самостоятельным, я сделался, наконец, взрослым и с некоторой страстностью стремился скорее вкусить преимущества и прелести самостоятельной жизни и испытать то, что ранее было мне воспрещено.
Кузен Мишанчик был полной моей противоположностью и иной раз крепко раздражал меня своей моралью, в особенности, когда он стонущим голосом говаривал мне. "Вовка, побойся ты Бога!.." Он был много старше меня, уравновешеннее, и мне казалось, что он всегда хочет подчеркнуть предо мной свое нравственное превосходство. Перед сном он надевал серый халат и любил сыграть со своим дядькой Евменчиком в дурачки. Тогда он напоминал уютную старомодную картинку. Любил Мишанчик перед сном также поуютствовать лежа в постели за чтением книги, иной раз духовного содержания. Тогда я из мальчишеского чувства протеста садился за легкомысленный бульварный роман.
Были случаи, когда я устраивал с вольноперами Спешневым и Искандером веселые пирушки. Раза два такие попойки устраивались у нас на квартире к тихому ужасу Мишанчика, которого это коробило, и он только повторял мне свое обычное стонущее: "Вовка, побойся ты Бога!"
Зато Евменчик во время этих попоек тихо сиял, и если случалось мне после этого "под мухой" выйти в город, Евменчик с трогательной заботой провожал меня по улице из соображений "как бы чего с нашим князем не вышло..." Помню, однажды после такой пирушки мы забрели вечером с Евменчиком в Приорат, где я демонстрировал усердному слуге свое искусство в рубке, испортив несколько молодых деревцев, а он все меня ласково уговаривал: "Князь, а князь... рубите вы действительно прекрасно, но дозвольте мне вашу сабельку обратно в ножны положить. Упаси Боже, ежели нас с вами тут застигнут господа ваши начальники!.."
В сущности, характер у Мишанчика был довольно-таки тяжелый". Бывали случаи, когда он вдруг из благодушествующего превращался в мрачного человека и на два-три дня прекращал со мной всякие разговоры. Вызвать у него такое настроение было очень легко, и из мальчишества я грешным делом на это иной раз охотно шел. Однажды наш добрый товарищ и забулдыга вольнопер Спешнев после "бурно проведенной" ночи обнаружил у себя в комнате изящные дамские панталончики. Мы притащили их к нам на квартиру с целью сыграть с Мишанчиком шутку и вызвать его любимое изречение: "Побойтесь вы Бога!". И вот, в момент, когда Мишанчик, лежа в постели, занялся чтением книги, мы неожиданно поднесли ему на острие его же палаша самую сокровенную деталь дамского туалета со словами: "Вот твой штандарт!.. Приложись и присягай!", после чего пытались накрыть милого мальчика этой самой пакостной штукой. Ржали мы при этом шпаками (да и на самом деле были форменные шпаки). Мы ожидали, что он скажет нам свое обычное: "Побойтесь вы Бога!". Но эффект на этот раз получился потрясающий. Мишанчик рассвирепел, пустился в драку и прервал с нами всякие сношения на несколько дней. Положим, что тут было из-за чего выйти из себя; впрочем, он сердился и предавался мраку и из-за сущих пустяков. Был случай, когда он не разговаривал со мной два дня кряду только из-за того, что я весной при нем нечаянно наступил сапогом на ветку яблони, усыпанную нежными цветами. Любя сельское хозяйство и деревенскую идиллию, Мишанчик усмотрел в моем поступке нечто глубоко циничное и сразу же запрезирал меня на целых два дня.
Несмотря на свои чудачества, Мишанчик все же бывал неплохим товарищем, и после ссор мы с ним опять сходились как ни в чем не бывало до новой бури.
Из приятных эпизодов того периода помню счастливый для меня день, когда после долгой разлуки приехала - из-за границы в Петербург моя невеста, совершившая тогда со своей матерью и сестрой Таней поездку в Италию. Предупрежденный телеграммой, я в то утро не пошел на уборку конюшни и совсем пропустил чистку коней, рискуя подвергнуться строгому наказанию.
К 7 часам утра я был уже под стеклянным сводом Гатчинского вокзала Варшавской дороги, чтобы перехватить идущий с границы курьерский поезд, имевший в Гатчине трехминутную остановку. Помню, как счастливо екнуло сердце, когда в мутной дымке рассвета показались огни и контур паровоза. Ближе, ближе... и вот с грохотом и шипением врывается поезд под дрогнувший свод, резко замедляя ход. Какая-то барышня в темно-коричневом дорожном костюме стоит у открытой двери международного вагона. Она озабоченно озирается по сторонам, разыскивая кого-то. Неужели это она?.. Ах, Боже мой, ну конечно! Я бегу к ней, и в первое мгновение она не может меня признать, видимо, совсем забыв, что ее жених теперь солдат. Но я уже турманом налетаю на нее и заключаю в свои объятия. С минуту мы молча и взволнованно смотрим друг на друга, потом начинаются одновременные восклицания. У нас не разговор, а какие-то дурацкие и счастливые выкрики. Так длится минуту. Вдруг три резких звонка. Я торопливо подсаживаю невесту в вагон под раздирающий вопль паровоза. Поезд трогается.
- Ты сегодня приедешь в Петербург?.. Да? - спрашивает она.
- Не могу...
- Как не можешь? Почему?..
- Да ведь я служу.
Я бегу рядом с вагоном.
- В субботу, в субботу, - надрываясь кричу я вслед убегающему вагону.
Поезд быстро уносится, все ускоряя свой бег и виденьем растворяясь в туманной мгле. Счастливый и обновленный, я быстро шагаю в направлении полка, пробираясь закоулками, дабы не попасться на глаза поручику...
* * *
По субботам все занятия в полку кончались к 12 часам дня. Наступал отдых до самого понедельника. Всем ненаказанным вольноопределяющимся Палицын подписывал увольнительные билеты, и мы спешили домой переодеться, чтобы скорее ехать в Петербург, куда нас стали отпускать лишь после того, как мы научились безукоризненно, по всем правилам, красиво отдавать честь. На улицах Петербурга солдаты могли появляться только одетые безукоризненно чисто, щеголевато и строго по форме. Петербург кишел элегантными военными. В то время от гвардейцев требовали отдавать честь не только офицерам, но каждому простому солдату. Отдавали честь не только живым людям, но и памятникам императоров и великих князей. В этом отношении в Петербурге были совсем особые строгости, каких ни в Москве, ни в других городах не было.
При виде офицера мы должны были еще за несколько шагов до него перестать махать руками и начать маршировать, как на параде - печатным шагом "печатать", то есть не сгибая ноги крепко ударять сразу всей ступней по панели и одновременно особым приемом схватываться левой рукой за ножны палаша. За два шага до всякого военного, который был старше в чине, солдат должен был отрывистым движением повернуть голову в его сторону, смело взглянуть ему в глаза, одновременно энергично выбросить в сторону правую руку в белой перчатке, резко согнуть руку в локте под углом 45° и приложить вытянутые пальцы к головному убору, после чего с силой опустить руку вниз. Генералам, членам императорской фамилии, офицерам своего полка, знаменам, штандартам и воинским похоронным процессиям должно было отдавать честь, "становясь во фронт", то есть останавливаясь и резко повернувшись в два приема всем корпусом к приветствуемому лицу или знамени. Пропустив таковое мимо себя, снова сделать отчетливый обратный поворот в два приема, брякнуть шпорами, после чего уже бравой походкой следовать дальше своей дорогой.
По некоторым улицам, в особенности же по Невскому проспекту, всегда кишевшему военными, ходить было чистое наказание - тут зевать было нельзя. Надо было знать, как отдать честь, едучи на извозчике, как отдать честь, обгоняя генерала и, наконец, как это сделать, когда твои руки заняты какой-нибудь ношей. На каждый такой случай был особый прием.
Это была целая наука о том, как держать себя на улицах и в общественном месте. За всем этим в Петербурге строго следили специальные чины - так называемые плац-адъютанты, очень любившие придираться.
По железной дороге ездить мы могли только в 3-м или 4-м классе. На собственных экипажах вовсе ехать не могли, в трамваях могли путешествовать только стоя на площадке без права взойти в вагон, курить на улице вовсе не имели права, точно так же, как не имели права зайти не только ни в один ресторан, но даже и в вокзальный буфет I-го и II-го классов. В театре не имели права сидеть ни в ложе, ни даже в партере, руководствуясь узаконенной поговоркой "Всяк сверчок знай свой шесток". Да, это была наука, как следует не изучив которой, солдату и шагу нельзя было ступить в столице, почему нас очень долго вовсе не отпускали из Гатчины в Петербург.
Помню случай, когда во всех полковых приказах был отпечатан приказ командира Гвардейского корпуса генерала Безобразова с объявлением выговора командиру одного из полков, за то что он - Безобразов - заметил на улице нижнего чина этого полка с папиросой в зубах. Сам я лично получил два наряда не в очередь за то, что, провожая свою тетку в Москву, на минуту зашел в вокзальный буфет I-го и II-го класса. Словом, строгости были невероятные, и лишь во флоте они были несколько слабее, на матросов так не напирали.
В Петербурге я чаще всего останавливался в большом розовом особняке на Моховой у тетушки, княгини Ольги Оболенской - восьмидесятилетней и весьма почтенной дамы, матери покойного дяди И. М. Оболенского, известного финляндского генерал-губернатора. Его семья жила в том же доме, и с его дочкой Оленькой мы были друзья. В тот год она была невеста моего большого приятеля Петрика (тоже кн. Оболенского), который тогда отбывал повинность в кавалергардах. В субботу, по вечерам, у Оболенских собиралась небольшая, но веселая и молодая компания: некие брат и сестра В. Л. Нарышкины, кавалергард Струков, женихи Оболенские и я. После нашей суровой и монотонной гатчинской службы и приевшейся холостяцкой квартиры здесь, в обществе двух молодых милых девушек мне было всегда удивительно приятно отдохнуть и отвести душу, вдоволь нахохотавшись за пустыми и молодыми разговорами в уютной гостиной Оболенских, где так наивно строились нами самые радужные и заманчивые планы на будущее.
Какой контраст был здесь, на Моховой, в смысле настроений с тем мраком и подавленностью, какие царили на Сергиевской в доме моих молодых кузенов Трубецких, куда я тоже неизменно заезжал во всякий свой приезд в Петербург. Причина этой подавленности лежала в тяжком горе, внезапно обрушившемся осенью этого года на всю семью, глава которой - добродушный и любимый всеми дядя Петя был убит выстрелом из револьвера нашим общим двоюродным братом В. Кристи{18}. Это нелепое преступление было совершено им, как признал суд, в состоянии аффекта, на почве ничем не обоснованной глупой ревности к кокетливой жене своей.
Эта дикая история, совершившаяся осенью на семейном торжестве, наделала тогда много шума, тяжелым камнем легла на всю семью и весьма остро переживалась всеми нами. Только благодаря замечательной нравственной силе духа, такту и знанию жизни, сумела овдовевшая тетя А. В. Трубецкая взять в руки всех членов семьи, придать им бодрости и наладить расстроившуюся семейную жизнь, направив ее по нормальному руслу в доме, где никто не смел в то время произнести имя Кристи, несмотря на самые близкие родственные отношения, существовавшие до этого происшествия между обеими семьями. Я тогда очень дружил со своим кузеном Н. Трубецким и кузиной Татенькой, но никогда не решался ни с ними, ни с кем-либо из членов семьи заговорить о покойном дяде Пете, ибо чувствовалось, что об этом предмете на Сергиевской говорить невозможно.
Именно от этого, должно быть, при разговорах на всякие иные темы долгое время звучала деланная фальшивая нотка, что было очень тягостно.
Во время наших поездок в Петербург кузен Мишанчик Осоргин неоднократно затаскивал меня обедать на Дворцовую площадь в здание Генерального штаба к своей тетке Варваре Михайловне Жилинской - супруге самого начальника Генерального штаба. Это была чрезвычайно аффектированная и экзальтированная, но, впрочем, чуткая и приветливая дама, и у Жилинских мне было приятно. Генерала Жилинского, которого Мишанчик запросто называл "дядя Яша", я знал еще ранее. Суховатый, желтолицый, немного раскосый, седой и с седыми усами, он был типичнейшим представителем Генерального штаба, тип педантичного военного кабинетного ученого. Занимая одну из высших и ответственнейших должностей в армии, Жилинский в домашней обстановке был очень прост, обходителен, и при нем я никогда не чувствовал стеснения, какое иной раз внушал мне самый незначительный корнет нашего полка.
Говорят, что подчиненные Жилинского крепко побаивались его, но мне, а тем более Мишанчику, он не внушал ни малейшего страха, и я разговаривал с ним очень просто.
Помню в тот год мы присутствовали при отъезде Жилинского в Париж, куда он ездил, как говорили в домашнем кругу, для "нанесения визита вежливости" французскому командованию. Об этой поездке много разглагольствовал пустой и болтливый адъютант Жилинского штаб-ротмистр Панчулидзев, заранее смаковавший ожидавшие его впереди парижские удовольствия, ибо этот генеральский адъютант, конечно, хотел и мог проделать в Париже все то приятное и веселое, чего не мог бы себе позволить там его представительный патрон. Уже много после я узнал, что именно этот самый "визит вежливости" Жилинского в Париж, куда он выехал, казалось, так скромно, имел огромное военное значение{19}. Там, в Париже, произошла знаменательная беседа и обмен мнениями между русским и французским начальниками генеральных штабов, касательно возможной войны с Германией и попытка согласования образа действий союзных армий на этот случай. Русский и французский генералы откровенно раскрыли друг перед другом карты. Это была, кажется, единственная, или во всяком случае, последняя беседа на эту тему между представителями русского и французского командования перед мировой войной. Еще тогда французы настаивали на самых активных действиях русских в самом начале войны, когда по французским агентурным данным (оправдавшимся впоследствии), первый удар Германии должен был всею своею тяжестью обрушиться на Францию.
Во время своих воскресных наездов в Петербург посещал я также и замечательную мою тетку, графиню М. Д. Апраксину{20}, которая жила в своем великолепном особняке на Литейном.
Тетя родилась еще в сороковых годах прошлого столетия. В молодости она была красива, ее знавал и бывал у нее государь Александр II-й.
Замечательная эта тетушка была известна своим огромным богатством (у Апраксиных был майорат) и полным незнанием жизни, чем часто пользовались разные лица, вертевшиеся вокруг тетушки. Известный Апраксин рынок в Петербурге принадлежал ей, и говорят, будто бы тетя ухитрялась не получать с него ни одной копейки дохода, что конечно, зависело от особой ловкости тетушкиных управляющих.
Эту подслеповатую и строгую Grande dame{*6} с замечательно породистым лицом аристократки, всегда в русом парике с завитушками и неизменной лорнеткой у прищуренных глаз, племянники не любили и побаивались, потому что и сама тетя Мимиша относилась к молодежи довольно сухо, без нежности и восторгов, и с откровенной наивностью говаривала молодым людям не совсем приятные для них вещи. Одевалась тетя Мимиша по старомодному, туго затягивалась, говорила почти исключительно по-французски и племянники должны были обращаться к ней "на Вы", когда тетя удостаивала их вопросом.
Совершенно неожиданно для меня я вдруг сделался любимцем строгой тети, и так как в этот период тетя Мимиша играла известную роль в моей жизни - мне хочется подробнее остановиться на личности этой оригинальной, чудаковатой, но, в сущности, доброй дамы.
История моих замечательных отношений с тетей Мимишей началась благодаря чистому случаю - так сказать - по недоразумению. Началось это еще во время моей службы волонтером во флоте, когда наш миноносец долгое время находился в охране императорской яхты "Штандарт". В то время вся почта на суда охраны адресовалась в Петергоф. Помню, я тогда с нетерпением ждал заказного письма от невесты, очень для меня важного, которое было выслано на Петергоф, в то время когда наша служба в охране окончилась за возвращением в Царское Село императорской семьи. Наш миноносец пришел в Кронштадт, и в воскресенье я отправился на берег с целью поехать в Петергоф на почту за письмом невесты. Прибыв в Петергоф и получив нужное письмо, я намеревался тотчас же вернуться поездом в Петербург, однако на вокзале я узнал, что пассажирское движение приостановлено на два часа по причине какой-то аварии на линии.
Предстояла скучная перспектива ожидания поезда без возможности заглянуть в ресторан или буфет, так как я был в матросской форме. Тут я вспомнил, что летом в Петергофе проживала на своей даче тетя Мимиша, которую мы там с моей матерью навестили весной. Не зная, куда себя девать от скуки, и не имея в Петергофе иных знакомств, я отправился к тетушке на дачу и велел лакею о себе доложить. Тетя Мимиша приняла меня. Она вышла ко мне в парике с лорнеткой у глаз и встретила обычной своей фразой, с какой она всегда обращалась ко всем посещавшим ее: "Bonjour, bonjour... Veut-tu du chocolat?"{*7} (У тети был старик-буфетчик Николай, славившийся тем, что приготовлял по какому-то ему одному известному способу удивительно вкусный шоколад со взбитыми сливками). "Merci, ma tante Mimiche"{*8}, попросту ответил я, - твой шоколад такой чудесный, что от него отказаться невозможно". Тетушка, сощурив глаза, пристально посмотрела на меня в лорнетку, и я понял, что сделал сразу две гаффы - во-первых, ответил по-русски, а не по-французски, и, во-вторых, обратился к тете на "ты", когда как нужно было говорить "вы". Я немного смутился, но решил, что поправляться теперь как-то уже неудобно, а потому в дальнейшем сознательно уже говорил "ты", стараясь скрадывать эту фамильярность самым почтительным обращением. "Николай, шоколаду!" - приказала тетушка дожидавшемуся буфетчику. "А ты садись и рассказывай, почему ты ко мне приехал?" - сказала она мне по-русски с некоторым акцентом. Не желая открывать тетушке истинную причину своего приезда в Петербург, ибо мое жениховство и переписка с невестой были моей тайной, я принялся ей врать, что вот, мол, так и так, я получил отпуск, а в Петербурге сейчас родных никого нет, так как все разъехались, и что, вот, я решил проведать родную тетю, для чего нарочно и приехал сюда в Петергоф.
Я принялся рассказывать тете о своем корабле, о том, как царь произвел смотр нашему миноносцу, и как он обратил внимание на меня во время этого смотра. В своей простоте еще неиспорченного восемнадцатилетнего малого я увлекся собственным рассказом, показал тетушке имевшиеся у меня фотографии разных судовых эпизодов и даже подарил ей карточку с красивым морским видом, напомнившем ей Ниццу, совершенно забыв, что имею дело со строгой и чопорной дамой.
За чашкой вкусного шоколада целый час прошел у нас в разговорах незаметно. Простились мы с тетей Мимишей друзьями и выходя от нее я даже подумал, что, в сущности, страшного в тетушке ничего нет. Дама - как дама...
Мой неожиданный визит, оказывается, произвел на старуху графиню самое благоприятное впечатление. Ее тронула моя "родственность" (которой, кстати, у меня тогда и в помине не было). Тронуло, что я ради нее (как она поверила) совершил целое путешествие. Приятно поразила ее непривычная для нее простота, с какой к ней никто никогда не обращался. К удивлению моей матери, тетушка написала ей, что нашла меня "trs distingu et avec beaucoup d'esprit (!)"{*9}. С тех пор тетю Мимишу я не видел до самого поступления в кирасирский полк. Когда же она проведала, что я служу в Гатчине, она снова написала матери, что ее удивляет, почему я, такой родственный, никогда не захожу к ней на Литейную. Моя мать в письме ко мне укорила меня в невоспитанности и побудила меня незамедлительно нанести тетушке визит.
Как сейчас помню этот свой второй, весьма знаменательный для меня визит.
В огромном роскошном особняке Апраксиных, походившем по своему внутреннему убранству скорее на королевский дворец, тетушка почему-то принимала всех гостей в маленькой и скромно обставленной гостиной, где находилась довольно простенькая мебель и даже не было обычных для гостиных ковров. Во время моего прихода у тети сидело человек пять гостей, пожилых и важных. Она представила меня гостям, после чего я уселся и хранил почтительное молчание, не вступая в разговор с людьми, бывшими гораздо старше меня, и лишь отвечая на задаваемые незначительные вопросы. Тетушкины гости вели тот солидный и одновременно пустяшный разговор по-французски, какой и приличествовал в гостиной такой почтенной дамы. Посидев положенные приличием двадцать минут и выпив чашку шоколада, я поднялся, поцеловал ручку тетушке и, поклонившись ее гостям, направился к двери. Когда я уже был у порога гостиной, тетя вдруг по-русски позвала меня: "?Ах, Владимир, постой!.. Я было совсем забыла... Ведь я осенью была в Ницце..., а знаешь, там замечательные кожи... ну, как это называется... des petites chses en cuir.{*10} Да, кожаные штучки. Ну вот я и вспомнила, что ты очень любишь хорошую кожу и купила тебе в Ницце un petit cadeau{*11} ... подарочек... кожаный порт-карт".
С этими словами тетя встала, подошла к бюро и, вынув из ящичка небольшой пакетик, завернутый в папиросную бумагу, передала мне.
"Что за вздор!" - подумал я. Откуда тетушке взбрело на ум, будто я люблю кожу!!! Я, кажется, ни ей и никому вообще никогда этого не говорил, да и не мог этого сказать, потому что совершенно равнодушен к кожаным вещам... Тем не менее, приличия ради я сделал вид, что обрадован и, поблагодарив тетю за внимание, снова откланялся ей.
- Смотри, не потеряй, это очень хорошая кожа... и на память обо мне! крикнула она мне вслед.
Взглянув мельком на подаренный мне самый обыкновенный кожаный порткарт, какие тогда употреблялись для визитных карточек, и запихнув его в карман шинели, я вышел на улицу с облегченным чувством, что наконец отбыл скучный, но обязательный номер. Уже через несколько минут я забыл и о тетушке и о ее коже, так как направился к более интересным для меня людям и делам. Лишь поздно вечером, уже сидя в вагоне III-го класса увозившего меня Гатчинского поезда, случайно опустив руку в карман шинели, я вспомнил про тетушкин порткарт и вытащил его на свет божий. В порткарте, как будто что-то находилось. Я раскрыл и невольно ахнул - в каждом из четырех отделений порткарта находился красивый кредитный билет 500 рублевого достоинства с изображением Петра Великого... Вот это был номер!
В первый раз в жизни я держал в руках такую крупную сумму. Ошеломленный я не верил глазам и, придя в себя, подумал даже, что эти деньги, должно быть, попали в порткарт по недоразумению, и тетя Мимиша просто по рассеянности забыла их вынуть, прежде чем передать мне подарок. Неужели это предназначалось мне? Если бы в порткарте была какая-нибудь сотня рублей - я бы еще это понял, но 2 000 (в то время деньги немалые)! Такой щедрый подарок был просто необъяснимым. Почему? За что? Неужели только за то, что я имел случай понравиться тетушке? По-видимому, это было так. Я припомнил ту особую интонацию в голосе тети, когда она крикнула мне вслед: "Смотри не потеряй!" Если бы она думала в то время, что порткарт пустой, она бы так не сказала. Чувство конфуза охватило меня. Принять эти деньги от тети, с которой я имел так мало общего, - было дико, а вернуть - я бы этим обидел почтенную старушку. Приехав домой и хорошенько подумав, я написал тете Мимише коротенькое письмо, где в самых простых и, как мне казалось, достойных выражениях поблагодарил тетю за ее подарок, подчеркнув, как трогает меня ее внимание, вовсе незаслуженное мною...
С этого времени тетя Мимиша взяла в обычай осыпать меня подобными подарками. Редкий мой визит к ней обходился без того, чтобы тетушка не подарила мне одной, двух, а то и пяти тысяч. (Меньше тысячи тетушка вообще не дарила!)... и так продолжала она до самой Октябрьской революции. Самую передачу таких подарков тетушка всегда обставляла так, что отказаться принять их было нельзя. Когда я заставал ее одну - она никогда ничего не дарила, видимо, стараясь избежать возможности моего отказа. Когда же у тетушки сидел кто-нибудь из посторонних, тут-то она в момент прощания неизменно вытаскивала из бюро какую-нибудь безделушку, вроде кустарного деревянного яйца, кожаного портсигара, какой-нибудь шкатулочки или маленькой коробки с карамельками. С самым невинным видом тетя Мимиша передавала мне эту вещицу со словами: "Вот тебе припасла маленький подарочек... un petit cadeau на память. Ведь ты любишь портсигары, не правда ли?.. Ну, aurevoir, aurevoir...{*12}, ступай, я тебя не задерживаю", - и тетя сразу же обращалась к сидевшему у нее гостю или гостям, продолжая с ними разговор и делая для меня просто невозможным отказ от ее подарочка, такого скромного и пустяшного на вид. Я конфузился, благодарил тетю и, краснея, прятал вещицу в карман, наверняка уже зная, что в этом простеньком яичке или портсигаре запрятаны тысячи. Иной раз, застав тетю одну, я просил ее не дарить мне больше денег, уверяя ее, что из-за этого мне даже просто неприятно у нее бывать, так как я таких подарков ничем не заслуживаю, да и не нуждаюсь в деньгах, а потому и получать таковые мне стыдно. Тогда тетя говорила, что больше ничего дарить мне не будет, но стоило мне только прийти в следующий раз и застать у нее кого-либо из гостей, опять повторялась старая история.
Несмотря на свое огромное богатство, тетя, как это всегда бывало, в своей личной жизни была несчастлива.
Совсем молоденькой девушкой ее выдали замуж за командира кавалергардов, богача графа Апраксина, который был уже не молод, и тетя его не любила. Любимая дочка тети умерла еще ребенком, а оставшийся в живых сын был слабоумен и никуда не показывался, так что я этого своего кузена никогда и не видел.
Племянники тоже не доставляли тетушке никакой радости: чуждаясь и побаиваясь тетушки, они, кроме деланной почтительности, не выказывали ей иных чувств. Отсюда, быть может, становится понятным ее старческое чувство симпатии ко мне, баловать которого ей доставляло удовольствие. Вначале я посещал ее лишь из чувства вежливости, так как на моих визитах она настаивала. Позднее я искренне полюбил тетю, потому что понял ее.
Однажды на досуге, курьеза ради, я попробовал подсчитать, сколько стоит тете Мимише каждое мое появление, и пришел к выводу, что каждый мой визит в среднем стоил ей свыше тысячи рублей... Несмотря на это и на мою молодость, я все же сохранил к ней бескорыстное чувство, чему, однако, поверить как будто трудно.
В те годы тетушка нередко приглашала меня обедать. У тети был потрясающий повар, про которого говорили в обеих столицах, и изготовляемые им кушанья были подлинным шедевром самого утонченного кулинарного искусства. Особенно любил я одно сладкое, которое подавали только у тети - блюдо, состоявшее из огромных вареных груш, облитых ромовым соусом, обсыпанных крошками фисташек, по вкусу бесподобных.
У тети всегда обедало 5-6 избранных пожилых гостей, и за ее столом я был единственным представителем молодого поколения. Из примечательных людей, часто обедавших у тети, помню дородного барона Кнорринга{21} и щупленького, седенького, некрасивого старичка Ермолова - министра земледелия{22}. Большой гастроном и тонкий ценитель доброго вина, этот с виду суховатый старичок к концу обеда становился весьма остроумным собеседником, выказывая себя как интересный рассказчик. В тот год в своей еще неиспорченной и наивной простоте я совсем не интересовался положением, которое занимали в свете те или иные встречаемые мною люди. Так, например, Ермолова я встречал неоднократно у тети, но лишь после целого года знакомства с ним узнал, что он министр. В этом отношении я был типичным москвичом и петербургскую психологию хорошо усвоил и перенял лишь после производства в офицеры. Молодые люди московского света, если посещали тот или иной семейный дворянский московский дом, то обычно делали это, не задаваясь какой-либо скрытой и задней целью. Москвичи бывали там, где хотели и у кого хотели, без всяких корыстных соображений, а просто потому, что им так хотелось и было им приятно. Светский петербуржец, наоборот, часто посещал чей-либо скучный салон только потому, что хозяйка дома была близко знакома с тем или иным влиятельным лицом, которого можно было в ее салоне встретить и обратить на себя внимание, или же сама хозяйка дома при случае могла бы замолвить словечко, указав влиятельному лицу, что это достойный и прекрасный молодой человек, стоящий того, чтобы быть выдвинутым.
Не зная ни жизни, ни людей, ни цены деньгам, тетя Мимиша очень часто расшвыривала деньги совсем зря и по-пустому, как, например, было со мной. Но были и другие случаи. Помню, как однажды при мне к тете пришел Ермолов для того, чтобы благодарить тетю за те 75 000 рублей, которые она перевела на его имя для бедных слепых, к которым проявлял участие этот министр. Будучи сама очень близорукой и опасаясь когда-нибудь ослепнуть, тетя Мимиша любила покровительствовать слепым.
Странное положение, в общем, создалось у меня с тех пор как я сделался вольноопределяющимся. Прав у меня почти не было никаких. В Петербург я мог попасть, только приехав в заплеванном 3-м классе. В трамвае не имел права присесть, на улице должен был вытягиваться стрункой перед ничтожным армейским поручиком, который мог безнаказанно сделать мне обидное или даже оскорбительное замечание, а через 10 минут после этого я уже пожимал руку сановнику или же оказывался сидящим рядом с министром или генералом, занимавшим высший пост в армии, за интимным обедом у какой-нибудь "тети Мимиши" или у тех же Жилинских.
В то далекое времечко и в той среде, к какой я принадлежал уже в силу одного только моего происхождения, все это как-то само собой считалось естественным благодаря стародавнему укладу и обычаям жизни дворянской.
* * *
Время шло. Приближалась пора наших офицерских экзаменов, к которым мы могли быть допущены, только получив в полку чин унтер-офицера. Этот чин давался солдатам учебной команды после смотра, производимого полковым командиром и особой комиссией из старших полковых офицеров. Ввиду того, что такой смотр обычно производился только весной и в этом случае у нас не было бы времени для подготовки к офицерским экзаменам, мы, четыре вольнопера, желавшие сделаться офицерами, подали с согласия Палицына рапорт по команде, ходатайствуя о назначении нам четверым отдельного смотра теперь же. Ходатайство это было удовлетворено командиром, и в конце февраля в дежурной комнате офицерского собрания нам был произведен комиссией под председательством полковника фон Шве-дера экзамен по всем Уставам и элементарной топографии, каковые испытания мы сделали успешно. После этого в манеже нам четверым был произведен смотр езды.
Тут-то мы и оскандалились.
Правда, к моменту смотра посадка у нас была неплохая, рубили мы и кололи пикой как будто удовлетворительно, прыгали через препятствия тоже терпимо однако все это было не то. Так ездить, рубить и колоть в нашем полку было допустимо разве для смены молодых солдат, но для унтер-офицеров, да еще такого образцового полка как наш, это никуда не годилось. У нас не было ни той четкости, ни нужной сноровки, ни той вышлифованности, ловкости автомата, каковые требовались от унтер-офицеров и давались людям только после длительной учебы. И это, конечно, не могло укрыться от глаз знатоков. Особенно не понравилась наша езда знаменитому штаб-ротмистру фон Эксе, участвовавшему в комиссии, а полковник фон Шведер категорически заявил, что таких ездоков он не допустит к производству в унтер-офицеры, и что мы должны продолжать манежную езду вплоть до общего смотра всей учебной команды.
Провал наш был вполне понятным. Как ездоки мы были недоученными, скороспелками, ибо пять месяцев учебы в манеже был слишком короткий срок для освоения должной выучки. Не надо забывать и того, что в учебную команду попадали из эскадронов лучшие фронтовики солдаты, имевшие за собой чуть ли не два года манежной практики, тогда как мы, вступив в команду, таковой практики не имели.
Палицын после смотра был сконфужен и глядел на нас угрюмо. Мы же, вольноперы, были прямо-таки подавлены. Для нас это было ударом, ибо выходило так, что к офицерским экзаменам мы в этот год допущены не могли быть.
Лично для меня и для моей невесты это было просто трагично, так как все мои мечты о "выходе в люди" и о женитьбе были связаны с производством в офицеры, а теперь это оттягивалось еще на целый год! (Вольноопределяющимся, равно как и солдатам, вообще закон запрещал вступать в брак). Выхода у нас как будто не было: мы хорошо знали, что полковник фон Шведер был неумолим и упрям, как бык...
И все-таки выход нашелся! А выручила нас из этой скверной истории, конечно, дама...
Нашей спасительницей оказалась Варвара Михайловна Жилинская - супруга самого начальника генерального штаба и родная тетка Мишанчика Осоргина. В первую же субботу Мишанчик съездил к ней в Петербург на поклон и поведал ей о нашем несчастьи, в результате чего славная генеральша, всегда немного экзальтированная и принимавшая близкое участие в чужих несчастьях, написала коротенькую, но красноречивую записку генералу Бернову. Этого было достаточно. Добряк генерал мог отказать кому угодно, но только не Варваре Михайловне!
Через день мы были отданы в приказе по полку как удовлетворительно сдавшие смотр и числящиеся в командировке для подготовки и держания офицерских испытаний при Николаевском кавалерийском военном училище.
Нашим манежным мытарствам наступил конец. Палицын прекратил быть нашим пугалом. В житейской книге каждого из нас перевернулась страничка - а все благодаря Варваре Михайловне! "Хорошо жить, помня о Боге" - сказал великий Л. Толстой. "Недурно можно жить, помня о дамах" - скромно добавлю я.
Глава IV
С подготовкой к офицерским экзаменам надо было спешить вовсю, так как до экзаменов оставалось всего каких-нибудь два месяца. За это время нужно было освоить 2-х годичный курс по 14-ти предметам, из которых один лишь учебник военной истории заключал в себе около тысячи страниц!., а все предметы вместе составляли тысячи и тысячи. Невольно возникал жуткий вопрос, когда же мы успеем все это пройти, а тем более освоить. Я и мои товарищи откровенно сомневались в такой возможности, ибо сама очевидность как будто подсказывала, что это просто физически невыполнимо, а ведь нам интересно было сдать экзамен не только удовлетворительно, а на гвардейский балл - то есть хорошо.
Вся надежда была только на знаменитого капитана Басевича, о котором я упоминал выше и к которому мы отправились вчетвером тотчас же по прочтении полкового приказа о нашем откомандировании. С этим капитаном мы договорились еще в начале зимы, и он уже тогда крайне неохотно дал нам свое согласие на подготовку, так как гвардейские вольноперы так и лезли к нему со всех сторон, и он набрал себе уже 15 учеников. Таким образом, приняв еще нас, кирасир, у него набралось 19 человек. Басевич был капитаном и командиром роты Лейб-гвардии Павловского пехотного полка. Когда и что побудило его заняться таким странным частным делом, как подготовка вольноперов, - я не знаю. Но в мое время имя его было известно в самых фешенебельных кавалерийских полках гвардии, где благодаря Басевичу имели счастье блистать корнетами многие знатные и богатые молодые люди - выходцы из вольноперов. За каких-нибудь 2-3 месяца Басевич зарабатывал на своих вольноперах ежегодно тысяч десять (если не более) и за такие дела в Павловском полку, где он служил, офицерство смотрело на него весьма косо, считая, что Басевич занимается грязным и совсем неподходящим для него делом. Знакомые мне павловцы говорили, что стыдятся за Басевича, который является чуть ли не позором полка, ибо превратил себя в какого-то репетитора (что к лицу разве бедному студенту, но никак уж не офицеру гвардии). Старшие офицеры полка не раз указывали Басевичу на несовместимость его частной репетиторской практики с высоким званием гвардейского ротного командира. Вопрос даже ставился об удалении Басевича из полка, однако Басевич как будто и в ус не дул, плевал на все и на всех, продолжая выгодное для себя дело. Басевича терпели в полку только потому, что он был одним из лучших ротных командиров и его рота на смотрах бывала одной из первых{*13}, а Павловский полк вообще пользовался в гвардейской пехоте заслуженной репутацией самого строевого, чисто фронтового полка и славился совсем особой дисциплиной и муштрой, вошедшей в полковую традицию.
Будучи пехотинцем, Басевич, как ни странно, специализировался, однако, на Николаевском кавалерийском училище - и только на нем, хорошо изучив вкусы и требования его педагогов, среди которых он имел родственника и близкого приятеля. Интересно, что в другие училища подготавливать он вовсе не брался, несмотря на почти одинаковую программу.
Басевич жил на Миллионной, в казенной полковой квартире. Когда мы вчетвером в первый раз пришли к нему туда, мы застали занятия уже на полном ходу, так как из-за проволочки с нашим неудачным смотром мы на несколько дней опоздали к их началу.
Первый день наших занятий особенно врезался мне в память. Когда мы позвонили у парадного Басевича, его денщик - типичнейший павловец - курносый, рыжий и в веснушках (ибо Павловский полк по старинной традиции и как бы в подражание наружности императора Павла комплектовался именно таким типом людей) пошел докладывать о нас своему барину. Тут мы услышали за дверью следующий диалог:
- Ваш высокобродь, еще четверо ребят к вам пришли. Как прикажете: пущать, или нет?
- Пошел ты к чо-о-орту!.. - раздался в ответ чей-то плачущий и охрипший голос. - Не мешай!.. Итак, господа, Санроберто, тальянский антилерист, установил закон вер-ти-кальных по-ни-же-ний снарядов... Запомните!.. Да, господа, есть на свете такие генералы, которым никогда не надоедает философствовать!.. - за дверью послышался хохот нескольких голосов.
- Итак, стало быть этот самый закон... - Но тут снова раздался голос денщика:
- Ваш высокобродь, так как же тем ребятам сказать?.. Все-таки пущать их, или, как прикажете?..
- Фу ты, Господи!.. А, черт, тащи еще и этих сюда! Это, должно быть, кирасиры. Добивай, Василий, доканчивай своего капитана!.. Тащи сюда хоть целый полк!..
Оставив свои шинели, каски и палаши в маленькой передней, где вешалка и без того буквально ломилась от кучи вольноперских шинелей всевозможных полков, мы прошли за рыжим денщиком, который открыл перед нами дверь в кабинет Басевича.
Странную картину представляла собой эта небольшая комната. В густых облаках папиросного дыма на диване, на стульях, на подоконниках сидели в расстегнутых мундирах и непринужденно развалясь с папиросами в зубах человек 15 молодых людей в самых разнообразных кавалерийских формах - пестрых и ярких. Тут были гвардейские гусары в белых ментиках, расшитых желтыми шнурами, и в сапогах с золотыми кокардами; синие казаки-атаманцы, лейб-драгуны с элегантными этишкетами на плечах, кавалергарды, улан и, наконец, армейский черниговский гусар с пьяным лицом забулдыги в красных "креповых" рейтузах и зеленом доломане. В углу комнаты у большой черной аспидной доски, исписанной формулами, стоял выпачканный мелом маленький и коренастый пехотный офицер с черными, как смоль, курчавыми, спутанными волосами и такими же черными усиками. Вид у него был истерзанный. Лицо его было потно и красно. Китель расстегнут. И по выражению его лица, и по позам удобно развалившихся вольноперов, наконец, по тем грудам неприбранных окурков, которые уже не вмещались в пепельницы - было ясно, что вся эта пестрая компания находится тут уже много и много часов подряд:
При нашем появлении в дверях потный Басевич лишь предостерегающе погрозил нам кулаком, давая этим жестом красноречивый намек, чтобы мы замерли на месте и не мешали ему докончить его объяснения. Басевич говорил не торопясь, чуточку нараспев, растягивая некоторые фразы и отчеканивая отдельные слова. Говорил кратко, но так ясно, выразительно, значительно и, главное, просто, что каждое его слово, как бы вгрызалось в мозг слушателя. Глядя на его оживленное и разгоряченное лицо и слушая его осипший, но чеканящий голос, я сразу уверовал в этого человека и и понял, что с таким, как он, на экзаменах не пропадешь. Чувствовалось, что этот подготовит, и подготовит как следует. Вольноперы слушали его с необыкновенным вниманием, так и впиваясь в него глазами.
С этого дня началась наша новая страда, поглощавшая у нас все утро, весь день, весь вечер и даже часть ночи, словом, все наши силы. Так зубрить и заниматься науками, как мы это делали в то время у Басевича, я еще никогда в жизни - ни до, ни после - не занимался, да и не представлял себе, что это вообще возможно.
Басевич был идеальный учитель, талантливейший педагог, какого я когда-либо встречал. Со своими учениками он делал просто чудеса, умея держать их в напряженнейшем внимании в течение нескольких часов подряд. Умел увлечь учеников - и что курьезно - увлечь не науками, а дерзостной идеей совершить невозможное - то есть пройти за 2-3 дня целый курс какой-либо науки. Получалось что-то вроде нового интересного спорта-зубрежки.
Педагогические приемы Басевича были разнообразны и весьма оригинальны. Первые дни он посвятил артиллерии - науке, изобилующей скучной и сухой теорией. Наиболее трудно усваиваемые места Басевич излагал всегда кратко и ясно, и кое-где вставлял такое неожиданное и похабное словцо, что вся комната при этом так и вздрагивала от взрыва раскатистого смеха учеников. Такое меткое и вовремя подпущенное удивительное словечко невольно навсегда врезывалось в память, заставляя по ассоциации запомнить и понять всю фразу, имевшую особо важное значение. Наиболее скучные и сухие истины Басевич преподносил так весело и остроумно, что они воспринимались нами совсем легко. Самое трудное и как будто непонятное сразу становилось ясным, благодаря удачному сравнению и уже, конечно, запоминалось.
Огромные деньги, которые брал Басевич со своих учеников, он брал не зря, ибо отдавал за эти деньги всего себя; манкировал на службе и к концу учебы сильно терял в весе, выглядел осунувшимся, как после тяжелой болезни, совершенно утрачивал голос, переходя на сиповатый шепот. - Ведь ему приходилось болтать языком и напрягать голосовые связки с утра и до поздней ночи, так как иной раз мы засиживались у него далеко за полночь - часов до трех.
С Басевичем у вольноперов с первых же дней установились удивительные отношения. Я не представлял себе, что нижние чины, каковыми мы были, могли держать себя так фамильярно с офицером. Звали мы его не "ваше высокоблагородие", а попросту - Виктор Иванович, и в его присутствии никто не стеснялся расстегнуть мундир, развалиться на диване и закурить папиросу. Большинство учеников смотрело на Басевича прежде всего как на ловкого человека. Ученики Басевича, хотя и любили его за остроумие, но не слишком уважали, ибо, во-первых, Басевич был ими куплен за деньги, и притом деньги не малые, что как будто давало им право на пренебрежительное отношение к "нанятому человеку". С другой стороны, и сам Басевич позволял себе иной раз такие выходки, которые не могли вызвать к нему чувство почтительности.
Помню, например, во время занятий, он вдруг поворачивал от нас доску и писал на ней что-то мелом, чего мы не могли видеть, а затем внезапно ставил доску лицом к нам и мы читали: "Прошу заплатить мне завтра деньги. Относится к тем, кто мне еще ни черта не платил!!!"
Тут Басевич изображал конфузящуюся девушку, театральным жестом закрывался рукавом и прятался за доску под общий хохот учеников. Для гвардейского капитана такое паясничание перед компанией вольноперов было просто недостойно.
За свою практику ловкий и наблюдательный Басевич изучил как свои пять пальцев всех экзаменаторов Николаевского училища. Он знал уже безошибочно, какие вопросы они будут задавать и какие ответы они любят слышать на эти вопросы. Готовил он нас именно это имея в виду. Помню, когда некоторые путаные истины бывали для нас не совсем ясны, и кто-нибудь из нас просил у него объяснений, Басевич очень цинично отвечал: "Да вы что, юноша, или на самом деле всерьез хотите учиться?!.. Нет, родной мой, я всерьез не учу... Я учу вас втирать очки! Запомните это... Вам наука не нужна, а вам нужно только сдать экзамен. Если хотите учиться наукам - поступите в училище и учитесь там два года... Да-с, я же за два месяца научить вас наукам не могу. А вот как втереть очки на экзамене - это моя специальность. Так вот, юноша, то, что вы меня сейчас спрашиваете - есть праздное любопытство с вашей стороны, так как не было еще случая, чтобы экзаменатор N спросил бы это на экзамене. Удовлетворитесь тем, что такое правило игры. - Итак, тру?" - И Басевич вопросительно оглядывал нас.
- "Тру!" - хором отвечали мы по заведенному обычаю, и Басевич стирал губкой с доски формулу или чертеж, переходя к следующему вопросу. Так у нас и вошло в поговорку говорить "Правило игры, тру, да тру", - когда кто-нибудь чего-либо не понимал.
Однажды Басевич заявил нам, что время, нужное на подготовку каждого предмета, рассчитано у него по минутам и что на подготовку к экзамену по конно-саперному делу он не может уделить ни одного дня, а поэтому и готовить нас по этому предмету вовсе не будет. "Виктор Иванович!" - взмолились мы. Как же, так?.. Ведь в учебнике свыше двухсот страниц! Там устройство телефона, телеграфа, какие-то "запалы Дрейера", подводные взрывы, взрывы железных мостов, масса разных формул!.. Когда же мы успеем?!.. Как быть?.."
"Как быть? - многозначительно подмигнул Басевич. - А вот как: те из вас, которые желают хорошо сдать этот предмет, пусть уплатят мне к субботе вечером еще только по 30 рублей - и - дело в шляпе!.. В воскресенье утром мы пойдем с вами в Инженерный замок всего на два часа... - Больше у нас времени нет... В Замке я вас познакомлю с неким капитаном Свирским (прекрасный человек...), он вас и подготовит за два часа... О, не сомневайтесь: Свирский очень способный капитан... Кстати, он же и будет вас экзаменовать в училище", - и Басевич сделал каменное лицо.
"Ага-а!.. Я, кажется, понимаю..." - протянул кто-то из вольноперов. - "А если вы такой умник, что поняли, - перебил Басевич, - то советую вам быть еще умнее и не показывать вида, что вы что-нибудь тут понимаете".
Дело было ясно: экзаменатору надо было дать взятку через Басевича... 30 рублей - сумма мизерная... А, впрочем, помноженная на 19 (ибо нас было 19 учеников) выходило около 600 рублей, не так уж плохо для бюджета небогатого офицера!..
Помню, некоторые из нас были возмущены и из принципа не хотели идти на дачу взятки русскому офицеру, предпочитая урвать как-нибудь время и самим подготовиться к этому предмету. Однако Басевич не врал, когда говорил, что время у него рассчитано по минутам, и для подготовки по конно-саперному делу времени действительно у нас не нашлось. Вопрос ставился ребром - или дать взятку - или отказаться от испытаний. Хоть многих это и коробило, однако, в воскресенье, в Инженерный замок наша компания собралась, кажется, полностью. Там Басевич и познакомил нас с маленьким бледным саперным капитаном, болезненным на вид. В одной из комнат замка Свирский в течение полутора часов демонстрировал нам устройство полевого телефона и телеграфа Морзе, а также регулировку аппаратов. Затем на листке бумаги он записал наши фамилии, сделав против них какие-то пометки для памяти. Немного сконфузившись, он сказал каждому, на что ему следует обратить внимание. "Струков, вы как следует подучите параграф о порче подвижного железнодорожного имущества, вагонов и паровозов... Кочубей, обратить внимание на телефон с фоническим вызовом. Трубецкой - на порчу станционных сооружений: взрыв водокачек, подрыв стрелок... Иловайский, выучите хорошенько производство подводных взрывов", - и т. д. и т. д.
Стоит ли говорить, что когда наступил экзамен по конно-саперному делу, экзаменовавший нас Свирский и виду не показал, что знаком с нами? Стоит ли говорить, что этот экзаменатор спросил каждого именно про то самое, на что он ему указал в Инженерном замке?.. Стоит ли говорить, что каждый из нас получил на этом экзамене прекрасную отметку?..
Да, это была грязненькая история - сознаюсь!
Ученики Басевича представляли собой очень разношерстное сборище во всех смыслах. Тут были тонко и всесторонне образованные молодые люди с законченным университетским образованием, как например, лейб-гусар Танеев - родной брат известной Вырубовой{23}, и сын оберцеремонимейстера двора и начальника "Собственного его Величества кабинета" - молодой человек, окончивший целых два факультета. Тут были князья: Вяземский, Оболенский, Кочубей - все блестяще закончившие высшее образование в Лицее или Училище правоведения. То были люди во всех смыслах "очень приличные"... Были и не приличные, как например армейский улан П-ский и драгун П-ов - принципиальные забулдыги самого дурного тона, заслуженные и почетные венерики, гордые своим неприличным недугом, вышибленные с треском из юнкерских училищ за дурное поведение, разгул и неуспеваемость в науках - циничные и глубоко развратные типы, про которых обычно говорят, что "они незаменимы в мужской компании". Был тут и армейский гусар Андриевский - сынок Орловского губернатора - шепелявящий молодой тупица и кутила, не смогший за неспособностью окончить даже средней школы. Для этой категории учеников Басевич был последней ставкой, последним шансом "выйти в люди" и стать добрыми армейскими офицерами. (Дорога в гвардию была для них закрыта навсегда). Только один Басевич мог еще спасти эти пропащие головушки, и Басевич из кожи лез вон - но спасал!.. Драл деньгу - но все-таки спасал... Помню, как-то раз, еще до нашей встречи со Свирским, у нас выдался такой день, когда мы все от зубрения, что называется, "дошли до ручки" и почувствовали себя настолько переутомленными, что перестали понимать своего учителя, а он, кстати, и голос вовсе потерял. Голова трещала от наук. Глаза учеников неестественно блестели, тупо устремленные на Басевича, который вдруг замолчал, внимательно оглядывая нас.
- Вот что, юноши, - хрипло произнес он после длительной паузы, - я вижу, что так больше нельзя..., и я предвидел, что настанет такая минута всеобщего отупения. На сегодня хватит. Вы свободны до завтра. А сегодня... сегодня встряхнитесь, юноши. И чтобы встряска была хорошая - вот мой совет!
И "встряхнулись" же мы в тот день!.. Всей веселой компанией (за исключением самых неприличных) нагрянули мы вечером в Павловск к вольноперам конноартиллеристам, князю Гагарину и барону Мейндорфу, где застали гвардейских стрелков князя Святополк-Мирского и Покровского. У конноартиллеристов устроили "жженку" и перепились "до положения риз".
Как сейчас в памяти темная комната, посреди которой на полу стоял большой жбан с вином. Сверху жбана на перекрещенных саблях высилась сахарная голова, обильно политая нагретым ромом и подожженная. Эта пылающая пьяная штука была единственным освещением всей комнаты, где электричество было потушено. Ром горел синим колеблющимся пламенем, причудливо освещая пестрые мундиры и раскрасневшиеся лица всей компании, восседавшей прямо на полу, на устланных вокруг жбана коврах. Жженый сахар, расплавляясь на огне, стекал в горевшее вино крупными раскаленными каплями с зловещим шипением. Когда пламя разгоралось слишком ярко, Танеев, руководивший пиром, заливал его сверху шампанским. "Ерш" получился жестокий. Все это было совсем необыкновенно, а потому - весело вдвойне. Стаканы наполнялись из черпака огненным и пьяным питием, прожигавшим глотки и, казалось, зажигавшим самые мозги. После нашей зубрежкой лихорадки напиться было чудно как хорошо. Веселились от души.
Далеко не все были способны покинуть в эту ночь гостеприимных пушкарей. Гусар Танеев, кавалергард Дубасов, стрелок Святополк-Мирский и я, грешный, трупами заночевали в Павловске.
На следующий день занятия у Басевича не клеились, головы наши трещали, но трещали не от наук; а от потрясающей вчерашней жженки. Зато через день мы все были здоровы и с просветленными мозгами и с удвоенной страстью принялись за зубрежку. Басевич хорошо знал свою удивительную аудиторию, и прописанная им встряска действительно оказалась всем на пользу. Такую огненную встряску мы потом еще раз повторили в конце экзаменов, но уже по собственному почину, без совета Басевича. На этот раз встряхивались в Петербурге на квартире у Танеева - там, где частенько сиживала набожная Вырубова. Было это тоже очень весело, но кончилось для меня не совсем приятно. Я жил тогда на Сергиевской у тети А. В. Трубецкой. Тетя каким-то образом проведала о нашем пиршестве и по моем возвращении от Танеева встретила меня в передней в 2 часа ночи совсем "тепленького". Каменная, окинула меня тетя через стеклышко лорнетки леденящим душу прищуренным глазом. Предстать перед ней пьяным было стыдно и мерзко, а она в присутствии лакея так отчитала меня, что я это помню и по сей день!
- Впредь наука, - решил я протрезвившись на следующий день, - ловчиться выпить так, чтобы ни одна дама и ни одна порядочная девица никогда больше "тепленьким" меня не увидели!
С тех пор этому принципу я был верен до самой, можно сказать, революции. После же революции принцип этот сам собою отпал. Появился новый тип советской дамы, тип более "сознательный", отбросивший старые предрассудки. Этот обновленный тип молодой дамы - не то что пить вино, а и самогон почал трескать, и не рюмками, а чашками, почти наравне с мужчинами. Таких обновленных и переродившихся дам я не хаю, да и хаять не могу, потому что сам с ними выпивал неоднократно и с удовольствием. До революции это и во сне не снилось, а показаться пьяным порядочной девушке или даже даме было большим хамством для "человека из общества". Предстать в пьяном виде можно было нам разве лишь перед проституткой или кокоткой.
* * *
Экзамены начались очень торжественно в конце апреля. В назначенный день мы, кирасиры, привинтили к каскам золотые орлы, затянулись в белые парадные колеты и явились в Николаевское кавалерийское училище взволнованные и "красивые, как боги".
В большом светлом зале выстроились покоем в одну шеренгу свыше 70 вольноопределяющихся. На правом фланге белые кавалергарды с великаном Оболенским во главе, конногвардейцы, мы, кирасиры, далее - гвардейские казаки и вольноперы полков 2-й гвардейской дивизии и, наконец, армейцы, которых набралось очень много. Синие, желтые, белые, красные уланские лацканы, гусарские доломаны, пунцовые, малиновые и темно-синие рейтузы, золото и серебро, сверкающее на касках, лакированные кивера, гусарские шапки с белыми султанами - словом, почти вся изумительная российская кавалерия в полном параде - картинка, достойная кисти художника.
1912 год был исключительным по количеству явившихся к экзаменам вольноперов. Говорили, что в предыдущие годы их набиралось наполовину меньше.
Нарядные молодые люди взволнованно перешептывались, как в церкви. В 9 часов распахнулись двери. Раздалась команда: "равняйсь - смирно!" - и в зал вошел начальник училища генерал Миллер{24} в сопровождении инспектора классов генерал-майора Осипова. Миллер был небольшого роста, кавалерийски сложенный моложавый генерал, подтянутый, розовый, с красивыми большими усами, спокойный и корректный на вид. Я еще раньше встретился с ним как-то у Жилинских, где он произвел на меня впечатление настоящего джентльмена. Рядом с ним генерал Осипов выглядел полным контрастом - небольшой, толстенький, быстрый в движениях, седой, с сердитым и злым желтым лицом начальника, привыкшего разносить подчиненных. (Мы знали уже, что Осипов был грозой училища, злым гением юнкеров). Миллер поздоровался с нами с оттенком воспитанной корректности, давая чувствовать и выражением лица, и интонацией голоса, что относится к нам не как к простым солдатам, а как к "господам". Поздоровавшись, он начал обходить вольноперов с правого фланга, вытягиваясь с юношеской выправкой перед каждым в отдельности. При гробовой, настороженной тишине каждый из нас по очереди во весь дух четко рапортовал Миллеру свое имя и название полка. Он смотрел каждому прямо в глаза удивительно спокойным и холодным взглядом невозмутимого и достойного человека. Зато Осипов глядел такими недовольными и заранее разгневанными очами, что от этого делалось как-то не по себе и даже жутко. Морда у Осипова была такая, что всегда казалось будто вот-вот он разразится неистовым криком (что на самом деле и бывало с ним часто).
По окончании церемонии представления нас раздели ли на две равные группы, ибо нас оказалось слишком много, и отпустили по домам. Наша кирасирская дивизия попала во 2-ю группу, и поэтому на экзамен мы должны были явиться на следующий день. Первая же группа должна была начать "резаться" сегодня же. Первый экзамен был один из самых трудных - по артиллерии. В тот же вечер нам стали известны его результаты. Они были убийственны: посыпалась добрая половина... и это на первом же предмете! А если так, то кто же уцелеет до конца? Гусар Андриевский, басевический ученик, попавший в первую группу просыпался с треском. Правда, он был изрядным тупицей, но все же басевический ученик! Это было неслыханное событие. Басевич, волновавшийся едва ли меньше нашего, не выдержал и помчался в училище разнюхивать атмосферу. Мы ожидали его возвращения в его квартире на Миллионной, слушая, разиня рты, рассказы несчастного Андриевского о том, как нынче резали вольноперов. Часа через два Басевич привез малоутешительную весть: в этом году в училище было получено предписание свыше - производить испытание вольноперам как можно строже, дабы допустить к производству только тех, которые досконально усвоили все военные науки. Необыкновенное количество собравшихся в этом году вольноперов кому-то и почему-то не понравилось. Словом, свыше было предписано нас "резать", и это предписание теперь с усердием проводилось в жизнь училищным начальством, решившим на первых же двух экзаменах (по артиллерии и тактике) сделать самый беспощадный отбор и разом отсечь наиболее слабых. Для экзаменаторов это должно было значительно облегчить дальнейшую процедуру экзаменов.
Ночью я спал плохо и молился Богу так, как еще никогда до этого не молился. Вспоминал свои грехи. Оказывается, их было много, и я ужасно тревожился, что из-за этого Бог не услышит моих горячих молитв и допустит, чтобы я провалился. - А как же тогда со свадьбой?.. - Какими глазами я взгляну на невесту?! Мутно и нехорошо делалось на душе.
Всякие бывают волнения - и радостные, и пакостные. Самые мерзопакостные и наиболее сосущие под ложечкой - волнения экзаменационные. С пересохшим ртом с тошнотою на душе и в желудке сидел я на следующий день в просторном классе училища, где 30 томящихся вольноперов застыли на партах, не смея дрогнуть шпорой, впиваясь блестящими глазами в страшный экзаменационный стол, за которым сидела комиссия с злым и желтым Осиповым во главе. Его разгневанная физиономия буквально терроризировала нас.
Другой, волосатый и рыжий офицер экзаменатор - бездушный и недоступный терзал бедных вольноперов, ехидничал, придирался, как казалось, с явным намерением срезать.
- Вот сво-о-олочь!.. Хамина!.. - слышался за мной чей-то ненавидящий и еле слышный шепот, когда рыжий проваливал кого-либо из нас.
Провалились многие... Наш Сашенька Искандер, высоко и недоуменно приподняв брови, безнадежно и томительно погибал, споткнувшись на расходящемся и сходящемся веере батареи, в котором он заплутался, как в трех соснах - а ведь басевический ученик, кончивший в свое время Императорский лицей! Вот кавалергард Струков заблекотал у доски что-то маловразумительное и дрожащей рукой вывел на доске такую невероятную и дикую траекторию, что его тут же погнали от стола. Вот красиво и с треском, молниеносно, срезался атаманец Бескудин, не ответив ни на единый вопрос. Хоть и срезался, но с достоинством и невозмутимо.
- Князь Трубецкой! - громко и как гвоздем по стеклу, совсем неожиданно позвали у стола, и сразу же нехорошо затряслось у меня в коленках. Шел я к доске, убежденный в провале. Шел бравой и деланно-веселой "молодецкой" походкой, стараясь изо всех сил скрыть от товарищей волнение. Шел, как на эшафот, повторяя про себя: "на людях и смерть красна!" (Я еще ночью выработал себе красивую и достойную манеру, с какой буду гибнуть сегодня). Подошел к страшному столу, зеленое сукно которого вдруг близко и четко вырисовалось передо мною с двумя чернильницами, ручками, карандашами, листками и прочими жуткими подробностями. - Ну, ...пропал!.. - с щемящей тоской подумал я и, щелкнув шпорами, весело вытянул первый с края билет, как сейчас помню, No 13 самый, что ни на есть поганый и мистический номер! С выдержкой сделал я отчетливейший поворот направо - ать, два! - браво подошел к доске, снова колышком повернулся - ать, два... - лицом к комиссии, глубоко вобрал в легкие воздух и, зажмурившись, глянул на билет... В первую минуту я еще не понимал, что спасен. Понял я это вдруг. Мне достался шрапнельный снаряд, дистанционная трубка и деривация снарядов - это я знал. Рыжему я отвечал весело и браво. Задачи по обстрелу площадей решил правильно. Лишь немного замялся, когда рыжий помимо билета начал гонять меня по всему курсу, задавал каверзные вопросы. И вот, наконец, рыжий сухо пробурчал: "ступайте!".
Ф-ф-у-у!!!... Какой это был вздох облегчения и какими веселыми ногами выкатился я из класса! 10 баллов - такова была моя отметка, - больше, чем нужно для "гвардейского балла".
Чувство большой гордости охватило меня. Я был не хуже других. Больше того - я оказался лучше многих. Как хорош был Божий мир в ту минуту! Провалившиеся смотрели на меня завистливыми глазами, и я почувствовал, что начинаю "выходить в люди".
В следующие два дня обе группы резались по тактике. На этом экзамене окончательно провалились почти все те самые вольноперы, которые срезались по артиллерии, плюс еще несколько человек. Это был не экзамен, а настоящий разгром. Мы решали на картах-двухверстках тактические задачи применительно к действиям кавалерийской дивизии и конной батареи, писали диспозиции и потом отвечали по всему курсу. Экзамен длился несколько часов, а экзаменовали офицеры Генерального штаба. По тактике я получил лишь 8 баллов, но и этой отметкой был счастлив - немногие ответили лучше, а провалившихся оказалась тьма.
После этих двух труднейших экзаменов в обеих наших группах осталось не более 30 человек. Басевические ученики прошли лучше всех. Сам Басевич, досконально разнюхавший, чем пахнет в училище, подбадривал нас и утешал уверениями, что теперь, после тактики, нас резать больше не будут. Он оказался прав, и, действительно, все остальные экзамены прошли для всех сравнительно гладко.
Ободренный первым успехом, я уверовал в себя и отдался экзаменам со всей страстностью. Жил только одной мыслью о них и завоевывал свое будущее счастье ценою огромного напряжения нервов, мозгов и всех нравственных сил. Мысль о невесте вдохновляла. Скверный ученик и лодырь, каким я всегда был в средней школе, теперь я неожиданно для себя вдруг приобрел среди товарищей репутацию способнейшего человека. Люди с высшим университетским образованием отвечали хуже меня, и многие из них завидовали мне. Самодовольству и гордости моей не было конца.
Я верно понял дух училища и уделил большое внимание чисто внешней манере, как держать себя перед экзаменаторами, стараясь понравиться им отчетливостью ответов, бравой, веселой выправкой и тактичным очковтирательством, которое у меня удавалось замечательно. Правда, на одном очковтирательстве без знания предмета далеко не уедешь, тем не менее именно эта моя способность втирать очки, или, как теперь принято говорить, - арапствовать - способствовала моему успеху. Были вольноперы, которые знали предметы лучше меня, а получали на экзамене более низкую отметку только потому, что не умели подпустить пыли в глаза, а если и пытались подпустить таковую, то выходило это у них бестактно или неумело.
Помню, мой набожный кузен Мишанчик Осоргин, серьезный и большой специалист по церковным вопросам, увлекавшийся историей Церкви, получил на экзамене по закону Божьему всего 10 баллов, ибо не обладал лоском красноречия. Я же, знавший этот предмет, конечно, в десять раз хуже Осоргина, словчился ответить на 12 баллов, умилив доброго батюшку тем, что отвечая ему, строил почтительно благочестивые рожи, и, рассказывая про житие и кончину каких-то замечательных мучеников, придал своему голосу самые трогательные интонации. Так же блестяще прошли у меня экзамены по фортификации, военной администрации, законоведению, военной географии, военной гигиене. Я изучал каждого экзаменатора, пока он спрашивал моих товарищей, и потом подлаживался под его тон. Случалось, что мне попадался трудный билет, который я знал посредственно, однако всегда выручала моя уверенная манера, с какой я отвечал, способность вовремя увильнуть и затушевать слабые места, наконец, выразительное красноречие. Словом, предметы я знал неплохо, а арапствовал до того виртуозно, что часто во время моих ответов остальные вольноперы многозначительно переглядывались. Из 30 человек лучше меня по отметкам шел только умница Танеев, да еще, быть может, человека два - не больше.
Курьезно прошел у нас очень трудный экзамен по военной истории, к которому надо было вызубрить устройство нашей армии чуть ли не во все эпохи, а также решительно все сражения, где принимала участие русская армия, начиная со времен Петра Великого и кончая последней японской кампанией. Бесконечные войны России со шведами, турками, пруссаками и Наполеоном изобиловали именами русских и иностранных генералов и кровопролитными боями, про которые нужно было уметь рассказать, ничего не перепутав и сделав критический обзор... А чего стоил один Суворов... Праведный Боже!... Понятно, что перед этим экзаменом многие трусили не на шутку. Всем трусившим Басевич порекомендовал обратиться к некому Кудрявцеву - скромному и незаметному служащему училища, занимавшему должность вахтера. Говорили, что этот тип уже несколько лет подряд выручал на истории вольноперов. Кудрявцева нужно было подмазать, а брал он с "рыла" всего лишь по четвертному. Этого маленького и невзрачного человечка в черной штатской курточке часто можно было встретить в коридорах училища, где он шлялся с деловым видом. Был он какой-то бесцветный, сумрачный и молчаливый, но в его тусклых и маленьких глазках, казалось, было написано: "я совсем не дурак". Поймали мы его в уборной и обработали в два счета, передав ему в день экзамена несколько сот рублей, собранных чуть ли не со всех вольноперов.
Экзамен по военной истории был особенно торжественен. Присутствовал сам генерал Миллер, лично задававший вольноперам вопросы. Напротив экзаменационного стола стояла доска, на которую вахтер Кудрявцев вешал большие карты того или иного сражения - смотря по билету. Вызываемый к экзаменационному столу вольнопер вытаскивал билет и, выкрикнув его номер, брал в руки отпечатанную программу, после чего подходил к доске. Тогда Кудрявцев доставал из угла очередную карту огромного размера и, прикрывшись ею, медленно проходил мимо вызванного вольнопера, на одно мгновение закрывая его от взоров комиссии. Ловким движением профессионального фокусника Кудрявцев совал ему в программу листочек с прекрасно составленным и мелко отпечатанным конспектом, соответствовавшим данному билету. Проделав этот номер, Кудрявцев с угрюмым видом вешал карту на доску, после чего медленно отходил в сторонку, скучный и равнодушный. На подготовку полагалось несколько минут, и вольнопер, повернувшись к карте, делал вид, что смотрит в программу, а на самом деле на глазах у всей комиссии торопливо подзубривал конспект. Проделывалось все это так ловко, что никто никогда на месте преступления пойман не был. Конечно, риск тут был большой и, если бы кто-либо из нас попался с конспектом Кудрявцева, его, конечно, не допустили бы к дальнейшим экзаменам, а с треском выгнали бы вон. Помню, что когда я стоял перед Миллером с конспектом в руках, то вдруг струсил, что попадусь, и поэтому, еле взглянув на конспект, постарался скорее его припрятать. Несмотря на это, я все же ответил довольно гладко и получил по истории девятку. Многим же моим товарищам конспект этот очень помог. Так, кавалергард кн. Ширинский-Шахматов, у которого накануне экзамена умер отец, хотел было вовсе отказаться от экзамена, к которому не мог подготовиться из-за семейных обстоятельств, однако в последнюю минуту он все же рискнул и сдал хорошо, только благодаря конспекту Кудрявцева.
Услугами Кудрявцева пользовались не только вольноперы, но и юнкера, так что Кудрявцев, надо думать, зарабатывал на истории хорошую деньгу. Впрочем он, конечно, всегда рисковал лишиться места в случае, если бы его накрыло начальство.
Приходится лишь удивляться, каким образом эти проделки, повторявшиеся из года в год, так никогда и не доходили до сведения училищного начальства. Впрочем, в Николаевском училище юнкера жили удивительно сплоченной кастой, и нравы там царили совсем особые. Дисциплина - адовая, а "цук" - из ряду вон выходящий, крепко вошедший в традицию. Говоря о традиции, вообще, я должен сознаться, что другого такого учреждения, где сила традиции была бы столь велика, как в Николаевском училище я нигде никогда не встречал.
* * *
В Николаевском училище, куда в стародавние времена любил наезжать строгий государь Николай I, юнкера подразделялись на эскадрон и сотню. Из эскадрона выходили офицерами в регулярную кавалерию. Из сотни - в казачью конницу. Между сотней и эскадроном существовал известный антагонизм. Самый свирепый "цук" царил именно в эскадроне, где юнкера старшего курса обязаны были в силу традиции цукать юнкеров младшего курса. Каждый юнкер старшего курса имел своего, так называемого "зверя", то есть юнкера-первокурсника, над которым он куражился и измывался, как хотел. Младший не только должен был тянуться перед старшим, оказывая ему чинопочитание - он обязан был исполнять самые нелепые прихоти и приказания старшего. Спали юнкера в общих дортуарах вместе - и старшие, и младшие. Бывало, если ночью старшему хотелось в уборную, он будил своего "зверя" и верхом на нем отправлялся за своей естественной нуждой. Это никого не удивляло и считалось вполне нормальным. Если старшему не спалось, он нередко будил младшего и развлекался, заставляя последнего рассказать похабный анекдот или же говорил ему: "Молодой, пулей назовите имя моей любимой женщины", или "Молодой, пулей назовите полчок, в который я выйду корнетом". Разбуженный "зверь" обыкновенно отвечал на эти вопросы безошибочно, так как обязан был знать назубок, как имена женщин, любимых старшими, так и полки, в которые старшие намеревались поступить. В случае неправильного ответа старший тут же наказывал "зверя", заставляя его приседать на корточках подряд раз тридцать или сорок, приговаривая: "ать - два, ать - два, ать - два". Особенно любили заставлять приседать в сортире у печки. "Молодой, пулей расскажите мне про бессмертие души рябчика", - командовал старший. И молодой, вытянувшись стрункой, рапортовал: "Душа рябчика становится бессмертной, когда попадает в желудок благородного корнета". Старшие, хотя были всего навсего только юнкерами, однако требовали, чтобы младшие называли их "Господин корнет". Иной раз старшему приходила в голову и такая фантазия: "Молодой! - приказывал он, ходите за мной и вопите белугой!" И молодой "вопил белугой", неотступно следуя за старшим, куда бы он ни пошел, пока старший не командовал: "Отс-ста-вить!". Бывало, что старшие задавали младшим писать сочинения на самые невероятные темы, например, "Влияние луны на бараний хвост". И молодые беспрекословно исполняли всю эту чепуху, так как ослушаться приказания старшего юнкера не позволяла традиция.
Лучший по строю юнкер назначался вахмистром. Юнкера называли его "земным богом", оказывали ему совсем особые почести и чтили его чуть не выше самого начальника училища. Этот юнкер официально имел известную дисциплинарную власть, но неофициально - власть его над юнкерами была почти безгранична.
Совсем особым почетом пользовались также те юнкера, которые за плохую успеваемость в науках, оставались в училище на второй или третий год. Таким молодцам, приобретшим стаж, юнкера присваивали звание "генералов школы". Ходили они по училищу, как вельможи, чувствовали себя героями и цукали как угодно и кого угодно в свое удовольствие. Интересоваться науками вообще считалось в училище своего рода дурным тоном. Гульнуть же с хорошей бабенкой, кутнуть в веселой компании, а при случае - смазать по роже штатского интеллигента или же подцепить болезнь, про которую громко в обществе не говорят, - вот это были стоящие дела - куда интереснее всяких наук.
Своим беспощадным цуком старшие закаливали младших, страшно дисциплинировали их, вырабатывая совсем особую бравую выправку, по которой чуть не за версту всегда можно было узнать николаевца. Училищное начальство и вообще офицерский состав училища относились к цуку скорее одобрительно и, если прямо его и не поощряли, то в лучшем случае смотрели на это сквозь пальцы, ибо сами в большинстве были питомцами этого замечательного училища, из стен которого, как это ни странно, в свое время вышел корнетом знаменитый поэт Лермонтов. Памятник Лермонтову скромно красовался в училищном дворе{25}. Между прочим, характерно, что Николаевские юнкера никогда не говорили "поэт Лермонтов". В училище принято было говорить - "корнет Лермонтов", ибо для юнкерского уха "корнет", конечно, звучал лучше и значительнее нежели "поэт"... На самом деле, в училище шли не для того, чтобы учиться сочинять стихи. Туда шли, чтобы стать лихими кавалеристами-рубаками.
Когда рассказываешь про невероятный училищный цук и измывательства старших юнкеров над младшими, невольно ожидаешь, что тебя спросят, почему младшие юнкера всегда безропотно терпели все эти обидные для них штучки, почему никогда не жаловались на старших и вообще так беспрекословно подчинялись этой ничем не узаконенной традиции училища? Следует пояснить, что когда молодой человек попадал в стены училища - первым делом старшие спрашивали его, как желает он жить - "по славной ли училищной традиции, или по законному уставу?" Если молодой говорил, что хочет жить по уставу - его, правда, избавляли от цука, но зато никто уже не относился к нему как к товарищу. Такого юнкера называли "красным". "Красного" бойкотировали, глубоко презирали. Никто с ним не разговаривал. С ним поддерживали лишь чисто служебные официальные отношения. "Земной бог" - вахмистр - и взводные юнкера не спускали "красному" ни малейшей служебной оплошности, досаждали его внеочередными нарядами, лишали его отлучек со двора, ибо имели на это, согласно военному уставу, право. Но самым существенным, было то, что такого "красного" по окончании училища никогда бы не принял в свою офицерскую среду ни один гвардейский полк, ибо в каждом полку были выходцы из Николаевки, всегда поддерживавшие связь с родным училищем, а потому до их сведения, конечно, доходило, кто из новых юнкеров "красный". Впрочем, следует отметить, что "красный" юнкер был очень редким явлением. Николаевское училище имело громкую славу, и каждый молодой человек, желавший поступить туда, обычно уже заранее знал, на что он идет, а потому всегда добровольно соглашался жить "не по уставу, а по славной традиции"{26} Как это ни кажется странным, но Николаевские юнкера чрезвычайно любили, даже обожали свое училище, и всякий офицер, выпущенный из его стен, потом еще долгие годы любил смаковать в товарищеской среде свои училищные воспоминания, которые всегда сглаживались тем, что всякий цукаемый первокурсник, на второй год превращался из цукаемого в цукающего. Да, в училище была особая публика неунывающая, веселая, лихая, а главное - дружно сплоченная. Нас, вольноперов, экзаменовали отдельно от юнкеров, и поэтому мы имели с ними мало сношений, случайно встречаясь с юнкерами лишь в коридорах и уборных училища, где часто бывали свидетелями весьма курьезных сценок, юнкерского цука.
* * *
Большим контрастом в отношении Николаевского училища был Пажеский Его Величества корпус. Оттуда выходили офицерами в гвардейские полки воспитаннейшие молодые люди, которых родители-дворяне нередко записывали в пажи с самых ранних детских лет. В Пажеском корпусе были младшие классы с общеобразовательной программой средней школы (принятой и в прочих кадетских корпусах) и два старших класса, или курса, поставлявших молодых офицеров в гвардейские части всех родов оружия, то есть пехоту, артиллерию и кавалерию. В Пажеском воспитывались годами, и поэтому это кастовое военно-учебное заведение накладывало на своих питомцев совсем особую печать утонченного благообразия и хорошего тона. В Пажеском тоже царила крепкая дисциплина и принцип цука был не чужд и пажам, однако там все это не выходило из рамок человеческого достоинства и строгого приличия, В Пажеском корпусе специальным наукам отводилось должное место, и надо сознаться, что именно из пажей выходили, пожалуй, наиболее культурные офицеры русской армии.
Молодые люди, попадавшие в Пажеский корпус, с юных лет соприкасались с придворной атмосферой (да и само слово и понятие "паж" - имело чисто придворное значение и смысл). Среди воспитанников корпуса были юноши, числившиеся личными пажами императриц и великих княгинь. На придворных церемониях и торжественных дворцовых выходах эти пажи облекались в красивые раззолоченные мундиры, надевали лосины и ботфорты и в таком блестящем наряде поддерживали шлейфы своих "высоких и царственных дам", исполняя их личные мелкие поручения. Пажи этим очень гордились и смотрели на прочие военно-учебные заведения свысока. Само собою понятно, что такое привилегированное положение пажей и их соприкосновение с великими мира сего исключали с их стороны всякую возможность проявления "дурного тона", забулдыжничества или бросающегося в глаза солдафонства. Тут требовалась утонченность манер - прежде всего. Если Николаевские юнкера в стенах своего училища еще и не помышляли о карьере, то молодые пажи, наоборот, - зачастую еще на школьной скамье мечтали уже о блестящей военно-придворной карьере, флигель-адъютантских аксельбантах и строили блестящие планы на будущее, с детства впитывая в себя идеи карьеризма, в чем, конечно, сказывалось влияние общения с двором.
Пажи были крепко сплочены между собой. Перед производством в офицеры весь выпуск заказывал себе одинаковые скромные золотые кольца с широким стальным ободом снаружи. Сталь этих колец служила эмблемой крепкой (стальной) спаянности и дружбы не только всего выпуска, но и вообще всех лиц, когда либо окончивших Пажеский корпус и имеющих на пальце подобное колечко{27}. Надо признать, что пажи обычно оставались верными этому принципу и бывший питомец Пажеского, сделавший карьеру и достигший высот, как правило, обычно тянул за собой бывших своих товарищей по корпусу, оказывал им всяческие протекции и, таким образом, бывшие пажи чаще других занимали высшие военные и даже административные посты в Империи.
Между пажами и николаевскими юнкерами существовал довольно крепкий антагонизм, несмотря на то, что оба эти заведения выпускали своих питомцев в гвардию. Антагонизм этот был настолько велик, что еще долгое время после производства в офицеры бывшие пажи и бывшие николаевцы, служа в одном полку, относились друг к другу с некоторой настороженностью. Уж очень разные по духу были оба эти заведения: молодого офицера-николаевца можно было сразу узнать по его выправке и солдафонству. Молодого пажа - по его подчеркнуто-приличному виду "мальчика из хорошего дома". Из всех кавалерийских офицеров выпуска одного и того же года старшинство по службе получали сперва вышедшие из пажей; потом - юнкера Николаевского училища, получившие на выпускных экзаменах гвардейские отметки, далее вольноопределяющиеся с гвардейским баллом, и затем уже питомцы Тверского и Елизаветградского юнкерских кавалерийских училищ. Несмотря на то что вольноопределяющиеся уступали в старшинстве пажам и николаевцам - все же многие молодые люди из знати избирали именно вольноперство как путь к военной карьере, ибо это был наиболее скорый путь: вольноперы выигрывали целый год учебы, тогда как пажи и юнкера должны были обязательно учиться по два года в своих заведениях.
Глава V
Перед окончанием моих экзаменов в семье Трубецких, наконец, произошло радостное событие. Моя двоюродная сестра С. П. Трубецкая вышла замуж за симпатичного молодого графа Н. Ламсдорфа{28}. Эта свадьба, на которой и я фигурировал в качестве шафера, была отпразднована торжественно и весело, после чего в доме Трубецких значительно разрядилась та атмосфера мрака, какой царил там со времени нелепой и трагической кончины дядюшки Петра Николаевича.
В середине мая наши экзамены по всем наукам в Петербурге закончились. Оставалось только сдать практические испытания по топографическим съемкам и тактическим задачам на местности. Училище перешло в свой Дудергофский лагерь под Красным Селом и туда же потянулись и мы, вольноперы, тепло распростившись с Басевичем.
Лейб-гусар Танеев, Осоргин и я сняли в Красном общую дачу из трех комнат и каждое утро являлись в живописный Дудергофский лагерь близ озера для производства топографических работ. К нам, вольноперам, приставили некоего капитана Невежина - очень корректного и гуманного человека, который и руководил нами в течение всего периода этих испытаний.
Начались они с полуинструментальных мензульных съемок и каждому из нас был отведен в окрестностях Дудергофа отдельный участок местности, который мы должны были очень точно нанести на план с масштабом в 200 сажен в дюйме. В помощь нам давали малых деревенских ребятишек, которые таскали базисную цепь и помогали расставлять вехи. Мне попал довольно трудный участок, куда входил один из крутых и причудливых склонов дудергофской горы, усеянной дачными строениями (это была как раз та самая гора, которая упоминается в сложенной юнкерами песенке, начинающейся со слов:
Темно, как у арапа в ж...
И авангардный лагерь спит,
А на вершине Дудергофа
Филин жалобно кричит...
Помимо этого склона знаменитой горы в мой участок входил старинный Павловский редут, пашня, огороды, кустарники и кусочек железнодорожной линии Балтийской дороги, пересекаемый широким проселком. Склоны и вообще весь рельеф нужно было тщательно вычертить на плане горизонталями. Работу я должен был выполнить в недельный срок. С раннего утра и до вечера проводил я на своем участке у треноги с планшетом, визируя отдельные вехи, телеграфные столбы, шпили на дачах и составляя на бумаге причудливую и путаную триангуляцию. Невежин, верхом на коне, дважды в день объезжал участки, проверял нас. Изредка на наших участках появлялся и сам генерал Миллер на прекрасном гнедом коне.
Погода стояла на редкость чудная. Весна была прекрасная, радостная, ярливая. Яблони и вишни кудрявились буйным кружевом цветения, а птички, как и полагается, пели гимны весне, навевая на молодых людей игривые эротические мечты и настроения. К полудню жара делалась нестерпимой, словно на юге, и все вольноперы, прибывшие в лагерь истомленными и бледными от питерских ночных зубрений, в первые же дни загорали как арапы, и ходили с облупленными от солнца носами и шеями. После Петербургской экзаменационной горячки и остервенелого зубрения на опостылевшей Басевической квартире - наши теперешние испытания по топографии на лоне весенней природы были для всех каким-то радостным отдыхом. Чувствовалось, что теперь уже никто не провалится, и что дело наше можно считать в шляпе. Лично я, нахватавший на экзаменах отметок в среднем свыше 10,5 баллов, вполне учитывал, что, как бы посредственно я теперь ни сдал топографию - все равно, в конечном итоге у меня получится средний гвардейский балл, а потому я теперь особенно не усердствовал, поддаваясь той общей реакции, которая здесь вдруг охватила нас всех. Никто серьезно заниматься уже не хотел и все благодушествовали.
Оригинальнее всех приспособился к съемкам некий Пр-в, сынок известного Московского миллионера фабриканта, попавший по протекции великой княгини Елизаветы Феодоровны вольнопером в Лейб-гвардии конный полк. Этот увалень, женившийся перед службой на миловидной дочке известного думского деятеля и богача, работать теперь никак не хотел. Он выписал из Петербурга опытного землемера, для которого снял под Дудергофом отдельную дачу. Выписанный землемер и выполнял за Пр-ва всю работу, а сам Пр-в ограничивался лишь тем, что сидел на отведенном ему участке в кустиках, где наслаждался с молодой женой прелестями деревенской идиллии. Пр-в нанял в Дудергофе также особых махальных, на обязанности которых было следить, не едет ли начальство. И когда последнее появлялось на горизонте - махальные тотчас же сигнализировали об этом, как Пр-ву, так и его землемеру. В таких случаях из кустов проворно выскакивал Пр-в и становился у своей треноги с видом человека, поглощенного работой, а землемер со всех ног скрывался в канаву или в те же самые кусты, где таилась миловидная жена Пр-ва. Когда начальство, расписавшись на планшете Пр-ва, удалялось, землемер снова выползал из кустов и принимался за свою прерванную работу, а Пр-в возвращался к своим прерванным удовольствиям. Стоит ли после этого говорить, что Пр-в сдал топографию лучше всех нас?.. Пр-в, хотя и отбывал повинность в одном из наиболее "дорогих" полков гвардии, однако, несмотря на высокую протекцию, офицером туда принят не был, и вышел в один из гусарских армейских полков. На самом деле, нужно сказать, что Пр-в держал себя несколько бестактно, всячески афишируя свое миллионерство и хвастал богатством, демонстративно швыряясь деньгами, что в его положении было неумно, ибо расценивалось как известный признак довольно-таки дурного тона богатого выскочки. В гвардии это не прощалось. Сорить деньгами можно было там иной, более приличной манерой и стилем.
У нас, вольноперов, проводивших весь день с утра до вечера на своих участках, вопрос с довольствием разрешался при помощи так называемых шакалов... Шакалами назывались специальные торгаши, рыскавшие с большими корзинками на голове по Красносельскому военному полю во время кавалерийских учений и шнырявшие в окрестностях Красного и Дудергофа, поставляя пажам, юнкерам и вольноперам, производившим съемки, всевозможную закуску. Во вместительной корзинке шакала можно было найти какой угодно деликатес - сыры и колбасы всех сортов, вкусные пирожки, копченого угря, зернистую и паюсную икру, консервы из омаров, паштет из дичи, шоколад, нарзан, лимонад, водку, коньяк и даже заграничное шампанское. Шакалы прекрасно учитывали, что имеют дело со здоровыми молодыми людьми, у которых желудок тощ, но зато кошелек туг, и поэтому драли они с нас втридорога, охотно предоставляя неограниченный кредит.
Профессия шакала, по-видимому, была очень выгодной, ибо. шакал после нескольких лет своей деятельности обычно приобретал где-нибудь в окрестностях Красносельских лагерей дачу, которую летом пускал в эксплуатацию.
Мой шакал был почтенный и хитрый мужичок с окладистой русой бородой. Звали его Гаврилычем. Он передавал мне приветы от моих товарищей с соседних участков и любил с критическим видом знатока заглянуть на мой планшет, делая почтительные замечания по поводу моей работы и даже давал советы: за многие годы своей шакальной деятельности он научился кое-что смыслить в науке топографической.
Особенно наживались шакалы на офицерах во время учений на Красносельском военном поле. Впрочем, об этом речь будет еще впереди.
* * *
После полуинструментальной съемки мы производили съемки глазомерные и маршрутные. Производили эти работы уже не по одиночке, а всей нашей веселой компанией, в которой, ко всеобщему удовольствию за старшего был назначен Танеев. Работали очень дружно, а настроение у всех было бесшабашное, в результате чего у нас случались веселые приключения.
Так, помню, однажды, выйдя утром на работу всей группой, мы повстречали шакала Гаврилыча, которому назначили в полдень рандеву с наказом приготовить для нас сытный и вкусный закусон с соответствующим выпивоном. Желая нам угодить, Гаврилыч устроил нам в рощице возле дороги настоящий пикник. Все мы выпили крепко, но больше всех Александрийский гусар Гейне, которого вдруг так разобрало, что он не мог уже без посторонней помощи держаться на ногах. Поддерживаемый товарищами, Гейне, потерявший неизвестно где свою фуражку, неожиданно для всех принялся на самой дороге изрыгать через рот и через нос все съеденное и выпитое им на пикнике. Желая поскорее отрезвить товарища, мы принялись обильно окатывать его водою из болотца, а опытный в таких делах Танеев, вооружившись прутиком, смахивал с ноздрей Гейне две потрясающие сопли, меланхолично свисавшие над подбородком гусара... Все бы это было мило и хорошо, как на нашу беду в этот самый момент из-за поворота быстро выехала парная коляска, а в коляске генерал очень важного вида.
Танеев скомандовал "Смирно" и мы застыли над трупом павшего гусара. Увидав это безобразие, генерал велел кучеру остановиться и пальчиком поманил нас к себе. Мы принялись довольно сбивчиво рассказывать его превосходительству, что наш товарищ пострадал, де, от солнечного удара, так как работал без фуражки. Поверить этому было трудно, однако, ибо денек, как на грех, был довольно пасмурный, и солнышко то и дело скрывалось за облаками, к тому же и сам Гейне в этот момент вдруг совсем не кстати ожил и принялся вопить нечто громкое и невозможное.
"Пропишу я вам солнечный удар!" - зловеще изрекло его превосходительство, и записав в блокнотик полк и фамилию Гейне, генерал тронулся в дальнейший путь, грозя пальцем в нашу сторону с видом, не предвещавшим ничего доброго.
Между тем Гейне был совсем неприличен, и по всему было видно, что скоро он в себя не придет. Каждую минуту можно было ожидать еще какой-нибудь жуткой встречи с жутким начальством. Нужно было торопиться в лагерь сдавать работы, и мы прямо недоумевали, куда запрятать нашего подгулявшего молодца.
Выручил шакал Гаврилыч, побежавший в Дудергоф за извозчиком и объявивший нам, что знает хороших дачников, у которых можно приютить Гейне, пока последний не протрезвится. Когда извозчик прибыл, Танеев и я бережно уложили Гейне в пролетку и доставили его окольными путями по указанному шакалом адресу. Это была большая дача с палисадником и садом на окраине Дудергофской горы. На наш стук в калитку к нам вышла миловидная горничная в наколке, а затем и сама хозяйка - дама средних лет, весьма приличной наружности. Мы с Танеевым этого никак не ожидали и очень смутились. Просить эту незнакомую даму приютить у себя нашего пьяного товарища было как-то дико и даже совсем неудобно, так что мы было уж хотели ретироваться, однако дама уже заметила Гейне, трупом свесившегося с пролетки. "Кто вас ко мне направил?" - спросила она несколько строго. Конфузясь, мы назвали шакала. "А-а, Гаврилыч..., - с улыбкой протянула дама, - ну что же, в таком случае заходите. Я рада, что могу быть вам полезна. Ваш заболевший товарищ спокойно сможет отдохнуть у меня. У него, по-видимому, припадок?.." Мы втащили потерявшего сознание Гейне в дом и уложили его на добротной кровати в уютной комнатке, стены которой, как сейчас помню, были обвешаны китайскими веерами, фонариками и картинками. Миловидная горничная с понимающей улыбкой предусмотрительно поставила у изголовья кровати ночную посуду. Убедившись, что наш товарищ теперь в безопасности, мы вежливо распрощались с хозяйкой дачи, от души поблагодарив ее за участие.
"Для благородных и воспитанных людей всегда рада быть полезной. Милости прошу не забывать мой дом...", - сказала она с таким светским видом, что мы даже на прощание галантно поцеловали ей ручку.
На следующий день мы встретили в лагере училища очухавшегося Гейне. Он был мрачен и обрушился на меня с Танеевым: "Зачем вы затащили меня к Н..., кто вас об этом просил?!"
- Но, куда же было вас девать, несчастный вы гусар! Скажите нам спасибо, что мы устроили вас в доме почтенной женщины.
- Да будет вам издеваться! Вы привезли меня в публичный дом!
- Что-о??!!
- Пожалуйста не притворяйтесь. Я вчера очнулся в форменном публичном доме, хозяйку которого я, кстати, знаю как самую продувную шельму на свете!
И ко всеобщему нашему изумлению и удовольствию, злополучный Гейне в подробностях рассказал, как вчера, неожиданно для себя, вдруг проснулся вечером в развеселой компании нескольких "милых, но падших" созданий, отъявленнейших проституток и что из всего этого у него получилось.
Хохотали мы до упаду. Хохотали и над Гейне, и над собой, вспоминая, как накануне галантно целовали руку стопроцентной бандерше, приняв ее за почтенную даму.
С тех пор эту симпатичную особу я больше не встречал, но кое-кто из моих товарищей на всякий случай записали ее Дудергофский адресок, и впоследствии, под пьяную руку навещали ее уютную дачу.
Что же касается до генерала, заставшего нас на дороге с пьяным Гейне, и обещавшего прописать "нам солнечный удар", то к счастью, он про это забыл и никому на нас не пожаловался.
Курьезные дела творились под Красным и Дудергофом, кишевшем веселыми военными людьми!
* * *
После съемок мы решали "тактические задачи на местности", для чего выступали из лагеря либо верхами всей группой, либо по одиночке в пешем порядке. От этих тактических упражнений у меня сохранилось одно довольно яркое воспоминание, впрочем, не имевшее к тактике никакого отношения.
Однажды я брел по берегу запруженной речки Лиговки, имея задание отыскать удобную переправу для артиллерии. Местечко было уединенное, поросшее ивами и ольхами, поэтично склонявшимися к самой воде, а в воздухе так и чувствовался веселый месяц май - тот самый месяц, когда молодые люди становятся особенно глупы.
Внезапно за крутым поворотом я услышал плеск воды и чьи-то молодые женские голоса. В тот же миг я узрел у своих ног на берегу чьи-то туфельки, чулочки и два платьица беленьких и девственных. Еще мгновение, и за ивовым кустом из воды вынырнули передо мной две очаровательные головки - белокуренькая и чернявенькая. Как я уже сказал - был месяц май, а потому я остановился, как вкопанный. С минуту девушки еще не догадывались о моем присутствии, и я имел случай убедиться, что они купались без купальных костюмов.
- Довольно, Лика!.. Я больше не могу... я совсем окоченела! - раздался за кустом звонкий грудной голос девушки...
Тут я громко и многозначительно кашлянул.
Момент - и обе нимфы окунулись в воду по горло, устремив на меня испуганные глазенки. После небольшой паузы наиболее смелая, чернявенькая, с негодованием крикнула мне:
- Сейчас же уходите отсюда!
- Простите, барышня, - ответил я, - но уйти я не могу. Мое начальство поручило мне отыскать на реке переправу, и это местечко как раз кажется мне подходящим.
- Вы нахал, и мы пожалуемся вашему начальству, если вы сейчас же не уйдете!
- Ну что же... Я буду вам только признателен, если вы сообщите обо мне начальству, которое, конечно, поблагодарит меня за то усердие, с каким я выполняю его приказания... Скажите, здесь глубоко?
- Убирайтесь вон, вам говорят!..
- Повторяю свой вопрос: глубоко ли здесь? Ведь я не знаю, стоите ли вы сейчас выпрямившись или, быть может, на корточках?
- Уходите сию же минуту! Вы наглец!
- Простите барышни, но я терять время не могу, и так как вы отказываетесь сообщить мне, глубоко ли здесь, то я по долгу службы вынужден лично проверить глубину реки.
С этими словами я уселся на траву и медлен но начал стаскивать сапог. Тут мои наяды подняли такой визг и крик, что услышать их можно было за целую версту. В глазах белокуренькой отразился панический ужас. "Спаси-ите!!!" - с надрывом завопила чернявенькая.
- Барышни, к чему эти ужасные крики?! Я убивать вас отнюдь не намерен. Прошу вас лишь сообщить мне, какой в этом месте фарватер. Чем скорее вы мне ответите, тем скорее я покину вас, несмотря на все то удовольствие, какое мне доставляет ваше общество! Итак, глубоко ли здесь?..
- Скажите, а вы, честное слово, уйдете, если мы вам скажем? - вдруг с трогательной наивностью спросила чернявенькая после короткого раздумья.
- Даю честное слово...
- Тут не глубоко... Ну, что же вы не уходите?
- А какое здесь дно: илистое? Каменистое?
- Нет... так, песочек...
- Мерси, теперь скажите: там, правее, за кустом, глубоко ли?
- Там?.. Там мы не купались...
- Ну, так пройдите туда и расскажите мне!
Чернявенькая с покорностью отправилась к кусту и крикнула: "Тут очень глубоко!.. Ну, уходите же, наконец! Я совершенно продрогла!.."
- Ну, а у того берега? - невозмутимо продолжал я пытать свою нимфу. Пройдите, пожалуйста, туда. Я привык к добросовестности.
Чернявенькая выполнила и это мое требование, в то время как ее белокурая подруга, притаившись за кустом, с тревогой поглядывала на меня.
- У берега совсем мелко! - крикнула мне чернявенькая.
- Прошу вас встать во весь рост, иначе мне невозможно иметь представление о настоящей глубине...
- Но это возмутительно! Вы издеваетесь над нами! Если вы сейчас же не уйдете, вы подлый и бесчестный человек!!
- Прежде покажите вашу ножку, тогда уйду!
- Это подло!..
- Повторяю: покуда вы не дрыгнете ножкой над водой, я отсюда не уйду!
В глазах девушки, посиневшей и дрожавшей от холода, отразилась полная беспомощность. Упавшим голосом она сказала; "Это нечестно с вашей стороны..." - и, горько заплакав, повернулась ко мне спиною.
Тут я понял, что, пожалуй, переборщил и, не говоря больше ни слова, поспешил удалиться. Когда я рассказал об этой моей шутке товарищам, они посмеялись и кто-то заметил мне, что было бы еще остроумнее спрятать платья и белье купальщиц.
Вечером, ложась спать, я снова вспомнил о них и мне вдруг сделалось стыдно за свои дневные "тактические занятия". Девушки, которых я заставил дрожать от холода и испуга, не выходили у меня из головы. Вспомнилась мать, которая не раз говаривала нам с братом, что как хама, так и настоящего джентльмена узнают прежде всего по отношению к женщине. "Noblesse oblige"{*14} - был одним из принципов матери, и если по ее понятиям столбовой дворянин мог жениться только на родовитой дворянке, то это отнюдь не давало ему права не быть джентльменом в отношении всякой женщины, какого бы ни была она происхождения, ибо в женщине прежде всего надо уважать женскую честь, достоинство и целомудрие.
Как поступил бы я, если бы узнал, что какой-нибудь хам позволил себе так подшутить над моей родной сестрой или над невестой? Ведь по тогдашним понятиям я должен был бы такому пошляку либо набить физиономию, либо потребовать у него удовлетворения. "Дрыгните ножкой над водой..." - вот с чем приставал я к незнакомой барышне, за честь которой в ту минуту не мог заступиться ни один мужчина. Своими пошлостями я довел до слез девушек, которые, быть может, были сестрами русских офицеров, то есть людей, культивировавших в себе совсем особые и щепетильные понятия о чести вообще. Нехорошо делалось на душе от сознания, что схамил и что мне еще далеко до настоящего джентльмена. В те времена в России внешняя сторона нравов была совсем иная. Теперь все это стало гораздо проще. В наши дни полуголые бабы, жирные и тощие, пожилые и молоденькие, купаются и валяются на общих пляжах, отнюдь не стесняясь присутствием мужчин и никто не видит в этом ничего безнравственного. Но в те времена - понятия были иные, и женское целомудрие расценивалось совсем иначе.
История с "нимфами" на этом не кончилась.
Дня через три после описанного случая, собираясь в воскресный день в Петербург, я бродил по перрону Красносельского вокзала в ожидании поезда. Внезапно я услышал за собой сдержанный женский голос: "Смотри, Маруся, это тот самый!.." Я оглянулся и тотчас же узнал своих очаровательных наяд, которые пристально смотрели на меня. Встретившись с моим взглядом, барышни быстро и стыдливо отвернулись, смущенно потупив головки. Я подумал было, что благоразумнее всего мне их не замечать и делать вид, что я их не узнал. Однако двадцатилетний молодой человек далеко не всегда бывает благоразумен и логичен. Минуты через три я уже покупал в станционном киоске две коробки конфет и еще через минуту, подкараулив незнакомок в уединенном углу перрона, я подошел к ним, приложив пальцы к козырьку фуражки.
- Простите мою смелость, - обратился я к обеим сразу, - но не откажите принять эти конфеты от человека, который искренно кается за ту нескромную и неудачную шутку, какую он имел дерзость...
- Вы с ума сошли! - краснея перебила меня чернявенькая.
- Нет! Сегодня я в здравом уме, а сумасшедшим был три дня тому назад, когда впервые встретил вас.
По-видимому, в моем голосе было много искренности. Так или иначе, но барышни очень скоро перестали надувать губки и в конце концов соблаговолили принять от меня конфеты.
Я познакомился с ними, не называя своего настоящего имени. Чернявенькую звали Марусей, белокурую - Ликой. Они оказались гатчинскими гимназистками старшего класса и знали кое-кого из наших кирасирских офицеров.
После я иногда встречал обеих подруг либо в гатчинском поезде, либо на улице и всегда с ними шутил. Случилось так, что после второй или третьей встречи Маруся, вопреки ожиданиям, воспылала ко мне такою любовью, на какую бывает способна только неопытная гимназистка. Ей стала известна моя настоящая фамилия, и впоследствии, когда я уже был женатым офицером, Маруся откровенно объяснялась мне в пылкой своей любви, писала записки, узнавала какими-то путями, когда я бывал дежурным по полку, и тогда часто звонила мне по телефону прямо в офицерское собрание, требуя назначить ей свидание. Она была хорошенькая, немного полногрудая, всегда с пылающими щечками и обладала носиком с очаровательной горбинкой. Но... в те времена я был счастливым молодоженом и всякие Маруси не слишком интересовали меня. Преследования Маруси дошли до того, что я, наподобие Евгения Онегина, даже был однажды вынужден прочесть пылкой гимназистке нравоучение. Однако моя Маруся оказалась гораздо настойчивее и напористее нежели пушкинская Татьяна... Да простит ей это Аллах!
* * *
Жил я тогда, как уже упомянул, в Красном на общей даче с Осоргиным и С. Танеевым. С последним, несмотря на разницу в летах, мы очень сошлись. По-видимому, этому сближению способствовал присущий нам обоим веселый нрав. Все мне нравилось тогда в Танееве, которого мы в своей компании называли "Сиза" или "Таня". Нравилось мне в нем и то ухарское изящество, с каким он в холостой компании пускал пробку шампанского в потолок; нравилась и тактичная, и вместе с тем независимая манера настоящего барина, с которой он держал себя в присутствии начальства, нравилась и его врожденная аффектированность речи, плохо выговаривавшей букву "р"; наконец, его привлекательное лицо с добрыми и выразительными голубыми глазами и несколько меланхоличным носом, круто загнутым книзу. Было глупое время, когда я хотел подражать ему во всем.
Танеев был немного странным. Несомненно умный, всесторонне образованный, чрезвычайно способный, чуткий, я бы сказал - талантливый, далеко не чуждый понимания прекрасного, он вместе с тем был весьма легкомыслен, обожал кутежи и веселую компанию пустых товарищей, стоявших гораздо ниже его, и был большой охотник придумывать веселые шутки. Пил он крепко, но пил не потому, что был алкоголиком, а потому, что это было весело. Лишь иногда мне казалось, что он пьет, дабы заглушить какие-то горькие сокровенные мысли - возможно, - о несчастной любви. Несмотря на бросающуюся в глаза ветреность, чувствовалось, что у Сизы Танеева был какой-то свой, замкнутый и хороший мирок мыслей серьезных и сокровенных идеалов, и в этот мирок он никого не впускал. Когда нужно было, он бывал очень сдержан. Так, про свою сестру А. Вырубову он говорил с большою настороженностью, никогда не упоминая про ее исключительное положение во дворце и про ее дружбу с Распутиным, а между тем уже в то время в высшем обществе распространялись сплетни и ходили толки, очень компрометирующие как Вырубову, так и саму царицу Александру Феодоровну{29}. По всему было видно, что Танеев, по-родственному любивший свою сестру, очень страдал от этих слухов и сплетен. С Распутиным Танеев сношений не имел и никогда о нем не упоминал, ибо к поклонникам его, как я знаю, не принадлежал. Впрочем, несмотря на свою близкую дружбу с Танеевым, я почти совсем не затрагивал с ним этого деликатного вопроса, ибо в то время меня лично всегда несколько коробило, когда я слышал в обществе, что кто-нибудь дурно и нескромно отзывается о царице, честь которой, по тогдашним моим убеждениям, должен был оберегать каждый верноподданный, а тем более дворянин, так же как если бы дело шло о чести родной матери или сестры. В высшем обществе, однако, далеко и далеко не все рассуждали так. Наоборот, там часто любили смаковать сплетни про царскую семью - сплетни, которые в тот год чаще всего исходили от болтливой фрейлины С. И. Т., состоявшей одно время воспитательницей царских детей. С присущей старым девам способностью "делать из мухи слона", Т., что называется, выносила сор из дворца, передавая добрым друзьям своим сенсационные новости, которые ее стародевическое воображение и стародевическая целомудренность, весьма возможно, придавали известную тенденциозную окраску. Недалекая Т., видимо, совершенно не сознавала, какую она этим рыла яму трону и династии. Маленькие же люди, всегда любящие толковать и судачить о том, что делают большие, подхватывали рассказы фрейлины Т., прикрашивали их по-своему, добавляли собственными комментариями и предположениями, а отсюда - сплетня, пущенная царской гувернанткой, росла, как снежный ком, тихонько передаваясь на ушко из уст в уста и раскатываясь по всей необъятной России, зарождая в умах недоброе и отрицательное отношение к государыне. Любопытно то, что государыне было известно про длинный язык этой ее фрейлины, распространявшей про нее дурное. Тем не менее, Т., хоть и была по своей просьбе уволена от должности воспитательницы, однако почетного звания фрейлины их величества лишена не была{30}. Факт странный и, думается, объяснимый особой натурой императрицы, отнюдь не лишенной великодушия.
Итак, с Танеевым я дружил, и от этой нашей дружбы частенько приходилось страдать благочестивому кузену моему Мишанчику Осоргину, который вдруг оказался сожителем двух отъявленных кутил-мучеников, вечно придумывавших что-либо из ряду вон выходящее. Мы были странное трио. Впрочем, спешу поправиться - это было не трио, а вернее, квартет, так как кузен Мишанчик привез на дачу в Красное и верного своего дядьку Евменчика, который теперь очень ревностно обслуживал сразу троих господ... И доставалось же от нас бедному Евменчику! Сегодня мы устраивали с Танеевым жженку, и Евменчик с Мишанчиком тряслись при мысли, что мы спалим нашу деревянную дачу. Завтра устраивали пир с приглашенными вольноперами-кавалергардами. Послезавтра резались в карты до утра. После-после завтра, в погоне за медом, выпускали в Мишанчикину комнату тучу пчел из особого стеклянного улья, который Мишанчик, как любитель природы и сельского хозяйства, привез с собою в Красное и поставил у себя в комнате возле окна. После-после-после завтра - опять интимная жженка с паникой.
"Побойтесь вы Бога!" - только и слышали мы от кузена Мишанчика. Через неделю такого жития он и слуга Евменчик взмолились, категорически протестуя против практики жженок ввиду явной опасности пожара. "Дом спалите, господа! говорил Евменчик. - Долго ли до беды... Сгорим и не выберемся!" Эти протесты были причиной новой нашей забавы, а именно, производства пожарных тревог. Мы с Танеевым выработали особое пожарное расписание, по которому каждый из нас кроме Мишанчика, имел свои обязанности. Жили мы все четверо на втором этаже, куда вела узкая деревянная лестница. Пожарная тревога производилась из расчета, что эта лестница горит, а следовательно, и спасение по ней невозможно.
- Горим!.. Тревога!.. - не своим голосом вдруг принимался орать кто-нибудь из нас, и тут начиналось неслыханное безобразие. Танеев и я схватывали - кто ведро с водою; кто - кувшин или полный таз, и с этими спасательными средствами устремлялись прежде всего, конечно, в комнату Мишанчика.
"Мишан, ты объят пламенем!" - вопили мы паническим голосом и в мгновение окатывали как самого Мишанчика, так и его постель. Мишанчик свирепел, но мы уже начинали "спасать" его пожитки, быстро выкидывая их в окно.
"Лестница в огне!! - вопил Танеев, - спасайте Евменчика!!" - и, покончив с барином, мы турманом накидывались на его слугу и скручивали его, пытаясь спустить на связанных простынях с балкона на улицу, причем почтенный человек беспомощно барахтался и визжал поросенком. В довершение тревоги мы с Танеевым сами молниеносно спускались с балкона на простынях, благородно спасая себя лишь в последнюю очередь.
Помню, однажды под вечер, в самый разгар такой тревоги, как раз в тот жуткий момент, когда мы с Танеевым силком переваливали за перила балкона скрученного Евменчика, и наш слуга по сему случаю от страха визжал кабаном, под самым балконом вдруг раздался чей-то грозный окрик: "Что за безобразие?!!" Мы глянули вниз и ужасно растерялись, увидав прямо под нашей дачей долговязую фигуру великого князя Иоанна Константиновича, состоявшего тогда поручиком Лейб-гвардии конного полка. Привлеченный визгом Евменчика случайно проходивший по улице великий князь остановился и заглянул в палисадник нашей дачи, где и узрел весьма странную и совсем непонятную для него картину. "Что тут происходит?!.. Немедленно прекратить это безобразие!" - крикнул великий князь, недоуменно разглядывая нас, покуда мы с Танеевым застыли на балконе, почтительно вытянувшись в позе "смирно". Окаченный водой и скрученный простыней, верный слуга наш, невольно подражая своим господам, тоже принял почтительную позу, вытянувшись рядом с нами. С растрепавшимися бакенами и мокрый, как мышь, Евменчик имел в ту минуту такой смешной вид, что великий князь, как видно, с трудом удерживал улыбку. "Я покажу вам, вольноопределяющиеся, как безобразить!" - крикнул он нам угрожающе и быстро отвернувшись зашагал прочь, не оглядываясь. "Эх, господа, господа, ну что теперь будет с вами, ежели великий князь на вас пожалится?!" - сокрушался Евменчик, всегда трогательно заботившийся о нашем благополучии. "Что, попало?.. Попало вам?!.." - злорадствовал Мишанчик.
После таких "тревог" Мишанчик с Евменчиком, понятно, очень дулись на нас, но впрочем, не надолго, ибо на веселых людей долго сердиться нельзя, а наша веселость иной раз заражала и их самих. К тому же мы с Танеевым просили у них прощения, обещая исправиться, но, исправившись, тотчас же придумывали новые злодейства, так как всегда подчеркнутое благонравие Мишанчика и Евменчика невольно вызывало в нас чувство протеста и иной раз прямо-таки провоцировало нас на каверзы.
Однажды, в отсутствие Мишанчика и Евменчика мы инсценировали в квартире картину ограбления и кровавого убийства Мишанчика, для чего облекли подушки и диванный валик в халат Мишанчика, приставили к нему мишанчикины сапоги на колодках и запихнули это подобие трупа под кровать. Рядом устроили мы кровавую лужу из красного вина и выпачкали вином топор, придав ему самый злодейский вид. Для большего правдоподобия в комнате мы перевернули все вверх ногами, как будто там происходила отчаянная борьба. Набедокурив таким образом, мы удалились, оставив дачу незапертой. (Мишанчик и Евменчик - оба очень хозяйственные - всегда тряслись над тем, как бы не ограбили нашу дачу, зорко наблюдая, чтобы последняя всегда была бы на запоре).
Мы хотели мило подшутить над Евменчиком и по легкомыслию вовсе не ожидали, что эта шуточка едва ли не стоила Евменчику разрыва сердца и привела Мишанчика в неописуемое негодование.
Другой раз, помню, как-то в праздник, загуляв с Танеевым в Питере, мы вернулись с ним в Красное в сопровождении духового оркестра Лиговской пожарной команды, который мы случайно перехватили на Балтийском вокзале. Нанятые и напоенные нами трубачи услаждали в вагоне наш слух до самого Красного к большому удовольствию молодых дачниц, любимые вещи которых мы приказывали исполнять, и к великому возмущению степенных дачных старичков, которые пытались составить на нас протокол, для чего приводили даже жандарма. К нашему счастью, г. г. офицеры в третьем классе не ездили и весь этот тарарам сошел для нас благополучно, несмотря на то что на свою дачу мы с треском заявились под громоподобные и торжественные звуки фанфар, прославивших на все Красное Село нас, двоих загулявших гвардейских унтеров. До сих пор не понимаю, как это все сошло для нас благополучно! Впрочем, не перечислить всех штучек, какие мы с Танеевым выкомаривали в этот шальной период топографических съемок и тактических задач в Красном.
Это был один из наиболее веселых месяцев в моей жизни. Я сознавал, что вскоре женюсь и хотя ожидал дня свадьбы со страстным нетерпением, однако вполне учитывал, что моя свадьба должна будет круто изменить все мое поведение. Я знал, что простое уважение к жене никогда не позволило бы мне так глупо, но весело дурачиться и беситься, как я это спешил делать теперь, используя вовсю последние денечки своей холостяцкой жизни, вдали от строгой родни.
Глава VI
Последний экзамен прошел как-то незаметно. Наконец настал желанный день, когда я испустил глубокий вздох облегчения. Предмет моих мечтаний гвардейский балл - был у меня в кармане. Из нас, 4-х кирасирских вольноперов, такой балл посчастливилось получить только мне одному. Кузен Мишанчик сдал лишь на армейскую отметку. Спешнев и Искандер - провалились совсем.
Еще одна страничка из жизненной книги моей тихонечко повернулась: Басевич, зубрежка, Николаевка, экзаменационные страхи, съемки местности и веселые товарищи вольноперы - все это вдруг осталось позади, разом канув в вечность. Наступал новый этап.
Все мы тотчас же были откомандированы обратно в свои полки, где и должны были дожидаться производства в офицеры еще в течение двух месяцев с лишним, ибо, в силу традиции, гвардейских юнкеров обычно производил в офицеры сам государь лишь в день праздника Преображения - 6 августа.
Наш полк все еще находился в Гатчине, так как выступал в Красносельские лагеря одним из последних, лишь к бригадным и дивизионным учениям и маневрам В Гатчине было большое и хорошее военное поле и удобное стрельбище, а поэтому все полковые учения производились нашим полком в самой Гатчине, тогда как другие полки, за неимением при зимних квартирах подходящего места, уходили для этого в Красносельский лагерь.
Полковое начальство оказалось настолько милостивым, что после экзаменов предоставило нам с Мишанчиком недельный отпуск. Мишанчик поехал к своим родным под Калугу, а я, забрав с собою в Питере друга своего детства Валерьяна Ершова и кузена Н. Трубецкого, укатил в Витебскую губернию к сестре в замечательное имение ее мужа - Бешенковичи. К тому времени туда приехала моя мать, брат Коля и... моя невеста.
Живописно расположенное на берегах Западной Двины образцовое имение Бешенковичи было окружено дивными лесами, где мы совершали восхитительные прогулки. Очень интересен был стариннейший господский дом, какой-то странной и необычной архитектуры. Дом этот был замечателен тем, что во время войны со шведами в нем останавливался царь Петр I, а позже, в кампанию 1812-го года, там пребывал император Александр I и останавливался Наполеон I во время отступления русской армии. В одной из комнат хранилась кровать, на которой спал сам Наполеон, а в библиотеке - французская книга, на которой имелась какая-то надпись, сделанная рукою Наполеона и собственноручный его автограф. В доме стоял особый запах глубокой старины и веяло романтической поэзией{31}. Принят я был там родными с триумфом, как человек, уже без сомнения долженствующий выйти в люди. Во все концы были посланы многочисленным родственникам и добрым знакомым уведомления о моей помолвке с княжной Голицыной. Наконец-то, после почти трехлетнего тайного жениховства я был совершенно официально признан и во всеуслышание объявлен женихом княжны Голицыной, а посему счастью и гордости моей не было конца. Невесту мою приняли в Бешенковичах горячо и ласково, как родную, и за это короткое наше пребывание там моя мать, которой княжна Голицына вообще всегда нравилась, полюбила ее теперь, как собственную свою дочь, найдя мою избранницу родственной и столь же благородной, аристократичной по душевным качествам, как и по ее наружности настоящей княжной. Этот духовный аристократизм в людях мать очень ценила, придавая ему особое значение.
В те дни в Бешенковичах мы с невестой были замечательно счастливой парой, прекрасно сознавая, что теперь уже никакая сила не сможет воспрепятствовать тому, к чему мы с ней так давно стремились. Мы часто уединялись с ней либо в парке, возле усыпанного цветами круглого озерка, где плавали лебеди, либо в одной из комнат старинного дома, влюбленно предаваясь романтическим мечтам, толковали о нашем будущем.
Моя мать, находя меня слишком юным, первоначально настаивала, чтобы свадьба наша состоялась только когда мне исполнится 21 год, то есть в 1913-м году, однако мать моей невесты находила, что 13-й год - совсем неподходящий год для счастливого брака, ибо число "13" само по себе есть несчастливое число. По мнению моей будущей belle mere{*15}, очень хорошим и счастливым было число "12", а посему она настаивала, чтобы свадьба была не позже 1912-го года. Старое поколение было далеко не лишено суеверий и придавало значение всяким приметам. Этой слабости не была лишена и моя матушка, несмотря на всю свою образованность и просвещенность. Нам с невестой все эти толкования счастливых и несчастливых чисел были, конечно, только на руку. Так или иначе, теперь в Бешенковичах было окончательно решено, что мы поженимся осенью этого года, как только княгиня Голицына управится с приданым дочери, а моя матушка с устройством и обстановкой нашего будущего самостоятельного семейного дома в Гатчине, где у нас должно было быть красивенькое и уютное гнездышко. Несколько деньков, проведенных в Бешенковичах, пролетели быстро, как добрый сон, от которого и пробуждаться не хочется. С невестой теперь я расстался с тем, чтобы встретиться с ней в следующий раз уже гвардейским офицером, то есть настоящим и законным человеком, достойным быть ее супругом в глазах света и родных.
* * *
Вернувшись в Гатчину, мы с Мишанчиком оба попали в 3-й так называемый штандартный эскадрон. К нашему прибытию в полку уже закончился период стрельб и эскадронных учений на военном поле. Мы прибыли к лучшему периоду, а именно, к полковым кавалерийским учениям, когда весь полк бывал занят во дню не более полутора-двух часов по утрам.
Благодаря моему высокому росту и представительной наружности, я был назначен ассистентом к полковому штандарту и с этого дня всюду неотступно следовал за этой полковой святыней на учениях и на маневрах, вплоть до самого производства в корнеты.
Полковой штандарт представлял собой прямоугольное шелковое голубое полотнище с изображением лика Христа. Это полотнище было подвешено на двух позолоченных цепочках к высокому и тяжелому резному древку, увенчанному золотым двуглавым орлом - таким же, каким были увенчаны кирасирские каски, но несколько большего размера. Наш штандарт хранился в Гатчинском императорском дворце, и при нем круглые сутки стоял на часах кирасир. Штандарт считался полковой святыней - как бы душою полка - и ему оказывали совсем особые почести. Штандарту присягали молодые солдаты и офицеры, штандарту отдавали честь, становясь во фронт, даже генералы. Вблизи штандарта никто не смел произнести ругательства или скверного слова. Штатские люди и обыватели обязаны были снимать шапки при встрече со штандартом. В полковом строю штандарт встречали особой музыкой и при его появлении брали "на караул", обнажая холодное оружие и салютуя им. Без штандарта не мог существовать полк, и в случае потери штандарта в бою полк подлежал бы расформированию. Штандарт был символом полковой чести, полковой доблести, я чувствовал себя очень польщенным и даже гордым, что состою ассистентом при этой замечательной полковой реликвии. Под штандарт назначался особый, надежный и сильный конь. В нашем полку конь этот имел кличку Воротило и был гордостью 3-го эскадрона. Это была самая высокая лошадь во всем полку. Настоящий богатырский конь исполинских размеров, мощный и статный, как монумент, с замечательно красивой шеей и благородной головой, а его бурая окраска с бронзовыми подпалинами как бы усиливала сходство с монументом. Воротило был доброго и покойного нрава.
Знаменосец - штандартный унтер-офицер, был подстать штандартному коню. Это был красавец-детина из хохлов, атлетического телосложения с благоразумным усатым лицом. Как сейчас вижу его верхом на Воротиле со штандартом в руке скульптура, памятник герою, да и только!
Полковые учения производились следующим порядком. К назначенному часу вахмистры отдельно выстраивали в конном строю свои эскадроны возле конюшен в две шеренги, после чего к каждому эскадрону, гарцуя на прекрасных собственных лошадях, выхоленных до умопомрачения, подъезжали взводные офицеры, начиная с младшего, и поочередно здоровались с людьми, причем для встречи каждого старшего - младший командовал: "Смирно! Равнение направо!
(или налево) Гос-по-да офицеры!.." По этой команде солдаты разом дергали головами в указанную сторону, а младшие офицеры брали под козырек или салютовали холодным оружием, смотря по положению того, кого они приветствовали. Последним подъезжал эскадронный командир и, приняв рапорт от вахмистра, здоровался. Затем, осмотрев хозяйским глазом свой эскадрон, вел его на улицу, перед казармами, где все эскадроны и выстраивались в одну общую полковую линию развернутым фронтом по порядку своих номеров, имея на правом фланге хор трубачей. Тут, после тщательного выравнивания общей линии, к полку выезжали сначала младший, а потом старший помощники командира полка и тоже здоровались. Тем временем взвод третьего эскадрона с полковым адъютантом отряжался к императорскому дворцу для принятия штандарта. Возле дворца адъютант, штандартный унтер-офицер и я спешивались, причем адъютант и штандартный унтер-офицер, вызвав караульного начальника, уходили во дворец за штандартом, а я в это время держал в поводу как своего, так и штандартного коня Воротилу. При выносе штандарта из дворца взвод брал "на караул", к нам строевым шагом подходил адъютант, держа руку под козырек, а следом за ним штандартный унтер вольной походкой нес самый штандарт и передавал его мне, покуда он садился на коня. Принимая в руки штандарт, я всякий раз неизменно чувствовал невольный трепет от сознания, что держу в руках большую святыню, и меня брал ужас, что вдруг как-нибудь я эту самую святыню нечаянно уроню. Передав штандарт обратно знаменосцу, я сам садился на коня, и весь взвод со штандартом рысью выезжал к полку. При нашем приближении раздавалась команда: "Под штандарты!., палаши вон, пики в ру-ку!.. гос-по-да офицеры!" По этой команде полк воинственно лязгал оружием и в мгновение сотни длинных стальных лезвий, выхваченных из ножен, одинаково сверкали над головами людей, а оркестр в унисон играл совсем особую музыку - торжественную и старинную. По принятии штандарта, старший полковник поворачивал полк направо, и вытянувшись длинной колонной, громко цокая сотнями подков, под звуки веселого и бравурного марша, полк проходил мимо дворца и выезжал за линию Балтийской дороги на просторное, ровное и зеленое, как биллиардный стол, военное поле. Здесь полк снова выстраивался в две шеренги для встречи командира полка. Командиром полка в то время был только что назначен вместо анекдотического Бернова новый бравый свитский генерал Петр Иванович Арапов{32} - хороший и понимающий свое дело начальник, большой барин, отличный кавалерист, страстный любитель и тонкий знаток лошадей. На потрясающей огненной кобыле галопом подъезжал он к полку, встречавшему своего командира бряцанием обнажаемого оружия и звуками полкового марша, играть который полагалось при встречах больших начальников. Барским голосом здоровался Арапов поочередно с каждым эскадроном, бросая на ходу короткие начальнические замечания, вроде: "Корнет такой-то, возьмите свою лошадь в шенкеля!", или "Ротмистр такой-то, как у вас выровнен четвертый взвод?!" С каждым эскадроном генерал здоровался по-разному. Для каждого эскадрона у него были особые интонации голоса: "Здорово молодцы эскадрона Ея Величества!", бросал он грубым баритоном. "Здорово, второй!" - выкрикивал он особенно отрывисто и небрежно. "Здорово молодцы штандартного!" - чеканил он уже совсем иным макаром, как бы тенорком, и, наконец: "Здор-р-р-рово чет-вер-р-р-тый!" - рявкал он раскатисто и громоподобно, видимо, находя в этом разнообразии приветствий особый, чисто строевой шик и, несомненно, удовольствие. Генерал был мужчина плотный, круглолицый, имел изломанный короткий нос - результат давнишнего падения с коня. Он носил коротко подстриженные седеющие усики и имел привычку осанисто подбочениваться. Генерал был великолепен и, по-видимому, это сознавал.
Полковое учение начиналось с того, что полк, развернувшись фронтом в две длиннейшие шеренги, по несколько раз взад и вперед пересекал военное поле на разных аллюрах - от шага до резвого галопа включительно, соблюдая самое строгое равнение, как по ниточке, и не допуская малейшего излома линии, а этого добиться было особенно трудно, по причине большой длины всей линии фронта. Вся эта масса прекрасно обученных всадников управляла своими конями с таким совершенством, что к концу полковых учений командиры добивались той идеальной монолитной стройности, при которой ни единая конская морда, ни единый кончик конского хвоста не выпирал ни на йоту из общей единой линии. Достигалось это упорной муштрой, знанием и терпением командиров, любовью к чисто смотровым эффектам и крепкой дисциплиной.
Далее в программу учений входили различные перестроения и эволюции, иной раз довольно сложные, в выполнении которых требовалась большая четкость и механичность, которая достигалась благодаря тому, что каждый отдельный взвод и каждый эскадрон бывал к тому времени уже отменно вышколен за предшествовавший период взводных и эскадронных учений.
Выполнялись все эти перестроения по трубным сигналам, звучавшим очень воинственно. Далее следовало так называемое немое учение, когда весь полк молчаливо должен был проделать ту или иную эволюцию по одному лишь немому жесту генерала - жесту, повторяемому всеми эскадронными командирами сразу. Четкое выполнение немого учения вначале давалось очень трудно, и поэтому, хотя учение и было "немое", однако крику и ругани тут бывало больше всего. Все же, благодаря опыту и терпению командира, в конце концов все получалось очень гладко, стройно и хорошо, при соблюдении подлинной "гробовой тишины", что бывало очень эффектно.
В течение занятий, дабы дать передышку людям и коням, раза два подавалась команда: "С-сто-ой... Сле-за-ай... оправиться... закуривай!.." Тут солдаты перешучивались друг с другом, торопливо раскуривали цигарки, держа в поводу лошадей, а г. г. офицеры, передав своих коней вестовым, выходили вперед и окружали полкового командира, который в эти минуты любил почесать языком, собщая последние новости и анекдоты из придворной жизни, ибо, будучи с молодых лет флигель-адъютантом, он был близок ко двору. Любил он также в эти минуты посплетничать про другие гвардейские полки, благодушно подтрунивая над своими коллегами-генералами и даже над своим начальством. Речь свою генерал кое-где услащивал великолепной и кстати сказанной французской фразой. Иногда, приняв строгий вид и нервно попыхивая папироской, заключенной в янтарный с золотым мундштучок, генерал обращался к офицерам: "Господа, подойдите ближе... еще ближе... совсем близко..." В таких случаях все уже знали, что господам офицерам предстоит разнос, который ни в коем случае не должен дойти до ушей нижних чинов. Такие разносы генерал любил начинать с тонких намеков, долго говорил иносказательно и длинными притчами, не называя имен. После длинного и туманного предисловия он вдруг коротко выпаливал, слегка повысив голос: "Да-с!.. а корнету такому-то и поручику такому-то должно быть стыдно!.. Да-с!.." Тут генерал отвешивал короткий поклон, что служило знаком, что разнос окончен. Тогда все офицеры брали под козырек и щелкали шпорами в знак того, что они хорошо уразумели притчу генерала, а тот как ни в чем не бывало уже подавал зычную команду: "По коня-ям... Са-дись!" - и ученье продолжалось.
Во время полковых учений у нас частенько происходили скандалы с летчиками. Недавно основанная Гатчинская авиационная школа военных летчиков помещалась у самого нашего военного поля, которое одновременно служило и аэродромом. В то время эта была, если не ошибаюсь, единственная авиационная школа на всю Россию - школа, давшая в мировую войну многих храбрых и самоотверженных летчиков, приобретших громкую славу своими боевыми подвигами{33}.
Бывало так, что в самый разгар наших кавалерийских эволюции - внезапно с оглушительным треском на поле появлялся тихоходный, неуклюжий и неповоротливый "фарман", похожий с виду на какую-то большую и нелепую этажерку. Причем сия трескучая этажерка медленно и тяжело пролетала над нашими головами на высоте всего лишь нескольких аршин, едва не касаясь своими колесами острых кончиков наших пик. Эта безобразная штучка страшно пугала лошадей, заглушая команду начальства и сигналы трубачей, внося своим появлением ужасный кавардак в наше учение. Несмотря на то, что военное поле было большое, гатчинские летчики почему-то норовили летать именно там, где в данную минуту находился наш полк, имея явное намерение похулиганить. Военная авиация была тогда еще в зачаточном состоянии. Ею интересовались скорее как новым и любопытным видом рискованного спорта, нежели как военным фактором, мощь которого была сомнительна для многих старых начальников-генералов, относившихся к самолетам иронически. Тогдашние гатчинские летчики - эти пионеры летного дела в России - состояли из офицерской молодежи приключенческого типа, которой надоело тянуть лямку в своих полках. Летчики, увлекаясь своим новым делом, однако, имели хотя и лихие, но тем не менее хулиганские замашки. В новой школе дисциплина по первоначалу была слабая, и молодым летчикам, видимо, доставляло удовольствие портить ученье, а заодно и настроение таким земным существам, какими были мы кавалеристы.
При появлении "фармана" наш генерал, как правило, входил в раж, грозил пилоту кулаком, а полковой адъютант, вонзив шпоры в коня, карьером летел к начальнику летной школы с требованием прекратить безобразие, что начальник школы далеко не всегда мог выполнить, ибо не знал способа, каким бы он мог вернуть обратно первобытный самолет, управляемый шутником-летчиком. Наш генерал - фанатик кавалерийских учений - требовал наказания летчика за хулиганство, но начальник летчиков - не меньший фанатик своего дела - напирая на неведомую нам технику, всегда находил оправдания для своих офицеров. Не смея входить в пререкания с таким влиятельным генералом, каким был Арапов, летное начальство предлагало на будущее время согласовать расписание занятий на военном поле, однако никакие согласования не помогали, и бесшабашные летчики по-прежнему портили кровь бравого нашего генерала и ревностных командиров эскадронов. В этом как бы сказывался своего рода антагонизм между старым, отживающим видом оружия (каковым была наша тяжелая кавалерия) и новой нарождающейся военной техникой, громко заявлявшей свои права.
Полковое учение заканчивалось двумя "безумными" кавалерийскими атаками в сомкнутом и разомкнутом строю под раскатистое "ура" всего полка, когда по команде "марш-марш!!" - мы ураганом летели с пиками наперевес и обнаженными шашками на так называемого "обозначенного противника", состоявшего из нескольких конных кирасир, державших в руках различные пестрые флажки. Флажки эти условно обозначали то или иное воинское соединение мнимого неприятеля. После атаки генерал обычно громогласно благодарил полк за "лихое ученье". Полк снова выстраивался в походный порядок и величавым шагом возвращался домой. Раздавалась команда: "Песельники, вперед!" - и в голову каждого эскадрона выезжали лихие песельники со своими голосистыми запевалами. Они услаждали нас веселыми или заунывными солдатскими песнями, в которых либо восхвалялась какая-то красавица Дуня, либо доблесть российского оружия, либо, наконец, "Буль-буль-буль-бутылочка, любимая моя!" Песен этих было бесконечное множество, и некоторые из них были очень старинными. В песельники большей частью добровольно шли хохлы - большие любители всякой музыки. Хотя люди и пели по приказанию, но приказание это выполняли всегда с большой охотой.
Период этих учений заканчивался смотром полкового учения. Этот смотр служил показателем целого года учебы и муштры как каждого индивидуального всадника, так и каждого отдельного взвода, эскадрона - словом - всего полка в целом, становившегося к моменту смотра стройным и монолитным телом. На этом смотре как бы подытоживалась вся работа, проведенная младшими и старшими командирами как над людским, так и над конским составом полка - трудная и кропотливая работа многих и многих месяцев. Смотр, по положению, должен был производить начальник 1-й гвардейской кавалерийской дивизии генерал-лейтенант Казнаков. Генерал этот имел репутацию строгого, требовательного и придирчивого начальника, которому угодить не легко. Однако наш полковой командир находил прекрасный способ добиться от Казнакова наилучших похвал за смотр. Способ этот заключался в том, что Арапов, как свитский генерал, приглашал на смотр полкового учения ни более ни менее, как самого августейшего шефа полка - то есть старую императрицу Марию Федоровну, которая в начале лета любила живать в Гатчинском дворце. Царица Мария Федоровна очень благоволила к генералу Арапову, который с юных лет всю свою жизнь служил в подшефных Марии Федоровны полках. (Смолоду Арапов был кавалергардом, затем командовал 2-м Драгунским Псковским Ея Величества полком, и, наконец, Синими кирасирами). Благодаря ловкости и находчивости Арапова выходило почти всегда так, что полковой смотр принимала императрица, и таким образом придирчивый начальник дивизии Казнаков присутствовал на смотру только в качестве второстепенного лица. Императрица, ясное дело, не много понимала в строевом учении полка, и потому она могла только восторгаться своими молодцами кирасирами, производившими такие потрясающие и лихие атаки на ее шатер, что кругом дрожала земля. Всегда любезная, старая императрица, присутствуя на наших смотрах, после каждой эволюции или перестроения полка приказывала стоящему рядом с ней штаб-трубачу играть нам благодарственный сигнал, выражая этим свой восторг и похвалы. Ясное дело, что присутствовавший здесь же начальник дивизии (человек достаточно искушенный в тонкостях придворной жизни) не находил ничего лучшего, как вторить нашей августейшей покровительнице, уверяя ее, что он за всю свою службу еще не видывал такого молодецкого смотра. Не мог же он ругать то, что хвалила сама царица! Впрочем, хочу оговориться: смотры мы действительно сдавали добросовестно - без сучка, без задоринки. Накануне смотра, конечно, производилась репетиция. Нас выстраивали на поле, после чего мимо нас проезжала пустая коляска царицы, запряженная парой ее любимых вороных жеребцов, управляемых представительным старым кучером с окладистой седеющей бородой. Эту пустую коляску встречали полковым маршем, а скакавший рядом с ней командир здоровался с нами. Делалось это для того, чтобы лишний раз проверить, не будут ли царские лошади шарахаться от музыки и кирасирских приветствий, добросовестно выкрикиваемых одновременно сотнями глоток.
В день смотра на военном поле устанавливался для царицы красивый белый полотняный шатер, устланный коврами. В нем устанавливались мягкие кресла. Царица в коляске выезжала к полку в сопровождении какой-либо пожилой придворной дамы. Командир полка встречал ее рапортом, после чего благородные вороные жеребцы дивной красоты тихой рысью везли царицу вдоль фронта полка.
Маленькая, худенькая, с тонкой перетянутой талией, вся в черном и в старомодной черной шляпке - старая царица сидела в коляске прямо, как девушка. С совсем особой приветливостью, улыбаясь, глядела она на людей, недвижно застывших на своих огромных конях и, проезжая мимо каждого командира эскадрона, грациозно кивала головой, легким неподражаемым движением, видимо, выработанным долголетней привычкой представительствовать. (Думается: лучшая актриса, и та не сумела бы вложить в этот маленький жест столько величественной грации и приветливости). По этому кивку головы эскадроны, впившиеся сотнями глаз в эту старенькую улыбающуюся даму, дружно и стройно выкрикивали: "Здравия желаем, Ваше императорское величество!" Объехав фронт, царица отъезжала к своему шатру, где гайдуки помогали ей выйти из коляски. Тут по сигналу к шатру карьером выезжал от полка офицер-ординарец и штаб-трубач, после чего начинался смотр полкового учения, беспрестанно прерываемый похвалой царицы, передаваемой нам трубным сигналом. На каждый такой сигнал полк рявкал в ответ: "Рады стараться, Ваше Императорское Величество!" На смотру все мы очень волновались и из кожи лезли вон, чтобы не ударить лицом в грязь, старались сдать смотр блестяще. Каждый взводный офицер, да и простой солдат, чувствовал, что если он подкачает, то осрамит весь полк и навлечет на себя великую бурю негодования. Одно уже присутствие важного начальства всегда подхлестывает подчиненных людей, и поэтому люди, будучи в эти минуты крайне напряженными, на самом деле сдавали смотр обычно так хорошо, что и сам придирчивый начальник дивизии должен был бы удовлетвориться таким смотром, даже если бы на нем и не присутствовала царица.
Апофеозом смотра была бешеная атака в сомкнутом строю, производимая прямо на шатер императрицы под громовое "ура". Зрелище, захватывающее своим стремительным порывом. В десяти шагах от шатра центр атакующей линии с полного хода круто останавливался, вызывая самые восторженные похвалы императрицы, которая, еще раз всех поблагодарив, отпускала полк...
У переезда через линию полк нагонял довольный и сияющий командир полка, кричавший своим кирасирам: "Спасибо, молодцы, за отличный смотр! Всем по бутылке пива от меня!" (Богатый человек был командир!)
"Покорнейше благодарим ваше превосходительство!" - рявкал полк в ответ. Тут обычно все офицеры начинали проявлять щедрость. Эскадронные командиры жаловали от себя своим эскадронам, а взводные офицеры - своим взводам тоже по бутылке пива и, вернувшись домой, весь полк на радостях предавался веселому пиршеству. Офицеры пировали в офицерском собрании, а солдаты в своих казармах, куда им, кроме пива, присылали еще и водку целыми ведрами. Развеселые песни с присвистом неслись из раскрытых окон казарм, где гулянка затягивалась до самого вечера. Командир полка, его помощники и эскадронные командиры обычно сразу же после смотра приглашались во дворец на завтрак к царице. Завтрак этот продолжался недолго, так что эти офицеры имели еще время вернуться в собрание, чтобы застать там самый разгар веселого пира, где шампанское лилось рекой и произносились бесчисленные здравицы, посвящаемые и шефу, и полку, и родному штандарту. Присутствующего на пиршестве начальника дивизии, как правило, напаивали пьяным, несмотря на его просьбы и протесты. В таких случаях кирасиры умели быть "гостеприимными" хозяевами.
Глава VII
К моменту моего возвращения в полк командовавший третьим эскадроном кроткий и симпатичный штаб-ротмистр Искандер ушел в отставку. Вместо него эскадрон принял штаб-ротмистр Эдвин Иоганнович Линдгрен - финн по национальности. Хотя про Линдгрена никто не мог сказать ничего дурного или вообще предосудительного, однако этот рослый и рыжеватый человек со сверкающим пенсне на носу любовью не пользовался ни среди офицеров, ни среди солдат. Всегда вежливый и подчеркнуто корректный - он был мелочен. Это был службист в полном смысле слова, педант до мозга костей и к тому же сухарь, не понимавший ни доброй шутки, ни крепкого русского юмора. Он был обидчив, по-русски говорил плохо, с сильным иностранным акцентом. Совал он свое пенсне решительно во все мелочи эскадронной жизни и ужасно надоедал подчиненным, которых умел донять своим ровным зудливым пилением, никогда не повышая голоса и не ругаясь. Практичный, хозяйственный, всегда добросовестный и трезвый, он был, в сущности, очень неплохим эскадронным командиром и весьма полезным полковым тружеником. Был он большим патриотом Финляндии, выписывал финляндскую газету, которую всегда и всюду с собой таскал. Любил говорить о прошлом Финляндии и ставить всем в пример своих соотечественников и их обычаи. Товарищи Линдгрена чувствовали, что, хотя он это и не высказывает, однако русских не любит и даже презирает. Удивительно, почему этот странный человек избрал для своей службы именно Российскую гвардию, к которой, казалось бы, должен был относиться скорее враждебно, ведь служба в гвардии не давала ему никаких материальных благ, а между тем, служил он не только вполне честно, но и в высшей степени добросовестно, и как-то незаметно и скромно погиб во главе своего эскадрона еще в начале империалистической войны от меткой германской пули.
В третьем эскадроне старшим взводным офицером был поручик князь Урусов-старший, который в полную противоположность Линдгрену был типичным русским барином и русским патриотом из тех, что обожали "царя-батюшку". Это был хороший товарищ, большой весельчак и балагур, любивший добрую компанию и добрую выпивку. Живая и яркая полковая личность, Урусов-старший, помимо службы и кутежей с бабами и без баб, имел самые разносторонние интересы, вплоть до теософии включительно, ибо читал и Блаватскую, и Литбиттера{34} и всякие спиритические книжки... Выходец из пажей, Урусов мечтал о военно-придворной карьере, звании флигель-адъютанта и тем не менее никогда не гнушался побалагурить и покалякать с солдатами. Офицер он был довольно ленивый и не слишком радивый и, может быть, отчасти из-за этого солдаты относились к Урусову хорошо, встречая его всегда сдержанной приветливой улыбкой. Солдаты видели в нем начальника живого, веселого и ненапирающего на службу - то есть человека прежде всего.
Особенной популярностью пользовался Урусов старший среди Гатчинских извозчиков, которым он. любил давать на водку и с которыми пускался в длинные беседы во время поездок. Бывало, идешь по улице и издали видишь извозчика, который, распустив вожжи, едет, обернувшись всем корпусом к седоку, и красноречиво жестикулирует, сидя на козлах чуть не задом наперед. Ну, так уж и знаешь, это едет поручик князь Урусов-старший и спорит со своим извозчиком на какую-нибудь самую невозможную тему.
Когда я был произведен в офицеры, то вскоре же очень подружился с этим всегда веселым и трескучим поручиком. Наружность у него была довольно представительная. Несколько полный, молодой, но уже сильно лысеющий, длинноносый и черноусый, всегда пахнущий шампанским, Урусов слегка заикался, и этот порок речи очень к нему шел, как бы подчеркивая то остроумие, какое он часто проявлял в пререканиях со своим собеседником.
Помню такой случай, весьма типичный для Урусова.
В Гатчине умер какой-то уважаемый отставной генерал. Хоронили его, как и полагалось, с парадом, на который были назначены воинские команды от всех частей Гатчинского гарнизона. От нашего полка был назначен сборный эскадрон под командой Урусова-старшего. Эскадрон вышел в конном строю в полном параде, то есть при колетах, касках и кирасах, но без винтовок, которых вообще при кирасах носить не полагалось. Командовать общим парадом был назначен артиллерийский полковник из квартировавшей в Гатчине артиллерийской бригады.
Когда наш эскадрон выстроился уже возле кладбища, артиллерийский полковник подъехал к Урусову и потребовал, чтобы наши произвели над могилой генерала ружейный салют, совершенно упустив из вида, что кирасиры по положению на парадах бывают без винтовок. В ответ на требование полковника блистающий золотом Урусов, приложив свою руку, затянутую в ослепительную белую крагу, к каске, самым вежливым тоном проговорил, слегка заикаясь, но так, чтобы весь эскадрон мог услышать: "Очень жаль, господин полковник, что вы нас раньше не предупредили: я бы приказал накормить своих людей горохом". "При чем тут горох?" - спросил недоумевающий начальник парада. "Но господин полковник, люди, сытно накормленные горохом, могут для салюта обойтись и без винтовок". "Как ваша фамилия?" - резко спросил полковник, нахмурив брови. "Поручик князь Уру-уру-урусов ста-а-аарший, господин полковник!" - отвечал наш герой, отдавая честь с самым любезным видом. Наступила пауза, во время которой весь эскадрон изо всех сил надувался, чтобы не прыснуть со смеху, а тем временем полковник, понявший, наконец, свою ошибку, сконфуженно пожав плечами, быстро отъехал прочь. На следующий день злополучный полковник прислал нашему командиру полка отношение, в котором требовал подвергнуть поручика кн. Урусова дисциплинарному взысканию за дерзкий ответ в строю. Наш генерал вызвал к себе для объяснений Урусова, но узнав от него во всех подробностях, в чем заключалась его вина, много смеялся и не только не наказал, но наоборот объявил в приказе благодарность поручику князю Урусову за находчивость.
Хорошие полковые командиры всегда выгораживали своих офицеров перед чужим начальством. К тому же между артиллерией и кавалерией существовал определенный антагонизм.
Примерно такого же типа, как и поручик князь Петр Урусов-старший, был и его двоюродный брат - корнет князь Петр Урусов-младший, бывший в третьем эскадроне младшим взводным командиром. Это был пустой и ветреный, но веселый малый - всегда в долгу, как в шелку, и добившийся в конце концов за свои проделки изгнания из полка. Оба Урусова неподражаемо передразнивали все ухватки и замашки Линдгрена, чем доставляли большое удовольствие всему эскадрону. Урусов-младший был убит в 14-м году на германском фронте.
Корнеты Баторский, Розенберг и фон-Баумгартен-второй, убитый в 16-м году осколком снаряда, дополняли список взводных офицеров 3-го эскадрона, которые все держались дружно, как бы объединяясь общей антипатией к эскадронному командиру.
* * *
Важную роль в жизни всякого эскадрона играл вахмистр. Должность вахмистра была высшей должностью и высшим званием, какое было только доступно для карьеры нижнего чина. В эскадроне вахмистр был старшим нижним чином и назначался по особому выбору начальства из сверхсрочнослужащих. Вахмистр являлся прямым начальником всех нижних чинов эскадрона и ближайшим помощником эскадронного командира по хозяйству (в пехоте и артиллерии званию вахмистра соответствовал фельдфебель).
В нашем третьем эскадроне вахмистром был некто Баздырев - личность замечательная во многих отношениях, и прежде всего тем, что это был старейший вахмистр во всем полку, оттрубивший на сверхсрочной службе 20 с лишним годков. "Шкура" он был отъявленная. Службу знал так тонко, что с ним считался даже командир полка, а обязанности свои выполнял с таким рвением и усердием, что заслужил много серебряных и золотых медалей от начальства, а заодно и ненависть подчиненных солдат.
Богатырского телосложения, скуластый, с прищуренными заплывшими глазками, он говорил вкрадчивым, немного гнусавым голосом, который не любил повышать даже в тех случаях, когда распекал солдат.
Казармы, конюшня, эскадронный цехгауз - все это было у него в идеальном порядке, и, надо отдать ему справедливость, дело свое он не только знал, он был фанатиком своего дела, и к тому же рьяным патриотом именно своего третьего эскадрона. (О прочих эскадронах полка Баздырев говорил всегда с некоторым раздражением в голосе и полупрезрительно). С таким вахмистром, как Баздырев, командир эскадрона всегда мог быть спокоен, ибо Баздырев радел о славе и благополучии эскадрона ничуть не менее, если не более самого командира и к тому же обладал способностью предвидеть всякую случайность, а каждого солдата знал как свои пять пальцев, словно видел его насквозь.
В особенности незаменим был Баздырев в отношении смотров и парадов, которые обожал. Приготовить людей и коней к параду и вывести их чистыми игрушечками на смотр - вот это было коньком Баздырева! Надо было видеть, с каким сладострастием оглядывал он в казармах одевшихся в полный парад и выстроившихся людей, перед тем, как выпустить их на парад. Всякого солдата, прищурившись, оглядывал он в отдельности и спереди, и сзади, и с боку, с головы до пят, проверяя на нем каждую пуговку, каждый крючочек и меняясь в лице при виде какого-нибудь еле заметного пятнышка на мундире или шинели, или недостаточно ладно пригнанной амуниции. Баздырев "мордобойством" никогда не занимался, ибо в гвардии в мое время это было строго воспрещено. Однако вместо мордобойства у Баздырева были иные методы воздействия на не слишком аккуратных солдат: "Нестеренко!.. что-й-то каска на тебе пригнана неладно", - говорил он тихим и ласковым голосом "Дай-ка-сь я пригоню получше", - с этими словами Баздырев, не снимая каски с головы солдата, начинал постукивать по ней увесистым своим кулаком, то сверху, то сбоку, то сзади. От этих перестукиваний у солдата глаза на лоб вылезали от боли - зато через минуту тяжелая пятифунтовая медная каска сидела уже на солдатской голове безукоризненно. "Чего ты моргаешь, Нестеренко?.. Ну, чего ты моргаешь, дурачок?! Кажется, уж не молодой солдат. Пора бы тебе знать, как каску пригонять надо. Вот вернешься с парада, постоишь у меня тут два часа при полной боевой! А ты, Сикачев, почему побрит плохо? Ну скажи, дурачок, разве с такой рожей на парад выходят? Это что? Это что? Погля-ди-ка-сь! - гнусавил Баздырев нудным голосом, собственноручно выдергивая ногтями волоски из подбородка солдата, - срам-то какой! Живехонько слетай, Сикачев, к палекмахеру: солдат на параде должен быть орлом! Цыганов, чтой-то у тебя крючок на воротнике топырится. Некрасиво это для парада. Неужели ты этого, дурачок, до сих пор не соображаешь? Ну, так постой после парада при полной боевой часика два, авось разовьешь себе правильное соображение по существу вещей! В штандартном эскадроне служишь - не где-нибудь!"
Перед особо торжественными парадами Баздырев и его друг и приспешник взводный Курятенко лично румянили щеки солдатам, пользуясь для этого соком красной свеклы. Кое-кому из солдат фабрили краской усы, дабы придать всем людям одинаковый вид красавцев. Делалось все это без шуток, серьезно и даже благоговейно.
Перед тем как вывести людей на парад, Баздырев донимал их репетициями, по тридцать раз здороваясь с эскадроном и заставляя отвечать себе как генералу или как великому князю, иной раз даже, как государю.
Тут, в казармах при закрытых окнах и дверях вахмистр добивался от эскадрона такого четкого и стройного ответа на приветствие, что он походил на какой-то оперный речитатив.
"Грубо, грубо, дурачки, отвечаете! Командир корпуса любит тонкие голоса. Отвечайте тонким голосом. Ну, здорово ребята! - и все-таки грубо. А ну, еще тоньше. Здорово орлы! - Эх, дурачки, перед ответом духу, духу больше набирай грудями. Рычать не надо для командира корпуса, рычание любит начальник дивизии да командир бригады. Надо понятие иметь, кому отвечаете, ужели глотки для корпусного сузить не можете! А ну, еще раз: здорово братцы!" - и так далее, до тех пор, покуда не получался такой в точности ответ на приветствие, какой нравился тому или иному важному гвардейскому начальству. А вкусы всех этих больших начальников Баздырев хорошо изучил за свою долгую службу.
К молодым офицерам Баздырев относился подчеркнуто почтительно, но отнюдь не теряя своего достоинства и всегда с известным оттенком своего превосходства, как бы давая понять, что хоть у молодых корнетов и красуются на плечах золотые погоны, а все же службу они не могут знать так тонко, как это знает он - вахмистр Баздырев, отдавший половину своей жизни службе третьего эскадрона. Сколько за эти годы переменилось на его глазах всяких молодых офицеров, эскадронных командиров и высших начальников гвардии! А много ли из этих блестящих молодых корнетов дослуживается хотя бы до чина штаб-ротмистра?! Глядишь, фасонистый корнетик послужит в полку годика три-четыре, а там смотришь - надоела ему полковая жизнь, или же прокутился, в долг залез, да подал рапорт о запасе и - вон из полка! Вахмистр Баздырев всех в кирасирском полку пережил, а выговора еще за службу ни разу не имел - за то ему от начальства почет и уважение.
За свою службу Баздырев накопил кое-какие средства. По положению он жил неотлучно в казармах, в отдельной комнате, однако было известно, что у Баздырева в Гатчине свой домик, который он отдавал внаймы. Такого материального благополучия Баздырев добился, по-видимому, честным путем, ибо никто не мог сказать, чтобы он был казнокрадом, какими бывали иные гвардейские вахмистры, имевшие возможность проделывать великие махинации и комбинации с фуражем, в случае, если их командиры были инертны к службе. Баздырев этого никогда себе не позволил бы, хотя бы уже потому, что если на полковой выводке лошадей кони его эскадрона оказались бы хоть немного хуже в теле, нежели кони прочих эскадронов, - он такого позора не перенес бы.
Вообще, надо сказать, вахмистры в гвардии были обеспечены неплохо. Как и в лучших иностранных армиях, так и в старой русской армии начальство стремилось удерживать на службе после выслуженного срока хороших унтер-офицеров, то есть тех солдат, которые были наиболее квалифицированны, способны и лучше обучены. Дабы привлечь этих людей добровольно на сверхсрочную службу, им представлялись всяческие льготы, как например, разрешение вступить в брак и иметь возле себя семью. Им улучшались жилищные условия. Им значительно увеличивали жалование, причем это увеличение оклада все росло по мере истечения известных сроков. Так же улучшались сверхсрочным пища и одежда, украшавшаяся особыми знаками отличия, как то узкими и широкими серебряными и золотыми "шевронами", нашивавшимися углом на рукава мундиров. Гарантировалось сверхсрочным и известное обеспечение их будущности, заключавшееся в так называемых "Рекомендательных свидетельствах" для поступления на иную казенную службу (чаще всего полицейскую), а также в выдаче пенсий и единовременных пособий, доходивших до тысячи рублей для лиц, прослуживших долгое время на сверхсрочной военной службе. Кроме того, у гвардейских эскадронных командиров было в обычае дарить своим вахмистрам денежные и иные подарки на Новый год, на Пасху, или в день Ангела. Делали это нередко и младшие офицеры, не говоря уже о вольноперах, которые, дабы получить доброго коня или освобождение от нарядов, тоже давали вахмистрам щедрые "на-чаи" и подарочки. Благодаря таким обычаям, вахмистрам в гвардии жилось неплохо.
Вахмистр Баздырев любил проявить заботу и о нравственности нижних чинов третьего эскадрона. Хорошо помню его речь, которую он из года в год повторял в казармах накануне выступления полка из Гатчины в Красносельские лагеря. Речь эта произносилась им перед фронтом после вечерней переклички. Говорил он очень торжественно, причем его речь кое-где добавлялась короткими комментариями и справками стоявшего рядом с Баздыревым взводного Курятенко, большого вахмистрова друга - тоже "шкуры" из сверхсрочных. "Ребята, - вкрадчиво гнусавил вахмистр, щурясь глазками, - завтра выступаем в Красное Село. Массыя в Красном соблазну..., но и начальства в Красном тоже страшная массыя. В Гатчине - одно. В Красном - совсем другое. Возьмем к примеру женскую часть. Ежели ты в Гатчине женщину какую обнимешь или поцелуешь вечерком - здесь это тебе с рук сойдет. В Красном - другое. В Красном не женщины - а стервы: обнимаешь ли ты в Красном женщину, поцелуешь ли - она докажет на тебя, будто ты грех над ней совершил. Женщина разговаривать с тобой в Красном не станет. Куда она пойдет? - прямо к командиру полка пойдет, стерва! Ну, а ты, куда ты, дурачок, пойдешь тогда? (пауза) - В дисциплинарный батальон - вот куда ты пойдешь за свою ласку. Теперь насчет водки. В Красном шинков массыя, ребята, и опять скажу: в Гатчине - одно, в Красном - совсем другое. Коли случится тебе в Гатчине в праздничек выпить косушку вина, и дыхнешь ты ненароком вином на своего офицера - он за это губить тебя не будет, разве что наряд не в очередь даст или упрячет на сутки в полковую гаупвахту. В Красном - другое. Попробуй, дыхни там вином на чужого офицера! Он разговаривать с тобой не будет. Куда он пойдет? - прямо к командиру полка пойдет чужой офицер! Ну, а ты, куда ты, дурачок, пойдешь тогда?-(Пауза)-В дисциплинарный батальон - вот куда ты пойдешь за стаканчик вина".
Тут в речь вахмистра вмешивался бас взводного Курятенко: "Василий Григорьевич, про малину не забудьте сообщить".
"В Красном огородов и садов массыя, - продолжал гнусавить Баздырев, случится тебе днем или вечером мимо огорода идти - ты лучше за версту такой огород обойди: ты одну ягодку-малинку там, может быть, сорвал - на тебя хозяйка докажет, будто ты весь огород обобрал, потому как в Красном не женщина, а стерва. Она с тобой разговаривать не будет. Куда она пойдет? прямо к командиру полка пойдет хозяйка огорода. Ну, а ты, куда ты, дурачок, пойдешь тогда?.. - (Пауза) - В дисциплинарный батальон - вот куда ты пойдешь из-за одной ягодки-малины! Да, ребята, и что бы я насчет этой малинки, или насчет вина в Красном - и слова бы не слыхал. Но пуще всего, ребята женщинов, женщинов опасайтесь в лагерях! Поняли?" - "Так точно, господин вахмистр, поняли", - тихо и нестройно отвечало несколько голосов. "Расходитесь!" - тенором командовал вахмистр. "Расходитесь!" - как эхо повторял бас взводного Курятенко, и громко звякая шпорами расходились умудренные вахмистром кирасиры.
Собственно говоря, в Красном Селе, где полк размещался по квартирам, на частных дворах, солдатам жилось гораздо вольнее и веселее, нежели в Гатчине. Благодаря этому дисциплина в Красном ослабевала. В предвиденье этого хитрый вахмистр нарочно авансом запугивал молодых солдат, рисуя им про Красное Село всякие ужасы, которых там на самом деле не было. Ведь это именно Баздыреву чаще всего приходилось там выслушивать от хозяек жалобы на солдат и улаживать небольшие солдатские скандалы с хозяйками из-за ягодки-малинки и приставаний к бабам и девкам. До полкового командира такие мелочи, конечно, не доходили разве в исключительных случаях. Баздырев был большим дипломатом и самолично прекрасно улаживал подобные конфликты. Хороший вахмистр обходился тут даже без помощи эскадронного командира, которого никогда не считал нужным беспокоить из-за пустяков.
Солдаты, хотя и ненавидели Баздырева, однако он был несомненным авторитетом в их глазах, и его так боялись, что ни на одном опросе претензий никто никогда не жаловался на то, что вахмистр выщипывает своими ногтями волоски из плохо выбритых солдатских подбородков, или же на то, что он кулаком пригоняет каску на солдатской голове. Между тем, здорово могло бы влететь вахмистру от хорошего начальника за такие дела! Что вахмистр должен быть шкурой и сволочью - это вообще принималось солдатами как своего рода аксиома, а отсюда и все поступки Баздырева, которому так доверяло начальство, рассматривалось солдатами как неизбежное зло: дескать, чего же и ожидать иного от шкуры?! Будучи в то время вольнопером и поневоле околачиваясь в казармах и конюшнях, я, хотя и был барчуком, однако стоял несравненно ближе к солдатской массе, нежели какой-либо офицер. Ни разу не слышал я от солдат озлобленного или возмущенного ропота на вахмистра. Солдаты были удивительно добродушны и незлобливы: когда Баздырев брал кого-нибудь из солдат в крутой оборот остальные обычно только весело подтрунивали над пострадавшим, посылая по его адресу веселые шутки и остроты.
В начале империалистической войны вахмистр Баздырев был убит в том же деле, где погиб и его эскадронный командир Линдгрен. Как упал вахмистр, сраженный пулей - никто не видел, и это породило в полку кое-какие толки, будто Баздырев погиб не от вражьей пули, а от руки своих же солдат. Единственным основанием для таких предположений была общеизвестная ненависть к Баздыреву нижних чинов третьего эскадрона.
Справедливость требует отметить, что не все вахмистры были похожи на Баздырева. Прочие наши полковые вахмистры, хотя и были на отличном счету у начальства, однако не зверствовали и волосков у небритых солдат не выщипывали. В вахмистры назначали наиболее развитых унтеров. За свою долголетнюю службу и ежедневные общения и беседы с командирами эскадронов вахмистры обычно приобретали лоск и как бы известную культурность. Так, вахмистр второго эскадрона Голанцев занимался самообразованием под руководством командира эскадрона ротмистра фон Брюммера, который давал Голанцеву читать хорошие книги. Вахмистр Лейб-эскадрона Иван Клементьевич Квасный в империалистическую войну даже выслужился в офицеры и перешел в так называемую Дикую дивизию, которой тогда командовал великий князь Михаил Александрович{35}, бывший в свое время командиром Лейб-эскадрона нашего полка и лично выдвинувший Квасного на должность вахмистра. Между прочим, будучи простым вахмистром, Квасный все время поддерживал переписку с великим князем, который крестил у него детей. Красавец Квасный в мое время держался с большим фасоном в полку и выражался весьма литературно.
* * *
Каждая команда, каждый эскадрон имел свою икону. Находилась эта икона в казармах, в специальном киоте, и была убрана серебряной ризой. Перед иконой днем и ночью горела лампадка. Богоматерь или святой, изображенный на этой иконе, считались как бы покровителем данного эскадрона. День этого святого был днем эскадронного праздника. В этот день в эскадроне занятия не проводились и люди в караул не назначались. На эскадронный праздник солдатам устраивался пир за счет офицеров эскадрона. Празднество начиналось с молебна в казармах в присутствии командира полка и всех свободных офицеров полка. Помолившись и прослушав многолетие, приступали к выпивке, для чего все переходили в эскадронную столовую. Там были уже для солдат расставлены покоем столы, устланные чистыми скатертями и ломившиеся от закусок. В углу на особом столе стояли ведра с водкой. В комнате рядом накрывался особый стол для г.г. офицеров. Когда солдаты занимали свои места, выпивку открывал сам генерал. Он подходил к столу с водкой, где вахмистр наливал ему стопочку, черпая водку половником из ведра. "Ну, ребята, поздравляю вас с вашим праздником от души и до дна пью за ваше здоровье!" - бравым баритоном провозглашал генерал и, картинно осенив себя по-мужицки широким крестным знамением, лихо опрокидывал стопку. "Покорнейше благодарим, Ваше превосходительство!" - степенно отвечали солдаты. После генерала ту же процедуру проделывали по очереди все присутствующие офицеры, начиная от старшего и кончая младшим. На этом кончалась официальная часть, после которой все садились, и тут каждый уже без всякого стеснения принимался жрать и пить в полное свое удовольствие. Офицеры пили шампанское, солдаты - водку и пиво. К концу пиршества выступали песельники, появлялась гармошка и начиналась пляска. Несмотря на обилие спиртного, все торжество обычно проходило довольно чинно и громкого безобразия не бывало, ибо крепко дисциплинированные люди и в пьяном виде не забывали о выправке и чинопочитании.
Так праздновались "скромные" эскадронные праздники. Но помимо эскадронных праздников, был еще и грандиозный полковой праздник. У нас он праздновался в Николин день - 9 мая, потому что наша полковая церковь была в честь Николая Чудотворца, являвшегося таким образом покровителем Синих кирасир на небесах. Торжество это было чрезвычайное и обходилось г.г. офицерам в изрядную копеечку.
На полковой праздник обычно съезжались в полк чуть ли не все старые бывшие полковые офицеры, с честью прослужившие в полку в свое время. Заявлялись они в этот день во фраках и цилиндрах, а иные в камергерских мундирах. Приезжали на этот праздник даже некоторые бывшие нижние чины, давно уволенные в запас. На праздник приглашались почетные гости, как то: великие князья, важные генералы и высшее гвардейское начальство.
Утром на площади, перед императорским дворцом, выстраивался в пешем строю весь полк в летней форме, имея на правом фланге трубачей, а на левом нестроевую команду и полковую школу кантонистов, состоявшую из малых ребятишек, тоже одетых в нашу кирасирскую форму.
Для почетных гостей и полковых дам на площади отводилось особое место, убранное коврами, причем всем дамам вручались большие букеты роз, перевитые белыми и синими лентами (цветами полка). После встречи начальства и томительного молебна с акафистом и многолетием аналой быстро убирался и на его месте тотчас же появлялся столик, покрытый скатертью, а на столике симпатичный серебряный графин с водочкой и серебряная чарочка на золотом блюдце. Старшие из присутствующих важных начальников, налив водку в чарочку, провозглашали несколько здравиц за царя, царицу, наследника и за полк, причем каждая такая здравица покрывалась криками "ура!" и громом оркестра. После здравиц раздавалась команда: "К церемониальному маршу!.. Справа повзводно, на взводной дистанции! Трубачи прямо, полк направо! (Пауза). Первый взвод!!!" Тут командир первого взвода Лейб-эскадрона колышком поворачивался налево кругом и командовал: "Первый взвод, равнение направо!.. шагом!" По этой команде весь полк как один перехватывал эфесы шашек и круто дергал головами направо. "Марш!" - отрывисто выкрикивал взводный офицер. Трубы и барабаны оглушительно подхватывали задорную ритмичную музыку, и, одновременно выкинув левые ноги, сотни людей стройно проходили мимо гостей, впиваясь глазами в старшего начальника. Эскадроны расходились по казармам в ожидании пира.
Пир этот бывал потрясающ и продолжался с перерывами весь день, так что к вечеру во всем расположении полка нельзя было найти ни единого трезвого кирасира. Солдат угощали на славу. Кроме обильной выпивки им раздавались и гостинцы.
В большом и элегантном зале офицерского собрания (куда по полковой традиции никогда не допускались дамы) длинный стол сверкал от парадного серебра, в виде всяких братин, графинов, и surtouts de tables. Наш вольнонаемный собранский повар, большой искусник своего дела, в этот день превосходил самого себя великолепием яств, которые в изобилии подавались к столу. Тонкие дорогие заграничные вина, французское шампанское, ликеры... впрочем, что об этом говорить: "Кирасиры Ея Величества не страшатся вин количества" - было любимой поговоркой нашей молодежи. "В кирасирах так ведется: пей - ума не пропивай" - было любимой песней наших стариков... остальное ясно! За обедом зачитывались поздравительные телеграммы царя и шефа. После обеда, продолжавшегося часа три, обычно уезжали самые старые и важные начальники, которым их высокое положение не позволяло напиться как следует. Тогда весь полк собирался в манеже, где к этому дню устанавливалась сцена и множество скамеек. В передних рядах усаживалось офицерство со своими гостями. Сзади - солдаты. Выписанные из Питера артисты давали веселое представление и продолжительный дивертисмент с фокусниками, балеринами, акробатами и куплетистами. После дивертисмента на плацу перед конюшнями для нижних чинов устраивались игры и всякие шутовские состязания на призы. Тут бывал и бег в мешках, победителем которого из года в год выходил кузнец нестроевой команды; тут было и лазание по намыленному столбу, на верхушке которого привязывался приз в виде гармошки, карманных часов или пары сапог. Доставался такой приз тому ловкачу, которому удавалось его снять, не соскользнувши с намыленного столба. Много тут было всяких забав.
Вечером в собрании закатывался ужин, на котором, однако, далеко не все способны были присутствовать. На следующее утро у всего полка трещала башка и сосало под ложечкой, а в собрании кое-кто покряхтывал да почесывал затылок, подсчитывая во что обошелся г.г. офицерам Чудотворец Никола. Ежегодно обходился он в тысячи. Впрочем, чудесное веселье доставлял он всем кирасирам!
Помню, не то в 13-м, не то в 14-м году, накануне полкового праздника, совсем неожиданно, вдруг явился к нам древний семидесятилетний старик, одетый в странного вида колет, посеревший от времени, заплатанный и расползающийся по швам. На старике были какие-то странные чахчиры навыпуск с лампасами. Такого странного покроя и формы в мое время не имел ни один полк. Это была старинная наша форма, а сам старец оказался бывшим кирасирским солдатом, служившим в нашем полку еще в 50-х годах прошлого века! С трогательной наивностью и простотой дедушка объяснил нам, что в его родном селе (где-то под Воронежем) молодежь смеется над ним и проходу не дает на Пасху за то, что он одевается в такой обветшалый мундир, в котором в великий праздник стыдно войти в церковь Божию. Задетый за живое насмешками, самолюбивый старикан предпринял целое путешествие и прибыл к нам на полковой праздник почтить Николу Чудотворца, а заодно и похлопотать, чтобы ему выдали новый мундир.
Приезд дедушки был целой сенсацией. Его фотографировали во всех видах: и в старом обтрепанном, и в новом с иголочки мундире, который ему, конечно, подарили перед парадом. На параде старик замыкал церемониальный марш, добросовестно вышагивая непосредственно за школой кантонистов, то есть за самыми молодыми кирасирами.
Много интересного рассказывал дед офицерам и солдатам про прежнюю службу, старые полковые порядки и прежних кирасир. Целую неделю гостил он после праздника в полку, где его всячески ублажали. На родину свою уехал он от нас с новым блестящим мундиром, рейтузами и сапогами и с щедрыми подарками от офицеров. Воображаю, какой фурор произошел в его родном селе, когда он туда вернулся!
* * *
Выше я говорил о той пропасти, которая существовала между людьми, одетыми в офицерскую форму, с одной стороны, и одетыми в солдатскую форму - с другой. Здесь действовали не только классовые причины. Культивировавшееся в армии в течение двух веков сугубое чинопочитание, да и само положение простого солдата, который вне зависимости от класса был в армии почти что бесправен, не могли не углублять этой пропасти, разделявшей одних людей от других. Могли ли при таком положении люди, насильно забранные на военную службу, любить свою часть, любить своих начальников?.. Основываясь лишь на том, что имело место в кирасирском полку, я отвечаю на этот вопрос так: "Да, огромное большинство наших солдат, привыкнув к службе, были преданы полку и любили свои эскадроны, вдаваясь нередко в узкий, чисто эскадронный патриотизм. Что же касается до отношения к начальникам, то одних не любили, к другим были равнодушны, третьих и любили и уважали, причем таких, которых действительно любили, было в нашем полку не мало. Касаясь полкового солдатского быта, я должен отметить, что хотя гвардейский солдат и был почти бесправен, однако о благополучии его все же заботились много. Бытовая сторона в гвардии была несравненно лучше обставлена, нежели в глухой армии, и отсюда гвардия недаром считалась наиболее надежным и верным оплотом трона.
Несмотря на известный кастовый характер гвардейского офицерства, оно было культурнее армейского, а это значило многое во взаимоотношениях начальников и подчиненных. Что же касается до, так сказать, материального существования солдата, то в гвардии оно было, конечно, неплохим. Прежде всего, кормили гвардейского солдата сытно и хорошо. Казенный солдатский паек был в гвардии лучше и больше, нежели в армии. В мирное время у нас в полку строго следили за тем, чтобы солдатская пища была доброкачественна и вкусна. Проверялось это добросовестно, самими эскадронными командирами, которые, будучи обычно людьми со средствами, не только не воровали из солдатского пайка, а, наоборот, стремились всячески улучшать солдатам стол, чем нередко и хвастались друг перед другом. Своего пайка солдаты обычно полностью не поедали, ибо были сыты. Ежедневно в эскадронах получались недоеденные остатки, которые шли на корм свиней, содержавшихся при эскадронах. Свиней этих резали к эскадронному празднику, к Рождеству или Пасхе, дабы устроить солдатам хорошие розговни. На большие праздники офицеры за свой счет часто угощали солдат пивом и улучшали их стол, а на масленицу даже устраивали солдатам блины.
Обут и одет гвардейский солдат был прекрасно (говорю про мирное время). Содержался чисто и вел, в сущности, вполне здоровую жизнь под наблюдением старшего и младшего полковых врачей, заботившихся о гигиене солдатского тела и периодически осматривавших всех солдат.
Теперь, касаясь отношений офицеров к нижним чинам, скажем, что такие отношения были различны и зависели от чисто индивидуальных человеческих качеств, интересов и характера начальника.
Когда на нашем советском экране я теперь вижу гвардейского офицера, который, по установившемуся штампу, всегда изображается жестоким извергом, гнусно издевающимся над милым и симпатичным солдатом, а солдата этого почем зря бьют по физиономии, когда я читаю в современных романах некоторых наших писателей про омерзительных гвардейских держиморд-офицеров и их несчастных жертв - солдат, как правило, затаивших в сердце змеиную злобу на своих начальников, злобу, вот-вот готовую вылиться в открытый мятеж или бунт, - я не могу удержаться от улыбки.
Пишу я это не только потому, что мне, как бывшему гвардейскому офицеру, естественно хотелось бы выгородить себя от всего того чудовищного, что приписывается таким людям, как я. Мне хочется просто и без прикрас поведать о том, как общались и уживались друг с другом люди, столь разграниченные друг от друга и формой, и классовым принципом и некоторыми уродливыми условностями прежней жизни.
В глухой армии я не служил. Там были свои порядки и обычаи, прекрасно описанные Куприным в романе "Поединок". Служил я в образцовом полку гвардии и прежде всего скажу, что в нашем полку всякое "мордобойство" было исключено. Как мне известно, его не было и в прочих полках гвардейской кавалерии. За три года мирной службы, что я провел в полку, я узнал лишь про два случая, когда солдата ударил офицер. В обоих случаях этим офицером был поручик Соколов человек, уверяю вас, неплохой, и, как это часто бывает у хороших людей, очень горячий, темпераментный и вспыльчивый. Однажды он "смазал по морде" молодого солдата-поляка, симулянта, который был уличен в воровстве, причем, как мне известно, этот поступок поручика вызвал у солдат сочувствие и одобрение, ибо каждый с удовольствием сам двинул бы вора по роже. Другой раз Соколов (страстный ценитель лошадей) сгоряча подставил своим кулаком здоровенный фонарь под глазом одного "корявца-солдата", за то что тот по своей вине и глупости искалечил в конюшне одну из лучших лошадей в эскадроне.
Этот случай, однако, даром не прошел Соколову. На следующий день полковой врач, осматривая солдат, приметил пострадавшего и тут же накатал рапорт командиру полка на поручика Соколова. Командир был настолько возмущен, что решил было отдать Соколова под суд, однако старшие офицеры упросили командира этого не делать, дабы не позорить полк. Поднимался вопрос о том, чтобы вовсе выставить Соколова из полка, но в конце концов над ним смилостивились, ибо он был отличным офицером, и ограничились лишь наложением дисциплинарного взыскания. Были ли у Соколова еще случаи мордобойства, я не знаю. Во всяком случае солдаты очень его ценили и относились к нему с несомненной симпатией, видя в нем человека отзывчивого, простого, горячего, но справедливого. Помню, что когда Соколов был начальником полковой учебной команды, солдаты по собственному почину сложились и преподнесли ему в подарок офицерскую шашку с хорошим клинком и соответственной надписью. Далеко не всякому офицеру оказывали солдаты такое внимание. Это был именно такой офицер, про которого солдаты говорят, что он "как отец родной". На войне Соколов выказал большую удаль и самоотверженность и первый в полку получил высшую боевую награду офицерский Георгиевский крест.
Единственное "физическое воздействие", которое изредка, и то только во время вольтижировки разрешали себе единичные офицеры (вроде Палицына), это иной раз как бы невзначай щелкнуть кончиком бича по солдатской заднице. Как я выше говорил, тут доставалось даже вольноперам. Совершалось это так, что трудно было установить - делалось ли это нечаянно или преднамеренно. Такой меткий щелчок по заднице солдатами за оскорбление не принимался, ибо все то, что относится к человеческой заднице чаще всего рассматривается как нечто смеху достойное, и над теми, кому во время вольтижировки попадало бичом, обычно добродушно смеялись.
Теперь часто слышишь, что кадровые офицеры вообще-то солдат за людей не считали и относились к ним как к скотам. Могу лишь сказать, что среди моих полковых товарищей я таких офицеров не знал. Правда, как среди старых, так и среди молодых офицеров встречались такие, которые относились к солдату безразлично, так сказать, казенно и совершенно не интересовались солдатским бытом и нуждами, но нельзя же делать из этого вывод, что, стало быть, они относились к солдату, как к скотине. У нас в полку даже обзывать солдата площадной или матерной бранью считалось для офицера признаком дурного тона.
Помню, однажды во время взводных учений на военном поле молодой корнет Д., усердно наседая на свой взвод, принялся костить людей отборным матом, случайно дошедшим до ушей старшего ротмистра Данилова, который в это время присутствовал на поле. Этот Данилов был одним из заправил в полку. Человек умный и трезвый, он пользовался большим авторитетом. Подозвав к себе распетушившегося корнета, Данилов при мне как следует отчитал его: "Послушай, дружок, - отечески проговорил ротмистр, - когда ты непотребными словами оскорбляешь людей, одетых в ту же форму, какую носишь сам, ты этим оскорбляешь свой собственный мундир, а следовательно, и тот полк, который мы все любим и обязаны чтить. Не забывай, что ты имеешь дело не с лакеями и хамами, а с солдатами-кирасирами Ея Величества, призванными на почетную службу самому государю. Мы должны развивать в наших солдатах чувство гордости, а не унижать их. Ты можешь и даже обязан подтягивать и наказывать своих подчиненных за провинности, требуя от них самой высокой дисциплины, но оскорблять их матерным словом - это уже хамство, дружок. Предоставь хамство какому-нибудь армейскому подпоручику в захудалом провинциальном армейском полку. Мы же с тобой, кажется, служим в Лейб-гвардии, а потому и хамить не должны. Ну, а теперь ступай к своему взводу, и чтобы слово "мать" я от тебя больше не слышал!"
Если в силу условностей и установившихся традиций и предрассудков офицеры обращались ко всякому солдату на "ты" и за руку с ним никогда не здоровались, то отсюда еще не следует, что офицеры презирали своих солдат. Ведь можно с человеком обращаться и на "вы", и даже подавать ему руку, и тем не менее в душе презирать его. В нашем полку не только не попирали и не умаляли человеческого достоинства солдата, но наоборот, старались внушить ему чувства доблести, героизма и особой гвардейской гордости и даже спеси. Проявлялось это даже в мелочах. Так, например, когда солдата на Рождество отпускали домой на побывку, ему всегда охотно давали парадную каску с орлом, колет, а иногда даже кирасы - дабы он мог пофорсить и похвастать своим полком у себя в родном селе.
Молодым солдатам в полку всегда подчеркивали те казенные слова старого воинского устава, где говорится о том, что "солдат - есть имя знаменитое". Солдату внушали, что служба его почетная, ибо в уставе указано, что солдат служит самому царю и является "защитником родины от врагов внешних и внутренних". Насчет внутренних врагов - солдатам разъясняли, что это те дурные люди, которые идут против царя. Да можно ли было без всего этого создать императорскую Лейб-гвардию в настоящем значении этого слова?{*16} Можно ли было создать надежного гвардейского солдата, если бы к нему относились как к скотине? - разумеется нет! Вот почему в гвардейце стремились воспитать бодрый дух доблести, любви к полку, любви к царю. Беседы на эти темы обычно вели офицеры, заведовавшие в эскадронах новобранцами и молодыми солдатами. Толковал об этом солдату и начальник учебной команды, а также и полковой священник, которому генерал Арапов поручал вести в эскадронах и командах регулярные "религиозно-нравственные беседы с нижними чинами". Политика солдатам внушалась несложная: "За веру, за царя, за отечество", - вот три кита, воплощавших в себе всю тогдашнюю гвардейскую идеологию.
Полковой шеф - старая царица Мария Федоровна - прежде часто посещала полк, в особенности в то время, когда ее любимый сын Михаил проходил службу в нашем лейб-эскадроне. Государыня показывалась в казармах, заглядывала в полковой лазарет, умела быть общительной, умела показать себя милостивой и внимательной{36}. Ее посещения муссировались полковым начальством, которое превращало их в своего рода орудия политической агитации, указывая людям на их прямое общение с "великими мира сего", а отсюда и на то почетное назначение, которое выпало на их долю.
Царя наши солдаты видели частенько и на маневрах в Красном, и на смотрах. Видели они его не иначе как в волнующей торжественной обстановке и в ореоле славы, когда всякое его появление в окружении огромной блестящей свиты встречалось величественными трубными звуками очень красивого гимна и преклонением тех самых гордых наших штандартов, которые мы в полках больше всего почитали. Солдаты видели, как при появлении царя менялись лица у самых важных и гордых гвардейских начальников, вдруг превращавшихся из надменных господ во взволнованно-почтительных государевых слуг. Царское могущество, полная неограниченность этого безраздельного властелина необъятной земли русской, наконец, внушаемая полковым батюшкой вера в божественное начало царской власти (ибо царь считался "помазанником Божьим"), все это, конечно, не могло не действовать и не волновать темную солдатскую массу, оторванную от деревни, а в результате являлась наивная, но искренняя преданность старых гвардейских кадров к их верховному вождю. И странно думать теперь, что именно эти-то кадры - преданные и политически надежные - в первую же голову брошены были в огонь мировой войны.
Когда в феврале 1917-го года находившийся в Петрограде запасной батальон Лейб-гвардии Преображенского полка первый примкнул к восстанию, "Преображенского" в нем, кроме погон и петлиц, уже ничего не было: настоящие старые кадровые преображенцы к этому моменту уже полностью исчезли с лица земли. За два с половиной года мировой войны полк чуть ли не трижды менял весь свой людской состав, совершенно растеряв старые надежные кадры, так что взбунтовавшийся запасной батальон состоял в 1917-м году уже из людей случайно собранных отовсюду - людей, которые никогда не обрабатывались так, как это имело место в гвардии мирного времени. Возьмем к примеру такой случай: когда в 1905-м году в Москве вспыхнуло яркое пламя вооруженного восстания рабочих, царское правительство направило в Москву Лейб-гвардии Семеновский полк, ибо правительство не могло надеяться на армейские части Московского гарнизона в этот острый и критический момент. Посланные же в Москву гвардейцы, не дрогнув, выполнили там все то, что от них ожидала власть, и подавили народный мятеж, несмотря на то, что Семеновский полк в массе своей состоял из простых русских крестьян.
Говоря о преданности своему полку наших кирасирских солдат, укажем на один фактор, игравший важную роль в деле солдатского воспитания. Я хочу сказать о том чисто спортивном духе, которым крепко был заражен весь полк. Замечательные мировые спортсмены штаб-ротмистр фон Эксе и поручик Плешков сумели сгруппировать вокруг себя офицерскую молодежь и увлечь ее спортом. Многие пажи и юнкера хотели выйти в наш полк офицерами, именно благодаря той спортивной репутации, которая укоренилась за полком в последние годы. Увлекаясь спортом, молодые офицеры невольно заражали этим и солдат. Вместо казенного отношения к таким занятиям, как сменная езда, вольтижировка, рубка, стрельба, гимнастика, офицерская молодежь вкладывала в них спортивную страстность, возбуждая в солдатах интерес и чувство соревнования. Хотя слово "соревнование" и не произносилось, однако самый принцип соревнования существовал во всех командах, ибо он неразрывно связан с идеей спорта...
Иванов стреляет замечательно, а дай-кась я попробую стрелять еще лучше Иванова!
Чисто индивидуальное соревнование невольно переходило в коллективное: чей взвод лучше прыгает через препятствия, чей эскадрон лучше стреляет. На этой почве у солдат вырастал уже, так сказать, эскадронный патриотизм. Он особенно ярко проявлялся на полковом смотру стрельбы, а также на тех солдатских состязаниях на призы, которые часто устраивались в полку. Тут были состязания и по рубке, и по фехтованию, и по скачкам с препятствиями, и на таких состязаниях солдаты наши входили в большой азарт, проявляя страстность, гордость своей командой и чувство эскадронной чести. Такое культивирование спорта во многом сближало офицера с солдатом и вызывало в одних чувство уважения и восхищения перед другими, часто сглаживая и смягчая ту рознь, которая должна была существовать между младшими начальниками и их подчиненными, делая их взаимоотношения более человечными. В общем, кончая свою службу в полку и увольняясь в запас, солдаты покидали полк без дурного чувства, а полк всегда тепло провожал уходивших. Хорошо помню картину прощания с отслужившими свой срок и уходившими домой солдатами. Их выстраивали в манеже. Полковой командир производил последний опрос претензий, после чего говорил уходившим небольшую речь, благодарил их за службу родине и кончал словами: "Ну, ребята, езжайте теперь с Богом к себе по домам. От души желаю вам всякого добра, а меня и ваш кирасирский полк не забывайте и лихом не поминайте! За ваше здоровье - ура!"
"Ура-а-а, ура-а!" - надрывно ревели солдаты, при сем многие утирали навертывающиеся слезы. "Ну, расходись! Теперь можете идти без строя!" командовал командир, а солдаты, покинув строй, толпой окружали его, поднимали на руки, качали с криками "ура" и с радостным гоготом выносили на руках из манежа. Хоть все они и были рады, что поедут сейчас домой, в свои села и деревни, а все-таки и с родным полком расставаться, видимо, им было жалко, ибо за годы службы они так свыклись с ним, что считали уже полк тоже вроде как своим домом.
Глава VIII
После сдачи смотра полкового учения, полк уходил из Гатчины на несколько дней в так называемую сторожевку, для того чтобы эскадроны практиковались в несении полевой сторожевой службы согласно уставу полевой службы. На сторожевке квартировали в деревнях, и этот короткий период занятий устраивался офицерством как приятный и вместе с тем полезный отдых всего полка. На сторожевке у всех царило благодушное настроение, никто ни на кого не напирал. Наметив сторожевую линию фронта, воображаемого неприятеля, разбивались на участки и заставы, на которых выстраивались караулы и секреты, высылалась разведка, но в сущности никто ничего не делал, ибо всех охватывала своего рода блаженная лень после напряженного периода весенних занятий, а также взводных, эскадронных и полковых смотров.
На сторожевке нередко приходилось квартироваться по соседству с имениями помещиков, с которыми господа офицеры знакомились всегда охотно, в случае если в помещичьем доме имелись налицо молодые дамы. Неожиданный приход целого кавалерийского полка бывал для помещиков всегда большим событием, вносившим в их однообразное деревенское уединение много веселого, выбивая семейных и домовитых людей из их привычных будней. В случае, когда помещики казались симпатичными и в доме имелась молодежь (а это в большинстве своем было так) для помещиков устраивался в обширной палатке офицерского собрания вечер с песельниками и вкусным ужином, так как за полком неразлучно следовал собранский повар с двумя огромными фургонами, нагруженными всем необходимым для устройства пиршеств. Местные помещики, если были с достатком, в свою очередь отвечали офицерам вечеринкой у себя в доме, стараясь похвалиться своим российским хлебосольством.
Во время сторожевок мы жили как цыгане, не задерживаясь в одном месте более двух-трех дней, и все время переезжали с места на место. Сегодня знакомились и дружили с одними "приличными людьми", завтра - забывали их, ибо уже назревала встреча, обещавшая любовь, веселые приключения, новые заманчивые перспективы. Офицерская молодежь любила эти случайные и мимолетные встречи, в особенности с молодыми дамами - встречи, от которых подчас веяло какой-то странной романтикой и которые иногда сопровождались бурными влюблениями друг в друга и неожиданными молниеносными романами. В отношении последних особенно отличался молодой штаб-ротмистр барон Таубе.
Небольшого роста, худенький, юркий, светлоглазый и розовый, в мятой фуражке, лихо заломленной на затылок, он был некрасив, ни даже изящен, однако он был настоящим дамским кавалером, обладал несомненным даром нравиться, а в любовных делах был весьма предприимчив и находчив, превращая любовь в своего рода спорт. С бароном Таубе по дамской части соперничали всегда веселый и жизнерадостный поручик Гроссман и моложавый корнет Эльвенгрен с лицом типичного "душки-военного". Все трое были в Лейб-эскадроне. А сколько великолепных ветвистых рогов понаставляли во время сторожевок эти три полковых ловеласа почтенным мужьям-помещикам - про то ведает один Аллах! Бывало, не отгремели еще трубы полкового оркестра возле собранской палатки, где слегка осоловевший помещичий муж допивал бокал вина, чокаясь с весело подмигивающим полковником, в то время как на лужайке перед палаткой помещичьи сестры и кузины отплясывали с любезными корнетами, а глядишь, - помещичья женушка, взволнованная, счастливая и раскрасневшаяся, уже опасливо оглядывается по сторонам, стараясь улучить удобную минутку, дабы незаметно уединиться с нашим "милым бароном" в какую-нибудь заветную липовую аллею парка, где густая листва делала прозрачные сумерки белой ночи менее нескромными...
Барон - неотразим. Вот уже смолкли трубачи и полковые песельники, гости и хозяева отправились на покой, но долго еще в укромнейших закоулках старого липового парка старик, ночной сторож, мог слышать чьи-то приглушенные речи, томные вздохи и поцелуи, прерываемые то нежным бряцанием шпоры, то сладкой соловьиной трелью.
Рано утром кирасиры седлают коней, перешучиваясь друг с другом (солдаты тоже не дураки. Будьте уверены - в любом эскадроне находился такой предприимчивый ефрейтор, которому удавалось ночью тайком от взводного покуралесить с бойкой деревенской бабенкой!). Полк выстраивается на улице и шагом выбирается из деревни на проезжую дорогу, мягко цокая копытами по проселку. Кое-кто из молодых офицеров бросает последний взгляд на уютный помещичий дом с колоннами, в надежде что, быть может, какая-нибудь из спущенных оконных занавесок внезапно приподнимется, обнаружив в окне самое милое личико, вся очаровательная свежесть которого еще так явственно ощущается на губах, но помещицы либо почивают в постелях, счастливо улыбаясь во сне или же терзаются запоздалым раскаянием, совсем не подозревая, что на занавешенные окна их спален в этот миг устремлены чьи-то пытливые глаза. Невыспавшийся барон Таубе с подозрительными томными морщинками и синевой вокруг глаз зевает во весь рот, устало потягиваясь в седле. "Ну, как оно, Федя?.." - шутливо окликает его полковой адъютант, рысью обгоняя Лейб-эскадрон. "Кор-ряво!.." коротко отвечает барон, нервно подергивая плечами и неизвестно за что наказывая острой шпорой ничем не повинного коня.
Помещичий дом внезапно скрывается за березовой рощей. Все кончено. Навсегда ли? Ну, конечно, навсегда!
Раздается команда: "Песельники вперед!" - и зеленая роща разом оглашается задористыми, как бы пляшущими звуками бойкой кирасирской песни:
"За улана выйду замуж, с кирасиром буду жить.
Тра-ля-ля-ля, Т ра-ля-ля-ля,
С кирасиром буду жить...
Все кончено.
После сторожевки полк сразу уходил на все лето в лагеря, в Красное Село огромное, серое, пыльное, до отказу набитое военными людьми всех чинов и родов оружия, так как к этому времени здесь бывала уже сосредоточена вся гвардия. Офицеры размещались по два-три человека в неказистых сереньких и желтых деревянных дачах. Наши солдаты и лошади - по частным деревенским дворам, за исключением четвертого эскадрона, у которого в Красном почему-то были деревянные конюшни полубарачного типа. Пехота размещалась за чертою села, в палатках. Некоторые части - в соседних с Красным деревнях.
Каждое утро выезжали на обширнейшее Красносельское военное поле, занимавшее площадь в несколько верст - серое, неприглядное и начисто вытоптанное тысячами и тысячами копыт лошадей целых одиннадцати гвардейских кавалерийских полков и конных батарей, ежедневно упражнявшихся здесь по нескольку часов кряду. На огромнейшем поле - ни единой травинки. Всюду пыль, пыль без конца.
В первое время занимались на поле бригадными учениями совместно с Желтыми кирасирами, входившими в нашу бригаду, после чего следовали непродолжительные бригадные маневры в районе Красного. Затем следовал период дивизионных учений и маневров. Потом (все на том же поле) происходили грандиозные учения сразу всей гвардейской кавалерии - учения, которыми всегда лично заворачивал великий князь Николай Николаевич и любоваться которыми иногда приезжал сам царь. В конце лета Красносельский лагерный сбор завершался большими маневрами всего гвардейского корпуса с совокупным участием всех родов оружия, включая даже и авиацию в лице одного миниатюрного и тихоходного дирижаблика и единичных аэропланов, которым тогда поручались лишь узкие разведывательные задания.
В Красном Селе войска получали максимум всей своей тактической подготовки. Впрочем, по этому поводу считаю уместным привести здесь выдержку из книги А. М. Зайончковского "Подготовка России к мировой войне"{*17}. Видный военный специалист и к тому же активный участник ежегодных Красносельских лагерных сборов как бывший командир бригады и начальник дивизии, А. М. Зайончковский дает Красному Селу следующую любопытную оценку: "Тон всего обучения русской армии давал, как это ни странно на первый взгляд, Петербургский военный округ, и в частности, Красносельский лагерный сбор. Главнокомандующим этим округом был великий князь Николай Николаевич (...) На лагерных занятиях этого округа весьма часто присутствовали и военный министр, и начальник Генерального Штаба. Сюда же каждое лето приводились армейские части и из других округов, наконец, гвардейские штаб-офицеры получали большую часть армейских полков, а высшие школы, подготовлявшие штаб-офицеров, очень близко соприкасались с Красносельским сбором. Влияние его на обучение русской армии бесспорно. Что же дал армии Красносельский лагерный сбор? Относясь с полной беспристрастностью, должен сказать, что он дал очень много.
Практика Японской войны была во многом учтена, за пехотным, пулеметным и артиллерийским огнем было признано громаднейшее значение, доходившее до чрезмерности (полковой командир, полк которого на смотру стрельбы не выбил оценки "отлично", должен был подать в отставку), что невольно приводило и к некоторым нежелательным ухищрениям мирного времени. Наступление пехоты допускалось только после действительной подготовки ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем. На связь между пехотой и артиллерией обращалось особое внимание, но не настаивалось на том, чтобы артиллерия выбирала в разгар боя позиции ближе к пехоте.
Боевые порядки сильно расширялись, наступление цепями было заменено накапливанием с зачатками группового боя и с отличным применением к местности. На индивидуальное развитие стрелка и на развитие самостоятельности младших начальников обращали особое внимание.
Все учения и маневры носили исключительно встречный характер, причем настраивались на воспитание войск в духе решительных активных действий. Но обучение в Красном Селе имело и свои отрицательные стороны.
Условия службы войск в нем заставляли отдавать большую дань смотровым требованиям, что невольно отражалось и на полевом обучении. Занятия носили характер действий мелких отрядов, без ясного представления о взаимодействии масс. Кавалерия воспитывалась преимущественно на действиях в конном строю (хотя на обучение стрельбе и в ней было обращено большое внимание) и сомкнутыми атаками, на подготовку ее к стратегической работе и к комбинированному бою внимания обращено не было. Воспитывая в войсках активность, мало обращали внимания на инженерную подготовку и вообще на технику.
На подготовку высшего командного состава... внимания было обращено мало, а маневренной практики в управлении дивизиями и корпусами в составе армий совершенно не было...
Из этого краткого абриса видно, что наибольшее внимание было обращено на обучение мелких соединений, что и дало положительные результаты в первый период маневренной войны, когда еще действовали полковые войска. Но совершенно не было обращено внимания на работы масс и на подготовку старших начальников к вождению их..."
Из данной Зайончковским оценки можно заключить, что дело с тактической подготовкой нашей кавалерии вообще обстояло несколько хуже, нежели в пехоте, ибо с конницей у нас весьма часто занимались меньше, чем следовало бы. Действительно, когда вспоминаешь теперь наши тогдашние занятия на Красносельском военном поле, невольно досадуешь на то, сколько времени и труда тратили мы на освоение техники встречных лобовых конных атак, производимых всегда в сомкнутом развернутом строю, когда с пиками наперевес вихрем налетали друг на друга целые кавалерийские бригады и даже дивизии, сшибаясь друг с другом в рукопашную. Разомкнутым строем атаковывали лишь пехоту. Такие картинные бои конницы были уместны, быть может, столетие назад, но при современной технике и вооружении вряд ли можно было ожидать практического применения подобной тактики в условиях настоящей большой войны. А между тем, ни одно наше учение на военном поле, ни одни маневры никогда не обходились без подобных атак, коими традиционно завершались всякие маневры, будь то бригадные, дивизионные или даже корпусные.
Главной причиной этого курьеза, как мне кажется, был все же великий князь Николай Николаевич - кавалерист старой школы и большой приверженец конницы вообще, да к тому же и человек сам по себе очень темпераментный, и, что называется, "лихой", а потому и требовавший от нас лихости во что бы то ни стало! И надо отдать полную справедливость: атаковать сомкнуто и разомкнуто большими кавалерийскими соединениями русская кавалерия умела так же замечательно, как и отдельным взводом. Недаром в мировую войну ни германская, ни австрийская кавалерия, даже в самых мелких соединениях, как правило, не принимала наших конных атак, всегда уклоняясь от них, предпочитая спешиться за каким-нибудь рубежом и оттуда уже сыпать в нас ружейным огнем.
6-го августа 1914 г. под местечком Краупишкен в Восточной Пруссии даже был случай, когда один эскадрон Лейб-гвардии конного полка, входившего в состав нашей дивизии, атаковал в лоб (правда разомкнутым строем) германскую батарею на позиции! Потеряв от немецкой картечи добрую половину людей и лошадей, командир эскадрона с уцелевшими людьми все же доскакал до самых орудий, пару которых тут же захватили. Другую пару немцы успели спасти, ударившись в поспешное бегство, однако вымотавшийся эскадрон конногвардейцев не имел уже сил, дабы преследовать и отбить эти спешно увозимые пушки. В этой удивительной атаке (свидетелем которой был и пишущий эти строки и которая, как мне кажется, была единственная в своем роде за всю мировую войну) несомненно сказались влияние и школа Красного Села. Кстати, командиром эскадрона конногвардейцев был ротмистр барон Врангель, который благодаря этой атаке на батарею приобрел в гвардии большую известность и популярность и быстро пошел в гору{37}, бесславно, однако, закончив свою изумительную карьеру уже в гражданскую войну как разгромленный вождь белых.
Попытаюсь теперь рассказать о том, как производились наши маневры.
Все начиналось с того, что на рассвете из полка выезжали два огромных рессорных фургона офицерского собрания с собранской прислугой, возглавляемой нашим вольнонаемным поваром - мужчиной дородным, скорее напоминавшем чванливого дворянского предводителя, нежели кулинара. Толстый и круглолицый, он обладал солидной, аккуратно подстриженной круглой бородкой, прекрасно сшитым серым пиджаком и кастровым котелком. Выезжая на маневры, он с видом важного барина восседал на козлах переднего фургона, держа на коленях военную карту двухверстку, где был отмечен бивуак, на который ему надлежало прибыть ранее всех, дабы раскинуть там собранскую палатку и приготовить для господ офицеров вкусную трапезу. Чего-чего только не вез повар в своих черных фургонах! - дорогое собранское серебро, накрахмаленные скатерти и салфетки, батареи шампанского и ликеров, бесконечный ассортимент всякой закуси. Повар был умница, но и плут перворазрядный. Впрочем, черт с ним со всем!..
После этого предварительного действия (имевшего несомненное влияние на успешность предстоящей операции) в полку начинали седлать, строиться и без конца здороваться с начальством. Когда наконец утром полк выходил из Красного и спешивался возле села, полковой командир подзывал к себе всех офицеров и зачитывал им вслух полученное от начальника дивизии общее задание, и так называемую обстановку, которая очень часто сводилась к тому, что по данным воздушной разведки, высадившийся в Финском заливе десант противника наступает в сторону Красного. Вот мы и должны либо изображать этот наступающий десант, либо же, наоборот, отразить его удар.
В первом случае мы, соединившись с прочими полками дивизии, предпринимали длительный переход, иной раз километров за шестьдесят и больше, выслав вперед квартирьеров. По прибытии на бивуак, один из полков назначался в сторожевое охранение. Разместив эскадроны, проголодавшиеся и усталые офицеры остальных полков тотчас же принимались пировать. Покуда солдаты получали свой обед из походных кухонь, у офицеров на вольном воздухе происходил большой пикник, замечательный обильной и разнообразной закуской и выпивкой, ибо на маневрах у всех всегда разыгрывался чертовский аппетит. Эти пикники были неотъемлемой частью всяких маневров.
Тем временем командиры полков, бригадные генералы, адъютанты и штабное начальство, наскоро закусив, собирались у начальника дивизии для обсуждения плана наступления и, детально проработав последний, тоже присоединялись к тому или иному полковому пикнику, затягивающемуся иной раз далеко за полночь, зачастую под музыку трубачей. На бивуаке далеко слышно было, как по соседству "гуляют" желтые кирасиры, кавалергарды и конногвардейцы. Офицерство пировало всегда в тесной компании своего собственного полка, очень редко приглашая к себе соседей. Исключение делали конно-артиллеристам, которых все охотно приглашали, ибо в гвардейской конно-артиллерии совершенно отсутствовала та полковая чванливость и снобизм, который был так присущ гвардейским частям.
Всегда подтянутые и с иголочки одетые офицеры разрешали себе на маневрах одеться во все старое и потертое, приобретая самый боевой вид закаленных воинов. Настроение у всех бывало веселое, и нигде не отпускалось столько шуток и острот и не рассказывалось столько анекдотов, как именно на этих бивуаках.
Днем наша офицерская молодежь, помешанная на спорте, часто собирала деревенских ребятишек и среди них устраивала на призы состязания в беге, в плавании, в прыжках и борьбе. Многие фанатики спорта, давно помешавшиеся на ипподроме, по всем правилам тут же организовывали для себя тотализатор, делая ставки на того или иного из ребят, устраивая всевозможные "заезды" для "трехлеток", "пятилеток" и разыгрывали гандикапы, причем втягивали иной раз в это глупое дело даже почтенных генералов. Спать ложились очень поздно, либо на сеновале, либо где-нибудь под навесом, предпочитая разложить походные постели на вольном воздухе, нежели в душных, нечистых и дурно пахнущих избах, кишащих тараканами, клопами и блохами. (Гвардейцы офицеры, несмотря на свой закаленный вид воинов, были очень брезгливы).
Юные корнеты по ночам расшаливались как дети. Вот из раскрытых ворот деревенского сарая доносится внушительный храп старшего полковника фон Шведера; гроза офицеров, гроза всего кирасирского полка мирно почивает на походной постели. У изголовья строгого полковника стоит опрокинутое ведро. На ведре большая чашка с водой, а в чашке - две полковничьи челюсти, хоть и фальшивые, но зубастые. Корнеты князь Урусов-младший и фон Баумгартен-второй большие выдумщики; один из них тихонько подкрадывается к спящему полковнику и осторожно сыплет в его огромный и беззубый раскрытый рот пойманных в избе клопов и рыжих тараканов. Другой, застыв на соседней походке, со счастливой улыбкой наблюдает, как теперь беспомощно подергиваются наисвирепейшие во всем полку уста, как бы самой природой созданные для того, чтобы расточать неприятные выговоры, нотации и внушения. Но вот в уголку полковничьих уст показались подвижные тоненькие тараканьи усики; жирный и намокший клоп в панике выбежал на оттопыренную полковничью губу. Другой, по-видимому, забился в самую полковничью глотку и у полковника в горле начинает першить. "К-ха, К-ха!.." - громоподобно кашляет он и как ошалелый вскакивает на постели, вытаращив грозные налитые глаза. Корнеты быстро отворачиваются, делая вид, что укладываются спать. "Фу, черт... что за гадость?!" - сердито бурчит полковник, брезгливо отплевываясь и, ничего не понимая, с сердцем поворачивается на бок. "Желторотые" корнеты тихо торжествуют и смеются, уткнувшись в подушки.
На рассвете, наконец, приступали к серьезным делам. После подробного инструктажа в сторону Красного высылались разъезды и разведывательные эскадроны (если таковые не были высланы еще накануне). Наконец вся дивизия со своей артиллерией трогалась в обратный поход, имея впереди авангард, а с боков походные заставы. Начиналась игра в войну - игра, которая часто искренне увлекала, как многих офицеров, так и некоторых солдат, входивших в большой азарт, в особенности в разведке, стараясь забрать в плен "неприятельских" дозорных, которых иной раз от избытка темперамента даже лупили по шее. Впрочем, находилось много и таких офицеров, которые относились к самому маневру индифферентно, так сказать, по-казенному, ограничиваясь лишь более или менее добросовестным выполнением возлагаемых на них заданий и только.
Часто практиковались ночные походные марши, очень утомительные, но сильно затруднявшие разведку противника. Под покровом ночи легче всего удавалось обмануть противника, совершив "глубокий" обходный маневр, и внезапно появиться в том направлении, где тебя меньше всего ожидали. Обходы очень любили большие начальники и штабные.
Вот, после утомительного ночного марша наша дивизия на рассвете подбирается к Дудергофу. В это время разведка неожиданно близко напарывается на крупные силы "противника" в лице гвардейской казачьей бригады или второй кавалерийской дивизии. В авангарде возникает путаница; выясняется, что кто-то что-то напутал, кто-то кого-то обошел, кто-то кого-то прозевал. Обе стороны перехитрили. "Противник" горит желанием скорее встретиться с нами и, вдруг обнаружив наши главные силы, прется на нас полным ходом и притом совсем не оттуда, откуда ему полагалось.
Решение атаковать принимается молниеносно обеими сторонами. Раздается команда, гремят трескучие воинственные сигналы штаб-трубачей, и вся дивизия из длинной растянутой походной колонны мигом на карьере разворачивается в сомкнутый фронт, ощетиниваясь пиками. Маневр этот проделывается в совершенстве. Сломя голову куда-то скачут ординарцы. Наши батареи карьером устремляются в сторону и, заняв сзади нас какие-то фантастические позиции, открывают огонь. В первых лучах утренней зари огненными искорками сверкают выхваченные из ножен шашки. Впереди нас уже бахают батареи противника.
"Марш - Марш!!!" - мы ураганом летим вперед, поднимая за собой облака адовой пыли, уступом за нами резерв. Гудит земля под тысячами копыт, в ушах свистит ветер, мы галдим "ура!", а прямо на нас уже налетает неудержимой плотной волной всадников вся Вторая дивизия, во все горло вопиющая точно такое же победное "ура". Шесть, а то и все восемь кавалерийских полков сшибаются друг с другом на полном карьере... Собственно "сшибаются" - никто не сшибается, ибо скачущие впереди командиры полков и эскадронов в самый последний миг останавливают обе стороны в десяти шагах друг от друга. Штаб-трубачи трубят "отбой". Маневр окончен. Начинается его разбор. "Сто-ой!.. Слеза-а-ай!.."
Потемневшие от пота и фыркающие кони быстро и тяжело поводят боками. Спешившиеся "противники" сразу превращаются в добрых старых знакомых и в облаках всезаволакивающей пыли обмениваются дружественными приветствиями.
- Послушай, Жог'ж, - кричит картавый конногвардейский корнет своему визави, офицеру лейб-гусару, - ты поедешь сегодня в Петербург?
- Еду!
- А где ты будешь выкушивать свою вечегнюю тог'бу?
- Начну с "Кюба"{*18}, идет?
- C'est entendu! (Решено!)
Словно из-под земли, как по волшебству, между обеими линиями появляются вездесущие "шакалы" со своими корзинами. Офицеры второпях закусывают, как правило, не успевая получить сдачи у ловких торгашей, а тем временем в сторонке старшие начальники и посредники, захлебываясь и обижаясь друг на друга, до хрипоты спорят на тему о том, кто настоящий победитель происшедшего "боя". Победителем признавалась обычно та сторона, которой удалось хоть немного обойти фланг противника или же раньше открыть пальбу из своих орудий.
Эти встречные атаки, производимые сразу несколькими полками, являли собой весьма эффектное, я бы сказал даже, волнующее зрелище, и мы не раз задумывались над тем, во что, собственно, должны были бы превратиться наши эскадроны если бы атаковывали друг друга всерьез. В этом случае особенно солоно пришлось бы скачущим впереди офицерам, которые неминуемо, как в клещи, в первую очередь попадали бы на острия пик, как врагов, так, возможно, и своих людей, налетавших сзади в том безудержном порыве, на какой только способны тяжелые и ретивые кирасирские кони.
После такого маневра обыкновенно объявлялась "дневка". Офицеры, принарядившись во все новое, отбывали частью в Петербург, частью же оставались в Красном, где вечером нарядные и расфранченные появлялись в уютном Красносельском театре смотреть оперетту в исполнении прекрасных артистов.
* * *
В дни, когда не было маневров, мы, как я уже упомянул, ежедневно выезжали на суровое военное поле для производства кавалерийских учений. Все эти учения, как бригадные, так и дивизионные, были весьма однообразны и, в сущности, очень походили на описанные выше Гатчинские полковые учения: те же перестроения, те же эволюции и атаки, но только в больших соединениях и масштабах.
Рискуя наскучить читателю, я все же позволю себе сказать еще несколько слов об учениях всей гвардейской кавалерии, дабы дать возможно полную картину Красносельского лагерного сбора.
В пять часов утра или даже еще раньше, после "побудки", все Красное Село оглашалось мелодичными звуками очень старинного "генерал-марша", который одновременно начинали играть оркестры во всех кавалерийских полках. С первыми же звуками в полках начинали седлать. Затем на главной улице полки выстраивались для встречи своих штандартов и командиров. К шести часам утра полки со своими оркестрами длинными колоннами со всех сторон выходили на простор военного поля, по старой традиции приветствуя друг друга исполнением полковых маршей. Так, при встрече, например, с Лейб-казаками наш оркестр начинал трубить Лейб-казачий марш, а Лейб-казаки отвечали нам исполнением нашего кирасирского марша. Всего на поле сразу выезжало одиннадцать гвардейских полков (Кавалергардский, Л.гв. конный, Кирасирский Его Величества, Кирасирский Ея Величества, Л.гв. казачий, Л.гв. Атаманский, Л.гв. сводно-казачий, Л.гв. конно-гренадерский, Л.гв. Драгунский, Л.гв. Уланский и Л.гв. Гусарский) с четырьмя конными батареями плюс иногда еще два армейских кавалерийских полка, так как в Красное Село ежегодно приводились из других округов некоторые армейские полки, шефами которых состояли "высочайшие особы". Тут на военном поле поднималась невероятная какофония, благодаря одновременному исполнению одиннадцати, а то и тринадцати разных маршей.
Наконец, все полки и конные батареи, в порядке своих бригад и дивизий выстраивались в одну общую огромнейшую линию и тщательно выровнявшись, спешивались в ожидании начальства. На поле выезжали в разное время пять бригадных генералов. Мы снова садились, снова ровнялись и снова играли свои полковые марши, дабы приветствовать бригадных, после чего опять спешивались в ожидании начальников дивизии, при появлении которых опять повторяли весь этот тарарам. Встретив с помпой последнего начальника дивизии, спешивались, наконец, в ожидании самого великого князя Николая Николаевича. На все эти церемонии уходило больше часа.
Великий князь приезжал на поле в большом сером открытом автомобиле и останавливался поодаль от полков в заранее назначенном месте, где его ожидали вестовые, державшие под уздцы оседланного благородного скакуна исключительной красоты, и казак с большим ярким флагом. Еще издали завидев великокняжеский автомобиль, появление которого предупреждали специально выставленные махальные, начальники принимались нервничать, суетиться и выравнивать свои части с исключительным рвением и вниманием. Некоторые генералы даже как-то сразу менялись в лице, утрачивая всю свою важность. Чувствовалось, что с момента появления на поле Николая Николаевича у всех начальников, в особенности у крупных, делалось тревожно на сердце, ибо Николай Николаевич вполне справедливо считался грозой гвардии. "Как-то оно пройдет, сегодняшнее учение?" - было у всех на уме. Тем временем великий князь при помощи вестовых усаживался на коня и, дав последнему галоп, выезжал к идеально выровненным частям, которые казались в этот миг как бы замороженными. Он объезжал фронт, начиная с правого фланга нашей дивизии, то есть с кавалергардов, поочередно здороваясь с каждым полком отдельно.
Великий князь выглядел на коне весьма эффектно. Несмотря на то что он обладал огромнейшим ростом и чрезмерно длинными ногами, у него была та идеальная, несколько кокетливая "николаевская" посадка кавалериста старой школы, посадка, которая так красила всадника, сливая его с конем в одно нераздельное и гармоничное целое. Одет был Николай Николаевич в китель защитного цвета с золотым генерал-адъютантским аксельбантом и простой походной ременной амуницией. На голове у него была по-кавалерийски заломленная мятая защитного цвета фуражка, на длинных ногах рейтузы с яркими красными лампасами. В то время он был уже в годах, однако все еще выглядел моложаво. Его лицо, заканчивающееся книзу небольшой бородкой, было загорелое и неправильное. Оно не было красивым, но надолго врезалось в память, потому что оно не было обыкновенным военным лицом прошлого генерала. Это было совсем особенное лицо очень большого начальника-вождя - властное, строгое, открытое, решительное и вместе с тем гордое лицо. Взгляд его глаз был пристальный, хищный, как бы всевидящий и ничего не прощающий. Движения - уверенные и непринужденные, голос резкий, громкий, немного гортанный, привыкший приказывать и выкрикивающий слова с какою-то полупрезрительной небрежностью. Николай Николаевич был гвардеец с ног до головы, гвардеец до мозга костей. И все-таки второго такого в гвардии не было. Несмотря на то что многие офицеры старались копировать его манеры, - он был неподражаем. Престиж его в то время был огромен. Все трепетали перед ним, а угодить ему на учениях было нелегко.
Объехав фронт конницы, великий князь резвым галопом удалялся на небольшой холмик, сопутствуемый казаком с ярким флагом в руках. Разом остановив своего скакуна, великий князь приказывал сопровождавшему его трубачу трубить сбор начальников. Смешно было видеть, как по этому сигналу важные и пожилые генералы сломя голову карьером летели к великому князю рядом с желторотыми корнетами-ординарцами, высылаемыми от каждой бригады. Окружив великого князя, начальники брали под козырек, ординарцы "являлись". Объяснив программу учения, Николай Николаевич отпускал генералов к своим частям, и грандиозное учение начиналось.
Это были все те же давно знакомые эволюции и перестроения, однако благодаря массе одновременно участвующих в учении полков, учение это становилось весьма и весьма нелегким делом, в особенности потому, что великий князь не желал считаться ни с чем и требовал от всех точности и четкости автоматов. А ведь шутка ли сказать: на военном поле в это время, не считая четырех конных батарей, скакало до 62-х эскадронов и сотен (!), которые по одному мановению руки великого князя одновременно должны были выполнить одинаковое движение и одну и ту же эволюцию, точно попадая на свои места! Шестьдесят четыре эскадрона - представьте себе только эту картину!..
Только благодаря заблаговременной и длительной муштровке этих самых эскадронов, удавалось великому князю на грандиозных учениях гвардейской кавалерии достигнуть идеальной слаженности и порядка.
И до чего же мелкой, ничего не знающей былинкой должен был чувствовать себя простой солдат, участвующий в этой лавине.
Если с современной тактической точки зрения подобные массовые учения и казались бесцельными, то с другой стороны они несомненно должны были вырабатывать у начальников отличный глазомер, обостряли внимание и общую дисциплину.
Малейшая оплошность кого-либо из командиров часто влекла за собой общую путаницу, и тогда великий князь давал волю своему кавалерийскому сердцу; вызвав к себе всех начальников, он не стеснялся никакими выражениями, дабы еще раз подтянуть и без того подтянутых и угодливо трепещущих генералов, принимавших в этом случае вид провинившихся школьников.
Помню я, словно это было только вчера, и такую картинку:
Вот, заслонившись ладонью от солнца и прищурив хищные глаза свои, великий князь пристально оглядывает свою конницу, совершающую последние перестроения перед атакой.
- Ординарец! - коротко бросает Николай Николаевич, даже не оглядываясь на следующих за ним офицеров, и небрежным движением пальца подзывает к себе очередного ординарца, у которого в этот миг кровь приливает к лицу от волнения.
- Чего изволите приказать, Ваше императорское высочество? - напряженным голосом спрашивает подъехавший к великому князю молодой корнет, взяв под козырек.
Ни на кого не глядя, великий князь вытягивает руку по направлению к флангу конницы и скороговоркой бросает:
- Скачите к генералу Н. и передайте ему, чтобы он...
Великий князь говорит так быстро, а корнет-ординарец так взволнован, что не может хорошенько разобрать отдаваемого приказания, а между тем великий князь уже произносит нетерпеливое: "Ходу!.. Ходу!"
При иных обстоятельствах корнет-ординарец, быть может, и переспросил бы начальника, как и полагалось в таких случаях сделать, однако выражение лица у Николая Николаевича до того строгое, что взглянув на него, корнет балдеет и исступленно выкрикнув: "Слушаюсь, Ваше императорское высочество!" - вонзает шпоры горячему коню и без оглядки во весь опор мчится к указанному генералу.
Во время этого короткого пути корнета охватывают муки отчаяния: что он передаст генералу?! Своим жалким корнетским умом молодой человек старается теперь угадать великую мысль великого князя и терзается, придумывая уже от себя какие-то фантастические распоряжения, какие он даст генералу. Вот он подскакивает к нему и, так и не придумав ничего путного, с растерянным видом берет под козырек и нерешительно мямлит: "Ваше превосходительство... Его императорское высочество вам приказывает... вам приказывает..."
- Ну, что мне приказывает?.. Говори же скорее!
Положение корнета ужасное. Не может же он теперь так ничего и не передать генералу. "Вам приказано... податься вправо! - с отчаянием, наконец, выкрикивает злополучный ординарец первое, что приходит ему в голову и, ужаснувшись содеянному преступлению, мысленно творит молитву Всевышнему. "Вправо?" - переспрашивает генерал, недоуменно пожимая плечами.
- Так точно, Ваше превосходительство! - упавшим голосом отвечает корнет.
- Полк! Левое плечо вперед! - зычно командует генерал. - Галопом... Ма-а-арш!
- Боже, что я наделал! И что теперь будет?!! - шепчет про себя ординарец и с решимостью самоубийцы карьером возвращается к великому князю.
- Корнет, вы точно передали мое приказание? - спрашивает князь странно спокойным голосом, в котором чувствуется короткое затишье перед грозой.
- Так точно, Ваше императорское высочество, - с дрожью в челюстях отвечает ординарец.
- Встаньте на место! Трубач... сбор начальников, - еще спокойнее приказывает великий князь и нервным движением слегка постукивает бамбуковым стэком по голенищу своего сапога.
Трескучая труба великокняжеского сигналиста заливается знакомым задорным сигналом. Со всех сторон несутся на дорогих конях своих пожилые, заслуженные генералы, держа под козырек.
Великий князь терпеливо ждет, покуда не соберутся все и выдерживает паузу. Пахнет грозой. Начальники напряжены и безмолвны.
- Ваше превосходительство! - наконец отчеканивает великий князь, обращаясь к генералу Н. - Вам не полком командовать... Вам свиней пасти!.. - вдруг выкрикивает он, зло оскаливаясь. - Я вам ординарца посылал?., да?
Генерал застыл, как статуя, и держит под козырек.
- Что я вам приказал?.. Что я вам при-ка-зал?!! Построиться в резервную колонну!.., а если вы не умеете этого сделать, то какой же вы, черт вас возьми, командир?!! Куда вас черт унес в кусты с вашим полком?! Стыдно!!
Генерал Н. терроризирован. Казалось бы, чего проще было бы ему тут же объяснить, что насчет построения резервных колонн он приказания не получил, а лишь добросовестно выполнил то, что ему передал ординарец... Но генерал Н. уничтожен. "Виноват, Ваше императорское высочество", - только и находит он единственный ответ, услыша который, великий князь несколько смягчается, в то время как настоящий виновник произошедшей путаницы - молодой корнетик испускает вздох облегчения и, возрождаясь духом, приносит в душе горячую благодарность Всевышнему.
Покричав еще минуты три и, наконец, остыв, великий князь отпускает начальников, и учение продолжается.
Эту небольшую сценку, свидетелем которой однажды довелось мне быть, я описываю так подробно, потому что очень и очень близко знал ее участника молоденького ординарца.
В каждой складке огромного военного поля, под каждым чахлым кустиком его, таится по шакалу, ни на минутку не теряющему из вида нашу конницу. Шакалы по своему долголетнему Красносельскому опыту уже знают, когда и куда завернет вся эта масса галопирующих всадников. Знают они не хуже самого Николая Николаевича, где и когда прикажет он своим полкам спешиться, оправиться и передохнуть на несколько минут. Этого момента они только и ждут, со всех сторон окружая нас, все время передвигаясь вслед за нами, и когда мы действительно спешиваемся для отдыха - шакалы уже тут как тут со своими корзинами. Вокруг каждого шакала уже кучка офицеров. Всякий торопится наспех выпить бутылку ситро, проглотить бутерброд с сыром или ветчиной. У шакала словно десять рук, с поразительным проворством он успевает обслужить каждого. Тут нельзя терять ни минуты, ибо вот уже раздается команда: "По к-о-о-ням!" и офицеры бегут к своим вестовым, державшим в поводу лошадей, дожевывая на ходу бутерброды.
- Эй, дядя, сколько с меня? - нетерпеливо спрашивает усатый поручик сангвинического вида, протягивая шакалу розовую десятирублевую бумажку. Тут уже шакал из разбитного малого вдруг превращается в какого-то придурковатого мямлю.
- Сее минуточку, вас сиаство... пять пирожков по пять пятачков... рубль двадцать пять копеек. Шоколаду не изволили брать? Рубль семь гривен... теперича нарзан...
- Да ведь я не брал нарзана!
- Извините, вас сиаство: запамятовал маленько. Сее минуточку подсчитаю...
И шакал задумчиво прищуривает глаза, словно вычисляет в уме сложную математическую формулу.
- Са-а-дись! - командуют сзади эскадронные командиры...
- А ну тебя, плут, к чертовой матери! - в сердцах кричит сангвиничный поручик, проворно присоединяясь к эскадрону, так и оставив свою десятку в руках шакала.
Добрая половина офицеров так и не успевала получить сдачи с шакала. Конечно, каждый обычно переплачивал гроши, но в общем итоге шакалы на этих учениях за несколько минут торговли делали прекрасные дела.
Великий князь ежедневно гонял нас на военном поле по нескольку часов, основательно выматывая лошадей. Всякое учение гвардейской кавалерии заканчивалось резвым полевым галопом на большую дистанцию, для чего все участвующие полки, следуя друг за другом в строю эскадронно, должны были описать на поле восьмерку огромного радиуса. Изюминкой в этой восьмерке были два искусственных препятствия - земляной вал и широкий ров, через которые и проносились друг за другом все 64 эскадрона.
Военное поле было до того вытоптано, что в сухую погоду каждая лошадь оставляла за собой облако пыли. Можете теперь представить, что поднималось на поле от прохождения резвым галопом тринадцати полков, в затылок друг другу! Обычно в каждом эскадроне вторые шеренги из-за пыли еле различали конские хвосты первых. Скакали в густой и плотной желтоватой пелене, затруднявшей дыхание и слепившей глаза, а между тем - смотреть надо было в оба! Для скачущих во вторых шеренгах препятствие вырастало внезапно и замечалось уже перед самой мордой лошади, однако опытные строевые кони, увлекаемые стадным чувством общего безудержного стремления всей гигантской лавины, никогда не шарахались в сторону и, дав внезапный мощный бросок в воздух, преодолевали препятствия.
Конечно, не обходилось и без единичных падений, заканчивающихся иной раз увечьями, а посему возле каждого препятствия стояли полковые лазаретные линейки с врачами и фельдшерами.
С учения возвращались домой уже после полудня, до того грязные и пыльные, что на людях невозможно было различать цвета их погон и фуражек. Помню, как однажды наш полк, возвращаясь с ученья входил на главную улицу Красного Села, вдруг сзади по колонне передают: "Смирно! Равнение налево!"
Великий князь Николай Николаевич в открытом автомобиле обгоняет полк. Вот он равняется с едущим впереди полковым командиром и, приказав шоферу замедлить ход, пальчиком манит командира к себе.
- У вас в четвертом эскадроне в первом взводе у флангового железо не чищено... Взыскать! - скороговоркой выговаривает великий князь.
И покуда его машина набирает ход, генерал Арапов уж бурей летит в хвост колонны к четвертому эскадрону.
Скандал... потрясающая драма. Ведь и впрямь в первом взводе на мундштуке флангового коня явственно проступают ржавые пятна! Командиру эскадрона объявляется выговор. Командиру взвода и вахмистру - строгий выговор. Взводного унтера и флангового отправляют на гауптвахту. И долго еще в четвертом эскадроне толкуют и судачат люди, покачивая головами: "Ну и глаз у Николая Николаевича!.. Ну и глаз... про-он-зительный! Ничего не пропущает, ничего не прощает!"
Глава IX
Приближался август месяц 1912 года. До моего производства в офицеры оставались считанные денечки, и по сему случаю дел у меня было по горло: с экипировкой шутить было нельзя.
Ежедневно после учений я ездил в Петербург, где первым долгом посещал почтенного Норденштрема - знаменитого петербургского военного портного, одевавшего весь цвет гвардейских щеголей и в том числе и молодых "высочайших особ". Там я без конца примеривал офицерский колет, сюртуки, вицмундиры, кителя, пальто, николаевскую шинель, короткие и длинные рейтузы и чахчиры с лампасами для парада, для гостиных и для повседневной жизни.
В просторном, светлом и солидно обставленном ателье Норденштрема на Невском кипела работа нескольких опытнейших мастеров под зорким и неустанным наблюдением самого хозяина - сурового, важного и хромого тучного старика, справедливо считавшегося королем российских военных портных.
Дорого брал за свою работу старик Норденштрем, однако он был истинным художником в своем деле. Иные неказистые и неуклюжие фигуры, облекаясь в мундиры и сюртуки его работы, вдруг, как по волшебству, приобретали стройность, изящность и благородство осанки. Скроенные Норденштремом мундиры и пальто носили именно тот отпечаток строгого изящества и хорошего тона, который так выгодно отличал внешность столичных франтов от их провинциальных собратьев.
Когда в ателье Норденштрема я смотрел в огромное тройное трюмо, мне делалось удивительно радостно и вместе с тем как-то жутко при одной мысли, что тот стройный и в высшей степени элегантный гвардейский офицер в строгом черном сюртуке на белой шелковой подкладке, который глядел на меня из глубины зеркала, - не кто иной, как я сам, собственной своей персоной!
От Норденштрема я несся к Фокину - наиболее излюбленному гвардейцами магазину "офицерских вещей". Там я заказывал по своей фигуре походную и парадную амуницию в виде всевозможных парадных портупей и виц-портупей, золотых кирасирских перевязей, серебряных лядунок, трехцветных шарфов, кобур, погон, эполет, краг, перчаток и темляков палашных и шашечных, У Фокина же специально по моей голове мастерилась красивейшая позолоченная офицерская каска на голубой шелковой подкладке и пригонялись к моей худощавой фигуре золотые кирасы. Там же после тщательного выбора приобретал я палаш, шашку и шпагу в расчете когда-нибудь похвастать перед будущими своими товарищами-знатоками замечательной фигурной сталью их клинков. Но всего замечательнее были знаменитые фокинские фуражки, которые делались только на заказ и которые признавались в гвардейской кавалерии квинт-эссенцией хорошего тона. С маленькими тупыми полями и в меру мягкие, они были чуть измяты по совсем особому фасону, придавая гвардейцам нечто от утонченного щегольства. Огромный синий вальтрап, шитый золотом и с блестящими звездами в углах, в массивном дубовом футляре завершал мои заказы у знаменитого Фокина, покончив с которыми, я тотчас же устремлялся к не менее знаменитому сапожнику, заказывая у него потрясающие парадные сапоги, сапоги обыкновенные строевые и всевозможные штиблеты, парадные, бальные, лаковые и "обыкновенные", которые тоже были необыкновенны, ибо были творением не столько сапожника, сколько истинного художника.
Шпоры я покупал, конечно, у Савельева. Правда, и в гвардейской "экономике" и у того же Фокина вы могли найти огромный выбор шпор всевозможных фасонов больших, маленьких, никелевых, настоящих серебряных, прибивных, гусарских, кирасирских, загнутых кверху, прямых, с репейками, без репейков, шпор бульдогов, на ремнях, на пуклях и пр. Но ни одни шпоры в мире не могли сравниться с настоящими Савельевскими по "благородству" своего звона, а звук шпор в то далекое время был очень красноречив. Так, если вы слышали сзади себя на улице громкое воинственное и вызывающее бряцание, вы не оглядываясь могли смело сказать, что за вами идет либо жандарм, либо какая-нибудь штабная крыса из комендантского управления. Если до вас доносился тонкий, задорный, кокетливый или же крикливый перезвон, - вы знали уже, что где-то рядом шествует приехавший в столицу провинциальный ухарь-армеец, гусар-красноштанник. Но если до вашего слуха доносилась мягкая и благородно дзинькующая мелодия, - тонкий, воспитанный гвардейский офицер, искушенный в правилах приличия и хорошего тона - офицер, носящий знаменитые савельевские шпоры, приготовленные из какого-то волшебного и, конечно, очень дорогого сплава.
Заканчивал я свой суетный деловой день в Петербурге у известного шорника, где осматривал скрипучее офицерское строевое седло со всеми полагающимися к нему причиндалами и заказывал легкое спортивное седло с вытянутыми вперед плоскими крыльями на итальянский фасон. Там же заказывал я элегантные клетчатые конские капоры и попоны с коронкой и собственными инициалами для моих собственных лошадей.
Лошадиный вопрос был вообще наиболее острым. Я должен был приобрести двух лошадей, причем полковое начальство предупредило меня, что всякая купленная мною лошадь, прежде чем попасть в полк, будет предварительно осмотрена полковым командиром и старшими офицерами, которые никогда не допустят в кирасирский полк офицерскую лошадь, могущую по своим статьям испортить общую полковую гармонию. Лошади господ офицеров должны были быть безупречны. В этом трудном деле навстречу мне пошел сам генерал Арапов, предложивший мне купить у него за тысячу рублей огромную, очень нарядную золотисто-рыжую лошадь тяжелого - типично кирасирского - склада с крупом налитым, как спелое антоновское яблоко, и красиво собранной шеей. Коня этого звали Галифе, и на нем не стыдно было щегольнуть на параде или погарцевать перед дамами. Второго коня, уже чисто спортивного типа, настоящего конкурного стиплера, уступил мне наш полковой адъютант, поручик Плешков - известный русский спортсмен, державший выдающихся лошадей, на которых он постоянно выигрывал призы. Уступленный им мне Зум-зум по наружности был полной противоположностью Галифе. Каштановый высоченный конь, очень поджарый и гибкий, с сухой тонкой длинной шеей и длинными ушами, с сухими ногами и резко выраженными сухожилиями, он обладал могучим плечом и подпругой. Выезжен же он был, как часы, и был неутомим. Плешков продавал Зум-зума только потому, что выигрывал на нем лишь вторые и третьи призы, а это не устраивало такого прихотливого и избалованного спортсмена, каким был Плешков.
Все эти хлопоты по экипировке отнимали уйму времени и уйму денег, однако доставляли мне тогда несказанную, чисто ребяческую радость, радость юноши, вот-вот готового с шумом распахнуть дверь выхода "в люди".
* * *
С тех пор, как я, закончив экзамены, снова вернулся в полк в ожидании производства, прошло лишь несколько недель. Однако за это короткое время отношение ко мне полковых людей заметно изменилось. Изменились и мои собственные отношения к кирасирскому полку.
Вахмистр и взводные унтера, которым я все еще должен был подчиняться, сразу сделались по отношению ко мне очень любезными и, обращаясь ко мне по службе, выказывали большой такт. Они знали, что через несколько недель, когда я надену золотые корнетские погоны, между ими и мной само собой сразу вырастет непроходимая пропасть.
Теперь и молодые наши офицеры, когда я при встрече с ними вытягивался во фронт, отвечали на мое приветствие любезнее, нежели прежде, не гнушаясь просто поговорить со мной и даже преподать советы в отношении моей экипировки. Страшный Палицын, да и сам командир полка уже отличали меня от прочих наших вольноперов, встречая меня поощряющим любезным кивком и парой теплых словечек. Перемена эта была естественна: офицеры уже дали согласие на принятие меня в свою среду, а в кармане у меня был прекрасный гвардейский балл. Лишь старый полковник фон Шведер по-прежнему либо вовсе не замечал меня, либо смотрел букой.
С другой стороны, если за минувший зимний период наших занятий, происходивших под вечный аккомпанемент цука Палицына, я в сущности, был равнодушен к кирасирскому полку, то теперь, вкусив прелести лагеря, я все более и более начинал чувствовать к нему симпатию и привязанность.
Полковая жизнь, не требовавшая ни умственных напряжений, ни философских рассуждений, положительно начинала мне очень нравиться своею ясностью, живостью, подвижностью и примитивной романтикой. Я начинал любить кирасирский полк, его живых людей, его красивых рыжих коней, простые, но строгие порядки. Мне приятно было, кода наш полк на маневрах или на учениях делал что-нибудь лучше, нежели другие полки. Наоборот, я искренно досадовал, если чужой полк в чем-либо проявлял свое превосходство перед нами. Короче говоря: я постепенно становился настоящим и убежденным кирасиром, чему, быть может, содействовало постоянное соприкосновение с полковым штандартом - этим неодушевленным предметом, представляющим собою, однако, душу полка. Приучая себя уважать штандарт, я научился уважать и самый полк.
Всякий молодой человек, выходивший в полк офицером, обязан был приобрести историю полка. Она была издана в двух томах, очень роскошно, с прекрасными иллюстрациями художника Самокиша, фотографиями, картами и планами тех сражений, в которых участвовал полк. Написана эта история была безвкусным и несколько напыщенным слогом, однако я принялся ее читать с большим интересом.
Оказалось, что наш полк был одним из старейших среди существующих русских полков. Сформирован он был Петром Великим в 1704 году. Первоначально он именовался "Драгунским генерала Портеса полком". При Петре полк бился со шведами и под Полтавой, и при Лесной, причем именно в этом сражении он особенно отличился в честь чего в офицерском собрании висела большая картина, писанная маслом, изображавшая нашу атаку на шведскую конницу под Лесной.
Когда в 1731 году по идее фельдмаршала Миниха в России впервые начали заводить тяжелую кавалерию, наш полк переименовался в "Лейб-Кирасирский". В царствование императрицы Елизаветы полк, уже как кирасирский, участвовал в семилетней войне и после взятия Берлина получил замечательную награду в виде нескольких серебряных труб, украшенных драгоценными камнями, каковые трубы в мое время плесневели где-то в недрах огромного полкового цехгауза. Дрался полк и в войнах при Екатерине. За Отечественную войну 1812 года и Бородинское сражение полк получил в награду 22 серебряные георгиевские трубы, и с тех пор инструменты нашего оркестра всегда были обвиты георгиевскими лентами. Права гвардии полк получил сравнительно поздно - лишь в 50-х годах прошлого столетия, но получил эти права исключительно за свои прошлые многочисленные боевые заслуги.
Все это было замечательно и радовало меня. Но замечательнее всего было сознание, что жизнь полка, начавшаяся при Петре I, не прерываясь ни на одно мгновение, била ключом в течение двухсот с лишним лет. Что со времен Петра и до моих дней в полку одни люди постепенно заменялись другими, и в любую эпоху в полку всегда находились старожилы, которые помнили прежних людей, прежних начальников, прежние порядки. Одно поколение кирасир сменяло другое не сразу, а постепенно, прививая новичкам свои взгляды и полковые традиции и передавая молодежи изустно старые песни и поговорки. Благодаря этой преемственности лицо полка оставалось неизменным.
Подобно тому как в теле живого человека с годами одни органические клеточки и кровяные шарики постепенно заменяются другими, но самый человек продолжает жить своей жизнью, почти не меняясь характером, так и старый боевой полк, постепенно сменяя лишь людей, играющих роль тех же клеточек организма, не менял своего "я", а лишь приспосабливался и приноравливался к новым эпохам и требованиям. Приятно было служить в таком полку молодому дворянину, настроенному патриотически и немного мечтательно, а в те времена я был еще во многом большим мечтателем.
* * *
Уже в то время, когда только еще определялась моя судьба и было решено, что я поступаю на службу в кавалерию, я полагал, что посвящу всю свою жизнь военному делу. Мне рисовалось, что со временем я непременно поступлю в Академию Генерального штаба, дабы сделаться серьезным, высококвалифицированным военным человеком, перед которым, благодаря Академии, откроются в будущем самые широкие перспективы и возможности к продвижению на высшие командные посты армии. Кончить свою карьеру я собирался не иначе, как главнокомандующим военным округом, а может быть даже и русским военным министром.
Однако в 1912 году, за несколько дней до своего производства в корнеты я вдруг ясно осознал, что к верхам могут привести и совсем иные пути - менее трудные и более приятные для тщеславия. Такой переворот в моем мышлении получился, как ни странно, после так называемого высочайшего объезда Красносельского лагеря и связанного с этим объездом торжественного парада в присутствии царя.
Еще два года тому назад, а именно летом 1910, когда я находился в плавании на эскадренном миноносце "Всадник", я ежедневно видел государя, так как "Всадник" свыше месяца находился в охране императорской яхты, стоя на якоре рядом с последней в шхерах и в Балтийском порту под Ревелем. Бывало, спрятавшись где-нибудь в рубке или за минным аппаратом, я украдкой от всех наводил 18-кратную подзорную трубу на палубу стоящего рядом нарядного императорского корабля и подолгу наблюдал, как проводит время царская семья, которая, конечно, и не подозревала, что в это время на нее смотрят чьи-то нескромные глаза.
В трубу царь был виден так отчетливо, словно стоял или сидел рядом со мною. Мне можно было видеть, как он доставал папироску из портсигара, как чиркал спичкой, как беззвучно шевелятся его губы во время беседы с женой или детьми. Мне видна была каждая черточка, каждая морщинка на его лице. В эти часы отдохновенья царственность его решительно ни в чем не проявлялась. Он выглядел тогда обыкновенным сорокалетним мужчиной, обладавшим хотя и симпатичной, но ничем не выдающейся внешностью. Видно было, что окружавшие государя - дети, жена и Анна Александровна Вырубова - обращались к нему совсем свободно и по-человечески просто.
Когда в то лето государь сделал смотр нашему миноносцу, он точно так же не произвел на меня слишком большого впечатления, может быть потому, что прибыл к нам в скромном флотском кителе, без регалий, без пышной свиты, а лишь в сопровождении пожилого адмирала Нилова и какого-то молодого флигель-адъютанта, придав таким образом всему смотру интимный характер простого посещения, что еще подчеркивалось той простотой и непосредственностью, с какой царь обращался к нашему командиру.
Но совершенно уже иным показался мне царь теперь, в 1912 году, во время объезда лагеря и парада гвардии.
Было тихое солнечное утро. На огромном поле под Красным гигантским симметричным покоем раскинулась в полном составе вся императорская гвардия со своими историческими знаменами и штандартами, с которых по случаю парада наконец-то сняли черные кожаные чехлы.
Тысячи и тысячи людей так странно и напряженно молчали, что, слившись в плотные массы полков, превратились в какие-то деревянные неодушевленные параллелограммы.
Издали я увидел, как к Преображенскому полку верхом на темной лошади шагом подъехал военный с голубой лентой через плечо. Позади этого человека следовала на конях без всякого строя огромная кавалькада всадников, у которых тоже виднелись ленты - алые и синие. В утреннем воздухе оркестр Преображенцев четко и торжественно грянул глубокие аккорды "Боже, царя храни" и с дивной точностью чудовищной машины по всей гвардейской пехоте в два резких ритма разом дрогнули и разом затихли сверкающие штыки винтовок, взятых на караул - Ать-д-два! С бесстрастием машины четкой скороговоркой грохнул первый полк "Здрав-жла - ваш - прат - велич-ство..." и вдруг "Ур-p-a-al", уже не машинное, а настоящее, мощное человеческое "ура" - живое, издаваемое тысячами грудей, глубоко вобравших прохладный утренний воздух. Внезапно в этот людской рев как бы впились новые трубные звуки гимна - это уже из Семеновского полка. Потом затрубили в Измайловском, в Егерском... Затрубили у гренадер... и еще, и еще...
Вся разрастающаяся и все затопляющая река звуков была неудержимой. Опять и опять нарастали новые крики тысяч людей и пение сотен труб, которые сливались вместе, оттеняя и дополняя друг друга. Звуки эти, накатываясь волнами, наполняли воздух жуткими диссонирующими раскатами, вызывавшими чувство безотчетного волнения и странного ощущения в спине, как от бегающих по коже мелких мурашек.
Объезд фронта гвардии длился томительно долго, и от напряженного ожидания в конце концов нервы начинали взвинчиваться. Нельзя было проронить ни слова, нельзя было сделать движение. А волна людского рева и музыка подкатывалась все ближе и ближе.
Государь, ехавший все время шагом, уже миновал линию пехоты и артиллерии и, повернув в сторону конницы, поравнялся уже с кавалергардами, зычно подхватившими общий вопль войск. Вот он миновал конногвардейцев. Совсем рядом раздались раскаты "ура", превратившиеся в какое-то невыносимое фортиссимо, и вдруг я увидел, как наш старый седоусый литаврщик, восседавший на статном белоногом коне впереди нашего оркестра, высоко поднял над головой обшитую замшем колотушку. Секунда - и старый литаврщик энергичным движением разом опустил руку, коснувшись кожи старых кирасирских литавров, расшитых золотом по синему фону и закрепленных по обе стороны седла. Во все усиливающемся человеческом вопле вдруг с новой силой и торжеством родились воинственные звуки наших полковых труб, запевших гимн, полный величия.
К горлу подступил какой-то лишний, мешающий комок, усилилось ощущение бегающих мурашек в спине.
Да, что и говорить: хорошо сочинен был старый Российский гимн. Что вдохновило господина Львова, композитора малоизвестного и не слишком одаренного, - не знаю, но в строгие и спокойные гармонии этого небольшого хорала ему удалось вложить огромную идею силы и величия{38}.
Не будь этого неистового людского вопля тысяч, обращенного к единому человеку, не будь этой чудной торжественной музыки, воспевающей его же, человек этот, быть может, и не произвел бы на меня теперь такого потрясающего впечатления. Но я был мечтатель, больше того, я, с детства был впечатлителен до крайности, и вся эта обстановка славы и торжества единого человека не могла не захватить меня. Мое место было рядом со штандартом. Царь поравнялся. И вдруг штандарт, наш гордый кирасирский штандарт, при встрече с которым ломали шапки штатские люди, а старые генералы струнками вытягивались во фронт, наш штандарт с ликом Бога небесного, плавно склонился к самым копытам государевой лошади, чуть не дотронувшись ликом Христа до грязной земли. Слезы разом затуманили глаза. Я смотрел на царя, и на одну короткую долю секунды его и мои глаза встретились. Я с трудом узнавал государя. Это не был уже тот уютный и семейственного вида невысокий человек, какого я еще два года тому назад так часто рассматривал в стеклышко подзорной трубы. Я теперь с трудом узнавал царя благодаря совершенно новому для меня выражению его лица - выражению, которое я не мог разгадать.
Сероватое лицо его было странно и спокойно, и нельзя было понять, выражало ли оно сосредоточенность или, наоборот, - оторванность от мирского. В эту минуту оно было очень не просто... Я был ужасный мечтатель, и мне серьезно чудилось, что взгляд его безмолвных глаз хотел сказать: "Да, вы правы, я больше, чем человек. Я могущественнейший на земле. Так должно быть, и вы это знаете".
В полку истошными голосами загалдели "ура". Царь медленно проехал мимо, вглядываясь в лица солдат. За царем проследовала его огромная свита, состоявшая из людей, обвешанных звездами, орденами и широкими лентами, перекинутыми через плечо, алыми и синими. Все они проезжали, не глядя на нас, - настороженные, молчаливые, серьезные и строгие. Молча проехал великан Николай Николаевич в андреевской ленте, генерал-адъютанты, свитские генерал-майоры, флигель-адъютанты и иностранные военные атташе в странных мундирах.
"Ура" и музыка перекатились в казачью бригаду и дальше во Вторую дивизию. Полки по-прежнему в своей мертвой неподвижности казались пестрыми деревянными параллелограммами, и от этой напряженной неподвижности тысяч людей трудно было понять, что именно они производят хаос воплей и трубных звуков. Чудилось, будто весь этот гомон вырывался из недр самой земли, словно вопила разом вся многострадальная и стародавняя Русь, воинствующая и самодержавная. Я оглянулся и (хорошо это помню) увидел, как старый седоусый литаврщик, сняв с руки перчатку, вытирал ею мокрые от слез глаза.
Почти все парады в высочайшем присутствии начинались именно так. Заканчивались они общим церемониальным маршем, причем пехота шла всегда первой под звуки излюбленных государем старинных маршей - "Взятие Парижа" и старого Егерского, а конница проходила на различных аллюрах мимо царя.
Мне пришлось участвовать в нескольких парадах в присутствии царя, я видел его много раз: и на маневрах, и на учениях, и на великих церемониях. Но именно этот первый мой большой парад, произошедший в лето 1912 года, вызвал во мне неведомые до сего ощущения и крутой переворот в моем мышлении. Я почувствовал вдруг, что страстно люблю государя. За что? - в этом я себе не отдавал никакого отчета. Мне пришло на ум, что великим счастьем для меня было бы попасть когда-нибудь в его блестящую свиту. Быть всегда возле царя, сопутствовать ему, служить лично ему, исполнять его личные поручения, даже его царские прихоти - вот это было бы и почетно, и чудесно. Кончено! - блестящая военно-придворная карьера - вот мое будущее, которое без всяких "академий" непременно стяжает мне когда-нибудь почет окружающих, влияние, силу и блеск. К черту великие академии и генеральные штабы!
Мне было тогда всего 20 лет и, повторяю, я был мечтателем.
Я сознаю, что только что приведенное мною описание переживаний молодого участника царского парада может показаться теперешнему читателю либо непонятным, либо преувеличенным. Я сознаю, что такое описание событий и настроений может даже покоробить чувство современного читателя, представляя самого автора в невыгодном освещении, - но что делать?! Дабы быть вполне честным, я могу описывать эти давным-давно прошедшие настроения и события лишь так, как они мною воспринимались в то далекое время. Что же касается описанного парада, то могу оговориться, что последний, конечно, воспринимался далеко не всеми участниками одинаково, и если на парадах солдаты вообще кричали "ура" и трубили "Боже, царя храни", то делали это не от избытка чувств, а потому что так издавна было принято и так приказывало начальство. Но если на одних участников царский парад производил впечатление лишь установленной казенщины, то на других он действовал подхлестывающе и волнующе, благодаря искусственно создаваемой обстановке общего напряжения и большой торжественности. Во всяком случае, могу сказать, что в то время в своих мыслях и мечтаниях я не был единичным исключением, и много было молодых гвардейцев, грешивших, как и я, подобными мечтаниями. Что же касается любви к царю, то у молодежи это была скорее какая-то влюбленность, нежели любовь. Раскройте только "Войну и мир" Толстого и прочтите то место, где описывается царский смотр, в котором участвует молодой Николай Ростов. По-видимому, влюбляться в своих государей было свойственно многим молодым людям во все эпохи{39}.
Глава X
И вот настало, наконец, долгожданное 6 августа 1912 года. В нетерпеливом томлении ожидали этот денек сотни русских молодых людей, считая часы и минуты, когда распахнется, наконец, перед ними массивная и крепко запертая дверь дверь выхода в "люди"...
Было утро. На зеленом лужку, невдалеке от лагеря преображенцев, торжественно праздновавших в этот день свой полковой праздник, выстроились покоем без винтовок юнкера выпускных курсов в порядке своих училищ. На правом фланге пажи, подпоясанные широкими белыми лаковыми ремнями, далее "павлоны" питомцы Павловского пехотного училища, знаменитого своей муштрой, затем юнкера Михайловского артиллерийского, наконец, молодцы Николаевского кавалерийского. Собрались тут и мы, давно знакомые друг с другом кавалерийские вольноперы, пристроившись на левом фланге под командой капитана Невежина. Все - и пажи, и юнкера, и вольноперы - прибыли в простых защитных солдатских гимнастерках, солдатских фуражках и бескозырках со скромными солдатскими кокардами. На всех были рейтузы добротного казенного солдатского сукна. Но если бы вы в эту минуту пошарили в карманах этих самых рейтуз, - у каждого нашли бы вы пару золотых или серебряных погон - новеньких-новеньких, блестящих, настоящих офицерских, со звездочками. В каждом кармане нашли бы вы сейчас и новенькую офицерскую кокарду. Лица у всех были празднично-сияющими и немного взволнованными - ведь остался-то всего какой-нибудь час... полчаса.
Когда в лагере отошла обедня, царь прибыл к нам верхом в сопровождении небольшой свиты. Он был на крупной караковой лошади и был одет в Преображенскую форму.
Нам в последний раз в жизни как простым солдатам скомандовали "Смирно!" Не спеша объехал государь фронт юнкеров, по своему обыкновению серьезно заглядывая в глаза и произнося спокойным и ровным голосом: "Здорово, пажи!.. Здорово, михайловцы... Здорово, вольноопределяющиеся", - и на эти приветствия мы в последний раз в жизни ответили по-солдатски.
Покончив с приветствиями, царь выехал на середину зеленой лужайки и все тем же спокойным голосом обратился ко всем нам с довольно пространной речью. Говорил он неторопливо, гладко, очень внятно, немного напыщенным слогом, но без особой выразительности. Царь говорил о значении командиров в Армии, о почетном звании и назначении русского офицера - защитника Отечества. Он указывал на то, какое должно быть отношение офицеров к солдатам, требуя справедливости к последним. Царь упомянул, что все русские военные без различия должны стать в отношении друг друга не только добрыми товарищами, но как братья, и мне показалось, что царь хотел намекнуть на существующий в армии антагонизм между отдельными родами оружия и частями. Особенно подчеркнул государь роль офицера на войне во время боя, требуя взаимной выручки и поддержки и как бы выдвигая на первое место принцип "один за всех - все за одного".
Затаив дыхание, прислушивался я к звуку государева голоса, ловя каждую его интонацию. Самый факт, что он говорил для нас, и в том числе для меня, казался чем-то замечательным. Немного странным было, что он говорил, как все люди, самым обыкновенным человеческим голосом, тогда как теперь, после недавно пережитого царского парада, я ожидал от царя во всем проявления чего-то необыкновенного и выходящего из рамок "человеческого".
Царь кончил словами: "Поздравляю вас с производством... До свидания, господа офицеры!" Последние слова он особенно подчеркнул, повысив голос. Лишь только кончил он, мы все принялись кричать "Ура!" Как мы орали! Как надсаживали свои глотки!
Перевоплощение наше осуществилось. Еще пять минут тому назад я был солдат, а теперь! Неужели я действительно офицер? Неужели я уже человек, настоящий человек?!!
Царь покинул нас под исступленное и на этот раз самое искреннее "ура".
Многие из нас были как бы в состоянии какого-то экстаза, из которого вывел нас капитан Невежин. "Ну, поздравляю вас, - проговорил он, крепко пожимая нам руки, - теперь можете расходиться". У всех у нас были глупые, счастливые лица, глупые сконфуженные улыбки. Юнкера вышли из строя и тут же без всякого стеснения принялись отпарывать друг у друга юнкерские погоны и прицеплять офицерские. Их примеру последовал и я.
Ко мне подошел красивый николаевский юнкер Череп-Спиридович и пажи Поливанов и Гончаренко. Они тоже выходили в наш полк. Мы поздравили друг друга.
- Идемте скорее, переоденемся и явимся представляться в собрание все вместе.
Обгоняя друг друга, чуть не рысью, помчались мы в гору к Красному Селу.
Кузен Мишанчик, несколько сконфуженный, отстал. У него не было гвардейского балла. В армию войти он не пожелал и никакой формы себе не заказал. Он должен был сегодня же подать рапорт о зачислении в офицеры запаса.
Дома меня ожидала уже приготовленная Евменчиком офицерская летняя парадная форма вне строя.
Дико было почувствовать на своих ногах легкие штиблеты вместо привычных строевых сапог. Жесткий накрахмаленный воротничок, долго не желавший застегнуться, непривычно подпер шею. Подвешенная к перевязи и пропущенная через шарф лядунка стесняла движение руки, и я чувствовал себя неловко. Но надо было торопиться, в офицерском собрании нас ждали. По случаю сегодняшнего торжества там готовился парадный обед.
Как-то меня там встретят и как теперь держаться мне перед всеми этими совсем чужими для меня людьми, в присутствии которых я еще вчера не смел ни сесть, ни даже стать вольно?
В последний раз оглядел я себя в зеркало, глупо улыбнулся и с некоторой тревогой на сердце пошел в полковую канцелярию, где мы, четверо свежеиспеченных корнетов, условились встретиться.
В собрание повел нас полковой адъютант. Распахнулась дверь в длинную светлую столовую. В глаза бросился длиннейший парадно накрытый стол. В открытую дверь был видел хор трубачей, пристроившихся на балконе. В зале полно было офицеров.
- Вот вам и господа новоиспеченные! - громко сострил адъютант, указывая на нас.
- А-а-а!.. О-о-о!.. Е-е-е! - послышалось со всех сторон на разные голоса. Все присутствующие оглядывали нас, мило улыбаясь.
- Здравствуйте, здрассте!.. - пожалуйста, пожалуйте!
Мы отыскали взглядом командира полка, дабы официально "явиться" ему. Генерал, однако, отсутствовал, предупредив всех, что опоздает, и попросил начинать без него.
Старший из новоиспеченных, корнет Поливанов, маленького роста, весь как на пружинках, браво вытянулся перед старшим полковником и звонким тенорком лихо отрапортовал:
- Господин полковник, честь имею явиться по случаю производства в офицеры и зачисления Лейб-гвардии в Кирасирский Ея Величества полк... корнет Поливанов.
Во время этой тирады и последовавших за ней подобных выступлений каждого из нас - в столовой разом стало тихо, как в могиле. Все присутствующие мгновенно согнали улыбки и, став на вытяжку, сделали каменные лица.
- Ну, церемонии потом, а сейчас обедать! - весело проговорил наконец полковник.
При этих словах в зале снова поднялся гвалт. Нас подхватили под руки и поволокли на балкон к особому закусочному столу, усыпанному горячими и холодными закусками, рюмками и графинами с водками, настойками и наливками.
- Ну, молодежь, держись! - басил верзила Палицын. - Посмотрю-ка я, какой в вас толк!.. - наливайте, наливайте им!.. Так, так, так... Что-о-о?! Отказываетесь?!!! Что за р-распущенность? Кто вас воспитывал?!
- Молодые, запомните раз и навсегда: кирасиры Ея Величества не страшатся вин количества! - проговорил поручик Соколов, покручивая тараканьи усы и распоряжаясь рюмками.
Никто из старых не пил больше одной - двух рюмочек: напиваться водкой, как мы уже знали, считалось в полку очень дурным тоном. Водку пили только помаленьку, перед обедом, для возбуждения аппетита. Однако, нас новоиспеченных - сразу принялись накачивать - так уж принято было делать в этот день, и мы послушно опрокидывали рюмку за рюмкой.
- Боже мой, что же это будет?! - с некоторым ужасом подумал я. - Ведь это только еще предварительная закуска... Обед впереди!! Только бы не потерять приличия!
Кто-то из офицеров вспомнил о моем кузене Мишанчике. Как никак, он тоже был сегодня произведен в офицеры. Правда, в армейские, но все же! За Мишанчиком тотчас же командировали. Он прибыл сконфуженный, в солдатской гимнастерке, на которую кто-то успел нацепить офицерские погоны.
Вся компания наконец шумно уселась за стол. Трубачи на балконе грянули оглушительный марш. Подали суп и к нему мадеру, которую разливали в хрустальные фужеры внушительных размеров. Нас, новоиспеченных, рассадили порознь, не позволив держаться вместе. Возле каждого новоиспеченного сел старый бывалый корнет, приказывающий вестовым подливать вино. Моим соседом оказался корнет Розенберг, с места выпивший со мной на брудершафт и все время твердивший:
- Трубецкой, держи фасон! Пей, но фасона не теряй, это первое правило в жизни. Помни, что если тебе захочется пойти в сортир поблевать, - ты и это отныне должен суметь сделать с фасоном. Фасон - прежде всего, понимаешь?
Голова кружилась. В глазах рябило. Белая скатерть сливалась с белыми тарелками, фанфары трубачей - с громким говором и хохотом обедающих.
- Боже, Боже! - молился я. - Умоляю тебя, сделать так, чтоб я сегодня фасона не потерял!
Подали жаркое, и вестовые в белых рубахах окружили обедающих, держа в руках большие подносы с бокалами шампанского и большие бутылки, завернутые в ослепительно белые салфетки.
Вот тут-то и началось!
- Трубецкой, давайте на брудершафт! - кричал кто-то напротив меня.
- Эй, князь, выпьем "на ты", - кричали слева и справа, со всех сторон.
Отовсюду ко мне протягивались бокалы с пенящимся вином. С каждым нужно было облобызаться и выпить - выпить полный бокал "от души до дна". Позади моего стула, как и позади каждого новоиспеченного, прирос вестовой с бутылкой, и как я ни осушал свой бокал, он все время был полон.
Вдруг все разом с шумом вскочили со стульев и мгновенно умолкли.
- Трубецкой, командир полка пришел, - шепнул мне Розенберг, - "являйся", возьми в руки фуражку и смотри, фасона не теряй!
Я оглянулся, как в тумане прыгали передо мной десятки лиц. В горле чувствовалась невыносимая спазма. Ноги казались налитыми свинцом. С трудом взгляд мой отыскал, наконец, круглую физиономию генерала с маленьким изломанным носом.
Сделав над собой неимоверное усилие и собрав в комок всю свою волю, я пошел прямо на него, стараясь "печатать" по фронтовому. Мне удалось-таки вовремя остановиться и отрапортовать генералу все, что полагалось. Генерал с добродушной улыбкой протянул мне руку и поздравил. Чей-то голос рядом тихо проговорил:
- Ну, этот, по крайней мере, пьет неплохо.
- Очень рад это услышать! - отозвался улыбающийся генерал, - ценю, когда умеют пить!
Что было дальше, не знаю. В памяти остались только какие-то большие серебряные блюда с поджаренным соленым миндалем и поразившая меня своей сосредоточенностью физиономия кузена Мишанчика, который наотмашь бил колотушкой в большой барабан.
То, что происходило в нашем собрании, - происходило в этот день во всех прочих полках гвардейской кавалерии без исключений. Традиция требовала, чтобы в этот день напаивали "в дым" новоиспеченных гвардейских корнетов, с которыми старые корнеты, поручики и штабротмистры сразу пили на брудершафт, ибо в гвардейском полку все офицеры должны были говорить друг другу "ты", невзирая на разницу в чинах и годах. Это тоже являлось требованием старинной традиции.
Как я попал домой - я этого до сего времени не знаю.
Проснулся я утром на следующий день в своей постели больной и разбитый.
В соседней комнате тихонько кряхтел и стонал, произнося имя Божие, кузен Мишанчик.
Великий трезвенник, вчера в первый раз в жизни он был пьян и притом - в дымину...
- Мишанчик, побойся ты Бога! - подзудил я его, несмотря на собственные страдания.
- Ну, как ты вчера "вышел в люди"? - в свою очередь поддразнил он меня.
В сенях раздалось бряцание шпор, и в комнату совсем неожиданно вошел громкий поручик князь Урусов-старший, сразу плюхнувшийся на диван. "Что я вижу?! - вскричал он, - корнет еще в постели? Что-о? Болен, ты говоришь?! Какая чепуха! Твое самочувствие никого не тронет и никому не интересно. Кирасиры Ея Величества не страшатся вин количества! Неужели ты это еще не усвоил? А потом, душа моя, ты говоришь вздор, голова у тебя не может болеть: в собрании пьют только Moum sec cordon vert (марка сухого французского шампанского с зеленым ободком на горлышке бутылки). Прекрасная марка! Да, да... и от нее никогда никаких котов не бывает. Пей в своей жизни только Moum, только sec, и только cordon vert - всегда будешь в порядке. Об одном умоляю: никогда не пей никаких demi-sec (полусухое вино)! Верь мне, князь: всякий demi-sec во-первых блевантин, а во-вторых, такое же хамство, как и пристежные манжеты или путешествие во втором классе. Итак: moum sec cordon vert, дошло?.. Ну, вставай, идем в собрание. Я тебя мигом приведу там в порядок. Кстати, новость: я сейчас видел командира. Ты назначен в Лейб-эскадрон, и сегодня это будет в приказе. Ты рад? Что? - жаль, говоришь, третий эскадрон? Но, душа мой, нельзя же тебе оставаться в том эскадроне, где ты служил простым вольнопупом! Подумай об отношении к тебе солдат! Ну, вставай же скорее. Эй, подать корнету одеваться!"
Как выпил я с поручиком "на ты" и о чем беседовал с ним вчера, - этого я решительно не помню, но сегодня он явился ко мне как старинный приятель, с таким видом, будто был знаком со мною всю жизнь, и покуда я занялся своим туалетом, он успел преподать мне кучу полезнейших советов и рассказать уйму новостей.
В собрании поручик действительно быстро вылечил меня, лично приготовив из каких-то напитков что-то вроде бурды и предложив соответствующую закуску. Тем временем в столовую явились вчерашние новоиспеченные - помятые, вялые и, видимо, страдающие. Покуда Урусов-старший принялся за их лечение, вошел старший полковник фон Шведер, как всегда чопорный и официальный. Мы вскочили, а полковник совсем неожиданно пригласил всех нас, "молодых", последовать за ним в соседнюю комнату для "небольшой беседы".
Эдуард Николаевич фон Шведер был среднего роста, сухой, хорошо сложенный мужчина лет сорока с породистым "дворянским" лицом. Черные волосы его были зализаны всегда безукоризненным нафиксатуаренным английским пробором. Черные щетины его усов были подстрижены с точностью до 0,1 миллиметра. Энергичный выдающийся подбородок был всегда только что выбрит, нижняя губа несколько брюзгливо выпячивалась вперед. Нос у него был большой, наподобие орлиного, а из-под черных бровей выскакивали блестящие темно-карие глаза - злющие, строгие, официальные. Говорил полковник тихим, низким баритоном и чуточку в нос. При одном виде этого всегда подтянутого полковника и самому невольно хотелось подтянуться, и всякий офицер при встрече с ним невольно оглядывал себя.
"Закройте дверь", - строго сказал Эдуард Николаевич, лишь только мы взошли за ним в соседнюю комнату, полковник и нам не предложил сесть, и сам не уселся. Он так холодно и внушительно глянул на нас, что мы - четверо новоиспеченных - невольно выстроились рядком в позах "смирно".
- Господа, - тихо проговорил он. - Кирасирский полк оказал вам великую честь, приняв вас офицерами в свою среду. Вчера вы надели офицерские погоны Кирасирского полка. Я - ваш старший полковник - требую от вас, чтобы - где бы вы ни находились, - вы ни на минуту не забывали, что у вас на плечах офицерские знаки нашего полка. Эти погоны обязывают вас... Да, эти погоны обязывают всякого, кто имеет честь их носить, к достойным поступкам, порядочности и приличию. Помните, что в глазах общества и света всякий ваш неблаговидный поступок или даже жест будет приписан не столько вашей личности, сколько всему полку, потому что полк, принявший в свою среду офицера, тем самым гарантирует его порядочность и воспитанность. Офицера, не умеющего ограждать свое достоинство и достоинство полка, офицера, не умеющего держать себя, полк не потерпит в своей среде. Теперь - относительно денежных дел... (я говорю об этом с вами в первый, и, на-де-юсь, в последний раз). Я требую от вас в этом вопросе высшей щепетильности. Полк требует от своих офицеров, чтобы они жили прилично, но... если у вас нет для этого средств - постарайтесь сами скорее покинуть полк. Жизнь выше средств, неоплаченные счета, долги и векселя - все это в конце концов приводит офицера к совершению неблаговидных, даже бесчестных поступков. Запомните это и сделайте отсюда сами надлежащие выводы. Это ясно... Но я лично вас предупреждаю: первый же неблаговидный или неприличный поступок - и даю вам честное слово - вам придется в двадцать четыре часа покинуть полк... Да, господа... полк этого не по-тер-пит и никому не простит, кто бы он ни был и какими бы связями он ни обладал.
Я требую от вас соблюдения в полку строжайшей дисциплины на службе, а в собрании оказывать уважение каждому старшему товарищу, будь он хотя бы только одним выпуском старше вас или даже одного выпуска с вами.
Полковник сделал короткий официальный поклон в знак того, что беседа окончена. Мы брякнули шпорами и поспешно выкатились из комнаты. Полковник умел произвести впечатление и умел быть пренеприятным.
Очень скоро после этой беседы, а именно на первом же созванном общем собрании полковых офицеров мы убедились, что Эдуард Николаевич ничего не преувеличил и никогда зря языком не болтает. Впрочем, об этом общем собрании речь будет еще впереди.
Итак, выслушав назидания старшего полковника, я посвятил все утро официальным визитам к старшим товарищам, для чего снова облекся в "парад". Солдаты нашего полка при встрече со мной отдавали мне честь, лихо становясь во фронт, и "ели меня глазами". Не скрою, в этот день мне делалось от этого как-то совестно и немного конфузно, в особенности при встрече с солдатами третьего эскадрона. Каждый солдат в полку хорошо знал меня - бывшего вольнопера и штандартного ассистента, и мне это было немного неприятно.
К вечеру мне захотелось вырваться из полка, дабы на воле почувствовать себя настоящим человеком. Мне захотелось теперь показать себя незнакомым людям и посмотреть, какое я произвожу на них впечатление в новой своей роли законченного человека. Я решил прокатиться в Петербург. Для этого мне уже не требовалось испрашивать ни разрешений, ни унизительной "увольнительной записки".
И вот извозчик подкатывает меня к Красносельскому вокзалу. Но сколько же нужно ему заплатить? Я знаю: приличный гвардейский офицер никогда не торгуется, нанимая извозчика. Он не спрашивает "сколько", а молча достает кошелек и не глядя сует извозчику в руку деньги. Но сколько? Дать полтинник? Нет, пожалуй надо дать рубль. А что, если извозчик вдруг скажет "маловато, барин, даете". Как это будет стыдно! Ведь я унижу себя, свое офицерское достоинство, свой полк... И вот, вытащив кошелек, я небрежно сую вознице целую трешку. Я не оглядываюсь и поспешно вбегаю по ступенькам крыльца, в то время как за мною раздается почтительное - "премного благодарен, ваш-сиа-ство!"
Я решительно распахиваю дверь, которая ведет туда, куда еще вчера утром вход был для меня воспрещен - в зал первого и второго класса. Навстречу мне медлительный и осанистый генерал-лейтенант в сером пальто на красной подкладке и с широкими красными лампасами на рейтузах. При виде такого зрелища в моем мозгу сам собой мгновенно зарождается привычный рефлекс, властно повелевающий остановиться, щелкнуть шпорами и вытянуться колышком, по-солдатски, впиваясь взглядом прямо в генеральские очи. Мне нужно сделать еще один шаг и...
- Фу, черт, что я делаю?!!! - вдруг соображаю я в последний миг. И вот, вместо того чтобы вытянуться колом, я просто прохожу мимо генерала и только прикладываю ладонь к козырьку своей фокинской фуражки, стараясь придать этому жесту элегантное равнодушие..., а в груди все так и клокочет от радости.
На перроне людно. Я медленно прохаживаюсь взад и вперед. Дзынь... доносится до меня звук четко бряцнувших шпор. Оглядываюсь - какой-то артиллерийский вольнопер, вытянувшись, отдает мне честь. Несчастный, он и не подозревает, что еще вчера утром я был таким же ничтожеством, как и он. Но сегодня... Сегодня я теряю всякую совесть и небрежно отмахиваюсь от него, еле приподняв два пальчика к козырьку и приняв такой вид, словно эти почести мне давно надоели.
Вот совсем незнакомый поручик, конногренадер, поравнявшись со мною, к моему удивлению прямо подходит ко мне и молча протягивает руку. Машинально я делаю то же самое. Мы здороваемся - и тут только я вспоминаю, что согласно традиции все офицеры гвардейской кавалерии здороваются друг с другом при встрече, обмениваясь рукопожатиями, вне зависимости от того, знакомы они или нет. Прекрасная традиция, знаменующая товарищество и взаимное уважение полков.
На каждом шагу меня ожидает новое ощущение. Еще вчера утром я не смел на улице закурить, а сейчас я лезу в карман и с независимым видом закуриваю папиросу, не стесняясь ничьим присутствием.
Подходит поезд. Я не спеша влезаю в темно-синий вагон первого класса и разваливаюсь на бархатном диване. Боги, как я отвык от мягкого вагона! Передо мной какой-то штатский пожилой господин,, и я чуть презрительно оглядываю его с видом превосходства гвардейского офицера. На самом деле, я чувствую, что глубоко презираю мягкую фетровую шляпу своего соседа, его штатские манеры и все его штатское мировоззрение, хотя он и хранит молчание. Первая остановка платформа "Скачки". В наше купе входит красивая и элегантная молодая дама. С первого же взгляда я определяю, что она из высшего общества, это видно и по ее особой уверенности и по изящному изысканному вкусу, с каким она одета. В ее лице и во всей ее фигуре что-то знакомое... Да ведь я ее хорошо знаю! - Это Элла Пущина, рожденная графиня Клейнмихель, бывшая наша московская барышня, с которой я когда-то танцевал на московских детских балах{40}. Три года тому назад она вышла замуж за богатого петербуржца Пущина - ротмистра Конной гвардии, и я вспоминаю ее блестящую свадьбу, на которой присутствовал в числе многочисленных приглашенных. Как изменилась она за эти годы. Какой у нее стал уверенный, немного чопорный вид и новое выражение спокойствия и некоторой усталости на красивом лице.
- Вы не узнаете меня? - спрашиваю я.
Пущина с минуту смотрит на меня с удивлением.
- Ах, конечно, узнаю теперь. Представьте себе, а я и не знала, что вы стали кирасиром. Как странно что мы с вами в Петербурге нигде не встречались за это время! Вы нигде не выезжаете?
Я хочу ей поведать свое счастье и рассказать, что офицером стал только вчера, но почему-то воздерживаюсь от этого. Мне приятнее, чтобы думали, будто я уже давным-давно вышел в люди. С удивительной для себя находчивостью я объясняю Пущиной, что нигде не показывался вот уже целый год по случаю траура из-за смерти родного дяди Петра Трубецкого. Мы вспоминаем общих знакомых и старушку Москву, о которой говорим с еле уловимым оттенком пренебрежения. До Пущиной дошли слухи о моей помолвке с княжной Голицыной. Она поздравляет. Я с громадным удовлетворением констатирую, что эта великосветская молодая дама разговаривает со мной по-новому. Она принимает меня всерьез. В ее глазах я уже имею положение, и известный удельный вес. Нашего общего соседа по купе пожилого господина - Пущина не замечает вовсе. Он для нее пустое место, ничто, тогда как я - настоящий человек! Боже, как это хорошо и как это ново!
Я ужас как рад Пущиной. Она первая из моих прежних знакомых, на которой я испробовал действие произошедшей со мной дивной метаморфозы.
И вот я в столице. Я - двадцатилетний ребенок. Мне, как счастливому мальчику, хочется смеяться и прыгать от радости, но сегодня я играю в большого, и эта игра увлекает, доставляя несказанное удовольствие. Однако вместо того чтобы улыбаться, я напускаю на себя усталое равнодушие. Во всех своих движениях я сдерживаю себя. Я стараюсь в точности копировать известных мне наиболее манерных и тонких гвардейских франтов. Я копирую их походку, чуточку презрительное выражение лица, словом, - все их повадки, - и я чувствую, что мне это положительно хорошо удается. Во всяком случае столичные обыватели принимают меня всерьез. Никто из них не улыбается, глядя на меня. Никто не догадывается, что я, как таковой, пока еще успел просуществовать на свете всего навсего один лишь денек. Идеально скроенное норденштремовское платье и фокинская фуражка - мои верные союзники. Они помогают мне в достижении новых эффектов, и я, не переставая, все пробую свои новые возможности.
Вот на широком тротуаре Невского проспекта встречаются мне какие-то штатские молодые люди в студенческих фуражках. Они шагают разнузданной штатской походкой беспечных юношей-студентов. Равняясь с ними, я напускаю на себя надменный вид человека, свыкшегося со своим превосходством, иду так прямо, гордо и уверенно, что штатские юноши инстинктивно уступают мне дорогу и сторонятся - лишь бы как-нибудь не задеть меня.
Подтянутые столичные городовые в белых перчатках при виде меня делают почтительное лицо и берут под козырек так выдержанно, словно видят перед собой важного сановника.
В глазах встречных женщин я тоже читаю сегодня нечто для меня новое. По их взглядам я чувствую, что нравлюсь и произвожу впечатление. Иные барышни бросают на меня взгляды, которые на две-три секунды более продолжительны нежели положено для того, чтобы отметить обыкновенного прохожего, а во взглядах некоторых дам сегодня я читаю как бы некий призыв и желание. Я в восторге от самого себя и так самодоволен, что порою мне самому делается совестно.
Заканчиваю я день, конечно, там, куда целый год не смел и помышлять даже взойти. Я заканчиваю этот день у "Медведя", в знаменитом фешенебельном петербургском ресторане. За ужином я устало заказываю Moum sec cordon vert и выказываю подлинный фасон приличного гвардейца, едва выпив один бокал из поданной мне цельной бутылки дорогого вина.
В итоге этого чудесного дня я констатирую, что все встречавшиеся сегодня со мною люди относились ко мне одинаково по-новому. Это новое сопутствовало мне сегодня на каждом шагу, и я читал это, как в глазах железнодорожного кондуктора, так и в глазах шофера такси, извозчика, городового, ресторанного официанта, скромной барышни и элегантной столичной дамы.
В этот день я вдруг почувствовал под собой некий прочный фундамент.
В этот день я с необыкновенной ясностью увидел себя уже блестящим флигель-адъютантом, задающим гвардии тон. Я увидел себя молодым свиты генерал-майором, гарцующим на коне в пышной государевой свите, я увидел, что вот уже я всеми уважаемый генерал-адъютант, исполняющий личные ответственные поручения самого царя. Мне чудилось, что я дворцовый комендант, что я министр императорского двора... черт знает что чудилось мне в этот замечательный день!
Одного лишь не видел я. Я вовсе не видел призрака грядущей революции - той величайшей силы, которая в один день разом разрушила все мои честолюбивые планы и превратила самого меня в деклассированное ничто.
Глава XI
Всем молодым корнетам после производства обычно полк предоставлял 28-дневный отпуск. Однако отпуском я решил сейчас не пользоваться, а отложить его до своей свадьбы, которая была назначена на ноябрь месяц.
Вопрос с моей свадьбой был не совсем прост. Офицеры не имели права вступать в брак ранее достижения определенного возраста, а так как этого возраста я еще не достиг, то мне пришлось тотчас же подать прошение "на Высочайшее имя" о разрешении мне вступить в брак. В щепетильном гвардейском полку дело этим, однако, не ограничивалось, и в каждом отдельном случае вопрос о браке товарища решался на общем собрании господ офицеров. Гвардейскому офицеру нельзя было жениться, не покинув полк, ни на крестьянке, ни на мещанке, ни даже на богатой купеческой дочке, каково бы ни было ее воспитание. Гвардейцу можно было жениться только на женщине дворянского происхождения, и прежде нежели разрешить товарищу вступить в законный брак, общество офицеров полка наводило справки, как о самой невесте, так и о ее поведении, репутации, а также и о ее родне.
Не скрою: для моего самолюбия было и дико, и даже несколько оскорбительно испрашивать у своих новых товарищей их согласия на мой брак с девушкой, которую я считал верхом порядочности и всякого совершенства, однако не сделать этого я не мог. Каждому офицеру приходилось строго считаться с укоренившейся традицией и гвардейскими обычаями, иначе его тотчас же с треском "вышибли" бы из полка.
Впрочем, старшие офицеры поспешили заверить меня, что в данном случае ни у кого никаких сомнений быть не может, и дело сведется лишь к соблюдению установленной формальности. Итак, едва успев надеть корнетские погоны, я с места с головой окунулся в новую для меня деятельность как командир третьего взвода Лейб-эскадрона, то есть первого по порядку эскадрона, именовавшегося еще на официальном языке полковых приказов эскадроном Ея Величества.
Командовал этим эскадроном старший в полку ротмистр Михаил Федорович Данилов, о котором я имел уже случай упомянуть несколько выше. Это был офицер трезвый, уравновешенный и тактичный. Типичный карьерист и тонкий интриган он был человек далеко не глупый, умевший добиться уважения начальства и приобрести в его глазах авторитет. Он был коренной офицер Лейб-эскадрона. Эскадрон любил и, несмотря на карьеризм, был истым кирасирским патриотом, близко принимавшим к сердцу полковые интересы.
Старшим офицером в Лейб-эскадроне был в то время известный уже читателю штаб-ротмистр барон Ф. Н. Таубе. Оба эти офицера с первых же дней отнеслись ко мне очень хорошо, как настоящие старшие товарищи. Однако Данилов, бывший на много лет старше меня, был настолько солиден, что близко сойтись с ним я не мог, точно так же, как и с бароном Таубе, с которым у нас оказалось мало общего, ибо, как мне кажется, барона интересовали, в сущности, только одни бабы. Зато с корнетами Аршиневским и Клюпфелем (в особенности, с последним) я очень скоро близко сдружился и, благодаря этому, одиноким себя в Лейб-эскадроне не чувствовал.
Вопрос о моих взаимоотношениях с солдатами в первые дни несколько тревожил меня. В Лейб-эскадроне находилось несколько человек, проходивших со мною вместе курс обучения в полковой учебной команде. Они были свидетелями всех измывательств Палицына над вольноперами. Будучи в учебной команде, как солдаты, так и вольноперы, - все были на одинаковом положении простых рядовых, поверяя друг другу свои служебные невзгоды. Теперь в отношении этих людей я становился начальником, которого они обязаны были величать "сиятельством". Я боялся, что не буду иметь должного авторитета в их глазах. А что, если с первых же дней обстоятельства вынудят меня понукать их, "пушить" на чем свет стоит или же подвергать наказаниям?
Все это очень конфузило меня и, не скрою, мой первый выход к своему третьему взводу был для меня волнителен. Мне пришлось преодолеть чувство большого конфуза, чтобы по-начальнически поздороваться с людьми. К счастью, все обошлось гораздо проще и естественнее, нежели я это себе представлял, и если мне удалось проявить к моим подчиненным известный такт, то и они встретили меня отнюдь не менее тактичным образом, и благодаря этому, уже через три-четыре дня я совсем освоился со своей ролью начальника.
К моменту моего производства маневры под Красным были в полном разгаре. С первых же дней мне повезло. Командуя офицерским разъездом, я смог отличиться и обратить на себя внимание начальства. Чистый случай помог мне доставить в наш отряд ценные сведения о составе и движении главных сил "противника". Повторяю: вышло это у меня случайно, но мне уже казалось, что это моя врожденная страсть к охоте, то есть к выслеживанию зверя, помогла мне в этом деле.
Благодаря первым удачам, наш командир полка генерал Арапов обратил на меня особое внимание и с первых же дней стал относиться ко мне с большим расположением. Я стал замечать, что генерал благоволит мне более, нежели другим молодым корнетам. Откровенно говоря, не думаю, что причиной тому были только выказанные мною способности, ибо многие мои товарищи проявляли себя на маневрах прекрасными работниками. Причина доброго расположения ко мне генерала Арапова, как мне кажется, была несколько иная. Дело в том, что на первом же маневре мне пришлось по делам службы явиться в расположение известного в гвардии генерала Петрово-Соловово. Этот генерал находился в дальнем родстве с нашей семьей и когда-то был дружен с моей матерью и покойным отцом{41}. Я знал его с детства, когда он еще был Лейб-гусарским офицером. На праздниках он приезжал в Москву и каждый год бывал у нас в семье на елке.
Он очень любил баловать, возиться и играть в снежки с нами, детьми. Он был человек живой и веселый. Мы, дети, звали его "черный дядя Боря". Петрово-Соловово в свое время командовал фешенебельным Лейб-гусарским полком, был очень популярен в гвардейской кавалерии и к тому же пользовался личным расположением самого великого князя Николая Николаевича. Человек он был богатый, независимый и добродушный.
Когда теперь на маневрах я явился к Петрово-Соловово, он был в окружении некоторых подчиненных ему в этот день генералов, в числе которых находился и наш полковой командир Петрово-Соловово сразу меня узнал, лишь только я назвал себя, и по-простецки обрадовался мне. Бросив деловые разговоры с генералами, он стал меня расспрашивать о здоровье моей матушки и тетушек, прося меня послать от его имени привет домой. Генерал со счастливой улыбкой вспомнил наши веселые детские елки. Я тоже очень обрадовался встрече с "черным дядюшкой", живо напомнившем мне детство. Я попросту, по родственному назвал его "дядя Боря" и минут пять прокалякал с ним без всякого стеснения, как с равным.
Грешным делом мне думается, что этот незначительный эпизод, свидетелем которого был наш полковой командир, не остался без влияния на отношение последнего ко мне. Генерал Арапов был прежде всего свитский генерал, и частое общение с двором приучили его отмечать людей, имеющих хорошие связи. Простота и непосредственность, с какой я разговорился с добродушным "дядей Борей", бывшим тогда в фаворе у всемогущего Николая Николаевича, конечно, могли обратить на себя внимание генерала Арапова, который, возможно, по придворной привычке сделал отсюда соответствующий вывод, и вывод этот был, конечно, в мою пользу. Все это в добавлении к моей громкой фамилии и предстоящей женитьбе на титулованной невесте, могло только подлить еще масла в мой светильник.
Так или иначе, но служить мне с первых же дней сделалось легко и приятно. Впрочем, мне хочется думать, что в конце концов Арапов симпатизировал мне искренне, ибо до конца относился ко мне по-отечески тепло.
Новых впечатлений у меня с первых же дней накопилось множество. Но больше всего, пожалуй, поразило меня первое общее собрание господ офицеров, которое было созвано через несколько дней после моего производства. Собрание это хорошо сохранилось у меня в памяти. Дело касалось полковой чести, а на таких собраниях командир полка не присутствовал. Полковой командир, хотя и носил нашу кирасирскую форму, однако, как бывший кавалергард, то есть выходец из чужого полка, не считался коренным Синим кирасиром. Посему традиция официально не позволяла ему участвовать в обсуждении интимных и деликатных полковых вопросов, касающихся тесной офицерской корпорации полка. С решениями же общих собраний командир обязан был считаться, даже если они шли вразрез с его личными желаниями. Таково уж было положение в гвардии. Полковой командир сам мог назначать и созывать общие собрания под своим председательством, но лишь для обсуждения служебных и организационных дел, а также для "разносов". Дело же чести официально его как бы не касались.
Не могли присутствовать на этих собраниях и полковые военные чиновники, как то капельмейстер, оружейный мастер и врачи. Хотя они и носили офицерское оружие, но имели штатские чины, носили на "чердаке" фуражки чиновничью кокарду и узкие чиновничьи погоны на плечах. За кирасиров их никто не считал, и в офицерском собрании они могли лишь столоваться и играть на биллиарде. Обсуждать же интимные полковые вопросы их считали недостойными, так как офицерство вообще относилось к ним немного свысока.
Упомянутое мною общее собрание происходило в обстановке таинственности. Двери зала были тщательно заперты. Собранская прислуга удалена. Никто из посторонних не должен был знать, о чем будет говориться на собрании. Председательствовавший старший полковник фон Шведер имел особенно официальный и несколько таинственный вид. В продолжении всего собрания говорил только он один и говорил вполголоса. Все присутствующие сидели, сохраняя глубокое молчание.
Первым долгом фон Шведер сообщил нам о постыдном поступке нашего корнета Z**. Этот корнет вел жизнь выше своих средств и залез в долги. Легкомысленный молодой человек, дабы оттянуть расплату со своими кредиторами и вытянуть у них еще денег, уверил последних, якобы он является племянником и наследником нашего богатого командира полка, который, де, обещал выручить его деньгами. Все это было чистейшим вымыслом. Беспечный корнет по наивности своей никак не предполагал, что в конце концов в один прекрасный день его кредиторы обратятся к самому генералу с просьбой уплаты долга "племянника". Случилось же это ранее, нежели корнет смог достать нужную ему для расплаты сумму.
- Господа, - тихо обратился к нам Эдуард Николаевич, сверкая взорами, этот постыдный поступок корнета Z** не только марает его самого, он марает все общество офицеров полка, которое допустило в своей среде человека, способного на обман ради денег... Старшие офицеры считают, что корнету Z** нет более места в нашем полку, и посему ему предложено в трехдневный срок подать рапорт об увольнении в запас или о переводе в армейский полк. Никто не возражает, надеюсь?
Гробовое молчание было нашим ответом.
- Благодарю вас, - холодно поклонился полковник и перешел ко второму вопросу, изумившему меня своей необыкновенностью:
- Господа, - снова начал полковник, еще более понизив голос, - до нашего сведения дошло, что на этих днях один наш офицер, а именно, поручик Хан-Эриванский, находясь в Петербурге, позволил себе показаться в ложе театра в небольшой компании, среди которой находилась некая известная вам дама. Дама, которая своими поступками в свое время бросила тень на наш полк, и которая (как всем хорошо известно) навлекла на полк неудовольствие нашего августейшего шефа - обожаемой нами императрицы. Казалось бы, этого уже само по себе совершенно достаточно для того, чтобы наши офицеры раз и навсегда порвали всякие отношения с этой особой, очернившей полк. К глубокому моему сожалению, у нас нашелся все же офицер, не пожелавший этого понять! Появление Хана-Эриванского рядом с этой дамой в общественном месте может быть рассматриваемо как возмутительная демонстрация, как своего рода протест перед двором - поступок, отнюдь не достойный кирасира! Господа, есть вещи, которые мы не имеем права прощать и старшие офицеры полка считают, что отныне поручику Хану-Эриванскому нет более места в кирасирском полку. Поручику предложено в двадцать четыре часа подать рапорт об увольнении в запас.
Все сидели как громом пораженные. По лицам кое-кого из офицеров, низко опустивших голову, можно было заключить, что они переживают неприятные минуты. Наступила пауза.
- Никто не возражает, надеюсь? - спросил Эдуард Николаевич, обводя присутствующих злыми глазами. Молчание.
- Благодарю вас! - поклонился полковник и, сделав выдержку, продолжал:
- Случай с поручиком Ханом-Эриванским вынуждает меня еще раз предупредить, что если кто-либо из вас паче чаяния до сего времени все еще не порвал знакомства с этой особой, - то чтобы он не-за-мед-лил это сде-лать. Если до моего сведения дойдет, что кто-либо из наших офицеров продолжает кланяться этой даме при встрече, предупреждаю: этого офицера мгновенно постигнет участь поручика Хана-Эриванского. Вы не имеете права ни общаться с ней, ни здороваться, ни даже произносить в обществе ее имя. Итак, господа, общее собрание считаю оконченным.
Полковник поклонился и торжественно вышел из залы{42}.
- Ничего не понимаю, - тихонько сказал я сидевшему рядом со мной офицеру. - Кто же она, эта злополучная дама, которую нам запрещено знать?!
- Графиня Брасова, - тихо шепнул мне на ухо мой сосед.
История графини Брасовой{43} была такова. В нашем полку в течение нескольких лет проходил службы бывший наследник российского престола и младший брат императора великий князь Михаил Александрович, командовавший нашим Лейб-эскадроном. Для полка это было, разумеется, очень лестно, ибо благодаря этому обстоятельству полк приобретал в гвардии видное положение. Великий князь Михаил приковал к полку внимание своей матери - старой императрицы Марии Федоровны, которая с момента поступления своего сына в кирасиры начала выказывать к нашему полку особое благоволение. Синие кирасиры вошли в фавор, приобрели репутацию модного гвардейского полка, и при дворе их в шутку стали называть "Les petets bleus de Sa Majest". (Маленькие синие Ее Величества).
Все шло хорошо, покуда в один прекрасный день великий князь не почувствовал, что крепко любит жену одного из наших офицеров, а именно жену некоего поручика В. Случилось так, что и мадам В., в свою очередь, крепко полюбила великого князя. Между ними завязался роман.
Несмотря на то, что великий князь был человеком весьма застенчивым и вел себя очень скромно, слух о его романе получил распространение и об этом пошли разговоры, как в придворных кругах, так и вообще в большом свете.
От своих старших товарищей я слышал, что командовавший в то время полком генерал Бернов по своему недомыслию и сам покровительствовал этому роману и будто бы даже сводил влюбленных, дабы угодить великому князю. В этом отношении Бернов поступал прямо против добрых гвардейских традиций, отнюдь не допускавших никаких романов между полковыми дамами и товарищами их мужей. Принцип товарищества настолько культивировался в полку, что считалось крайне предосудительным для всякого гвардейца отбить у полкового товарища жену. Такие дела, если не кончались дуэлью, то во всяком случае влекли за собой неминуемый выход из полка офицера, посягнувшего на жену товарища.
Тем временем слух об отношениях Михаила Александровича к мадам В. дошел до самой императрицы. Верная семейным заветам покойного Александра III, державшегося в личной жизни самых строгих и незыблемых семейных устоев, императрица потребовала от сына немедленного разрыва с мадам В. Однако великий князь настолько был увлечен своей дамой сердца, что пошел против воли матери. Ввиду того, что муж мадам В. относился ко всей этой истории довольно-таки пассивно и к жене своей, как видно, особых чувств не питал, великому князю быстро удалось добиться развода мадам В. и вступить с ней в морганатический брак, узаконив последний церковным обрядом. Поручику В. в виде компенсации великий князь предложил видное место во дворцовом ведомстве, каковое место поручик и не замедлил принять, тотчас же убравшись из кирасирского полка.
Ввиду того, что великим князьям полагалось жениться исключительно на "принцессах крови" и особах, принадлежащих к тому или иному царствующему дому, брак его с мадам В., разумеется, вылился в громкий придворный скандал, весьма расстроивший старую императрицу.
Великому князю, конечно, тотчас же пришлось покинуть наш полк и на злополучную жену его полились при дворе потоки грязи. Ее обвиняли в умышленном завлечении и совращении скромного, неопытного и нравственного великого князя. В угоду старой императрице бедную даму наградили кличками интриганки и развратницы, хотя вся ее вина заключалась в том, что она полюбила великого князя. Все общество отвернулось от нее. Сам государь был весьма недоволен проступком своего младшего брата, который как бы в наказанье был отправлен в провинциальный город Орел, где ему было предложено принять скромный 17-й армейский Черниговский гусарский полк.
Дело, однако, было сделано: как-никак, мадам В. оказалась законной супругой великого князя. Однако как на супругу морганатическую ни на нее, ни на ее детей распространяться все права ее высокопоставленного мужа не могли. Она была рождена "простой смертной" и поэтому не имела права принять ни титула, ни имени своего мужа. В подобных случаях обычно предусматривалось жаловать морганатических супруг высокопоставленных лиц титулом графини или княгини. Для них придумывали какую-нибудь новую фамилию, и таким образом некогда скромная мадам В. превратилась в один прекрасный день в графиню Бра-сову, каковая фамилия была ей дана по названию крупного имения, принадлежащего великому князю Михаилу Александровичу.
Вся эта история произошла года за три до моего поступления в полк, но и в мое время переживалась она старшими моими товарищами все еще очень остро, в особенности теперь - в 1912 году, когда великий князь вернулся из Орла в Петербург, привезя с собой жену.
Царь в конце концов смилостивился над своим младшим братом и после двух лет "изгнания" великому князю было предложено принять в начале 1912 года Кавалергардский полк.
В то время я изредка навещал во дворце одну свою престарелую родственницу - Озерову, состоявшую при дворе старой императрицы. От нее мне пришлось слышать, будто предлагая Михаилу Александровичу кавалергардов, старая императрица надеялась, что ее сын не потащит за собой супругу в столицу. В этом смысле великому князю был даже сделан прозрачный намек. Когда же Михаил Александрович вопреки надеждам матери все же заявился в столицу вдвоем с женой, министр двора - старый граф Фредерике - был уполномочен передать великому князю, чтобы он удовлетворился казенной командирской квартирой в кавалергардском полку и чтобы во дворец на жительство не переезжал. Михаил Александрович отнесся к этому очень просто и без ропота занял скромную казенную квартиру в расположении полка.
Много горького пришлось пережить ему и в особенности его жене в Петербурге. Все общество по-прежнему отворачивалось от графини Брасовой. В угоду двору никто не хотел ни знать, ни принимать ее у себя. Особенно тяжело было Михаилу Александровичу отношение подчиненных ему кавалергардских офицеров: ни один из них не сделал визита его жене и никто из кавалергардов не кланялся ей - хотя бы как супруге полкового командира. Недаром кавалергарды считались в гвардии наиболее придворным полком, а их шефом состояла все та же царица Мария Федоровна.
Конечно, во всем этом романе, наделавшем столько шума, наш кирасирский полк был, в сущности, ни при чем. Однако несколько двусмысленное поведение генерала Бернова, а в особенности поручика В., не сумевшего или не захотевшего оградить свою жену от ухаживаний высокого лица, навлекло на себя неудовольствие государыни - неудовольствие, распространившееся на весь наш полк.
Теперь уже при старом дворе никто не ласкал нас прозвищем "Les petits bleus de Sa Majest". Наоборот, сморщенные придворные старушки теперь говорили о нас, покачивая седыми головами: "Вот, какие они оказались, эти синие кирасиры и ихние дамы!"
Это неудовольствие полком свыше усилилось благодаря еще одному роману, развивавшемуся почти параллельно с только что описанным.
Это был роман младшей сестры государя великой княгини Ольги Александровны{44} с нашим же кирасирским офицером поручиком Куликовским. Как Михаил Александрович, так и Ольга Александровна очень любили Гатчину по воспоминаниям детства, так как покойный Александр III в последние годы жизни имел обыкновение подолгу живать с семьей в Гатчинском дворце.
Когда Михаил Александрович поступил в наш полк, сестра его, Ольга, естественно, часто навещала его в Гатчине. Михаил Александрович держался очень просто, и в его интимном обществе постоянно находились наши кирасирские офицеры.
Муж Ольги Александровны - принц Ольденбургский, человек немощный, был равнодушен к своей супруге и поэтому ничего не было неестественного в том, что в один прекрасный день великая княгиня почувствовала сильное влечение к красивому и статному Куликовскому, которого она частенько видела рядом с братом и который показался ей во всех отношениях интересным и достойным человеком.
Куликовский не преминул ответить взаимностью на зарождавшееся чувство сестры государя, а так как последняя, несмотря на свой высокий сан и положение, держала себя чересчур свободно и независимо, то в обществе очень скоро заговорили об их романе. Ольга Александровна стала все чаще показываться в Гатчине, где она имела обыкновение держать себя, как "обыкновенная смертная", избегая всякого этикета и помпы. Ее можно было частенько встретить разъезжающей по гатчинским улицам в простом извозчике в сопровождении Куликовского. Встречали их и в укромных уголках гатчинского парка прогуливающимися под руку, как полагается обыкновенной и пошлой влюбленной паре.
Если бы командовавший в то время полком генерал Бернов обладал бы достаточным тактом и умом, он, быть может, на правах свитского генерала указал бы поручику Куликовскому на недопустимость такой простоты в отношениях с сестрой государя, по крайней мере, на глазах у широкой публики, ибо всякое афиширование таких отношений с великой княгиней могло лишь компрометировать последнюю. Однако недалекий генерал не только этого не сделал, но, как говорят, искренне радовался успеху своего офицера, ибо, по его мнению, этот успех был только выгоден для полка, все более входившего в моду. Поведение Ольги Александровны и Куликовского привело лишь к тому, что про их связь стали открыто говорить в обществе. Получался опять придворный скандал - скандал, в котором опять-таки упоминалось имя нашего кирасирского полка! И когда все это дошло до сведения старой императрицы, она очень разгневалась и огорчилась.
История с Куликовским, да еще в связи с романом Михаила Александровича, окончательно обозлила Марию Федоровну в отношении нашего полка, и после этого она прекратила свои былые интимные и "милосттивые" посещения полкового лазарета, полковой церкви и казарм, к великому огорчению всех старых офицеров, не чувствовавших за собой никакой вины и мечтавших наладить снова прежние добрые отношения с шефом. Однако за все мое пребывание в полку императрица ограничивалась лишь посещением нашего смотра полкового учения и присылкой официальной поздравительной телеграммы ко дню нашего полкового праздника. К кавалергардам она была гораздо милостивее.
Что касается до участи поручика Куликовского, то дабы более не разлучаться с великой княгиней, он при ее содействии легко устроился личным адъютантом к ее мужу - принцу Ольденбургскому. Этот ловкий человек с фигурой бога Аполлона, хотя и снял форму полка, променяв ее на общеадъютантскую, однако продолжал числиться в списках полковых офицеров, как это полагалось в отношении всех личных адъютантов высочайших особ. С полком он связи не терял и в мое время пользовался известным влиянием на нашу молодежь, примыкая к партии спортсменов Экса и Плешкова и принимая участие в полковых интригах. Судьба сжалилась над великой княгиней Ольгой. Ей и ее сестре Ксении после революции удалось эмигрировать за границу, где Ольга Александровна наконец сочеталась законным браком с Куликовским. Говорят, что Ольге удалось унаследовать часть небольшого капитала, который некогда был по какому-то случаю переведен по распоряжению ее брата из России в один из банков Англии.
В свое время Ольга Александровна недурно рисовала и, как мне пришлось слышать, ее способности к живописи оказали ей в эмиграции известную материальную помощь. Среди буржуазных коллекционеров и любителей раритетов нашлись такие, которым интересно было иметь картинку с собственноручным автографом родной сестры последнего русского императора.
Хорошо помню свою первую встречу с этой великой княгиней. Было это в первый же год после моего производства.
Помню, я ожидал приезда из Петербурга своей родственницы и по сему случаю прогуливался под стеклянным сводом Гатчинского вокзала, поджидая поезда. Среди присутствующей на перроне многочисленной публики находилась одна дама небольшого роста, которой на вид лет тридцать. У нее было некрасивое, но живое лицо, которое показалось мне знакомым. На ней была простая темная коротенькая жакетка и скромная черная шапочка. Впрочем, наружность этой дамы была настолько обыкновенной, что я обратил на нее внимание лишь тогда, когда увидел, что начальник станции отвесил ей низкий и подобострастный поклон, а станционный жандарм почтительно отдал честь. Тут только я догадался, что вижу перед собой великую княгиню Ольгу Александровну, которую и раньше уже имел случай видеть. Мне стало очень неловко и совестно, так как я дважды уже прошел мимо нее, не отдав ей чести, а между тем она смотрела на меня. С моей стороны это была большая гаффа - гвардейский офицер должен был хорошо знать в лицо особ царствующего дома и отдавать им честь, становясь во фронт. Исправлять теперь свою ошибку было уже неловко и поэтому я отступил в самый дальний угол перрона, дабы более не встречаться с великой княгиней и быть подальше от нее. Внезапно я увидел, как на перрон вышли трое моих старших товарищей-офицеров. Они были уже знакомы с великой княгиней, и я видел, как она подозвала их к себе. Минуты через две я заметил, что она указывает на меня моим товарищам, и к моему смущению один из них подошел ко мне и сказал: "Великая княгиня Ольга Александровна заинтересовалась тобой и хочет, чтобы ты был ей представлен. Пойдем!" Товарищ мой тотчас же представил меня. Сняв фуражку, я взял руку великой княгини и, почтительно нагнувшись, поднес ее к своим губам, как требовалось обычаем. Неожиданно для меня в тот момент, когда я разжал свои пальцы, чтобы отпустить руку великой княгини, последняя тихонько сжала мои пальцы в своих и, не отпуская моей руки, принялась, не глядя на меня, весело беседовать с моими товарищами. Я тихонько потянул свою руку к себе. Великая княгиня схватила ее еще крепче и принялась раскачивать ее из стороны в сторону, продолжая свою болтовню. Положение мое было преглупое. Этикет не позволял мне избавиться более энергичным способом от руки величайшей особы, и я почувствовал, что густо краснею, как за себя, так и немножко за Ольгу Александровну, так как я сознавал, что великая княгиня не должна держать себя столь свободно и развязно на глазах у публики, которая с любопытством разглядывала нас. Я чувствовал, что в этом поведении Ольги Александровны есть что-то неуловимо неприличное и вызывающее, а она все сильнее продолжала сжимать и раскачивать мою руку, окончательно сконфузив меня. Так длилось минуты три, показавшиеся мне вечностью, и я не знаю, сколько бы это еще продолжалось, если бы к счастью для меня не показался подходивший поезд, приход которого положил конец всей этой сцене. Опустив мою руку, Ольга Александровна весело и как бы немного вызывающе улыбнулась и сказала мне несколько незначительных слов, на которые я ответил спокойно и почтительно, быстро совладав с собою. Помню, после этой встречи я долго отыскивал смысл странного поведения великой княгини, но смысла так и не находил. Хотелось ли ей этим поступком наказать меня за то что я равнодушно прошел мимо нее, не отдав ей чести, или же просто ей пришла фантазия позабавиться, смутив чуть ли не до слез молодого и неопытного корнета? Было ли это с ее стороны простым явлением чисто женского кокетства? - Не знаю. Знаю только, что я был поражен и несколько разочарован, ибо до сего времени я... (На этом рукопись обрывается. - Ред.).
Комментарий к персоналиям
Хотя "Записки кирасира" несомненно являются художественным произведением, сам автор отнес их к жанру мемуаров. И, действительно, все его герои - от главных действующих лиц до вскользь упоминаемых персонажей - исторически достоверные фигуры. Судьбы некоторых героев В. Трубецкого прояснить до конца не удалось, и они еще ждут своих исследователей.
{1}Граф Алексей Павлович Капнист (1871 -1918), двоюродный брат отца В. Трубецкого, будущий контр-адмирал, начальник Морского генерального штаба (с 1914), в 1911 году находился в отставке и был полтавским предводителем дворянства. Расстрелян большевиками в Пятигорске.
{2}Прасковья Владимировна Трубецкая, урожд. Оболенская (1860 - 1914).
{3}Имеется в виду Николай Сергеевич Трубецкой, который к 1911 году, являясь студентом 3 курса историко-филологического факультета Московского университета, был уже известен как талантливый ученый в области сравнительного языкознания и этнографии.
{4}Такая характеристика Сумского полка у штатских знакомых автора могла появиться оттого, что "...офицеры тянущегося за гвардией Сумского полка в лучшем обществе за редчайшими исключениями не бывали. Сумской мундир я встречал в свете только на вольноопределяющихся из "общества". Сумцы блистали больше в купеческом кругу (С. Е. Трубецкой. "Минувшее". ИМКА - ПРЕСС, 1989, с. 62).
{5}Военная служба или, по крайней мере, военное образование были традиционны в той среде, к которой принадлежал автор. Как правило, многочисленные родственники В. Трубецкого, став гвардейцами, служили в своих полках не долго, выходя в отставку "на покой", если позволяли средства, как В. А. Оболенский (1814-1876), или шли на гражданскую службу, как Н. П. Трубецкой (1828-1900). Свитский генерал граф Апраксин (1817-1899) был исключением.
{6}Дмитрий Александрович Лопухин (1860-1914), генерал-майор, двоюродный брат отца В. Трубецкого, был единственным среди упомянутых им родственников военным, находящимся в описываемое время на действительной службе.
{7}Газета "Русский спорт" писала: "Принимая во внимание, что в Вене поручик Плешков получил четыре первых приза и один второй, а в Лондоне на самых трудных конкурсах в мире... самый почетный приз в честь короля Георга V...получил штаб-ротмистр фон Эксе..., русские обрели славу лучших ездоков" (No32, 1911). Эти выдающиеся спортсмены выиграли также на лондонских турнирах 1912-1914 годов очень престижный приз - "кубок короля Эдуарда VII". Чтобы получить его, они должны были три года подряд быть победителями состязаний.
{8}Трубецкие были в родстве с Урусовыми: дядя автора, директор департамента полиции А. А. Лопухин, был женат на княгине Урусовой.
{9}Жена императора Александра III императрица Мария Федоровна (1847-1928) стала шефом полка Синих кирасир в 1880 году.
{10}Евгений Иванович Бернов (1855-?) командовал полком Синих кирасир с 1907 по 1912 год. При назначении на должность командира полка решающую роль играло личное отношение к кандидату Николая II, а также шефа полка. В данном случае оно было особенно благосклонным: Бернов отличился в юго-восточных губерниях России, где он был начальником военных сообщений в 90-х годах. За блестяще проведенную кампанию по борьбе с чумою Бернов получил орден св. Анны и письменную благодарность императора.
{11}Эдуард Николаевич фон Шведер (1870-1919) окончил Николаевское кавалерийское училище, в полку Синих кирасир служил с 1893 года. Во время первой мировой войны командовал гусарским полком. Последний чин генерал майор. Расстрелян большевиками в Кисловодске.
{12}С 90-х годов под Петербургом - в Царском селе, Коломягах и Красном селе - ежегодно проводились скачки. В Красном селе был чисто военный круг без тотализатора. Конный спорт кавалерии поощрялся, и для участия в скачках они даже освобождались от службы. Постоянным гостем на скачках в Красном была шеф полка Синих кирасир императрица Мария Федоровна (см. воспоминания Н. А. Петровского в кн. "Кирасиры Его Величества. Последние годы мирного времени", б. г.)
{13}П. Н. Трубецкой (1858-1911), сводный брат отца автора (от брака с Л. В. Орловой-Денисовой), известный деятель либерального движения начала века. Московский губернский предводитель дворянства (1898-1908), затем член Государственного совета. "Его старший сын Володя", о котором упоминает автор, - это последний владелец имения "Узкое" князь Владимир Петрович Трубецкой (1885-1954). Окончив юридический факультет Петербургского университета и пройдя службу в гвардии, работал в московском и херсонском земствах. После 1920 года в эмиграции. Один из основателей и первый предводитель Русского дворянского собрания в Париже. Принимал активное участие в создании Музея русского казачества и Русской консерватории в Париже. Умер в Нью-Йорке.
{14}Меньшово находилось в Подольском уезде Московской губернии.
{15}Об этом же "историческом" извозчике (правда, дав ему другое имя) пишет и генерал-майор М. Свечин: "Возил меня (по Гатчине - В. П.) один из полковых извозчиков по имени Емельян, невероятный пьяница, но знавший не только нужные адреса, но и всех офицеров по имени и отчеству и привычки каждого" ("Записки старого генерала о былом". Ницца, 1964, с. 29.).
{16}Барон Лев Федорович Жирар де Сукантон (1855-?), генерал-майор свиты Его Величества. Окончил кавалерийское училище, служил в Лейб-гвардии Конном полку. Был командиром полка Синих кирасир с 1905 по 1907 год. В годы, описанные автором, командовал 1-й бригадой 2-й гвардейской дивизии.
{17}В имении Осоргиных Сергиевской с начала XIX века существовало "Братство Святой Иулиании" (по имени "боголюбивой и нищелюбивой Иулиании Осоргиной", жившей в XVII веке), в которое входили, кроме Осоргиных, крестьяне всех ближних деревень. Братство помогало всем нуждавшимся. Примечательно, что после 1917 года братчики-крестьяне долго поддерживали бедствовавшую большую семью Осоргиных. Говоря о главе семьи "дяде Мише", автор имеет в виду Михаила Михайловича Осоргина (1861 -1939), мужа сестры своего отца Елизаветы Николаевны, бывшего кавалергарда. С 1887 года занимаясь земской деятельностью, он в 1905 году ушел в отставку с губернаторского поста в знак протеста против неисполнения закона об отмене смертной казни. С 1931 года - в эмиграции, где принял сан и был священником православной церкви в Кламаре под Парижем. Его старший сын, кузен В. Трубецкого "Мишанчик" (1887 - 1950), выйдя в запас в 1912 году, стал калужским предводителем дворянства. С 1920 года в эмиграции. Набожность его, над которой иронизирует автор, была подлинной религиозностью. В Париже М. Осоргин принял активное участие в создании Богословского института, так называемого Сергиевского подворья, и был до конца жизни регентом его хора.
{18}Речь идет о нашумевшем в свое время драматическом событии. Вот как описывает это современница В. Трубецкого, автор известных воспоминаний Т. А. Аксакова-Сивере. "Осенью 1911 года в семье Трубецких произошла драма, ставшая известной всей стране. В Новочеркасске по случаю перенесения тела графа Орлова-Денисова собрались все потомки покойного: Трубецкие, Кристи, Глебовы, Орловы-Денисовы. Вагон князя Петра Николаевича стоял на запасных путях вокзала... Кристи, ворвавшись в купе этого вагона и найдя там свою жену Марицу (урожденную Михалкову) и своего дядю Петра Николаевича, выстрелил из револьвера и наповал убил последнего. Скандал был ужасный... Говорили о том, что Петр Николаевич пригласил к себе племянницу, чтобы предостеречь ее от явного увлечения другим его племянником Петей Глебовым... Что бы там ни было, но московский губернский предводитель дворянства был убит, убивший его Кристи не понес серьезного наказания (ограничились церковным покаянием), а Мария Александровна Михалкова-Кристи, разведясь с мужем, вышла за его двоюродного брата..." ("Семейная хроника", 1988, с. 88-89). Владимир Григорьевич Кристи (1882-1946) был сыном сестры отца В. Трубецкого Марии Николаевны. После 1920 года в эмиграции. "Овдовевшая... А. В. Трубецкая" - Александра Владимировна Трубецкая, урожд. Оболенская (1861 -1939), сестра матери В. Трубецкого. После 1920 года в эмиграции.
{19}Генерал Яков Григорьевич Жилинский (1853-1918) стал начальником Генерального штаба в 1911 году. С началом первой мировой войны главнокомандующий Северо-Западным фронтом. Был смещен за провал Восточно-Прусской операции. В 1915-16 годах - представитель русского верховного командования в Союзном Совете в Париже. Расстрелян в Крыму большевиками. Оценка В. Трубецким роли Жилинского в переговорах с главой французского командования расходится с общепринятой в советской исторической науке, где его деятельность рассматривается как негативная. Жена Жилинcкого, Варвара Михайловна, урожд. Осоргина (1859-1917) была сестрой отца "Мишанчика".
{20}Мария Дмитриевна Апраксина, урожд. Рахманова, сводная сестра матери В. Трубецкого.
{21}Барон В. Р. фон Кнорринг (1861 - ?) в описываемое время был шталмейстером двора великой княгини Марии Павловны.
{22}А. С. Ермолов (1846-1917), статс-секретарь, министр земледелия и государственных имуществ, член Государственного совета.
{23}Анна Александровна Вырубова (1884-после 1929), фрейлина императрицы Александры Федоровны. После 1920 года в эмиграции.
{24}Евгений Карлович Миллер (1867-1937?), генерал-лейтенант, начальник Николаевского кавалерийского училища с 1910 по 1914 год. Во время первой мировой войны начальник штаба у армии. Один из организаторов Добровольческого движения Белой Армии, командовал войсками Северной области. С 1920 года в эмиграции. Был одним из создателей "Русского общевоинского союза", а после смерти П. Н. Врангеля в 1928 году - его председателем. В 1937 году (предположительно) убит агентами НКВД.
{25}Во дворе училища стоял также и памятник М. П. Мусоргскому, который в 1856 году вышел корнетом из Николаевского училища в Лейб-гвардии Преображенский полк.
{26}А. И. Куприн, сам, в отличие от автора, живший по этой "славной традиции", называет ее "дурацким обычаем, собезьяненным когда-то давным-давно у немецких и дерптских студентов и обратившийся на русской черноземной почве в тупое, злобное бесцельное издевательство".
{27}Узнавая выпускника корпуса по этому кольцу, все пажи, независимо от года выпуска и занимаемой должности, говорили друг другу "ты".
{28}Имеется в виду Софья Петровна Трубецкая (1887-1971), фрейлина императрицы Александры Федоровны и дипломат Николай Константинович Ламздорф (1881 -1951). После 1920 года семья в эмиграции.
{29}Вырубову обвиняли в сводничестве между Распутиным и императрицей.
{30}Автор имеет в виду Софью Ивановну Тютчеву. Поводом к ее подаче в отставку от должности воспитательницы цесаревен послужило введение царских дочерей в круг влияния Распутина
{31}Дворец богатых польских магнатов Хребтовичей в Бешенковичах, построенный в XVIII веке, сохранился (в сильно переделанном виде) до наших дней с остатками когда-то знаменитого регулярного французского парка. Автор допускает неточности, говоря о посещении русскими царями Бешенковичей: Петр I трижды приезжал туда на русско-польский военный совет, а Александр I жил во дворце Хрептовича не в 1812, а в 1821 году во время смотра гвардии, проводимого им в окрестностях Бешенковичей.
{?}Сестра В. Трубецкого Мария Сергеевна (1883-1934) была замужем за дипломатом графом Аполлинарием Константиновичем Бутеневым-Хрептовичем (1879-1946). С 1920 года семья в эмиграции.
{?}Друг детства В. Трубецкого Валерьян Владимирович Ершов (1891 -1919) и его кузен Николай Петрович Трубецкой (1890 - 1961), с которым автор гостил у своей сестры, оба были военными. Ершов участвовал в Добровольческом движении и умер от тифа, Н. Трубецкой после 1920 года в эмиграции.
{32}Петр Иванович Арапов (1871 -1930), генерал-майор, окончил Пажеский корпус, кавалергард. Был командиром полка Синих кирасир с 1912 по 1914 год. Во время первой мировой войны командовал бригадой кавалерийской дивизии. За храбрость награжден георгиевским оружием. Умер в Гатчине.
{33}К 1911 году в России, кроме Гатчинской, существовало несколько авиационных школ - при Одесском аэроклубе, при Московском обществе воздухоплавания, а также Севастопольская офицерская школа авиации. Гатчинскую авиационную школу закончили такие знаменитые летчики, как М. С. Бабушкин, Е. Н. Крутень, П. Н. Нестеров и другие.
{34}В. Трубецкой имеет в виду книги "Тайная доктрина" Е. П. Блаватской и "Краткий очерк теософии" Ч. Ледбитера.
{35}Михаил Александрович (1878-1918), великий князь, младший брат императора Николая II, генерал-лейтенант. С 1898 по 1917 - на военной службе. В 1904 году был командиром эскадрона полка Синих кирасир. Во время первой мировой войны командовал так называемой Дикой дивизией. В 1917 году генерал-инспектор кавалерии. После отречения Николая II (2/5 марта 1917) Михаил Александрович, также отказавшись от прав на престол, жил в Гатчине как частное лицо. В феврале 1918 года он был арестован, увезен в Пермь и расстрелян большевиками.
{36}Внимание Марии Федоровны к нуждам полка было очень деятельным: свое "шефское содержание" императрица передавала в полковую казну, жертвовала крупные суммы на благоустройство гатчинского полкового околотка, в частности, по ее инициативе и значительной финансовой поддержке было построено современное автору здание офицерского полкового собрания. Всем чинам полка в случае ухода со службы - если в этом была нужда - помогала подыскать должность и т. д. (См. Ю. Галич - псевдоним ген. - майора Г. И. Гончаренко, 1877-1940 "Синие кирасиры Лейб-регимент". Рига, 1936).
{37}Описанная В. Трубецким лобовая атака русской конницей германской батареи произошла под Каушеном. За это сражение командир 2-го эскадрона Конногвардейского полка ротмистр барон П. Н. Врангель был награжден Георгиевским крестом и получил звание флигель-адъютанта.
{38}А. Ф. Львов (1798-1870) - скрипач, композитор, дирижер, музыкальный деятель - был директором Придворной певческой капеллы, а также возглавлял один из лучших тогда в Европе квартетов. Российский гимн был сочинен им в 1833 году по заказу императора Николая I на стихи Жуковского.
{39}Отношение автора к Николаю II имело романтический оттенок еще с детства. В 12 лет он отправил царю "тайное" письмо с предупреждением о готовящемся "заговоре против царской власти". Поводом к нему были разговоры с постоянной критикой в адрес царя в доме Трубецких. Николай II письмо получил, автора запомнил и на смотре на миноносце "Всадник" в 1910 году сказал В. Трубецкому: "Мне такие, как Вы, люди нужны".
{40}Е. К. Пущина, урожд. графиня Клейнмихель (1892 - после 1930), овдовев в 1914 году, вышла замуж за Н. П. Трубецкого, двоюродного брата автора. Т. А. Аксакова-Сивере в своих воспоминаниях называет Эллу Клейнмихель-Пущину-Трубецкую "самой интересной женщиной моего поколения". В эмиграции она работала в парижском Доме моделей.
{41}Б. М. Петрово-Соловово (1861 -1918?), генерал-майор свиты Его Величества. Был женат на сестре жены философа Е. Н. Трубецкого С. А. Щербатовой.
{42}Летом 1914 года автор "Записок кирасира" сам оказался в центре внимания на подобном собрании. Один из гатчинских офицеров пустил сплетню о якобы "романе" Трубецкого с женой командира полка, бывшего в отъезде. Офицерский суд чести изгнал этого гвардейца из полка и обязал Трубецкого вызвать сплетника на дуэль. К счастью, на этом последнем в Российской империи великосветском поединке (с августа 1914 года дуэли были запрещены) пострадал лишь цилиндр одного из дуэлянтов.
{43}Н. С. Брасова, урожд. Шереметевская (1880-после 1930), в первом браке Мамонтова, во втором - Вульферт, с 1910 года морганатическая жена великого князя Михаила Александровича. Умерла в эмиграции.
{44}Ольга Александровна (1882-1960), великая княгиня, жена принца А. П. Ольденбургского, вторым браком за Куликовским (1880-1958). О. А. вышла замуж за Куликовского в 1916 году еще в России. Капиталами Романовых ей воспользоваться не удалось, и она жила в эмиграции в стесненных обстоятельствах. Умерла в Торонто.
Вступительная статья, примечания в тексте и комментарий к персоналиям В. Полыковской
Комментарий к военной теме и воинской атрибутике
Записки Владимира Сергеевича Трубецкого представляют собой почти забытый у нас вид воспоминаний - военные мемуары, посвященные Русской Императорской Армии. В нашей стране он был представлен лишь книгой А. А. Игнатьева "50 лет в строю", за рубежом же подобные произведения издавались за последние семьдесят лет в большом количестве. Они выходили и отдельными книгами, и в самых разных периодических и повременных изданиях. Об объеме этого драгоценного наследства в какой-то мере можно судить по "Материалам к библиографии русской военной печати за рубежом", изданным А. А. Герингом в Париже в 1968 году. Однако, к сожалению, с большинством из этих публикаций не только любители отечественной истории, но и специалисты по истории Русской Армии, как правило, не имели возможности знакомиться. В связи с этим записки В. С. Трубецкого представляют особенный интерес, представая не только ярким литературным произведением, но и источником по изучению русской военной культуры, Автор чрезвычайно точно не только описывает те или иные подробности военного быта, но и передает атмосферу русской военной среды, ее традиций. Конечно, для современного читателя знакомство с предлагаемыми записками будет сопряжено с определенными трудностями, так как смысл многих бытовых деталей, терминов и понятий, хорошо известных в начале II веке, сейчас от нас закрыт. Предлагаемые комментарии и ставят перед собой цель - помочь в знакомстве с этим интересным памятником и одновременно открыть новую для многих область культуры, проникновение в которую заставит прочитать по другому даже известнейшие произведения русской литературы.
Глава I
"вольноопределяющегося 1-го разряда, офицерский экзамен при военном училище, производство" - Согласно установлению о воинской повинности 1908 года вольноопределяющиеся - лица с образованием, поступившие добровольно на действительную военную службу нижними чинами. Делились на два разряда: к 1-му разряду относились получившие образование не ниже среднего (полный курс высших и средних учебных заведений или курс 6 классов гимназии), ко 2-му разряду выдержавшие испытания по особой программе (приблизительно курс 4-х классного училища). Срок действительной службы для вольноопределяющихся 1-го разряда один год. Перед увольнением в запас они обязаны держать экзамен на чин прапорщика запаса армии. В Гвардию могли поступать только вольноопределяющиеся 1-го разряда, но неизменно с согласия командира части. Они должны были содержать себя на свой счет и помещались в казармах или на частных квартирах. По форме одежды вольноопределящиеся выделены из прочих нижних чинов трехцветным (черно-желто-белым) шнуром, нашитым вокруг погон. На военном жаргоне их называли "вольноперами".
"Надо было торопиться и выбрать полк. Но чем руководствоваться при выборе того или иного полка?" - Вопрос о выборе полка, в котором служить, вставал не только перед вольноопределяющимися, но и перед выпускниками Пажеского корпуса и военных училищ. При этом имели значение не только успеваемость, но и семейные традиции, финансовые возможности, привлекательность полкового мундира и, реже, идейные соображения. В записках князя П.А. Кропоткина содержится любопытное описание того, как подобный выбор делал он: "Я уже давно решил, что не поступлю в гвардию и не отдам свою жизнь придворным балам и парадам. ...Но я решил уже окончательно уехать на Дальний Восток.
Оставалось только выбрать полк в Амурской области. Уссурийский край привлекал меня больше всего: но, увы! там был лишь пеший казачий батальон. Я был все-таки еще мальчиком, и "пеший казак" казался мне уже слишком жалким, так что, в конце концов, я остановился на Амурском конном казачьем войске. Так и отметил я в списке, к великому огорчению всех товарищей. "Это так далеко!" говорили они. А приятель мой Донауров схватил "Памятную книжку для офицеров" и к ужасу всех присутствующих начал вычитывать: "Мундир - черного сукна, с простым красным воротником, без петличек. Папаха из собачьего или иного какого меха, смотря по месту расположения. Шаровары - серого сукна".
- Ты только подумай, что за мундир! - воскликнул он. - Папаха еще куда ни шло: можешь носить волчью или медвежью. Но шаровары! Ты только подумай: серые, как у фурштатов! - После этого огорчение моих приятелей еще более усилилось." (П. А. Кропоткин. Записки революционера. М.-Л. 1933. С. 102-103).
"Сумской гусарский полк" - Полк ведет свою историю с 1651 года, когда из "черкас", составлявших население Слободско-У край некой области и происходивших из Малороссийских выходцев, бежавших от польских притеснений, был сформирован Сумской слободской черкасский казачий полк, переформированный в 1765 году в Сумской гусарский полк. В 1864 году полк наименован 1-м гусарским Сумским Генерал-адъютанта графа фон-дер-Палена. В 1865 году шефом полка стал наследный принц Датский. В 1882 году полк стал драгунским и получил наименование 3-го драгунского Его королевского Высочества наследного принца Датского. В 1906 году - 3-й драгунский Сумской Его Величества короля Датского Фредерика VIII. В 1911 году полк имел наименование - 1-й гусарский Сумской Его Величества короля Датского Фредерика VIII. С 11 мая 1912 года - 1-й гусарский Сумской, а с августа того же года - 1-й гусарский Сумской генерала Сеславина. Полк квартировался в Москве.
"в магазине штаба на Пречистенке таблицы с изображением в красках всех форм русских кавалерийских полков" - Вероятно, речь идет о "Таблицах форм обмундирования Русской Армии. 32 наглядных таблицы Новых форм. Составлено по 1 Апреля 1911 г. Составил Полковник В. К. Шенк. Склад издания: Книжный и географический магазин изданий Главного Штаба. С.-Петербург, Невский пр., 4. 1911 г." Но могли быть приобретены и так называемые "Интендантские таблицы", которые систематически выходили со времени Александра II и давали в цвете изображения форм обмундирования, знамен, штандартов, знаков отличия всех полков.
"Лейб-гвардейский Преображенский пехотный полк" - Один из старейших полков русской Гвардии, был сформирован в конце XVII века. Уже в 1695 году принял участие в осаде крепости Азов. В 1700 году в день выступления в поход к шведской крепости Нарва в первый раз был назван Лейб-Гвардией. Лейб-Гвардии Преображенский полк участвовал во многих войнах и особенно отличился в войнах с Наполеоновской Францией. Полк квартировался в Петербурге: 1-й батальон около Зимнего дворца, на углу Миллионной улицы (ныне Халтурина) и Зимней канавки, остальные батальоны - на Кирочной улице (ныне Салтыкова-Щедрина). (Это был один из самых привилегированных полков даже в Гвардии.
"Кавалергардский полк" - Впервые в России кавалергарды появились при Петре Великом, когда из дворян был сформирован отряд для несения почетной службы во время коронации Екатерины. Впоследствии такие отряды создавались для коронаций. В январе 1799 года была сформирована воинская часть Кавалергардский корпус, переформированный в январе 1800 года в Кавалергадский полк. Кавалергарды продолжали нести почетную дворцовую и коронационную службу. Память об этом сохранялась в понятии "вход за кавалергардов", что обозначало право входа в личные покои императорской семьи в Зимнем дворце. Но полк участвовал и в военных действиях. Особенно он отличился в 1805 году в сражении при Аустерлице, в Отечественной войне 1812 года и походах 1813-1814 годов. За храбрость полку были вручены георгиевские штандарты. По традиции, шефом полка была императрица. В него подбирали солдат высоких, белокурых, с синими глазами.
Офицеры в полку были из аристократических и старинных дворянских фамилий, как правило, служивших в нем не одно поколение.
"Бугский уланский полк" - Полк ведет свою историю с 1803 года, когда было сформировано Бугское казачье войско. В 1817 году были сформированы 1-й и 2-й Бугские уланские полки. Первый из них и стал впоследствии (с 1907 года) 9-м уланским Бугским Его Императорского Королевского Высочества Эрц-Герцога Австрийского Франца-Фердинанда полком. Квартировался в Белой Церкви Киевской губернии.
"Лейб-гвардии Конно-гренадерский полк" - В 1831 году Лейб-гвардии Драгунский полк за храбрость, проявленную в Польской кампании, был переименован в Лейб-гвардии Конно-гренадерский.
"Некоторые из этих полков расквартированы в окрестностях столицы, как то в Гатчине, Царском Селе и в Петербурге." - В пригородах Петербурга квартировался целый ряд гвардейских полков: Собственный Его Императорского Величества Конвой, Л.-гв. 1 и 2 Кубанские и Л.-гв. 3 и 4 Терские казачьи сотни, Собственный Его Императорского Величества Сводный Пехотный полк, Л.-гв. 1, 2 и 4-й Императорской фамилии Стрелковые батальоны, Л.-гв. Кирасирский Его Величества полк и Л.-гв. Гусарский полк - в Царском Селе; Л.-гв. Кирасирский Ея Величества полк - в Гатчине; Л.-гв. Конно-гренадерский, Л.-гв. Драгунский в Старом Петергофе; Л.-гв. Уланский Ея Величества полк - в Новом Петергофе.
"Гатчинские Синие кирасиры (официально: Лейб-гвардии Кирасирский Ея Величества полк)." - Полк вел свою историю от сформированного в 1704 году боярином Тихоном Никитичем Стрешневым Драгунского Портеса полка. До 1733 года он переменил несколько наименований, а в 1733 году стал кирасирским и получил наименование Лейб-кирасирского полка. В 1762 году в течение нескольких месяцев полк назывался по фамилии шефа - Кирасирский Генерал-аншефа Корфа. В 1796 году шефом стала императрица Мария Федоровна и полк стал именоваться Лейб-Кирасирским Ея Величества. С 1831 по 1855 год он носил имя Наследника Цесаревича, а в 1855 году шефом стала опять императрица, на этот раз Мария Александровна. В 1856 году полк был причислен к Лейб-Гвардии с правами Молодой Гвардии, и стал именоваться Лейб-Гвардии Кирасирский Ея Величества. В 1884 году император Александр III даровал полку права и преимущества Старой Гвардии. В 1894 году к наименованию полка было добавлено: "Ея Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны". За участие в войнах XVIII-XIX веков имел награды: серебряные трубы, георгиевские трубы с надписью "За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 г." и серебряные литавры, пожалованные полку в 1733 году при переименовании его в кирасирский. Название полка, принятое в военном обиходе - "Синие кирасиры" - связано с отличительным (приборным) цветом полка. Воротники, обшлага, погоны, выпушки, канты, околыш фуражек и конские чепраки были синего цвета, в отличие от красного - у Кавалергардского и Л.-гв. Конного полков и желтого - у Л.-гв. Кирасирского Его величества полка ("Желтые кирасиры"). Иногда говорили и "Гатчинские кирасиры", в отличие от "Царскосельских кирасир".
"У Синих кирасир была очень красивая форма" - Красота мундира и атрибутов военной формы безусловно была очень важным фактором при выборе молодыми людьми полка для службы. Афанасий Фет писал в своих воспоминаниях: "...Тем временем мне сильно хотелось преобразиться в формального кирасира, и я мечтал о белой перевязи, лакированной лядунке, палаше, медных кирасах и каске с гребнем из конского хвоста, высящегося над георгиевской звездой" (А. Фет. Воспоминания. М., 1983. С. 188).
"Красносельский лагерь" - Красное Село впервые упоминается в связи с расположением здесь военного лагеря в 1765 году. Екатерина II распорядилась вывести армию в лагеря, чтобы "не солдатство токмо ружейной эксерциции обучать, но пользу установленных Ея Императорским Величеством новых учреждений видеть; генералам подать случай показывать новые опыты доказанного уже ими искусства, ревнительным офицерам являть частию свою способность быть таковыми же и частию обучаться тому, чего не ведают". После маневров, в том числе двусторонних, 28 июня состоялся большой парад. Следующий раз лагерь в Красном Селе был разбит лишь в 1819 году, и с 1823 года оно становится постоянным местом летнего сбора для учений и маневров гвардейского корпуса и прикомандированных к нему частей. В "Военной энциклопедии" (Петербург: Издание Товарищества И. Д. Сытина, 1913. Т. 13. С. 260) приводится следующее описание расположения лагеря в начале XX века: "Лагерь расположен на двух противоположных возвышенностях, образующих собой берега Дудергофских озер. На восточном берегу лежит Главный лагерь для 1 и 2-й гвардейских пехотных дивизий с их артиллерией, лейб-гвардии 4-го стрелкового Императорской фамилии полка, гвардейского стрелкового артиллерийского дивизиона и Пажеского Его Величества корпуса. Здесь же становятся полки 3-й гвардейской пехотной дивизии при командировании их в Красное Село. На левом берегу лежит Авангардный лагерь, в котором становятся: лейб-гвардии 1-й, 2-й и 3-й стрелковые полки и одна из армейских дивизий с ее артиллерией. На левом фланге Авангардного лагеря расположены лагеря военных училищ и Офицерской кавалерийской школы. Авангардный лагерь - барачный, Главный - палаточный (кроме бараков Пажеского корпуса)... Кавалерия становится по квартирам в самом Красном Селе и окрестных селениях... Бараки Собственного Его Величества конвоя находятся на шоссе западнее железнодорожной станции; а гвардейский жандармский эскадрон располагается на правом берегу Безымянного озера у плотины. В Красном Селе расположены бараки всех войсковых штабов: дивизионных, корпусных и штаба лагерного сбора. Лечебные средства лагеря (кроме войсковых) состоят из Красносельского военного госпиталя (до 500 человек, аптека, церковь), находящегося у правого фланга Авангардного лагеря, и офицерского лазарета имени Ея Императорского Высочества Великой Княгини Марии Павловы... Во всем лагере устроены водопроводы и канализация... Впереди Авангардного лагеря лежит обширное учебное или военное поле... Южная часть поля издавна служит полигоном для гвардейской артиллерии. На поле имеется Царский валик, на котором разбивается царский шатер во время смотров, и так называемая Лабораторная роща со строениями бывшей лаборатории. Несколько южнее, у платформы "Скачки", имеется скаковой круг, на котором каждое лето производятся скачки офицеров и нижних чинов".
"своих особенных словечек и выражений" - Еще П. Вяземский отмечал существование "гвардейского языка" в 1820-е годы (П. Вяземский. Старая записная книжка. Л., 1929. С. 110). Этот язык отличали не только профессиональная терминология и особенности корпоративного языка, отличавшего "своих" от "чужих", но и сознательное языковое творчество. Подробнее см.: Ю. М. Лотман, К функции устной речи в культурном быту пушкинской эпохи. - В кн.: Ученые записки ТГУ. Т. 481. Семиотика устной речи. Лингвистическая семантика и семиотика П. Тарту. 1979. С. 107-120.
"Лейб-гвардии Казачий полк" - Полк ведет свою историю от сформированных в 1775 году в Москве для Конвоя Екатерины II Придворных казачьих команд: Донской и Чугуевской. В 1798 году был сформирован Лейб-гвардии Казачий полк. Квартировался в Петербурге. Входил в состав 1-й Гвардейской кавалерийской дивизии.
"при Николаевском кавалерийском училище" - 9 мая 1823 года по инициативе великого князя Николая Павловича в Петербурге была основана Школа гвардейских подпрапорщиков для подготовки офицеров для гвардейской пехоты. Первое время школа помещалась в казармах Л.-гв. Измайловского полка, но в 1825 году она была переведена в бывший дворец графа Чернышева у Синего моста через Мойку. В 1826 году при школе был сформирован эскадрон юнкеров гвардейской кавалерии и все заведение получило наименование "Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров". В 1839 году школа была переведена в новое здание, которое и занимала до 1917 года (на нынешнем Лермонтовском проспекте). В 1864 году она была преобразована в Николаевское кавалерийское училище.
С 1832 по 1834 год в школе обучался М. Ю. Лермонтов, который согласно училищным преданиям считался основателем многих традиций, в частности "цука", и автором куплетов "Звериады" Николаевского кавалерийского училища. При училище в 1883 году был открыт богатый "Леромнтовский музей", а в 1913 году перед зданием училища заложен памятник поэту по проекту Б. Микешина.
"из собственного Его Императорского Величества Конвоя" Конвой состоял из Лейб-Гвардии 1-й и 2-й Кубанских казачьих сотен и 3-й и 4-й Терских казачих сотен. Первые вели свою историю с 1811 г., когда была сформирована Лейб-Гвардии Черноморская сотня. Вторые - с 1832 года, когда для Собственного Его Величества Конвоя была сформирована Команда Кавказского Казачьего Линейного войска. В 1861 году эти части были соединены.
Глава II
"кони - огромные рыжие великаны красавцы" - При Николае I были определены масти коней для каждого из гвардейских кирасирских полков. В начале XX века были следующими: Кавалергардский - гнедые, Л.-гв. Конный - вороные, Л.-гв. Кирасирский Его Величества - караковые и темно-гнедые, у ставшего позднее гвардейским Кирасирского Ея Величества - рыжие (первый эскадрон золотисто-рыжие, второй эскадрон - рыжие белоногие с проточиной, третий эскадрон - рыжие со звездочкой, четвертый эскадрон - темно-рыжие и бурые).
"Первая гвардейская дивизия - так называемая кирасирская дивизия, куда входил наш полк - считалась еще по старинке тяжелой кавалерией" Кавалерийские поли в XVIII-XIX веках делились на тяжелые: кирасиры и драгуны, - и легкие: гусары, уланы, конные егеря. Тяжелая кавалерия отличалась конским составом - более крупным, подбором солдат - высоких, сильных, вооружением касками, палашами, кирасами у кирасир. Она действовала в бою сомкнутым строем. В 1860 году армейские кирасирские полки были переформированы в драгунские. С этого времени только Кавалергардский, Л.-гв. Конный, Кирасирские Его и Ея Величеств полки сохраняли характер кирасирских. Хотя 1-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию, в которую входили перечисленные полки, и называли иногда кирасирской дивизией, но в ее состав входили и два казачьих полка: Л.-гв. Казачий и Атаманский.
Так как с 1860 года кирасирские полки сохранялись только в Петербурге, то они стали и характерным знаком быта "военной столицы". Видимо не случайно Вронский в "Анне Каренине" - офицер одного из гвардейских кирасирских полков, среди персонажей "Петербурга" Андрея Белого - желтый кирасир, баро, Оммау-Оммергау, и синий кирасир, граф Авен. Отметим и точность, образность реалий в "петербургских" произведениях. У Андрея Белого в "Петербурге" мы читаем: "Там, на светлом фоне светлого здания, медленно проходил Ее Величества кирасир; у него была золотая, блиставшая каска. И серебряный голубь над каской распростер свои крылья". "Голубь" на гвардейском языке обозначает двуглавого орла, украшавшего парадную каску; "голубками" называли навершия штандартов, которые также представляли собой двуглавых орлов. Еще пример, из "Египетской марки" О. Мандельштама: "А потом кавалергарды слетятся на отпеванье в костел Гваренги. Золотые птички-стервятники расклюют римско-католическую певунью" и "Роскошное дребезжание пролетки растаяло в тишине, подозрительной, как кирасирская молитва".
"во время парада к ним навешивались пестрые развевающиеся флюгерки" - Пики с флюгерами были введены в кирасирских полках в 1831 году для передних шеренг эскадронов. Каждый полк имел флюгера своей расцветки: Кавалергардский - белый с красным, Л.-гв. Конный - белый с темно-синим и желтым, Л.-гв. Кирасирский Его Величества - белый с синим и желтым, Л.-гв. Кирасирский Ея Величества желтый с синим.
"орден Святого Станислава 3 степени" - в 1831 году к русским орденам причислены два польских: Белого Орла и Святого Станислава. Последний из них с 1839 года имел три степени.
Глава III
"императорской яхты Штандарт" - Яхта зачислена в списки 27 октября 1893 года, заложена в том же году, спущена в 1895 и вступила в строй в 1896 году.
"за возвращением в Царское Село императорской семьи". - С 1904 года императорская семья постоянную резиденцию имела в Александровском дворце в Царском Селе.
Глава IV
"Лейб-гвардии Павловского пехотного полка" - История полка начинается в середине XVIII века, когда был сформирован гренадерский полк, получивший позднее наименование Павловского. За храбрость, проявленную в сражениях кампании против французов в 1806 - 1807 годах, полку была пожалована такая оригинальная награда, как гренадерские шапки, которые в других полках были заменены на кивера. На них чеканились фамилии солдат, которые их носили. "Сиянье шапок этих медных, насквозь простреленных в бою" воспел А. С. Пушкин. За подвиги во время Отечественной войны 1812 года полк был причислен к Гвардии. Казармы полка находились у Марсова поля и были построены по проекту архитектора В. П. Стасова. Один из фасадов казарм выходил на Миллионную улицу (ныне улица Халтурина).
"его денщик - типичный Павловец" - В гвардии существовала традиция отбора в полки солдат определенного типа. В частности, в Л.-гв. Павловский полк подбирали солдат курносых, как Павел I.
"в Павловск к волъноперам конно-артиллеристам" - В Павловске квартировался Лейб-гвардии Мортирный артиллерийский дивизион.
"гвардейских стрелков" - В состав Гвардейского корпуса входила Гвардейская Стрелковая бригада: Лейб-Гвардии 1-й Стрелковый Его Величества полк, Лейб-Гвардии 2-й Стрелковый Царскосельский полк, Лейб-Гвардии 3-й Стрелковый Его Величества полк и Лейб-Гвардии 4-й Стрелковый Императорской фамилии полк. Квартиры 1-го, 2-го и 4-го полков находились в Царском Селе, а 3-го полка - в Петербурге.
"полков 2-й гвардейской дивизии" - В состав 2-й гвардейской кавалерийской дивизии входили полки Лейб-Гвардии: Конно-Гренадерский, Драгунский, Гусарский, Уланский Ея Величества.
"эскадрон и сотню" - В Николаевском кавалерийском училище готовили офицеров как для регулярной кавалерии, так и для казачьих войск. В соответствии с этим юнкера делились на эскадрон и сотню.
"зверь" - В связи с цуком автор подробно описывает положение "зверей" в военно-учебных заведениях. Существовал еще термин "сугубый зверь". С ритуалом, завершающим пребывание юнкеров в состоянии "зверей", была связана и специальная песня "Звериада". Приведем слова "Звериады" Николаевского кавалерийского училища:
"В стенах родимой нашей школы в последний раз мы пропоем,
О том, как жил в былые годы, наш вечно славный эскадрон.
Забыто все, забыт обычай, черты заветной больше нет,
И взвод Второй наш знаменитый, где сам стихи слагал поэт.
Бывали в школе бури, свалки, бывало много разных бед,
Но славной конницы заветы всегда хранил младой корнет.
За друга друг стоял горою, в беде друг друга выручал,
И были вечными друзьями солдат, корнет и генерал".
"Пажеский Его Величества корпус" - Привилегированное военно-учебное заведение, основанное в 1802 году. Ядром при основании служил Пажеский корпус, существовавший с 1759 года. Целью нового учебного заведения была подготовка молодых людей к военной и придворной службе. В корпусе давалось общее и военное образование и соответствующее воспитание. Все воспитанники этого корпуса носили звание пажей. С 1810 года корпус размещался в Воронцовском дворце на Садовой улице в Петербурге.
"флигель-адъютантские аксельбанты" - Чины Свиты императора состояли из обер-офицеров - флигель-адъютантов, генерал-майоров Свиты и генерал-адъютантов. Их отличием служили мундиры со специальным шитьем на воротнике и клапанах обшлагов, аксельбанты и вензеля императора на погонах и эполетах.
"золотые кольца с широким стальным ободом снаружи" - Подобные кольца, сделанные из стали, чугуна, железа, офицеры носили с XIX века. На золотой подкладке гравировались имя и фамилия офицера. Такое кольцо выполняло роль жетона, по которому можно было опознать погибшего. Неблагородные металлы использовались для того, чтобы мародеры не снимали его с трупа.
Глава V
"Лейб-Гвардии Конный полк" - Полк вел свою историю от сформированного в 1721 году Кроншлотского драгунского полка, переименованного в 1722 году в Лейб-Регимент. В 1730 году императрица Анна Иоанновна повелела "Бывший Лейб-Регимент назвать Конная Гвардия..." В 1801 году полк назван Лейб-Гвардии Конным.
"профессия шакала" - В связи с упоминанием автором записок "шакалов" и "съемок глазомерных" приведем тексты двух песен Николаевского Кавалерийского училища, в которых эти темы обыгрываются:
ЕДУТ, ПОЮТ ЮНКЕРА ГВАРДЕЙСКОЙ ШКОЛЫ
1. Едут, поют Юнкера Гвардейской школы
Трубы, литавры на солнце блестят.
Припев (2 раза) - Грянем "Ура!", лихие юнкера,
За матушку Россию, за русского Царя!
2. Справа повзводно, сидеть молодцами,
Не горячить понапрасну коней.
Припев.
3. Наш эскадронный скомандовал нам "Смирно",
Руку свою приложил к козырьку.
Припев.
4. Справа и слева идут гимназисточки.
Как же нам, братцы, равненье держать?
Припев.
5. Съемки примерные, съемки глазомерные,
Вы научили нас женщин любить.
Припев.
6. Здравствуйте, барышни, здравствуйте, милые,
Съемки у нас, юнкеров, начались!
Припев.
Был еще один куплет, порядковый номер которого не известен:
Тронулся, двинулся, заколыхался
Алою лентою наш эскадрон.
В советское время на мелодию этой песни пели пионерскую песню, начавшуюся словами:
Смотрит вожатый, смотрят пионеры,
Что за отряд показался вдали.
Припев. Взвейся песнь моя, пионерская.
Буль, буль, буль баклажечка походная моя.
ПО ДОРОЖКЕ КРАСНОСЕЛЬСКОЙ
1. По дорожке Красносельской
Едет эскадрон гвардейский,
Эскадрон лихой, эскадрон лихой.
2. Снега первого белее
Блещут наши портупеи,
Шашки у бедра, шашки у бедра.
3. Наш полковник приказал
Сделать маленький привал,
Маленький привал, маленький привал.
4. А "шакалы" не зевали
И бутылки расставляли
С пенистым вином, с пенистым вином.
5. А полковник не зевал
И "шакалов" разгонял
Жилистым хлыстом, жилистым хлыстом.
6. По дорожке Красносельской
Ушел эскадрон гвардейский,
Эскадрон лихой, эскадрон лихой!
Глава VI
"Буль-буль-буль бутылочка, любимая моя" - Или вариант "Буль-буль-буль бутылочка казенного вина" пелось в качестве припева в песне "Едут, поют юнкера Гвардейской школы". Считается, что этот припев появился во время первой мировой войны в Елизаветградском и Терском кавалерийских училищах. Его пели во время Гражданской войны. (Первая строчка припева была - "Гей, песнь моя любимая...").
"2-м Драгунским Псковским Ее величества" - 2-й лейб-драгунский Псковский Ея Величества Государыни Марии Федоровны полк был сформирован в 1860 году путем соединения двух пол кош: Елисаветградского драгунского Его Королевского Высочества Принца Карла Баварского и Лейб-кирасирского Псковского Ея Величества. Первый из них ведет свою историю с 1668 года, когда гетман Демьян Многогрешный сформировал на Украине из вольновербованных людей 4-й Охочекомонный или Компанейский полк. В 1779 году получил наименование Северский легко-конный Малороссийской конницы полк. В 1784 году - стал карабинерным, в 1796 - драгунским, в 1812 - конно-егерским, в 1856 Елисаветградским драгунским. Псковский кирасирский полк начинал свою историю в 1701 году. Тогда начальник Казанского и Астраханского приказов боярин князь Б. А. Голицын сформировал в Москве из рейтар и рейтарских детей драгунский полковника Новикова полк. В следующие годы полк сменил несколько командиров, а в 1706 году получил наименование Псковский драгунский. 17 декабря 1812 года полк стал кирасирским. В 1860 году полк, составленный из двух вышеназванных частей, стал называться Лейб-драгунским Псковским Ея Величества. В 1864 году ему был присвоен номер 2, а в 1882 - 4.
В 1894 году к наименованию добавлено "Государыни императрицы Марии Федоровны", а в 1907 году возвращен номер - 2.
Глава VII
"квартировавшей в Гатчине артиллерийской бригады" - В Гатчине стояла 23-я артиллерийская бригада.
"В начале империалистической войны вахмистр Баздырев был убит" - Старейший вахмистр полка подпрапорщик Баздырев был убит 18 сентября 1915 года во время атаки укрепленного фольварка Кура-полы на реке Мядзелке. В том же бою был убит прапорщик Куликовский 2-й. (И. Ф. Рубец. Конные атаки Российской императорской Кавалерии в первую мировую войну. - Военная быль, No 77, январь 1966, С. 9).
"в так называемую Дикую дивизию" - Кавказская (туземная) кавалерийская дивизия (обиходное название - "Дикая дивизия") была сформирована в годы первой мировой войны из добровольцев горских народов Северного Кавказа. Дивизия состояла из шести полков - Кабардинского, Дагестанского, Татарского, Чеченского, Черкесского и Ингушского. Общая численность - около 1350 сабель. К дивизии были причислены Осетинская пешая бригада и 8-й Донской казачий артиллерийский дивизион. Входила в состав 3-го конного корпуса.
"получил высшую боевую награду - офицерский Георгиевский крест" - Орден Святого Георгия был учрежден в 1769 году, и им награждали только за военные заслуги. Знак ордена представлял собой равноконечный крест с расширяющимися концами, покрытый белой эмалью, в центральном медальоне было помещено изображение св. Георгия. Звезда ордена - золотая, квадратная, имела в центре круглый медальон с вензелем "СГ", вокруг которого расположен девиз ордена "За службу и храбрость". Лента ордена черно-желтая. Орден состоял из четырех степеней.
"Когда в феврале 1917-го года находившийся в Петрограде запасной батальон лейб-гвардии Преображенского полка первый примкнул к восстанию" - 26 февраля (11 марта) 1917 года 4-я рота резервного батальона Лейб-Гвардии Павловского полка первой в столице перешла на сторону Революции. Резервный батальон Лейб-Гвардии Преображенского полка восстал 27 февраля (12 марта) 1917 года.
"Лейб-Гвардии Семеновский полк" - Как и Л.-Гв. Преображенский полк, был сформирован в конце XVII века; один из старейших полков русской гвардии.
Глава VIII
"с Желтыми кирасирами, входившими в нашу бригаду" - Лейб-Гвардии Кирасирский Его Величества полк вел свою историю от Драгунского князя Григория Волконского полка, сформированного в 1702 году. До 1761 года, когда полк назвали Лейб-Кирасирским Его Императорского Величества, переменил несколько названий. За храбрость, проявленную во время Отечественной войны 1812 года, в апреле 1813 года был причислен Гвардии и назван Лейб-Гвардии Кирасирским. В 1813 году полк получил права Старой Гвардии и был наименован Лейб-Гвардии Кирасирским Его Величества. Казармы находились в Царском Селе. Поэтому в обиходе говорили "царскосельские кирасиры". В отличие от "Синих кирасир", этот полк называли "Желтыми кирасирами" по отличительному (приборному) цвету полка.
"приветствуя друг друга исполнением полковых маршей" -С XIX века военная музыка в Петербурге становится очень разнообразной, так как каждый гвардейский полк имел свой марш. По его мелодии можно было определить, какой полк идет. Наиболее старыми были марши Лейб-Гвардии Преображенского и Семеновского полков. Считалось, что первый из них относится еще ко времени Петра Великого, почему и назывался "Петровский марш". Под его мелодию русская Гвардия вступала в Париж в 1814 году. Марш семеновцев был написан в 1796 году генералом Римским-Корсаковым, страстным музыкантом, посвятившим его одной из фрейлин. По приказу Павла I марш стал полковым. Маршем Кавалергардского полка в 1826 году стала мелодия из оперы Ф.-А. Буальдьё "Белая дама". Таково было желание шефа полка императрицы Александры Федоровны. Вспомним, что в военном жаргоне выражение "белая дама" означало холодное оружие. Полковым маршем Лейб-Гвардии Кирасирского Ея Величества и 2-го Лейб-драгунского Псковского Ея Величества полков был так называемый "Гессенский марш". В статье, посвященной этому маршу, о нем говорится: "Упомянутый марш называется Эрнст - Людвиг... марш. Сочинен был в Кранихштейне 4 июня 1730 года Его Высококняжескою Светлостью Наследным Принцем, впоследствии ландграфом, Людвигом VIII Гессенским... По изустным преданиям, сохранявшимся в полку, это принятие (марша - Г. В.) должно быть отнесено ко времени посещения Гатчины Наследным Принцем Гессен-Дармштадским, прибывшим в Россию на торжества по случаю бракосочетания Принцессы Марии Гессенской с бывшим шефом полка Государем Наследником Цесаревичем Александром Николаевичем, происходившие в середине апреля 1841 года. До последнего времени, этот исторический марш исполнялся в полку по оркестровке А. Дерфельдта, бывшего капельмейстера гвардии в начале шестидесятых годов" (И. Р. Гессенский марш. - Военная быль, No 46, январь 1961. С. 30). Автор записок говорит о том, как приветствовали друг друга полки, играя соответствующие полковые марши. Вот еще один интересный сюжет, относящийся к этой традиции: "... строевой гвардейский вид штаба гвардии и почти полное отсутствие серебряного прибора и аксельбантов Ген. штаба, не популярных в войсках, нравились гвардейскому офицерству. Когда какая-нибудь строевая часть проходила мимо нашего штаба, музыка или хор кавалерийских трубачей играли по одному колену трех полковых маршей: Кавалергардского - для Безобразова, Преображенского - для Игнатьева и Измайловского - для Геруа". (Геруа Б. В. Воспоминания о моей жизни. Т. П. Париж. 1970. С. 119).
"казак с большим ярким флагом" - В 1827 году были узаконены флаг и брейд-вымпел их императорских высочеств Великих Князей. Флаг представлял собой гюйс, в центре которого на желтом круге был изображен черный двуглавый орел (ПСЗ, т. II, 1362, 1827). Этот флаг мог быть использован не только на судах, но и на суше. Одна из картин из собрания Эрмитажа изображает Великого Князя Николая Николаевича младшего, а на втором плане - казака с таким флагом.
Глава IX
"в гвардейской экономке" - Имеется в виду большой магазин военных вещей "Гвардейского экономического общества", находившийся в Петербурге на Большой Конюшенной улице (ныне улица Желябова, магазин ДЛТ).
"гусар-красноштанник" - В декабре 1907 года было объявлено о возвращении армейским драгунским полкам, бывшим некогда уланскими и гусарскими, прежних наименований в форме, существовавших до 1882 года. Приказы с подробным описанием форм обмундирования вышел в апреле - июне 1908. В соответствии с ними армейские гусары получили чахчиры (рейтузы) темно-красного (кранового) цвета.
"Всякий молодой человек, выходивший в полк офицером, обязан был приобрести историю полка" - Имеются в виду два тома "Истории Л. Гв. Кирасирского Ея Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны полка". Автором первого тома был генерального штаба полковник Марков. Том охватывал период с 1704 по 1879 и был опубликован в Петербурге в 1884 году. Автором второго тома был штабс-ротмистр Мордвинов 1-й. В нем описывалась история полка с 1879 по 1904 год и он был издан в Петербурге в 1904 году.
"эскадренный миноносец Всадник" - Зачислен в списки 15 апреля 1905 года, заложен в декабре 1904, спущен в июле 1905, вступил в строй в июне 1906 года.
"военный с голубой лентой через плечо" - На голубой ленте через правое плечо носили знак ордена св. Апостола Андрея Первозванного. Этот высший и старейший в России орден был учрежден Петром Великим в конце XVIII века.
"наш штандарт с ликом Бога небесного" - Штандарт простой с образом Нерукотворного Спаса был пожалован полку 9 мая 1904 года.
"под звуки излюбленных государем старинных маршей" - "Взятие Парижа" и "Старого Егерского" - "Старый Егерский марш" датируется 1813 годом; он был маршем прусских вольных егерей. После окончания войн с Наполеоном стал использоваться и в Русской армии.
Глава X
"невдалеке от лагеря преображенцев, торжественно праздновавших в этот день свой полковой праздник" - Полковой праздник Лейб-Гвардии Преображенского полка отмечался 6 августа в день Преображения Господня.
"Павловского пехотного училища" - Павловское военное училище было сформировано 16 сентября 1863 года из специальных классов Павловского кадетского корпуса, основанного 23 декабря 1798 года. Училище готовило офицеров для пехотных частей, и его выпускники имели славу прекрасных строевых офицеров. Находилось в Петербурге на Петербургской стороне.
"юнкера Михайловского артиллерийского" - Артиллерийское училище было открыто 25 ноября 1820 года по инициативе великого князя Михаила Павловича при учебной артиллерийской бригаде. В 1849 году оно получило наименование Михайловского. Находилось в Петербурге на Выборгской стороне.
Г. В. Вилинбахов
Подстрочные примечания
{*1}См. Горяинов А. Н. Славяноведы - жертвы репрессий 1920-1940-х годов. Некоторые неизвестные страницы из истории советской науки. "Советское славяноведение". 1990. No 2.
{*2}"Жена моряка - жена печали".
{*3}В. к. Николай Николаевич младший (1856-1929) с 1905 г. был главнокомандующим войсками гвардии и Петербургского военного округа, а также генерал-инспектором кавалерии.
{*4}декоративные серебряные вазы
{*5}Английское офицерское морское звание между капитаном 1 ранга и контр-адмиралом.
{*6}знатная, важная дама.
{*7}"Здравствуй, здравствуй... Хочешь шоколаду?"
{*8}"Спасибо, тетя Мимиша".
{*9}"весьма благовоспитанным и очень умным (!)"
{*10}маленькие вещички из кожи
{*11}маленький подарок.
{*12}до свидания, до свидания...
{*13}Басевич был убит во главе своей роты на Германском фронте, в одном из первых боев в 1914-м году, выказав себя и в боевой обстановке прекрасным начальником. (Прим. автора).
{*14}"Положение обязывает"
{*15}теща.
{*16}леиб - по немецки тело. Leib-garade - телохранитель. (Прим. автора).
{*17}В. Трубецкой цитирует по книге А. М. Зайончковского "Подготовка России к империалистической войне". М., 1926, с. 94-96.
{*18}"Кюба"- фешенебельный ресторан Петербурга.



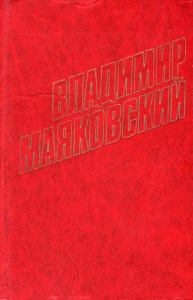

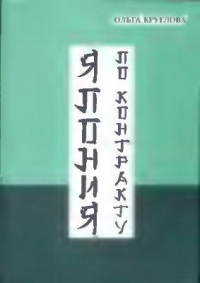


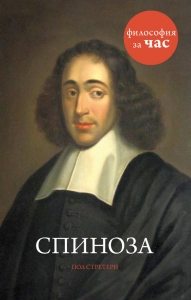
Комментарии к книге «Записки кирасира», Владимир Сергеевич Трубецкой
Всего 0 комментариев