Ни единою буквой не лгу: Стихи и песни. Высоцкий Владимир Семенович
О ПЕСНЯХ, О СЕБЕ [1]
В принципе я предпочитаю не рассказывать свою биографию, и не потому, что в ней’ есть нечто такое, что я хочу скрыть, нет, а просто потому, что это малоинтересно. Интересней говорить про то, что я успел сделать за это время, а не про то, что успел прожить.
Я знаю, что про меня ходит много всяких слухов, что мне приписывают массу песен, к которым я не имею никакого отношения, — ну и бог с ними! Не хочу опровергать. Помните, как Александр Сергеевич сказал: «От плохих стихов не отказываюсь, надеясь на добрую славу своего имени, а от хороших, признаться, и сил нет отказаться». Так что…
Ну, в общем так. У меня в семье не было никого из актеров и режиссеров, короче говоря, никого из людей искусства. Но мама моя очень любила театр и с самых-самых малых лет каждую субботу — лет до тринадцати-четырнадцати — водила меня в театр. И это, наверное, осталось. Видно, в душе каждого человека остается маленький уголок от детства, который открывается навстречу искусству.
Родители хотели, чтобы я стал нормальным советским инженером, и я поступил в Московский строительный институт имени Куйбышева на механический факультет. Но потом почувствовал, что мне это… словом, невмоготу, и однажды залил тушью чертеж, в шестой раз переделанный, и сказал своему другу, что с завтрашнего дня больше в институт не хожу. То есть, формально я ходил, чтобы получать стипендию, потому что тогда это были большие деньги — двадцать четыре рубля, но учиться перестал. А в это время я уже несколько лет занимался в самодеятельности, но это была не такая самодеятельность, к которой мы уже привыкли, — она сразу оскомину вызывает, и по ней уже прошлись у нас и в фильмах и в прессе (Ливанов однажды спросил нашего министра культуры: «А вы пошли бы к самодеятельному гинекологу?»), просто люди кроме своей работы занимались еще другим делом, любимым более, чем работа. Это было хобби, которое тогда еще не оплачивалось.
Руководителем там был Богомолов, артист Художественного театра. Он на нас пробовал многие спектакли и работал с нами режиссерски, как с профессионалами. И я начал у него набирать — очень сильно, по его словам. Конечно, это меня увлекало больше, чем мое студенчество, и я просто ушел из института и стал поступать в студию МХАТ. Поступил туда с большим трудом — считалось, что мой голос не приспособлен для сцены. Меня даже пытались отчислить из студии за профнепригодность из-за голоса, но руководитель курса Павел Владимирович Массальский не позволил.
Закончил студию в числе нескольких лучших учеников, стал выбирать себе театр. Тут у меня была масса неудач, но мне не хочется сейчас об этом говорить. Меня приглашали туда-сюда, а я выбрал Московский театр Пушкина — худший вариант, как оказалось, из всего, что мне предлагали. Тогда режиссер Равенских начинал там новый театр (а я все в новые дела куда-то суюсь), наобещал мне «сорок бочек арестантов» и ничего не выполнил. Он говорил: «Я всех уберу, Володя», — и так далее, но, в общем, он никого не убрал, предпринял половинчатые меры, хотя ему был дан полный карт-бланш на первые полтора-два года: делай что хочешь, а потом будем смотреть результаты твоей работы. Но он так и остановился на половине и ничего интересного из этого театра не сделал — поставил несколько любопытных спектаклей, и все. Я понимаю, что это жестоко — менять труппу, увольнять людей, но без этого невозможно создать новое дело. Нужно приходить со своими и еще как можно больше брать своих. Надо работать кланом, а иначе ничего не получится. Я оттуда ушел, начал бродить по разным театрам: работал два месяца в Театре миниатюр — меня оттуда прогнали; поступил в «Современник», мне даже дали там дебют — я играл Глухаря в «Двух цветах», но чего-то там не случилось. Снимался в кино в маленьких ролях, снова вернулся в Театр Пушкина, а потом, когда организовался Театр на Таганке, я стал в нем работать, порекомендовал меня туда Слава Любшин. Вот и все, творческая биография у меня довольно короткая.
Пишу я очень давно. С восьми лет писал я всякие вирши, детские стихи про салют. А потом, когда стал немножко постарше, писал всевозможные пародии. Все балуются в юности стихами и собираются это делать и в будущем. Почти все могут писать — это не так сложно — и знают, как зарифмовать «кровать» с «убивать» или «мать» и так далее, но это ничего не стоит, это дело четвертое или пятое — рифмовка. Можно взять историю русской рифмы, словарь для рифмовки — и пошел шпарить! И так можно графоманствовать всю жизнь, а вот некоторые почему-то со временем превращаются в Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулину и Окуджаву.
Большинство бросают писать очень рано, а если продолжают, то как-то по инерции, а потом все-таки все равно бросают, уходят. Некоторых заедает суета, некоторые понимают цену настоящей поэзии или понимают, что их поэзия — подражательство: это было прекрасно поначалу, когда казалось, что все умеешь… И только очень немногие продолжают заниматься этим дальше, если видят в этом смысл.
Мне повезло в этом отношении. Мне казалось, что я пишу для очень маленького круга — человек пять-шесть — своих близких друзей и так оно и будет всю жизнь. Это были люди весьма достойные, компания была прекрасная. Мы жили в одной квартире в Большом Каретном переулке — теперь он называется улица Ермоловой — у Левы Кочаряна, жили прямо-таки коммуной. И, как говорят, «иных уж нет, а те далече». Я потом об этом доме даже песню написал «Где твои семнадцать лет?». Тогда мы только начинали, а теперь, как выяснилось, это все были интересные люди, достаточно высокого уровня, кто бы чем ни занимался. Там бывали люди, которые уже больше не живут: Вася Шукшин прожил с нами полтора года, он только начинал тогда снимать «Живет такой парень» и хотел, чтобы я пробовался у него. Но он еще раньше обещал эту роль Куравлеву, и я очень рад, что Леня ее сыграл. Так и не пришлось мне поработать с Шукшиным, хотя он хотел, чтобы я играл у него Разина, если бы он стал его снимать. Нет больше Васи.
И еще нету хозяина этой квартиры, Левы Кочаряна. Он успел снять только одну картину как режиссер: «Один шанс из тысячи» — он его поймал и быстро умер. Он успел немного. Он жил жарко: вспыхнул и погас — мгновенно.
А из ныне живущих и работающих — это Андрей Тарковский [2], он тогда только думал про «Рублева»; это писатель Артур Макаров; актер Миша Туманов, позже он работал в режиссуре на «Мосфильме»; сценарист Володя Акимов… Толя Утевский и еще несколько человек, не имеющих никакого отношения к таким публичным профессиям. Вот эти люди были моими первыми слушателями и судьями.
Мы собирались вечерами, каждый божий день, и жили так полтора года. Только время от времени кто-то уезжал на заработки. Я тогда только что закончил студию МХАТ и начинал работать. И тоже уезжал где-то подрабатывать. Мы как-то питались и, самое главное — духовной пищей. Помню, я все время привозил для них свои новые песни и им первым показывал: я для них писал и никого не стеснялся, это вошло у меня в плоть и кровь. Песни свои я пел им дома, за столом, с напитками или без — неважно. Мы говорили о будущем, еще о чем-то, была масса проектов. Я знал, что они меня будут слушать с интересом, потому что их интересует то же, что и меня, что им так же скребет по нервам все то, что и меня беспокоит.
Это было самое запомнившееся время моей жизни. Позже мы все разбрелись, растерялись и редкоредко видимся. Я узнаю от людей про Андрея Тарковского, про Артура, который бросил Москву и живет в деревне, занимается рыбнадзором. Но все равно я убежден, что каждый из нас это время отметил, помнит его и из него черпает. Многое-многое, что я вижу в картинах Андрея, из тех наших времен, я это знаю.
Можно было сказать только полфразы, и мы друг друга понимали в одну секунду, где бы мы ни были; понимали по жесту, по движению глаз — вот такая была притирка друг к другу. И была атмосфера такой преданности и раскованности — друг другу мы были преданны по-настоящему, — что я никогда и не думал, что за эти песни будут мне аплодировать. Сейчас уж нету таких компаний: или из-за того, что все засуетились, или больше дел стало, может быть.
Я никогда не рассчитывал на большие аудитории — ни на залы, ни на дворцы, ни на стадионы — а только на эту небольшую компанию самых близких мне людей. Я думал, что это так и останется. Может быть, эти песни и стали известны из-за того, что в них есть вот этот дружеский настрой. Я помню, какая у. нас была тогда атмосфера: доверие, раскованность, полная свобода, непринужденность и, самое главное, дружественная атмосфера. Я видел, что моим товарищам нужно, чтобы я им пел, и они хотят услышать, про что я им расскажу в песне. То есть, это была манера что-то сообщать, как-то разговаривать с близкими друзьями. И несмотря на то что прошло так много времени, я все равно через все эти времена, через все эти залы стараюсь протащить тот настрой, который был у меня тогда.
Никогда не работал я с внутренним редактором, который сидит в каждом из нас и говорит: «А это я лучше не буду». По молодости лет я писал тогда дворовые песни. Была какая-то тоска по нормальной человеческой интонации — у меня так навязла в ушах эта липкая интонация песен, которые исполняли со сцены под оркестр. Такое, может, было в то время междувластие, и никто ничего не понимал: что будет? куда песня пойдет? Оно и до сих пор непонятно, куда идет эстрадная песня: большой оркестр, все поют — и все одинаково…
Гитара у меня появилась не сразу. Сначала я играл на рояле, потом — на аккордеоне. Я тогда еще не слышал, что можно петь стихи под гитару, и просто стучал ритм песни по гитаре и пел свои и чужие стихи на ритмы. Недавно мне принесли старую запись — я был еще студентом первого курса студии МХАТа. Представляете, тогда почти совсем не было магнитофонов, и все-таки эту запись кто-то сделал. Там я стучал:
Алешка жарил на баяне, Гремел посудою шалман, А в дыму табачном, как в тумане, Плясал одесский шарлатан…Это какие-то припевки одесские, но слышу — действительно я! Значит, я давно тосковал по ритмизации стиха.
Вообще, я песни пишу, сколько себя помню. Но раньше я писал пародии на чужие мелодии, всякие куплеты. В театральном училище я писал громадные «капустники», на полтора-два часа. Например, на втором курсе у меня был «капустник» из одиннадцати или двенадцати пародий на все виды искусств: там была и оперетта, и опера «вампука», в плохом смысле слова, естественно. Мы делали свои тексты и на студийные темы, и на темы дня, то есть я давно писал комедийные вещи, и всегда с серьезной подоплекой. А потом я не стал этого делать, потому что вскоре после окончания студии Художественного театра — молодым еще человеком — услышал пение Окуджавы, по-моему, это было в Ленинграде, во время съемок. Его песни произвели на меня удивительное впечатление не только своим содержанием, которое прекрасно, но и тем, что, оказывается, можно в такой манере излагать стихи. Меня поразило, насколько сильнее воздействие его стихов на слушателей, когда он читает их под гитару, и я стал пытаться делать это сам. Стал делать, конечно, совсем по-другому, потому что я не могу, как Булат, — это совсем другое дело. Но все-таки я стал писать стихи в этой манере именно потому, что это не песни — это стихи под гитару. Это делается для того, чтобы еще лучше воспринимался текст.
Вот только в этом смысле был у меня элемент подражания, а в других смыслах — нет. Никогда не подражал я ни Булату, ни другим ребятам, которые в то время писали. Мы с Булатом работаем в одном жанре, и обычно в этом случае возникает какое-то соревнование. У нас с ним никаких соревнований нет. Я пишу очень разные песни, почти все они написаны от первого лица. Булат это делает реже, но я и не хочу сравнивать, скажу только, что отношусь к нему с большим уважением, просто я его люблю — и стихи его, и как он это делает, и вообще как личность, — это само собой. Он мой духовный отец и в этом смысле остается для меня самым светлым…
Мне, в общем-то, страшно повезло, что я не бросил писать стихи. Не бросил потому, что поступил работать в Театр на Таганке. Я пришел туда через два месяца после того, как он организовался, и увидел, какое в их спектакле [3] было обилие брехтовских песен и зонгов, которые исполнялись под гитару и аккордеон. И так исполнялись, как я бы мечтал, чтобы мои песни были исполнены: не как вставные номера, чтобы люди в это время откинулись и отдыхали, а как необходимая часть спектакля.
Меня взяли на Таганку. Правда, несколько моих песен еще до этого звучало в некоторых спектаклях старого таганского Театра драмы и комедии. И Юрий Петрович Любимов, наш главный режиссер, отнесся с уважением к этим песням и предложил мне работать во многих спектаклях как автору текстов и музыки. Я думаю, он предложил мне работать из-за того, что эти мои песни не были ни на кого похожи. Он очень сильно меня в этом поддерживал, всегда приглашал по вечерам к себе, когда у него бывали близкие друзья — писатели, поэты, художники, — и хотел, чтобы я им пел, пел, пел.
Я не знаю, но думаю, что именно из-за этого я продолжал писать: мне было как-то неудобно, что я все время пою одно и то же. Тем более что я стеснялся петь свои дворовые песни в этих компаниях, а их у меня тогда было больше, чем не дворовых. Я хотел, чтобы всякий раз, когда я приходил в такие компании или когда мне предлагали написать песню для спектакля, мне не приходилось искать песни среди своего старого репертуара. И, видимо, больше всего на меня подействовало, что люди, работавшие рядом со мной, не оказались безразличными к этому делу.
Разные люди бывали в Театре на Таганке, и они всерьез отнеслись к моим стихам. Кроме Любимова, их заметили члены худсовета нашего театра. Это потрясающий народ! С одной стороны, поэты: Евтушенко, Вознесенский, Самойлов, Слуцкий, Окуджава, Белла Ахмадулина, Левитанский; писатели: Абрамов, Можаев — в общем, «новомировцы», которые начинали печататься в «Новом мире». С другой стороны, ученые: Капица, Блохинцев, Флеров… Капица-старший — самый-самый! — основоположник, удивительный человек… Бывали в театре и музыканты, Шостакович часто приходил…
А может быть, я ошибаюсь, может быть, я все равно продолжал бы писать, и не оказавшись на Таганке. Потому что раньше — это я только сейчас обратил внимание, — если я начинал работать и приходила какая-то строка, я всегда садился и записывал ее. А теперь она меня мучает и все равно заставит прийти к письменному столу. Так что, возможно, я и сам все равно продолжал бы писать, но не так, как при поддержке театра.
Человека всегда нужно вовремя, в какой-то определенный момент подхватить, поддержать. Я знаю, что очень много талантов погибло из-за того, что не представилось подходящего случая. Правда, иногда надо «подставиться» под случай, как мишень под пулю, но сам случай должен быть. Кто-то должен проявиться, кто-то должен обязательно поддержать, чтобы ты почувствовал: то, что делаешь ты, нужно!
Написав первый раз музыку к некоторым стихам Андрея Вознесенского, я стал кое-что делать для нашего театра. Пожалуй, первой моей песней, профессионально исполненной в спектакле, была песня белых офицеров «В куски разлетелася корона» [4], но это песня для персонажа, со сцены я ее не пою. А потом мне стали предлагать мои друзья из других театров, чтобы я приходил и писал песни для их спектаклей. Но я к тому времени был уже тертый калач и стреляный воробей: я знал, как обычно используется песня: во-первых, там оставляют только то, что им нужно, а во-вторых, дают их петь тем, кто делать этого не умеет.
То же самое было в кино. Всякий раз, когда я там появлялся, меня просили: «Может быть, ты чего-нибудь споешь?» — и я всегда брал гитару и чего-нибудь пел. Потом стал писать песни специально для своего героя, для персонажа, которого играю. Но я уже тогда старался петь так, чтобы они имели еще какую-то другую нагрузку, чтобы они не были вставным номером — песней, которая украшает роль. Но потом я это дело бросил — ну спел ты ее с экрана, но если песня не звучит как самостоятельная единица, то так ли уж она нужна?..
Теперь я стараюсь писать песни в картину так, чтобы сам потом мог спеть ее и для вас в любом выступлении, чтобы она имела самостоятельную ценность. Чтобы у нее был свой сюжет или какая-то своя идея, даже оторванная от сюжета; чтобы она шла в параллель с кинематографическим действием или даже за экраном, а не принадлежала только тому зрелищу, в которое она вставлена. Я не очень-то даю обижать мои песни. Меня — пожалуйста, песни — нет. Иногда работаешь, грызешь ногти, в поте лица, как говорится, подманиваешь оттуда это так называемое пресловутое вдохновение — иногда оно опустится, а иногда и нет — и сидишь до утра. А потом смотришь — песня идет на титрах, и ты в это время читаешь: «Директор фильма — Тютькин», а в это время идет самый главный текст, который ты написал.
Ну и, конечно, досадно, и я всегда ругаюсь с режиссерами, с авторами сценария, что я тоже, дескать, хочу, чтобы было слышно то, что я написал. Иногда это удается, а иногда — не особенно. В общем, из пяти моих песен для кино только одна доходит до зрителя.
В этот же период я встретил Славу Говорухина и ужасно рад, что он с таким доверием ко мне отнесся и предложил написать песни для своей первой картины. Потом это вошло в привычку, я стал писать для него много, почти во все его работы.
Первую свою песню я написал в Ленинграде где-то в 1961 году. Дело было летом, ехал я в автобусе и увидел впереди себя человека, у которого была распахнута рубаха и на груди была видна татуировка — нарисована была очень красивая женщина, а внизу написано: «Люба, я тебя не забуду!» И мне почему-то захотелось про это написать. Я сделал песню «Татуировка», только вместо «Любы» поставил для рифмы «Валю».
Вот так получилась первая песня. И поскольку в то время я только учился играть на гитаре, а чужие песни всегда труднее разучивать, — я стал писать свои. И вот так потихоньку дошел до такой жизни.
Первые мои песни — это дань времени. Это были так называемые «дворовые», городские песни, еще их почему-то называли блатными. Это такая дань городскому романсу, который к тому времени был забыт. Эти песни были бесхитростные, была, вероятно, в то время потребность в простом общении с людьми, в нормальном, не упрощенном разговоре со слушателями. На них обязательно были следы торопливости, это мои мысли, которые я привозил из своих поездок, а рифмовал их для простоты, чтобы не забыть. В каждой из первых песен была одна, как говорится, но пламенная страсть: в них было извечное стремление человека к свободе, к любимой женщине, к друзьям, к близким людям, была надежда на то, что его будут ждать. Помните эту песню: «За меня невеста отрыдает честно, за меня ребята отдадут долги…»? Это — о друзьях, это очень мне близко: я и сам в то время точно так же к дружбе относился, да и сейчас стараюсь. Так оно, в общем, и осталось: я жил, живу и продолжаю жить для своих друзей и стараюсь писать для них, даже для ушедших и погибших.
Когда говорят, что мои ранние песни были на злобу дня, а теперь будто бы я пишу песни-обобщения, по-моему, это неправда: это невозможно определить, есть обобщение или его нет, — пусть критики разбираются. Потом, со временем, все это видоизменилось, обросло, как снежный ком, приняло другие формы и очертания. И песни немножечко усложнились, круг тем стал шире, хотя я все равно пытаюсь их писать в упрощенной форме, в нарочно примитивизированных ритмах.
Я не считаю, что мои первые песни были блатными, хотя там я много писал о тюрьмах и заключенных. Мы, дети военных лет, выросли все во дворах в основном. И, конечно, эта тема мимо нас пройти не могла: просто для меня в тот период это был, вероятно, наиболее понятный вид страдания — человек, лишенный свободы, своих близких и друзей. Возможно, из-за этого я так много об этом писал, а вовсе не только о тюрьмах. А что, вы считаете, что совсем не стоит об этом писать?
Эти песни принесли мне большую пользу в смысле поиска формы, поиска простого языка в песенном изложении, в поисках удачного слова, строчки. Но поскольку я писал их все-таки как пародии на блатные темы, то до сих пор это дело расхлебываю. Я от них никогда не отмежевывался — это ведь я писал, а не кто-нибудь другой! И я, кстати, всегда пишу что хочу, а не по заказу. А в общем, это юность, все мы что-то делали в юности; некоторые считают, что это предосудительно, — я так не считаю. И простоту этих песен я постарался протащить через все времена и оставить ее в песнях, на которых лежит более сильная, серьезная нагрузка.
Много я слышал претензий и к моей «вульгарной манере исполнения» и так далее. Да ерунда все это! Неважно, кто и как исполняет, в какой форме. Важно — что! И интересно это людям или нет.
Я слышал много подделок под мои песни. Сейчас их делать стало труднее, потому что появилась хорошая аппаратура и сразу можно отличить мой голос от того, что подделано. А раньше подделок было очень много, и слушатели считали, что, если кто-то хрипит, — это Высоцкий. Хочу сказать, что если вам когда-нибудь попадутся записи, где, во-первых, неприличные слова, во-вторых, такая дешевая жизненная проза, то сразу можете считать, что это песни не мои. Подделывать в то время было очень легко, так как эти записи десятикратно, стократно переписываются и хриплый голос сделать очень просто, а если еще и записать где-нибудь на улице, то и будет, как многие считают, полное впечатление, что поет Высоцкий. Я однажды услышал такую запись и сам перепутал — отличил только потому, что сам пою и знаю свои тексты.
Однажды в Одессе, на «толчке», я видел человека, который стоял за громадными стопами пленок — его из-за них почти не было видно — и торговал «моими» песнями. Так в этой пленке из тридцати пяти песен было примерно пять вещей, которые пел я, а остальные тридцать пел какой-то другой человек, которого звать Жорж Окуджава. Он, значит, взял себе фамилию Булата и поет, стервец, моим голосом, при этом старается петь и мои, и булатовские песни. Поет настолько похоже, что поразительно.
Эти песни мне очень вредят, меня часто по этому поводу вызывают, разговаривают со мной, дескать, как вам не стыдно, что вы делаете?! А несколько лет назад был специальный приказ по управлению культуры, мне запретили год выступать, и в приказе было названо несколько песен, которые мне вообще не принадлежат. Даже была целая статья в газете «Советская Россия» — «О чем поет Высоцкий?», где основные обвинения в мой адрес были построены не на моих песнях. А я никогда не пел с «чужого голоса» и никому не подражал и вообще это занятие считаю праздным и довольно глупым. Я даже жаловался по поводу этой статьи, мне ответили, что «меры приняты», но я считаю, что приняты недостаточно. Потому, что должен был кто-то написать такую же статью в такой же газете, которая так же широко читается, и сказать там, что «песни эти — не его, и обвинения в адрес Высоцкого сделаны ошибочно». Но, к сожалению, этого сделано так и не было.
У меня есть надежда, что песни мои могут доставлять радость людям. Я убежден, что разговоры, которые идут обо мне, что мои песни якобы вредны, несостоятельны. А что касается «блатных» песен, которые я писал в молодости, — их можно воспринимать как пародии или не пародии, но я считаю, что в них тоже ничего плохого нет, потому что они с юмором, о действительных отношениях людей, а то, что кто-то в них «сидит» или «не сидит», — не имеет значения.
Песни у меня совсем разные, в разных жанрах: сказки, бурлески, шутки, просто какие-то выкрики на маршевые ритмы. Но все это — про наши дела, про нашу жизнь, про мысли свои, про то, что я думаю.
Есть ли у меня какое кредо? Про это лучше не говорить — нужно слушать песни самому и как-то делать выводы. Ведь если бы я мог коротко сформулировать, чего я хочу и о чем я думаю, я бы тогда их не писал, а просто написал бы на бумажке несколько строк, что «вот, я считаю так, так и так», и на этом бы закончил. А если я все же их пишу, эти самые песни и тексты, то их, наверное, нужно столько рассказывать, сколько они будут звучать.
Я получаю много писем, в которых люди благодарят меня за песни — за шуточные, военные, сказки, а вовсе не за те, о которых писала газета, что их «в пьяных компаниях заводят».
Главное, что я хочу делать в своих песнях, — я хотел бы, чтобы в них ощущалось наше время. Время нервное, бешеное, его ритм, темп. Я не знаю, как это у меня получается, но я пишу о нашем времени, чтобы получалась вот такая общая картина: в этом времени есть много юмора, и много смешного, и много еще недостатков, о которых тоже стоит писать.
Я занимаюсь авторской песней — сам пишу тексты, мелодии, сам исполняю. Это неумирающее искусство, оно началось очень давно, много-много веков назад. У нас — среди акынов, а у них — среди всяких Гомеров. У нас тоже с гуслями ходили и пели песни. Короче говоря, у авторской песни есть и история, и традиция, поэтому я и предпочитаю заниматься именно ею, хотя мне в последнее время часто предлагали выступать со всевозможными ансамблями и оркестрами.
Но сейчас, я считаю, у нас несправедливо обращаются с авторской песней. С ней произошло много неприятностей: сначала ее сделали самодеятельной, потом — туристской и как-то отпугнули от нее слушателей. Во всем мире авторская песня процветает: во Франции многие сами пишут себе либо музыку, либо тексты, либо и то и другое и сами исполняют: и Брассенс — великий, изумительный Брассенс, и Брель, и Азнавур, а из молодых — Максим ле Форестье. Это как-то у них считается само собой разумеющимся, и ни у кого не возникает сомнений, что авторская песня имеет право быть на сцене. Наоборот, она более интересна: она дает колоссальные возможности человеку, который ею занимается, и позволяет людям, которые сидят в зале, испытывать совсем другие эмоции.
У нас — нет. У нас считается, что у песни должно быть несколько авторов: отдельно композитор, отдельно автор текста и отдельно исполнитель, — так что песню должны делать совсем разные люди. И обязательно отдельно должен звучать оркестр. Да еще несколько человек мы поставим с боков и так далее — вот тогда будет «та песня, что нам нужна!». Но я надеюсь, что такой подход к песне скоро пропадет, исчезнет. Авторская песня так же отличается от эстрадной, как, скажем, классический балет от присядки.
Для меня авторская песня — это возможность беседовать, разговаривать с людьми на темы, которые меня волнуют и беспокоят; рассказывать им о том, что меня скребет по нервам, рвет душу и так далее, — в надежде, что их беспокоит то же самое. И если у меня есть собеседник и возможность об этом рассказать, особенно такому большому количеству людей, — это самая большая для меня награда. Авторская песня предполагает непринужденную атмосферу, атмосферу раскованности, дружественности, свободы. В ней нет показухи, приподнятости, зрелищности, отстранения от зрительного зала — нет рампы. Она требует зрителей, требует собеседника. Мне кажется, что причина ее популярности вот в таком дружественном настрое, в возможности разговаривать с людьми нормальным человеческим языком, рассчитывая в ответ на доверие.
Самое главное в авторской песне — текст, информация, поэзия. Это вообще не песня — это стихи, которые исполняются под гитару и положены на ритмическую основу, гитарную или аккордеонную — это неважно, это только для того, чтобы усилить воздействие на слушателей, а больше ничего.
Над песней работать надо больше, чем над крупным поэтическим произведением. Ее надо больше очищать, чтобы она влезала в уши и в души одновременно. Не отдельно — сначала услышал, потом осознал, а сразу. Потом ее можно взять домой, найти второй план, третий, четвертый — кто как хочет, но в душу она должна сразу входить.
Из-за этого кто-то даже сказал, что песня должна быть немножко глуповата. Это не совсем так. Просто форма должна соответствовать содержанию, все должно быть единым, ничто не должно мешать друг другу.
Авторская песня проста, но всегда пишется непросто. Она делается на конкретном материале, помогает переносить какие-то невзгоды, проникает в душу, отвечает настроению. Она, очевидно, оттого легко запоминается и нравится людям, что не диктует; она про то, что люди сами чувствуют, — просто их чувства выражены словами песни.
Теперь — самое главное. Если на две чаши весов бросить мою работу: на одну — театр, кино, телевидение, мои выступления, а на другую — только работу над песнями, то, я вас уверяю, песня перевесит! Несмотря на кажущуюся простоту этих вещей — можете мне поверить на слово, я занимаюсь этим давно, — песни требуют колоссальной отделки и шлифовки, чтобы добиться в них вот такого, будто бы разговорного тона. Я вам должен сказать, что песня для меня — никакое не хобби, нет! У меня хобби — театр. (И вообще самая лучшая профессия — это хорошо оплачиваемое хобби).
Когда пишешь, песня все время живет с тобой, вертится в голове, никогда тебя не покидает. Ты отбираешь и вылизываешь каждое слово. Я не говорю, что все авторские песни равноценны и обязательно поэтичны, но колоссальная работа затрачивается именно на слова, на тексты, на то, чтобы она легко входила к вам в уши и в умы. Но потом, когда вы возьмете к себе домой записанное на магнитофон и снова начнете слушать, вдруг увидите, что одновременно со смехом вас иногда прихватывает за горло, потому что все это сделано на довольно печальном материале, хотя и в шутливой форме, — я уж не говорю о серьезных вещах, маршевых с самого начала.
У авторской песни есть, конечно, масса недостатков: бедность сопровождения, упрощенный ритм. Но в зависимости от аудитории, от настроения, которое каждый раз у нас с вами образуется, все эти песни будут звучать по-другому, чем в прошлый раз. Вы увидите, что они почти не похожи на прежнее исполнение: я никогда не могу повториться из-за того, что каждый раз — разные люди, видишь другие глаза, витает иной настрой, и потому всегда поешь по-другому. Иногда мне кажется, что я на выступлении «попал в десятку», выше не прыгнешь — так точно в этот раз я спел. И я всегда думаю: в следующий раз повторю — будет точно так же. И никогда не получается! Потому что — другие люди, иная устанавливается здесь, в помещении, атмосфера, и повторить ты не можешь. Ты чувствуешь — поешь совсем по-другому. Ты эту обстановку воспринимаешь какими-то локаторами и ты поешь — хуже или лучше, неизвестно, — но обязательно по-другому.
Что еще очень важно, я сам это перед вами исполняю, мои слова — что хочу, то и делаю: какое-нибудь выкину, другое вставлю — все это зависит от меня, это все мое. Значит, я могу в зависимости от аудитории, от того, какое сегодня настроение, и поменять ритм, и придать песне другую окраску. И вдруг шуточная песня будет выглядеть серьезной. Короче говоря, авторская песня допускает импровизацию, она более подвижна.
Еще раз хочу повторить: авторская песня — это совершенно самостоятельный вид искусства. Пусть я не профессиональный композитор — хотя имею какое-то музыкальное образование, — и не профессиональный поэт, но песни я пишу уже много лет и отношусь к ним очень серьезно. Поэтому у меня есть какой-то элемент досады по поводу того, что это направление — авторская песня — не получает пока у нас должного признания. Надеюсь, что это явление временное, и я сейчас занимаюсь тем, чтобы каким-то образом пробить брешь в этом затишье. У меня много песен звучит с экрана: я писал песни для фильмов и во многие спектакли московских театров. И не только московских — по всему Союзу идут эти спектакли.
Авторской песне не нужно никаких сцен, никаких рамп, никаких фонарей. Я пел в ангарах, в подводных лодках, на летном поле, среди черных, как жуки, механиков, в то время, как снижались боевые машины, и мы только немного отходили, чтобы было слышно слова; пел на полях гигантских стадионов, в комнатах, в подвалах, на чердаках, — где угодно, это не имеет значения.
На пароме однажды пел «привязанным морякам» — так называют тех, которые работают на паромах. У меня было три часа для отдыха, а они, оказывается, устроили там какой-то банкет, очень долго ждали. Я пел им всю ночь, а они мне рассказывали разные истории. Для авторской песни не нужна обстановка — для нее нужна атмосфера. У меня есть гитара, ваши глаза — и больше ничего. Есть еще мое желание рассказать вам о том, что меня волнует, и ваше, надеюсь, меня услышать. Но это очень много, и если вот это создается — то, что не ухватишь ни ухом, ни глазом, а каким-то, я не знаю, шестым чувством, — как хотите называйте: контакт, атмосфера, что угодно! — это для меня самое ценное.
Меня часто спрашивают, какая разница между авторской песней и песней, которую вы повсеместно и повседневно слышите и видите по радио и телевидению. Есть громадная разница. В общем, на мой взгляд, это два совершенно разных песенных жанра. Если говорить очень коротко, то эстрадной песне не важно — что, ей важно — как. Эстрадная песня не интересуется ни вторым планом в тексте, ни другим дном — все есть, как есть. Лишь бы зарифмовать, лишь бы звучали голос и оркестр.
Я иногда слушал эти песни и никак не мог понять: а почему, что там такое? Вот, например, такая песня: «На тебе сошелся клином белый свет, на тебе сошелся клином белый свет, на тебе сошелся клином белый свет, и мелькнул за поворотом санный след…» и так далее. И я всегда задумывался, а что же тут такое!? И главное, два автора текста наверху. Значит, один не справился: сложный очень текст, с большим подтекстом, второй прибавился к нему.
Или вот эта песня, что «провожают самолеты совсем не так, как поезда». Я думал, что, может быть, за этим что-то скрыто. Нет, оказывается, просто действительно провожают пароходы не так, как самолеты, и, в общем, ничего больше за этим нет.
Эстрадная песня — это зрелище прежде всего. Это всегда смена номеров, меняющийся свет, рампа эта пресловутая, как граница между зрительным залом и сценой. Там и акробаты кувыркаются, фокусники фокусничают, буфет работает — одним словом, это такое зрелище, такое праздничное состояние. И если зрелище из нее убрать, она очень многое потеряет.
Вы обратите внимание: даже если вам полюбилась какая-то эстрадная песня — ну не полюбилась, а запомнилась, навязла в ушах, будем так говорить, — и вы ее хотите услышать на концерте живьем, вы будете очень разочарованны. Потому что она будет точно такой, какой вы ее уже раньше слышали. И никогда вас не будут подстерегать никакие неожиданности. Эта песня, к сожалению, лишена импровизационности. Это песня — более казенная, что ли. Певец репетирует и добивается, на его взгляд, оптимального варианта и потом уже шпарит, как говорится, одно и то же раз за разом. Никогда он не может что-то в песне поменять, никогда он не зависит от аудитории…
Певцы подчас обладают замечательными голосами, по нескольку лет учатся петь, у них голоса звучат всегда одинаково и ровно. Больше всего они увлекаются музыкальным оформлением, оркестровкой, оркестром, чтобы это все было слито воедино. Поэтому это всегда звучит четко, твердо, очень крепко и безошибочно. Никаких перемен вы не услышите.
Редко «полюбляются» песни, которые много и часто исполняют даже по телевидению. В передаче «Алло, мы ищем таланты» — все ищут и находят их — каждый талант выходит и шпарит под кого-то, кого он себе выбрал в образец. Это тоже отрицательная сторона эстрадной песни, потому что всегда хочется видеть на сцене личность, индивидуальность, человека, имеющего о чем-то свое мнение.
Конечно, и на эстраде бывают хорошие тексты. Вот Бернес, например, он никогда не позволял себе петь плохую поэзию. Ведь сколько лет он уже не живет, а услышите его голос по радио — и вам захочется прильнуть, услышать, про что он поет. Он был удивительным человеком, и то, что он делал на сцене, приближается к идеалу, о котором я мечтаю как об идеале исполнительском. Такому человеку я мог бы отдать все, что он захотел бы спеть из моего. Кстати, он пел мою песню «Братские могилы» в фильме «Я родом из детства», я начал с ним работать, но, к сожалению, поздно.
И сравните: «Яблони в цвету — како-о-е чудо!..» Это, кстати, совсем глупо, потому что и тополи в пуху — како-о-е чудо!.. Давайте еще покричим про тысячи вещей чудесных весной — про все, что в цвету. А если рядом с этим просто вспомнить стихи Есенина:
…Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увяданья золотом охваченный, Я не буду больше молодым… —и сразу становится ясно: тут — поэзия, а там — не пойми что!
Обычно в эстрадной песне, которую мы с вами каждый день смотрим по телевизору, хлебаем полными пригоршнями, очень мало внимания уделяется тексту. Я знал одного поэта, который говорил, что он в основном делает это поутру, когда чистит зубы. В это можно поверить, когда слышишь текст: «На тебе сошелся клином белый свет…»
Я, конечно, не хочу огульно охаивать все, что поется с эстрады, кое-что я там люблю и с удовольствием сам слушаю. В основном, когда тексты песен делают поэты. Сейчас стали писать для певцов и Белла Ахмадулина, и Андрей Вознесенский, и Женя Евтушенко, — и тогда это бывает удачно.
Я с большим уважением отношусь к Кобзону, который давно держится на определенном, довольно высоком уровне. Последнее время он особенно много стал работать с хорошими текстами. И он крепок, мне кажется, на сцене как мужчина. Слышал в фильме, как работает Градский. Мне кажется, что он музыкален и у него есть прессинг. Очень хорошо я отношусь к Муслиму Магомаеву, считаю, что он прекрасный певец и очень хороший человек, — я знаю его лично. Алла Пугачева, на мой взгляд, очень интересная актриса на сцене и интересная певица.
Я очень не люблю, когда мои песни поют эстрадные певцы. Они, наверное, споют лучше меня, но — не так. Не так, как я написал. Я сам написал и текст, и музыку, и сам спел песню под гитару — как захотел. А у этих ребят прекрасные голоса, они работают с оркестром, но делают это все по-другому. Когда песня выходит на пластинке, я ничего поделать не могу: они все равно берут. Ну а когда есть возможность запретить, я им своих песен не даю. И если вы где-нибудь услышите, что кто-то поет мои песни «не с пластинок», можете смело подойти и спросить: «А почему вы поете Высоцкого? Он же вам не разрешил!»
И мало того, что берут без разрешения, — поют с искажениями и даже переделывают слова. Они почему-то считают, что только то, что «написано пером, — не вырубишь топором». А что написано на магнитофон, то можно вырубить топором. И даже бывают случаи, когда я свою песню не узнаю, услышав ее в чужом исполнении.
Хороший эстрадный певец поет достойно, но не живо. И песня потихоньку жухнет. Так мне кажется, хотя у эстрадной песни есть масса своих достоинств.
Но когда меня просят свои люди — драматические актеры, я с удовольствием пытаюсь писать для них песни в зависимости от того, что они за люди. Пишу с учетом их индивидуальности, чтобы они могли их петь как свои, как будто они сами сочинили.
Часто спрашивают, где я беру темы для своих песен? Темы — повсюду; те новые впечатления, которые я получаю, являются основой, а вообще это все придумано, обрастает материалом. Я же имею право на авторскую фантазию, на какие-то допуски. Песни мои — сюрреальные: в них иногда происходят такие вещи, которых мы в нормальной жизни, может быть, никогда и не видим. 10 процентов я беру из чьих-нибудь рассказов и собственных впечатлений, а на 90 процентов все придумано. Иначе нет тайны, ее даже песней не назовешь, какая же это поэзия?!
Очень часто из тех мест, где я бываю в поездках или на гастролях, я привожу различные зарисовки и свои впечатления. Потом делаю из них либо песню, либо так и оставляю это просто зарисовкой, то есть тем, на что упал взгляд в данный момент. Эти вещи не тянут на песню, в них нет второго дна. В некоторые песни я совсем не стараюсь вложить точный смысл и эдакую целенаправленность. Песни против пьянства и пьяниц — это тоже типа зарисовок.
Я знаком со многими ребятами-геологами, они мне рассказывали всякие истории, поэтому я в свое время тоже отдал дань туристской и геологической песне. Ну а теперь я стараюсь писать на общечеловеческие темы.
Как-то в Грузии в одном из тостов один товарищ мне сказал, что он присутствовал при многих разговорах, когда я с интересом слушал, как делаются швеллерные балки, как делается мост из опор. И я, говорит, всегда удивлялся, почему ему это интересно, какой ему смысл это слушать? И вдруг вижу, что некоторые из этих сведений через несколько лет каким-то боком появляются у него в песнях.
У меня много друзей среди моряков, это одна из самых уважаемых профессий. Я часто встречаю своих друзей в портах, «с приходом», и пока танкер или сухогруз разгружается, мы где-нибудь у друзей в каюте сидим несколько дней напролет; я внесен в судовую роль. А потом они снова уходят, снова без берега несколько месяцев. И неудивительно, что некоторые песни написаны в их честь, для них, про них. И даже — на борту кораблей.
Героев я не ищу — в каждом из нас похоронено по крайней мере тысяча персонажей. Вот вы выбрали эту профессию, а могли бы выбрать другую и иметь другой характер. А потом, наверное, есть глаз, есть ухо, слышишь и видишь все вокруг, если можешь. Я не знаю, это трудно объяснить, где я беру героев для песен, — вот они здесь, вы все здесь передо мной сидите.
Мне пишут в письмах, был ли я тем, от имени кого пишу: не был ли шофером, не воевал ли, не «трудился» ли на Севере, не был ли шахтером и так далее. Это все происходит оттого, что почти все мои песни написаны от первого лица: я всегда говорю «я», и это вводит некоторых людей в заблуждение. Они думают, что если я пою от имени шофера, то я им был; если это лагерная песня, то я обязательно сидел, и так далее. Просто некоторые привыкли отождествлять актера на сцене или экране с тем, кого он изображает. Нет, конечно, понадобилось бы очень много жизней для этого. Кое-что на своей шкуре я все-таки испытал и знаю, о чем пишу, но в основном, конечно, в моих песнях процентов 80–90 домысла и авторской фантазии. Я никогда не гнался за точностью в песне. Она получается как-то сама собой, не знаю отчего.
Я думаю, что вовсе не обязательно подолгу бывать в тех местах, о которых пишешь, или заниматься той профессией, о которой идет речь в песне. Просто нужно почувствовать дух, плюс немножечко фантазии, плюс хоть немножечко иметь какие-то способности, плюс чуть-чуть желания, чтобы зрителю было интересно. Поэтому я рискую говорить «я» вовсе не в надежде, что вы подумаете, что я через все это прошел.
Почему я это делаю? Не от «ячества» — это известный поэтический прием. Например, у Вознесенского одно стихотворение начинается словами: «Я — Гойя…» — и дальше он уже шпарит от имени Гойи. Однажды был такой случай. Один маститый, известный писатель и наш артист Золотухин были на поэтории. Происходило это в консерватории, все было очень шикарно: два хора, два оркестра, в общем, интересное зрелище. Но они опоздали (задержались в верхнем буфете), а когда вошли… Зыкина поет, два хора сопровождают. А Вознесенский говорит: «Я — Гойя!..» Писатель спрашивает: «Кто он?» — «Он говорит, что он — Гойя», — отвечает Золотухин. «Ну нахал!» — и писатель ушел.
Так чтобы вы не обижались за тех людей, от имени которых я пою, хочу вам сказать, что это просто очень удобная форма, писать «от себя», — тогда всё получается лирика. Под лирикой не надо понимать только любовную лирику, есть и другая: это всё, что — из себя. И еще: в отличие от моих друзей-поэтов, которые занимаются только поэзией и чистым стихосложением, я — актер, я играл много ролей и в театре, и в кино и очень часто бывал в шкуре других людей. И мне, возможно, проще так работать — писать «из другого человека». Я даже, когда пишу, уже предполагаю и проигрываю будущую песню от имени этого человека, героя песни, — еще и потому почти все мои песни написаны от первого лица. Сначала прикидываешь, что за характер у персонажа, и идешь от характера. Если вы обратили внимание, исполняя эти вещи, я, в общем-то, даже стараюсь показать вам персонаж, от имени которого поется песня. Поэтому и получаю я, наверное, письма: «Я помню, как по Чуйскому тракту мы с вами гоняли МАЗы», — этого не было ничего. Повторяю, я не пишу чистую правду — я почти все придумываю, иначе это не было бы искусством. Но, я думаю, это настолько придумано, что становится правдой для этих людей.
Есть, конечно, и исключения. Так, одна из моих альпинистских песен — «Здесь вам не равнина…» — наверное, единственная, которая написана о конкретном случае. Случай этот меня поразил, и то это в большой мере придумано. Если человек действительно пишет, он, конечно, должен очень много выдумывать, придумывать по ассоциациям, обобщать… И если даже по песне кажется, что это действительно натуральная история, которая случилась со мной либо с кем-нибудь, — нет, почти все это вымысел.
А иначе этим песням не было бы никакой цены. Какая ценность зарифмовать то, что знаешь или что тебе рассказали? Это рифмованные фельетоны, ерунда! Песню надо придумать, да еще так, чтобы каждый увидел в ней то, что ему хочется и что ему важно. Вот в этом, мне кажется, есть заслуга автора, а рифмовка — нет.
Потом, если пишешь от чьего-то имени, вовсе не обязательно, что все, о чем идет речь, могло случиться только с человеком этой профессии. Просто я взял и выбрал такого героя, а в общем-то, все равно речь идет о проблемах общечеловеческих, которые могут волновать, я думаю, всех людей, — это проблемы зла, предательства, честности, надежности, дружбы.
Правда, бывают моменты, когда я очень быстро откликаюсь на то, что сейчас носится в воздухе, о чем говорят в печати и по радио. Мне вдруг хочется сразу же об этом написать: например, когда у нас особенно сильно проводилась борьба с пьянством, я тоже написал несколько песен на эту животрепещущую тему.
Я пишу песню, никогда не рассчитывая, буду я ее петь со сцены или не буду. Пишу только тогда, когда вот так уж необходимо! Сажусь и делаю. Иногда я выношу песню на зрителей, иногда оставляю у себя в столе. И всегда — особенно, когда я вижу, что мои серьезные вещи зрители сразу принимают, — это мне, знаете, как медом на душу.
Некоторые мои песни доходят до обобщений, некоторые — нет, но я всегда, в общем, прочерчиваю твердый сюжет, как будто сам являюсь участником событий. Из-за того, что почти все мои песни написаны от первого лица, их кто-то назвал «песни-монологи», я не стал возражать, хотя это и не совсем точно: у меня есть песни-диалоги и песни других жанров. Но так как я часто говорю «я», меня упрекают в нескромности. Это не от нескромности и не из-за того, что я все прошел и испытал на собственной шкуре, — самое главное! — там есть мое отношение, мое рассуждение, мое мнение о том предмете, о котором я говорю с людьми. Это я не где-то вычитал, а сам так об этом думаю. Вот поэтому, мне кажется, я имею право говорить «я».
Меня часто отождествляют с героями моих песен, но никто и никогда не догадался еще спросить, не был ли я волком, лошадью или истребителем, от имени которых я тоже пою: ведь можно писать от имени любых предметов, в них во все можно вложить душу — и все! Например, у меня есть песня, которую я пою от имени микрофона, обыкновенного микрофона, как и вот этот, что стоит передо мной. Он много видел, этот микрофон, о многом может рассказать.
Мне часто присылают письма, в которых спрашивают: «Что вы имели в виду в той или иной песне?» Ну, кстати говоря, что я имел в виду, то и написал. А как меня люди поняли, зависит, конечно, от многих вещей: от меры образованности, от опыта жизненного и так далее. Некоторые иногда попадают в точку, иногда — рядом, и я как раз больше всего люблю, когда рядом: значит, в песне было что-то, на что даже я не обратил особого внимания. Может, не имел этого в виду точно и конкретно, но что-то подобное где-то там в подсознании было.
И ведь было бы ужасно, если б мы всё имели в виду, когда пишем, — тогда бы мы просто ничего вообще не написали. Вы представляете?! А что уж говорить про Достоевского, у которого одновременно идут десять или пятнадцать планов? Он что, их все время высчитывал, выписывал, а потом соединял? Нет, это просто оттого выходило, что он был такой одаренности человек, что об этом не думал. Гений!
И мы, актеры, когда начинаем репетировать, вдруг задыхаемся от восторга, когда обнаруживаем в пьесе что-то еще и еще, чего не заметили на первых репетициях. Вот почему, когда люди, стоящие рядом, видят в моих песнях что-то другое, но близкое той проблеме, которую я трогаю, я очень счастлив.
Это необъяснимые вещи, и они получаются сами собой. Это есть признак какой-то тайны в поэзии, когда каждый человек видит в песне что-то для себя. Я даже пытался на все подобные письма ответить одной всеобъемлющей песней, в которой был припев с такими строчками: «Спасибо вам, мои корреспонденты, что вы неверно поняли меня». Но потом я бросил эту затею.
Однажды меня спросили, как я пишу песни, что идет впереди: музыка, слова, мелодия? Не слова и не мелодия — я сначала просто подбираю ритм для стихов, ритм на гитаре. И когда есть точный ритм, как-то появляются слова. Очень трудно сказать, как они получаются. Иногда получается, что серьезная строчка, которая у тебя появилась, ложится на фривольную, шуточную мелодию и ты вдруг пишешь, как выясняется, шуточную песню, хоть она и не совсем шуточная, но получается в шутливой форме. Одним словом, музыка помогает тексту, текст — музыке. Песня рождается странно, пишется трудно, и чем дальше, тем труднее, потому что трудно постоянно держаться, так сказать, на этом уровне. Это очень сложно, времена меняются: если раньше песни писались довольно быстро, они вдруг начинали «выливаться» из тебя из-за того, что никогда раньше ты об этом не писал, то чем больше пишешь, тем сложнее.
У каждого человека бывает болдинская осень — приливы и отливы, как в любви, так и в поэзии. Иногда вдруг пишется, а иногда по нескольку месяцев — просто невозможно — ни одной строчки, ни одной мелодии интересной не приходит.
Иногда ходишь и просто болеешь песней, неделю, две, а потом сел и записал ее минут за десять. Зарифмовал — и все. А некоторые песни очень подолгу пишутся, вынашиваются внутри, а иногда появляется какая-то удачная строка и ты понимаешь, что она годится к тому, про что ты думал.
А так как это песня, а не стихи, то совершенно естественно, что нужно делать ее с гитарой, с ритмом, потому что в песне музыка не должна мешать словам, должна только помогать. И несмотря на кажущуюся простоту и легкость этих мелодий, для каждого текста должна быть какая-то своя, своеобразная мелодия. И в моих песнях вы не найдете похожих мелодий.
Я слышу много упреков от композиторов-профессионалов, что это, мол, несерьезно — эти три-четыре-пять аккордов. Я-то знаю и больше аккордов, но я пытаюсь писать простые мелодии.
Кстати, другие композиторы, например, Щедрин, Слонимский, с которым я работал в картине «Интервенция», считают, что эти простые мелодии имеют право бытовать на сцене и на экране.
На чей первый суд я выношу свои песни? Это, конечно, происходит очень по-разному. Иногда, если песня мне нравится, я не могу дотерпеть и ночью звоню кому-нибудь из друзей или даже жене, говорю: «Ну-ка, послушай», — и пою в трубку. А чаще всего я проверяю их на аудиториях.
Когда пишу, всегда это дело живое, — я даже не знаю, какая будет песня: будет ли она смешная или просто ироничная, печальная или трагичная и грустная. И даже мелодия часто еще не установлена до конца. Поэтому, когда я сделаю песню, я начинаю проверять ее на аудитории: выхожу на сцену и только ритм оставляю, и только через 15–20 раз получается, выкристаллизовывается, так сказать, окончательная мелодия.
Когда я рассказал об этом композиторам, они были безумно удивлены: «Как же так? Как это может быть?! У тебя есть очень странные ходы, которые профессиональный музыкант никогда не сделает». Я говорю: «Вот, возможно, от этого».
Работаю я по ночам с маленьким магнитофончиком. Если пришла какая-то строка, я тут же моментально пытаюсь найти для нее музыкальную основу, а вам, на первый взгляд, кажется, что это страшно просто. И так оно и есть: для этого и работаешь, чтобы очищать, вылизывать каждую букву, чтобы это входило в каждого, совсем не заставляя людей напрягаться, вслушиваться: «А что он там? Что он сказал?!»
Чтобы этого не было, и делаются вот такие бесхитростные ритмы, которые, как ни странно, многие профессиональные композиторы не могут повторить. Они тоже хотят писать так, как пишутся авторские песни: чтобы песня запоминалась моментально, чтобы музыка не мешала словам, а слова — музыке.
Я часто слышу от них упреки, что в моих песнях есть нарочная примитивизация. В одном они правы: это нарочная, но только не примитивизация, а упрощение. Написать сложную мелодию не так сложно, особенно для профессионала, но у меня есть свои ритмы, которыми никто не пользуется. Они очень простые, но, если я даю музыканту-профессионалу гитару и говорю: «Сделай этот ритм», он его повторить не может. Дело в том, что эти ритмы, как вам сказать, не расплывчаты, я, наоборот, могу их очень спрессовать — в зависимости от той аудитории, в которой работаю.
Вот я сажусь за письменный стол с магнитофончиком и гитарой и ищу строчку. Сидишь ночью, работаешь, подманиваешь вдохновение. Кто-то спускается… пошепчет тебе чего-то такое на ухо или напрямую в мозги — записал строчку, вымучиваешь дальше. Творчество — это такая таинственная вещь, что-то вертится где-то там, в подсознании, может быть, это и вызывает разные ассоциации. И если получается удачно, тогда песня попадает к вам сразу в душу и западает в нее.
Потом песня все время живет с тобой, не дает тебе покоя, вымучивает тебя, выжимает, как белье, — иногда она мучает тебя месяца по два. Когда я писал «Охоту на волков», мне ночью снился этот припев. Я не знал еще, что я буду писать, была только строчка «Идет охота на волков, идет охота…» Через два месяца — это было в Сибири, в селе Выезжий Лог, мы снимали там картину «Хозяин тайги» — я сидел в пустом доме под гигантской лампочкой, свечей на пятьсот, у какого-то фотографа мы ее достали. Золотухин спал выпимши, потому что был праздник. Я сел за белый лист и думаю: что я буду писать? В это время встал Золотухин и сказал мне: «Не сиди под светом, тебя застрелют!» Я спрашиваю: «С чего ты взял, Валерий?» — «Мне Паустовский сказал, что в Лермонтова стрелял пьяный прапорщик», — и уснул.
Я все понял и потом, на следующий день, спрашиваю: «А почему это вдруг тебе сказал Паустовский?» Он говорит: «Ну, я имел в виду, что «как нам говорил Паустовский…» На самом-то деле, я тебе честно признаюсь, мне ребятишки вчера принесли из дворов медовухи, а я им за это разрешил залечь в кювете и на тебя живого смотреть».
Вот так, значит, под дулами глаз я и написал эту песню, которая называется «Охота на волков». Вот так проходит работа над песней, и авторской она называется именно потому, что ты все делаешь сам — от «а» до «зет».
Раньше я пел без гитары, стуча ритм по столу. Правда, в детстве родители силком заставляли меня играть на рояле, а потом, когда я учился в театральном училище, Борис Ильич Вершилов, друг Станиславского и учитель очень многих людей, сказал мне: «Вам очень пригодится этот инструмент», — и заставил меня овладеть гитарой. (Он прочил мне такую же популярность, как у Жарова, и поэтому, дескать, необходимо уметь играть на гитаре, но до жаровской популярности мне далеко). И когда я стал писать песни сам — это все стало происходить только вот с этим бесхитростным инструментом, которым очень многие могут довольно быстро овладеть. Виртуозно выучиться играть на гитаре, конечно, сложно, но аккомпанировать себе несложно.
А ночью я пишу не только оттого, что у меня нет времени днем, — это естественно, потому что днем мы и снимаемся, и репетируем, а еще и потому, чтобы просто никто не мешал. Происходит какое-то таинство, что-то такое оттуда спускается, получаются какие-то строчки. Иногда она выльется сразу, моментально ляжет на лист, а иногда все время тебя гложет, не дает возможности спокойно отдыхать, откинувшись, так сказать. Пока ты ее не напишешь, она все время тебя гложет.
Меня иногда просят спеть любимую песню. Вы знаете, они все любимые, особенно в тот момент, когда писались. Я не могу выделить ни одну песню и никогда не отдаю предпочтения моим комедийным песням или серьезным. Все они потребовали от меня определенной работы, пота, крови, ночных бессонниц и так далее.
Я вам должен сказать, что я никогда не принимал участия в движении так называемых бардов и менестрелей и не понимаю, что это вообще за «движение», да и какие это барды и менестрели?! Это просто люди, которые плохо ли, хорошо ли пишут стихи и плохо ли, хорошо ли исполняют их, в основном под гитару, потому что это очень доступный инструмент. Сейчас такое количество этих бардов и менестрелей, что я к ним не хочу никакого отношения иметь. У меня есть несколько любимых мною людей, которые играют на гитарах и сочиняют песни. Я прекрасно понимаю тягу людей к тому, чтобы самим писать стихи и петь это под гитару, но, к сожалению, очень многие люди хотят выходить с этим на широкую аудиторию, чем и вредят…
Я получаю дикое количество писем, в которых масса стихов и песен, и меня часто просят: «Пожалуйста, исполните — это очень срочный материал! Исполните по радио и напишите, когда!» А в этой «песне» написано, как он подошел к станку, а тот сломался; я заменил резец, а он там еще чего-то…
И все-таки как ни ослаб интерес к авторской песне, но продолжает работать Булат, который уже больше двадцати лет работает с авторской песней. С большим уважением отношусь к Юлику Киму. Юра Кукин, который сначала занимался этим так, левой ногой, потом увидел, что к этим песням есть большой интерес, и даже стал с ними выступать. И Визбор, я слышал, возобновил свои выступления, понемножечку стал работать. Я отношусь к нему с симпатией, мне нравилась его песня про Серегу Санина. И песни Анчарова всплывают вдруг в каком-то другом исполнении, — значит, это все не забывается, это дело живучее.
С авторской песней невозможно ничего сделать, если даже кто-нибудь и хочет ей помешать. Она более нежная и хрупкая, чем эстрадная песня, но более живучая, как выяснилось.
Одно время эстрадные певцы — это, наверное, всем известно — обращались к Юре Кукину и Жене Клячкину с просьбой написать для них песню. Они тоже хотят петь песни-новеллы, чтобы там что-то происходило. И за границей русская аудитория слушателей авторской песни с каждым годом растет, есть интерес к ней у французов, у американцев, которые все больше ее узнают и хотят слушать.
На Западе авторские песни (в нашем понимании) называют «песнями протеста». Когда однажды мне перевели несколько таких песен, я увидел, что в них и близко нет ничего похожего на то, что, предположим, делаю я или Булат Окуджава. Мне совершенно непонятно, почему они называются «песнями протеста», меня всегда поражало, против чего они протестуют? Ну против войны, но ведь все протестуют против войны, и, в общем, это не то что банально, но знакомо и знамо. Я тоже пишу песни о войне и, где бы я ни пел их со сцены — им или дома, я всегда пою, как будто в последний раз. Война нас всех коснулась, так что это вопрос понятный — почему я так могу против нее возражать.
У них же этого нет, и, может, поэтому их моя манера исполнения так поражает и удивляет — я всегда пою на очень высокой ноте. Иногда меня спрашивают за границей: почему вы их так прокрикиваете, даже дома? Что вас так беспокоит? Но мне им это очень сложно объяснить. Поэтому мне кажется, что у моих песен очень русские корни и по-настоящему они могут быть понятны только русскому человеку. Особенно последние вещи: «Купола», «Правда и Ложь», «Кривая и Нелегкая». А за границей в моих песнях их волнует только темперамент, но все равно они недоумевают: зачем надо так выкладываться?
Еще вот что. Их «песни протеста» направлены против войны, нищеты, инфляции, короче говоря, против таких конкретных проблем. Мне кажется, что наши авторские песни более абстрактны, даже если это касается военных песен: все-таки нужно понять, почему человек, который не прошел войну и никогда не воевал, — почему он все время возвращается туда?!
Иногда меня упрекают, что в своих песнях, записанных на пластинки, я изменил гитаре. Дело в том, что, когда мы начинали записывать первые песни на «Мелодии», даже вопроса не возникало, что я буду петь их с гитарой, под собственный аккомпанемент. А мне, в общем, хотелось, чтобы хоть что-то появилось, чтоб хотя бы тексты звучали. Я хотел издания стихов, текстов, хотя сопровождение иногда меня самого коробило. Но я пошел на это, думая, что смогу превозмочь его своим напором — тем, что, собственно, и отличало мои первые песни.
И несколько лет назад я записал на «Мелодии» два больших диска: один — свой, а у второго диска на одной стороне — мои песни, а на второй — моя жена, Марина, поет по-русски мои же песни, написанные специально для нее. Эти диски не вышли — вернее, появилось кое-что в маленьких пластиночках, где не поймешь, по какому принципу их надергали. Причем вышли некоторые песни, которые вызывали наибольшие возражения у редактуры: «Москва — Одесса» и «Кони привередливые».
Но это не от меня зависело, а от кого — я даже не знаю. Иногда я на очень высоком уровне получаю согласие, а потом оно вдруг, как в вату, уплывает. Прямо и не знаешь, кого надо брать за горло, кого конкретно надо душить. Потом я смотрю, «Мелодия» вместе с болгарами издает пластинку, в которой есть еще несколько вещей из этих дисков, а у нас они так и не случились. Когда спрашиваешь отвечающего за это человека о причине, он говорит: «Ну, вы знаете, там не все песни бесспорны». Я говорю: «Давайте спорить!», но…
А в общем, вы знаете, иногда мне просто не хочется портить себе нервы. Я думаю: «Да бог с ним — все равно они появятся на магнитофонах, кто захочет, тот их услышит, а кому до этого интереса нет, не стоит для них стараться». Вот потому я особенно сильно и не настаиваю. Нужно, чтобы за выход дисков отвечал какой-то другой человек, а не редактура, в том смысле слова, как она у нас понимается. Особенно на «Мелодии». Этот человек должен быть от начала до конца заинтересован в том, чтобы они вышли. Потому что вдруг это упирается в кого-то, кто говорит: «Да зачем сейчас это делать? Мало ли — обсуждать! Да и времени нету. Да и скандалы потом, наверное, будут — лучше не надо!» Вы это все знаете, у нас так часто бывает: человек хочет, чтобы все не двигалось, чтобы оставалось на том же уровне, как и раньше.
Правда, должен сказать, что теперь некоторые записи я не представляю без оркестра. Удачно оран-жированы, например, «Кони привередливые» — я не могу сейчас петь ее в концертах. Есть очень разноречивые мнения — сколько людей, столько и мнений об этом. Что я могу сказать? Я очень рад аккомпанементу «Баньки» и «Большого Каретного», которые есть в одном из дисков, — там простые, безгитарные аккомпанементы, я рад, что мы их не усложняли. А есть вещи, которые не нравятся, хотя записывали мы их с оркестром Гараняна, с прекраснейшими музыкантами. Но мне не давали тогда права выбора, чтобы сделать оркестровку, как я хочу. И я предпочел, чтобы хоть мои тексты увидели свет, а в музыкальную часть в те времена не влезал. Но ведь уже десять лет прошло после и тех записей! Десять, десять!
Если теперь у меня будет такая возможность, я настою, чтобы некоторые песни были сделаны со старым аккомпанементом, а некоторые — только под одну гитару.
Записи с ансамблем Гараняна — это команда «Мелодии» — я делал, когда он был в самом пике формы, что ли. И сейчас, в общем-то, эти ребята достойно играют, но тогда, мне кажется, они играли просто замечательно. Сейчас они немножечко распались, разбрелись, но играют все равно очень хорошо. Мы с ними довольно долго работали вместе и сделали оркестровки двадцати с лишним моих вещей. Это оркестровки Игоря Кантюкова и Леши Зубова.
Записи во Франции я делал не с оркестром Поля Мориа, как принято говорить, просто у меня там были очень хорошие оркестранты. Первую свою пластинку там я записывал в сопровождении двух гитар. У меня было два лучших гитариста Франции. Один из них, Клод Пави, приехал в своем фургоне, там у него было семнадцать гитар. Он заставил меня полностью перевести ему все песни, которые предстояло записать. Трое суток на это ушло.
Иногда он не понимал смысла: почему я так, собственно, волнуюсь по поводу того, что «идет охота на волков»? Мы ему объясняли, он говорил: «А-а-а» — и записывал каждую строчку: он был совершенно обескуражен, как это можно в песне говорить о таких вещах, и сидел совершенно пришибленный. Эти записи тоже как-то просочились сюда, но я их крайне редко у нас слышу. Там получилась самая, на мой взгляд, удачная обработка — чисто гитарная, с наложениями. Он прекрасно играл, мне редко приходилось что-либо подобное слышать. Мы с ним несколько дней провели вместе.
Но эта пластинка, к сожалению, не вышла, вышла немножечко другая — не по моей и его вине, а так случилось. Это диск, где я с бородой. Но если бы вы услышали этот диск, который мы сделали с ним вдвоем, вы бы увидели, что он проникся этими песнями по-настоящему и что никакого языкового барьера нет.
Так что это такие парни, с которыми можно работать так же, как и здесь, если с уважением друг к другу относиться, несмотря на то, что они не понимают, о чем ты так кричишь. Они не понимают, как можно с таким напором и с такой отдачей петь некоторые вещи, почему это нас так волнует? У них этих проблем нет, и они их никогда не исследуют — в песнях у них не принято об этом разговаривать. Маккартни, правда, пытался — кстати, он тоже пел балладу о брошенном корабле, я не знаю, может быть, они у нас немножко и совпадают, но у них этот жанр считается несколько облегченным, за исключением Брассенса и еще некоторых.
И, кстати, почему это только мы интересуемся «Бони М» и всякими французами? Мы тоже можем их заинтересовать, только нужно дать им идентичные образы и чтобы они поняли, о чем в песне поется. Французы считают, что песня не должна заниматься проблемами — это развлекательный жанр, и в нем они добились больших успехов, хотя сами больше всего и здесь любят настоящих поэтов: Брассенса, Лео Ферре, Максима ле Форестье. А для проблем есть Аполлинер — это классика.
Россия — единственная страна, где поэзия находится на таком уровне. Поэзия у нас всегда была во главе литературы. И не только из-за того, что наши поэты были большими стихотворцами и писали прекрасные стихи, а из-за того, что они себя достойно вели в жизни: и по отношению к властям, и по отношению к друзьям, и по отношению друг к другу, и, конечно, к своему творчеству. Возьмите маленький листочек, вырванный из тетради, и напишите четыре фамилии: Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Окуджава — да даже одну из них! — и повесьте где-нибудь в стороне: через два дня будет заполнен стадион, не достанете билета. Люди тянутся не только к стихам, но и к поэтам. Вот у нас семь тысяч членов Союза писателей СССР, сейчас я любого спрошу — быстро назовет не более тридцати, кто-то назовет пятьдесят, но уж никак не сто. А ведь все печатались, у всех есть книги. Я говорю о поэзии в большом смысле слова, о поэтах с большой буквы.
Часто спрашивают, почему я все время возвращаюсь к военной теме. В письмах, например, спрашивают: «Не тот ли вы самый Владимир Высоцкий, с которым мы под Оршей выходили из окружения?» Или: «Были ли вы на 3 Украинском фронте, деревня такая-то и в такое-то время?» И довольно много таких писем. Значит, люди предполагают, что эти песни может писать только человек, который прошел через войну. Это мне вдвойне приятно, потому что я так и хочу работать и писать песни от имени тех людей, которые прошли, как говорится, огонь и воду во время войны.
Почему много военных песен? Почему я так часто обращаюсь к военной теме, как будто бы все писать перестали, а я все, значит, долблю в одно место? Это не совсем так. Во-первых, нельзя об этом забывать. Война всегда будет нас волновать — это такая великая беда, которая на четыре года покрыла нашу землю, и это никогда не будет забываться, и всегда к этому будут возвращаться все, кто в какой-то степени владеет пером.
Во-вторых, у меня военная семья. Я не воевал, это, конечно, невозможно по возрасту, и не мог я под Оршей выходить из окружения: я был еще маленький тогда, меня могли только выносить. У меня в семье есть и погибшие, и большие потери, и те, кого догнали старые раны, кто погиб от них. Отец у меня — военный связист, прошел всю войну. Он воевал в танковой армии Лелюшенко и в конце войны командовал связью армии. Мой дядя (в 78 году его не стало) всю войну был в непосредственном соприкосновении с врагом, у него к 1943 году было три боевых Красных Знамени, то есть он очень достойно вел себя во время войны. У нашей семьи было много друзей-военных, я в детстве часами слушал их рассказы и разговоры, многое из этого я в своих песнях использовал.
В-третьих, мы дети военных лет — для нас это вообще никогда не забудется. Один человек метко заметил, что мы «довоевываем» в своих песнях. У всех у нас совесть болит из-за того, что мы не приняли в этом участия. Я вот отдаю дань этому времени своими песнями. Это почетная задача — писать о людях, которые воевали.
И самое главное, я считаю, что во время войны просто есть больше возможности, больше пространства для раскрытия человека — ярче он раскрывается. Тут уж не соврешь, люди на войне всегда на грани, за секунду или за полшага от смерти. Люди чисты, и поэтому про них всегда интересно писать. Я вообще стараюсь для своих песен выбирать людей, которые находятся в самой крайней ситуации, в момент риска, которые каждую следующую минуту могут заглянуть в лицо смерти, у которых что-то сломалось, произошло — в общем, короче говоря, людей, которые «вдоль обрыва, по-над пропастью» или кричат «Спасите наши души!», но выкрикивают это как бы на последнем выдохе. И я их часто нахожу в тех временах. Мне кажется, просто их тогда было больше, ситуации были крайние. Тогда была возможность чаще проявлять эти качества: надежность, дружбу в прямом смысле слова, когда тебе друг прикрывает спину. Меня совсем не интересует, когда люди сидят, едят или отдыхают, — я про них не пишу, только разве комедийные песни.
Это не песни-ретроспекции: они написаны человеком, который войну не прошел. Это песни-ассоциации. Если вы в них вдумаетесь и вслушаетесь, вы увидите, что их можно петь и теперь: просто взяты персонажи и ситуации из тех времен, но все это могло произойти и здесь, сегодня. И написаны эти песни для людей, большинство из которых тоже не участвовали в этих событиях. Так я к ним отношусь — это современные песни, которые написал человек, живущий сейчас. Они написаны на военном материале с прикидкой на прошлое, но вовсе не обязательно, что разговор в них идет только чисто о войне.
Самые первые мои военные вещи были написаны для картины «Я родом из детства». С тех пор я написал для кино несколько десятков песен о войне, вышло несколько пластинок с песнями из этих картин — у них была длинная судьба и тернистый путь.
Мой дядя очень много рассказывал мне о войне. Вот одна из историй. Однажды батальон держал оборону в плавнях, и у него были открыты фланги. Из-за паники они об этом сообщили открытым текстом, немцы перехватили и начали их давить. Командир батальона дал команду на отход, а кончилась эта история печально. Несмотря на то что командир батальона был человек заслуженный, награжденный и так далее, было принято решение его расстрелять: очень острая была ситуация.
Но приказ не был приведен в исполнение, потому что начался сильный обстрел, они отойти, потеряли много людей. Этот человек сейчас жив, он в высоких чинах, он друг моего дяди. И когда я сделал песню по этому поводу, то, ничего ему не говоря, однажды ему ее спел. И он сказал: «Да, это было. Точно. Было, было, было…» И эту песню «Тот, который не стрелял» я посвятил этому другу нашей семьи.
Я еще раз хочу повторить, что мои военные песни все равно Имеют современную подоплеку. Те же самые проблемы, которые были тогда, существуют и сейчас: проблемы надежности, дружбы, чувства локтя, преданности. Просто мне казалось, что на том материале это можно сделать намного ярче.
Вообще во всех моих песнях речь идет о том, что может случиться с любым человеком в зрительном зале — ис кем угодно. Просто иногда бывает момент, когда надо решать, — и в этот момент ясно, как человек себя ведет.
Я очень надеюсь, когда сочиняю свои песни, что они дойдут до моего слушателя. Я же ведь не для себя пишу, не только для «стола» и «корзины» — туда я тоже пишу, — но обязательно ищу аудиторию, и, когда она у меня есть, больше мне ничего не надо. Больше всего 'я ценю прямой контакт со слушателями.
Обычно свои выступления-встречи я начинаю словами: «Дорогие товарищи». Это не формальное обращение, это на самом деле так, потому что я очень дорожу вами, своей аудиторией. Если вам скажут, что человек выходит на сцену только самовыражаться, — не верьте, это неправда. Все мы, кто занимается авторской песней, очень рассчитываем на ответ из зрительного зала. Я не кривлю душой и не заискиваю перед вами, не подхалимничаю, потому что — зачем?! Глупо! Мне публика — люди, а не публика; люди, которые меня слушают, нужны мне больше, чем я вам, потому что есть счастливая возможность высказать то, что меня беспокоит и волнует, такому большому количеству людей, — это не каждому дано. Мне просто очень повезло в этом смысле. Я ценю эти встречи, люблю их, стараюсь как можно больше успеть рассказать о чем-то необходимом. Мне хочется, чтобы вы мне доверяли.
У меня единственная задача, когда я выхожу к вам, — хоть немножечко вернуть атмосферу нашей компании, когда я только начинал писать свои песни. Я вообще, когда пишу песни, рассчитываю на своих близких друзей, с которыми начинал. У меня это вошло в привычку. И никогда не делаю разграничения, что у меня будет такая аудитория или сякая, я не делаю различия между физическим и умственным трудом и всегда предполагаю, что это та аудитория, которая будет мне доверять. Если атмосфера доверия устанавливается в зале — больше мне ничего не надо.
И возможно, из-за этой атмосферы к этим песням тянутся люди, собираются в больших количествах, чтобы их слушать, — из-за этой доверительной интонации, из-за этой раскованности, свободы, непринужденности. В общем-то, я уже около пятнадцати лет стараюсь не слезать с пика. Уже много раз обо мне говорили: «Ушел. Все. Кончился». И так далее, и так далее. Однако, если я пробую выступать на стадионах — пять раз в день, по пять тысяч человек, — они полны и невозможно попасть. То есть все это неправда — люди тянутся и хотят слушать эти песни.
Я вообще должен вам сказать, что, когда выхожу на эту площадку, стараюсь не кривить душой и говорить все, что думаю. Мне нет смысла отвечать неискренне. Я пришел сюда не для того, чтобы кому-то нравиться. Зрителям всегда интересно знать: что там у тебя за рубахой, под кожей? Что ты из себя представляешь? Мне нет смысла сейчас ни лгать, ни притворяться. Хотите верьте, хотите нет, но я во всех своих встречах стараюсь разговаривать искренне — иначе нету смысла выходить… Поэтому все, что я буду вам сегодня говорить и петь, — это есть истина для меня на сегодняшний день.
Я так думаю, это мое собственное, сугубо мое мнение. С ним можно соглашаться или нет — это дело каждого сидящего в зале, но я говорю только то, что я теперь на самом деле думаю.
Иногда мне присылают письма и спрашивают на выступлениях: «Что у вас идет после такого-то слова?» Я тоже прихожу в недоумение, потому что и сам забыл. Я начинаю, значит, где-то искать, достаю с нижней полки, смотрю, восстанавливаю — и вдруг вижу, что эту песню еще можно петь: хоть она и старая, прежняя, а тема не ушла. Стряхнешь пыль, переменишь какие-то слова, переменишь немножечко музыку, чего-то допишешь, потому что хозяин — барин, и снова поешь. Так что песне, в отличие от человека, можно продлить жизнь. У песен счастливее судьба, чем у людей, потому что хороший, достойный человек очень много волнуется, нервничает, беспокоится за своих близких и помирает раньше, чем плохой. Так уж случилось: всегда «смерть самых лучших намечает и дергает по одному…» А вот плохой человек дольше живет, потому что он мало тратится.
А с песней наоборот — песня, если она того стоит, может жить долго. Вот, например, песня «Братские могилы» была на пластинке, в кино, в театре, и, казалось бы, все уже отыграно, отработано, а я ею всегда начинаю концерты, почти каждое выступление. Так что песня живет.
А бывает, что песня новая и должна звучать в каком-либо фильме, но ее там нет: по разным причинам она не вмонтировалась в киноматериал. Мне-то, в общем, везет: я имею возможность продлить ей жизнь — возьму спою, кто-то запишет на магнитофон, и песня разойдется. А ведь есть люди, которые рассчитывают только на этот фильм — это их единственный шанс, чтобы потом о них узнали и имя их как-то зазвучало. Очень талантливые ребята…
Вы, пожалуйста, извините, что я все время поднимаю руку и прерываю ваши аплодисменты. Это по привычке, мне всегда не хватает времени, и я всегда хочу как можно больше успеть спеть. Это не от неуважения. А вообще-то, в этих выступлениях аплодисменты не самое главное — в этом тоже есть отличие авторской песни от эстрадной. Ваше отношение все равно передается через какое-то общее дыхание, через атмосферу. В общем, будет невмоготу — тогда раз! — а потом я руку подыму — хватит. Я больше спеть успею. Я сегодня хочу вам побольше спеть: такое настроение. Так что поберегите ладони — лучше будете потом дома детей по головам гладить!
Среди многочисленных легенд, которые обо мне ходят, одна заключается в том, что я якобы не люблю, когда аплодируют. Это неправда: я нормальный человек и с уважением отношусь ко всему, что делают зрители. В принципе, это есть ваша возможность как-то меня поощрить, поблагодарить; поэтому, ради бога, если нравится, делайте, как хотите. Давайте мы с вами так договоримся: если очень невмоготу, тогда аплодируйте; если можете — то сидите. В общем, аплодисменты — это дело четвертое и пятое, как в стихотворении рифмовка. Это неважно. Я вижу ваши глаза, я все понимаю без аплодисментов. Еще и поэтому я прошу зажигать свет в зале.
Хотя иногда, когда прихожу в солдатские аудитории или в какие-нибудь однородные — знаете, где все в форме: ремесленные или еще какие другие, — я вдруг замечаю новую для себя вещь: обычно люди хохочут, а эти давятся! и никак! — никаких аплодисментов, ничего. Потом оказывается, им перед началом сказали: «Учтите, Владимир Семенович не любит, когда хлопают. Если кто хлопнет!.. Понятно?!» Ну а я, значит, подумал было, что люди не поняли ничего, не понравилось им. Потом я понял, в чем дело, и поэтому в таких случаях перед началом всех предупреждаю (особенно солдат-первогодков): «Ребята, вот вам перед началом сказали, что я, дескать… Но вы ведите себя, как хотите: смейтесь, кричите — как угодно».
Вообще всегда я призываю, чтобы на моих выступлениях люди чувствовали себя непринужденно, свободно, раскованно и дружественно. Я не против такой вольной атмосферы в зрительном зале. Наоборот — пожалуйста, как хотите! Откиньтесь на спинку кресла, отдыхайте.
Я не раз слышал, как «под меня» поют. Некоторые думают, что надо, мол, подышать в форточку холодным воздухом, выпить холодного пива, голос сорвать: «А-а-а!» — и будет «под Высоцкого». Во-первых, это неправда, потому что у меня всегда был такой голос, я с ним ничего не делал и особенно пива холодного старался не пить, и выдерживаю по пять выступлений перед такой же аудиторией по два часа — и ничего! Я, правда, подорвал его куревом, питьем, криком, но даже когда я был вот таким пацаном и читал свои стихи взрослым людям, они часто говорили: «Надо же, какой маленький, а как пьет!» Голос всегда был такой низкий — это просто строение горла такое, я уж не знаю, — от папы с мамой. Сейчас он чуть-чуть видоизменился в связи с годами и многочисленными выступлениями… на сцене и в театре. Раньше говорили «пропитой», а теперь из уважения говорят «с трещиной». Так что шутки и упреки по этому поводу я слышал давно.
Мне говорят, что с моим голосом я обязательно должен был бы петь рок-н-ролл. Но это вы слышали тысячу раз, таких ансамблей миллионы, поэтому рок-н-ролл я петь не буду, а буду заниматься своим делом, которое люблю.
У меня все время идет борьба с магнитофонщиками. Это не оттого, что я стесняюсь чего-то в своих песнях и опасаюсь, что вы их запишете и чего-то там «такое» обнаружите. В общем, это современный вид литературы своего рода: ведь если бы 150 лет назад были магнитофоны, — возможно, какие-нибудь стихи Александра Сергеевича тоже были бы записаны только на магнитофоны. Так что будем считать, что по теперешним временам это своего рода литература. Просто раньше ее не было, а теперь она есть. Потом появится что-нибудь другое. Может быть, будем телепатически песни друг другу передавать: кому хочу — тому и прочитал стихотворение или спел, а он сидит и ловит кайф. А другие все вокруг скучают. Кстати, это идея, надо будет про это написать. Это очень хорошо.
Я не возражаю против записи. Ради бога, почему нет?! Пишите. Наоборот даже. Я против из-за того, что вот эта атмосфера в зале непросто делается: она делается нами обоюдно — вами и мной. И эти ваши щелчки меня всегда жутко расстраивают, выбивают из ритма, — этого я просто не выношу. Ведь люди приходят сюда по двум причинам: одна из них — чтобы записать, и их не интересует, что здесь происходит в данный момент. А ведь самое главное — это контакт, о котором я говорил.
Иногда бывает, что весь первый ряд сплошь в каких-то проводах. У каждого по-разному кончается пленка: у одних — на 20 минут, у других — на 30, магнитофоны-то разные. И тогда они друг с другом начинают торговаться, дескать, ты мне, потом я тебе. Тут же меняются адресами, как сумасшедшие. Для них неважно, что там происходит на сцене, для них главное, что они сюда попали. Точно так же наши туристы за границей снимают впрок все, что им показывают, ничего не видя. Потом дома выясняется, что они ничего не видели.
Сейчас все-таки немного полегче стало, потому что появилась хорошая техника — привозят все отовсюду, — а раньше был кошмар! Сделают плохую запись, потом ее перепишут — есть же люди, которые с этого живут: они продают эти записи. Я как-то слышал одну пленку на два часа, в ней было 90 песен, из них семь моих.
Так что вот из-за чего я возражаю. Делайте хорошие записи, мне это только поможет.
А среди многочисленных легенд и баек, которые ходят вокруг моего имени, одна как раз и заключается в том, что я не люблю, когда меня записывают на магнитофоны, потому что я пою нечто «такое», что и нельзя записывать. Ничего подобного! Зачем же мне писать песни и приходить на такие вот встречи, чтобы скрывать что-то «такое»? Что для друзей петь можно, а для вас — нет? Никакого смысла. Я, правда, не рассчитывал на такие большие аудитории, когда начинал писать, но все равно я потенциально отношусь к этим аудиториям, как к своим друзьям. Даже и не потенциально, а просто как к друзьям: я с таким же доверием рассказываю обо всем, о чем написал, как и им, поэтому мне скрывать действительно нечего.
В разных городах обращаются ко мне: «Володя, помогите нам бороться с радиохулиганами, они все время ваши песни крутят в эфир». Однажды в Усть-Каменогорске ко мне власти обратились с этим: «Они засоряют эфир вашими песнями!..»
Я говорю: как же я могу помочь?! Что же, я выйду в зрительный зал и скажу: «Дорогие товарищи радиохулиганы?..» И вообще, — я говорю, — я сейчас обижусь и уйду: может быть, они не моими песнями засоряют?! И они дали мне список песен, которые больше всего этими радиохулиганами пропагандируются. Там было несколько песен из «Вертикали» и несколько песен, которых я не знал: они мне не принадлежали. Пелись они какими-то хриплыми голосами, с большим количеством помех — так что разобрать, о чем там идет речь, было совершенно невозможно.
Все мы в какой-то период нашей жизни страдаем от слухов. Я до сих пор отмахиваюсь руками и ногами от всевозможных сплетен, которые вокруг меня распространяются как облака пыли, и постоянно нахожусь под огнем всех этих разговоров. Несколько раз я уже похоронен, несколько раз «уехал», несколько раз отсидел, причем такие сроки, что еще лет сто надо прожить. Какие-то страшные казни мне придумывали. Мне говорят: «Но ведь бывают и хорошие слухи!» Я думаю: «Нет. Если хорошие — это сведения, сообщения или сюрпризы. Слухи и сплетни бывают только плохие, только чтобы гадость сказать».
Раньше меня часто спрашивали в письмах: «Сколько лет вы сидели?» Наверное, многие люди, услышав мои уличные песни и разные под них подделки, считали, что родился я в лагере и долго там жил, что здесь вот у меня — нож, вот тут — струйка крови, гитара сбоку растет и вообще — это «громадный, рыжего цвета человек». Сейчас вроде этот слух прошел: поняли, что не сидел, или, во всяком случае, немного. Многие сплетни и разговоры кончились, когда я начал работать в Театре на Таганке, но иногда я такого про себя наслушаюсь, что уши вянут. Одна девочка из Новосибирска меня спросила: «Правда, что вы умерли?» Я говорю: «Не знаю».
Однажды я был на концерте, где мне принесли стакан воды, а потом кто-то взял и сообщил в определенные инстанции, что я пил водку на сцене. Это часто бывает: всегда находятся люди в зале, которые приходят с какими-то странными целями, провокационными или еще какими-то, — в семье не без урода.
Вот я работаю весь вечер на полной отдаче: сейчас за кулисами я выжму свитер и вы увидите, что это значит, когда работаешь, а не халтуришь. Идет разговор, который требует полной сосредоточенности. А кто-то один — либо с похмелья, либо еще с какими-то соображениями: кто с самого начала пришел, чтобы что-нибудь «этакое» сделать, — обязательно куда-нибудь напишет. И эту писанину где-то там будут разбирать, она найдет ход, будет двигаться и так далее. Это часто так бывает, такая происходит несправедливость: один написал, а полторы тысячи, которым понравилось и они просто ушли домой, все оценив, с благодарностью в душе, никуда не напишут. Вот в чем дело-то.
Я знаю, что аудитории теперь искушенные, подготовленные, с большим количеством полученной информации, которая на них льется отовсюду: из уст профессоров, телевидения, радио, газет, так что, если вас что-то заинтересует, пожалуйста, спрашивайте, ради бога: или записками, или кричите — как хотите. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Лучше о творчестве, чем о личной жизни: я не буду отвечать, сколько раз я разведен, женат и так далее, я и сам это забыл, уже не помню.
Спрашивают, почему я такой грустный. Я думаю, это вопрос не из сентиментальности и заботы о моем здоровье, а просто люди думают, что мне кажется, будто бы вы не все понимаете. Это совсем не так. Я абсолютно уверен, что семена падают в благоприятную почву.
А грустный? А чего особенно веселиться?!
Часто пишут записки: «Расскажите кратко о себе». Вот это вопрос! Это мне напоминает, как однажды во время экзаменов в школе-студии Художественного театра я, стоя в коридоре, получил записку от своего товарища с просьбой прислать шпаргалку. Буквально в этой записке было написано: «Напиши краткое содержание «Дон-Кихота». Это правда.
Просят рассказать о личной жизни. Это очень странно — я никогда ни к кому не подхожу и об этом не спрашиваю. К нам в театр приезжают разные люди, физики читают лекции. И не подойду же я к Флерову и не скажу: «Расскажите, пожалуйста…» О личной жизни я не рассказываю.
Что я написал в последнее время за границей из песен и стихов? Пожалуй, ничего. И не из-за того, что мне приходилось там много ходить и болтаться. У меня было достаточно свободного времени, чтобы работать, — мне там не писалось. Наверное, просто нужно было, чтобы что-то отложилось. А самое главное — даже не поэтому. Я ничего не написал про Париж, например, — и особенно не хотелось. Я не знаю, как это поэты ездят в творческую командировку. Приедут — бах! — и цикл стихов. Мне вообще не хочется писать стихи про то, что я там увидел, потому что не очень сильно это понимаю.
Надо пожить в стране, чтобы кое-что понять и иметь право про это писать.
А у нас, значит, поэты возвращаются и отчитываются стихами о поездке. Андрей пишет. И Женя, когда поедет, обязательно опишет американские впечатления в стихах. Или вот наши сценаристы пишут про Латинскую Америку, которую не могут понять даже серьезные умы, живущие там. А наши побудут там полгода на каких-нибудь своих киносъемках, а потом — бах! — снимают кино про чилийцев, и наши литовские артисты их играют и так далее. Я, честно говоря, этого не понимаю. Может быть, кто-то и может так, но мне подобное в голову никогда не приходило и не хотелось этим заниматься.
Почему-то все люди, выступая по телевидению, стараются казаться умнее, чем они есть на самом деле. Всегда есть котурны во время этих передач. И даже самые уважаемые мною поэты, писатели или актеры, которых я жутко люблю, когда они играют на экране, в таких передачах почему-то не умнее, но чуть-чуть другие, чем они есть. А ведь самое интересное узнать, какие они на самом деле.
Я очень надеюсь, что из-за того, что у меня есть такой частый контакт со зрительным залом и с моими друзьями дома, я смогу избегнуть этого недостатка и сойти с этих котурнов, чтобы у каждого из зрителей осталось обо мне истинное, естественное, сиюминутное впечатление.
По поводу картины «Место встречи изменить нельзя» я не буду давать интервью. И не потому, что мне нечего сказать, — не выманите, не выудите, я ушлый человек. Если вы обратили внимание, я вообще никаких интервью не даю. Поначалу они не хотели, теперь уже я не хочу — потому что журналисты всегда натягивают, перевирают. Они почему-то всем одинаково дают выражаться — все у них получаются такие умные. Они почему-то думают, что их язык — это язык интеллигентов, поэтому в их интервью, обратите внимание, все одинаково говорят. Поэтому обещаю вам, что вы не прочтете ни одной строчки о моем отношении к Жеглову. Все видно по тому, как я его сыграл. Я свое сделал, а оценивать дело не мое, а ваше и критиков.
Этот фильм мы делали с друзьями, кланом. Мы работали с режиссером — это мой давнишний, ближайший друг, с которым я начинал: мы «Вертикаль» с ним делали. Я получил удовольствие, от работы, не то чтобы удовольствие, а купался в некоторых моментах роли. И больше ничего не скажу.
Я написал много песен о летчиках и моряках. Мне пока не удалось написать о космонавтах, хотя меня и очень просили. Хотя бы немного приблизиться к такому подвигу — это же высокая задача. Все понятно — люди знали, на что шли, и надо, чтобы близко было к этому. Я сейчас слышу: «Он полетел… сказал: «Поехали!» — это все понятно, он так действительно сказал, но зачем же рифмовать то, что было. Нужно найти какой-то философский смысл у этих вещей, и когда это придет, я напишу. А так — на заказ — не получается. И дело не в том, что все они были в прошлом летчиками…
Еще вопрос: о личной жизни, семье, счастье, карьере и долге. Семья — это очень хорошо, счастье — еще лучше, карьера тоже не мешает, долг — безусловно.
О чем я мечтаю? Ни о чем. Это я после школы мечтал — сыграть. А сейчас — о чем мечтал, то и сыграл. Современника сыграть не мечтаю — чем Чехов хуже? Меня не роль волнует. Я хочу самовыразиться в роли, прожить, как в последний раз.
Спрашивают, каких недостатков я не прощаю. Их много, не хочу перечислять. Но жадность… и отсутствие твердой позиции у человека, что ведет за собой очень много других пороков, когда он сам не знает не только того, чего он хочет от жизни, а когда он не имеет своего мнения или не может самостоятельно рассудить о предмете, о людях, о смысле жизни; когда он повторяет то, что ему когда-то понравилось, чему его научили, либо когда он просто неспособен к самостоятельному мышлению.
Я больше ценю в человеке творца, чем исполнителя, и поэтому не люблю актерскую профессию в чистом виде, потому что это профессия исполнительская и дамская — не в обиду будь сказано женщинам, ибо для женщин это профессия замечательная: всегда хорошо, красиво одеты, хорошо выглядят, поклонники и так далее. Но хорошо быть хорошей актрисой. А для мужчины все-таки в ней много отрицательных черт. Во-первых, это самая низшая ступень театрального искусства: всегда над тобой режиссер, потом автор, потом директор, потом начальство в министерстве, потом… господь бог. А актер — где-то там, внизу. Ему говорят: «Подите принесите…» Но у нас в Театре на Таганке дело обстоит немножечко по-другому, потому что в нашем театре больше демократизма и мы можем давать советы генералу во время боя, и он, если ему что нравится, берет. Так что актер принимает участие в постановке.
Многие из наших актеров — музыкально образованные люди, играют на разных инструментах, пишут музыку, стихи, прозу и инсценировки; есть среди нас и профессиональные композиторы. И из-за того, что так много вложено в это дело авторства актеров, то есть использовано их творческое хобби, — от этого дело становится дороже. Это всегда так: чем больше вкладываешь в дело, в человека, в ребенка, в любимую девушку — всегда становится дороже и ближе и это дело, и человек. Так в этом мире случилось: больше отдаешь — ценнее становится. Нормальному человеку свойственно больше отдавать, чем брать. Делать подарки приятней, чем получать, — правда, если есть возможность.
Поэтому у нас интересная работа, и правда эта летит через рампу, и когда вы придете в театр, вы убедитесь, что у нас никто не халтурит и не позволяет себе играть спустя рукава — только на технике. Всегда это — с потом, с кровью. Вы видите святой актерский пот и видите, что вам отдают все, что возможно, с полной отдачей, с напряжением всех физических и духовных сил. И из-за этого тоже так трудно попасть в наш театр, потому что так в нем играют.
В мужчине ценю сочетание доброты, силы и ума. Когда я надписываю фотографии пацанам, подросткам и даже детям — хоть это к делу не относится, — обязательно пишу ему: «Вырасти сильным, умным и добрым». А женщине я написал бы: «Будь умной, красивой и доброй».
Спрашивают, кем я себя преимущественно считаю: поэтом, актером или композитором.
Мне трудно ответить на этот вопрос. Я думаю, что сочетание тех жанров и элементов искусства, которыми я занимаюсь и пытаюсь сделать из них синтез, — может быть, это какой-нибудь новый вид искусства. Ведь каждое время дает новые виды. Не было же магнитофонов в XIX веке, была только бумага. А сейчас появилось телевидение. Так что я не могу вам впрямую ответить на этот вопрос. Может быть, все это будет называться в будущем каким-то одним словом. И тогда я вам скажу: «Я себя считаю этим-то». Но сейчас пока этого слова нет.
Я больше всего ценю аудиторию студенческую, морскую или летчицкую, потому что одни каждый раз рискуют, уходя туда, а другие очень долго без берега, без дома, это тоже накладывает отпечаток на их души, они более подвижны; а почему люблю студенческую аудиторию, объяснять даже не надо.
Люблю выступать перед физиками и моряками; не знаю почему, но так вот получилось: физики и моряки. Выступать в Черноголовке, в Дубне, в Серпухове, в Обнинске мне было очень интересно, потому что одновременно мне кое-что показывали. Я много бывал у моряков — пел на военных и гражданских кораблях, во всяких морских клубах, — и как ни странно, несмотря на такие расстояния и разницу в профессиях, реакции на песню в этих аудиториях весьма сходны — хоть в Москве, хоть во Владивостоке. Это происходит не оттого, что они одинаково воспринимают ту или иную песню, а просто эти люди с одинаковым интересом относятся к авторской песне.
Мне так мало надо, чтобы было хорошее настроение. Например, мне надо, чтобы во время моих выступлений была нормальная реакция на юмор. Есть места, где люди хотят только зубоскалить. Начинаешь показывать юмор, за которым обязательно есть что-то серьезное (иначе бы я об этом не писал), а люди его не хотят — хотят обязательно что-нибудь «эдакое».
Каковы мои литературные вкусы? Привязанности мои немногочисленны, а вкусы — определенные. Из теперешних, из «деревенщиков», что ли, я очень люблю Можаева, Абрамова, Белова; люблю Астафьева, Распутина, Трифонова. Люблю Булата за прозу. Поэзию люблю почти всю…
Любимое место в любимом городе? Самотека в Москве. Я долго прожил в Большом Каретном переулке, и там, неподалеку, было самое мое любимое место: около нового здания Театра кукол — тогда оно было просто кирпичной коробкой — и серого дома рядом. Весной, в первый день, когда чуть-чуть подтаивало и девочки уже начинали играть в классики, но еще не было слякоти, я сюда приходил и просто стоял, смотрел на проходящих мимо людей. Еще эстакады не было…
Я не пою со сцены песен из спектаклей. Они написаны для театра и смотрятся в контексте. Например, выйти и начать ни с того ни с сего петь белогвардейскую песню — это просто даже как-то смешно. А в спектакле «Десять дней…» она вставлена в картину «Логово контрреволюции» — сидят задавленные люди и поют про то, что вот как все плохо, что вся Россия для них погибла и что лучше застрелиться. Там это смотрится нормально.
Я продолжаю писать песни не только для театра и кино, но и для компании; и песни, которые можно исполнять в зрительном зале; и, конечно, песни, которые не имеет смысла исполнять перед зрителями, а можно спеть только дома: у всех есть такое сокровенное, что хочется сказать только дома, жене, и что никогда не скажешь в большой компании, — это совершенно естественно, абсолютно нормально.
Я никогда не пою на «бис» — это же, опять повторяю, не концерт. Я свою норму сегодня перевыполнил (спел примерно на 102 процента). Напрасно вы говорите, что мало, — просто я сегодня взял темп побыстрее, чем обычно. Можно было бы несколько песен назад уйти со сцены, покобениться там минуты три, снова выйти — дескать, вот какой я демократичный: «Высоцкий устал, его просили — он спел». Получается, что все знают, сколько они будут работать, только я один не знаю.
Спасибо за ваше долгое терпение, что вы после камерных голосов все-таки выдержали нашествие этого татаро-монгольского ига в лице моего голоса. Я хочу вам сказать еще об одном: у меня много песен. Я их, правда, никогда не считал, думаю, около тысячи. У меня много песен и стихов, которые никогда не исполнялись с эстрады, и мне пока есть что показывать. Но я все равно это перепеть не смогу за один раз, — чтобы все перепеть, нам с вами нужно где-нибудь запереться недели на две и сидеть там до упора. Это дело невозможное. Сегодня я постарался, чтобы каждому, независимо от возраста, профессии, вероисповедания, зарплаты, настроения и так далее, досталось по куску.
Я вас благодарю еще раз и с удовольствием буду к вам приезжать. У вас хорошие лица. Вы смеетесь, когда надо, серьезны тоже, когда надо, — в общем, вы сегодня делали все хорошо. Надеюсь, что и я тоже.
Я надеюсь, что, пока живу и пока могу двигать рукой, я буду продолжать писать песни. Если мои друзья будут того желать, я буду писать эти песни для их картин, для спектаклей, ну и, естественно, для своих друзей и знакомых. В общем, сколько буду жить — столько буду писать, потому что это одно из самых моих любимых занятий, авторская песня.
До новых встреч. Всего доброго. А я поехал сниматься.
Ни единою буквой не лгу
«Кто-то высмотрел плод, что неспел…»
Кто-то высмотрел плод, что неспел. Потрусили за ствол — он упал. Вот вам песня о том, кто не спел, И что голос имел — не узнал. Может, были с судьбой нелады И со случаем плохи дела. А тугая струна на лады С незаметным изъяном легла. Он начал робко с ноты «до», Но не допел ее, не до… Не дозвучал его аккорд И никого не вдохновил. Собака лаяла, а кот — Мышей ловил. Смешно, не правда ли, смешно?.. А он шутил — недошутил, Недораспробовал вино, И даже недопригубил. Он пока лишь затеивал спор, Неуверенно и не спеша, Словно капельки пота из пор, Из-под кожи сочилась душа. Только начал дуэль на ковре, Еле-еле, едва приступил, Лишь чуть-чуть осмотрелся в игре, И судья еще счет не открыл… Он знать хотел все от и до, Но не добрался он, не до… Ни до догадки, ни до дна, Не докопался до глубин И ту, которая одна, — Недолюбил. Смешно, не правда ли, смешно? А он спешил — недоспешил. Осталось недорешено Все то, что он недорешил. Ни единою буквой не лгу. Он был чистого слога слуга, И писал ей стихи на снегу… К сожалению, тают снега! Но тогда еще был снегопад И свобода писать на снегу — И большие снежинки и град Он губами хватал на бегу. Но к ней в серебряном ландо Он не добрался и не до… Не добежал бегун, беглец, Не долетел, не доскакал, А звездный знак его — Телец — Холодный Млечный Путь лакал… Смешно, не правда ли, смешно: Когда секунд недостает, Недостающее звено, И недолет, и недолет. Смешно, не правда ли? Ну вот: И вам смешно, и даже мне… Конь на скаку и птица влет — По чьей вине, по чьей вине?..О фатальных датах и цифрах
Моим друзьям — поэтам
Кто кончил жизнь трагически, тот — истинный
поэт,
А если в точный срок, так — в полной мере:
На цифре 26 один шагнул под пистолет,
Другой же — в петлю слазил в «Англетере».
А в 33 Христу — он был поэт, он говорил:
«Да не убий!» Убьешь — везде найду, мол.
Но — гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил,
Чтоб не писал и чтобы меньше думал.
С меня при цифре 37 в момент слетает хмель.
Вот и сейчас — как холодом подуло:
Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль
И Маяковский лег виском на дуло.
Задержимся на цифре 37! Коварен бог —
Ребром вопрос поставил: или — или!
На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо,
А нынешние — как-то проскочили.
Дуэль не состоялась или — перенесена,
А в 33 распяли, но — не сильно,
А в 37 не кровь, — да что там кровь! — и седина
Испачкала виски не так обильно.
«Слабо стреляться?!» В пятки, мол, давно
ушла душа! —
Терпенье, психопаты и кликуши!
Поэты ходят пятками по лезвию ножа —
И режут в кровь свои босые души!
На слово «длинношеее» в конце пришлось
три «е»,—
Укоротить поэта! — вывод ясен,
И нож в него — но счастлив он висеть на острие,'
Зарезанный за то, что был опасен!
Жалею вас, приверженцы фатальных дат
и цифр,—
Томитесь, как наложницы в гареме!
Срок жизни увеличился — и, может быть, концы
Поэтов отодвинулись на время!
Да, правда, шея длинная — приманка для петли,
А грудь — мишень для стрел, — но не спешите:
Ушедшие не датами бессмертье обрели —
Так что живых не слишком торопите!
Кони привередливые
Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю
Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю!..
Что-то воздуху мне мало: ветер пью, туман глотаю…
Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю!
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Вы тугую не слушайте плеть.
Что-то кони мне попались привередливые…
И дожить не успел, мне допеть не успеть.
Я коней напою,
я куплет допою,—
Хоть мгновенье еще постою
на краю…
Сгину я — меня пушинкой ураган сметет с ладони,
И в санях меня галопом повлекут по снегу утром,—
Вы на шаг неторопливый перейдите, мои кони,
Хоть немного, но продлите путь к последнему приюту!
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Не указчики вам — кнут и плеть.
Что-то кони мне попались привередливые…
И дожить не успел, мне допеть не успеть.
Я коней напою,
я куплет допою,—
Хоть мгновенье еще постою
на краю!..
Мы успели: в гости к Богу не бывает опозданий.
Что ж там ангелы поют такими злыми голосами?!
Или это колокольчик весь зашелся от рыданий,
Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани?!
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Умоляю вас вскачь не лететь!
Что-то кони мне попались привередливые…
Коль дожить не успел, так хотя бы допеть!
Я коней напою,
я куплет допою,—
Хоть мгновенье еще постою
на краю.
Я не люблю
Я не люблю фатального исхода,
От жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года,
Когда веселых песен не пою.
Я не люблю холодного цинизма,
В восторженность не верю, и еще —
Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо.
Я не люблю, когда наполовину
Или когда прервали разговор.
Я не люблю,
когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.
Я ненавижу сплетни в виде версий,
Червей сомненья, почестей иглу,
Или — когда все время против шерсти,
Или — когда железом по стеклу.
Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза.
Досадно мне,
коль слово «честь» забыто
И коль в чести наветы за глаза.
Когда я вижу сломанные крылья,
Нет жалости во мне, и неспроста:
Я не люблю насилья и бессилья,
Вот только жаль распятого Христа.
Я не люблю себя, когда я трушу,
И не терплю, когда невинных бьют.
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более — когда в нее плюют.
Я не люблю манежи и арены:
На них мильон меняют по рублю,—
Пусть впереди большие перемены,
Я это никогда не полюблю.
Песня певца у микрофона
Я весь в свету, доступен всем глазам.
Я приступил к привычной процедуре:
Я к микрофону встал, как к образам…
Нет-нет, сегодня — точно к амбразуре!
И микрофону я не по нутру —
Да, голос мой любому опостылет.
Уверен, если где-то я совру,—
Он ложь мою безжалостно усилит.
Бьют лучи от рампы мне под ребра,
Лупят фонари в лицо недобро,
И слепят с боков прожектора,
И — жара!.. Жара!
Он, бестия, потоньше острия.
Слух безотказен, слышит фальш до йоты.
Ему плевать, что не в ударе я,
Но пусть я честно выпеваю ноты.
Сегодня я особенно хриплю,
Но изменить тональность не рискую.
Ведь если я душою покривлю —
Он ни за что не выпрямит кривую.
На шее гибкой этот микрофон
Своей змеиной головою вертит.
Лишь только замолчу — ужалит он,—
Я должен петь до одури, до смерти!
Не шевелись, не двигайся, не смей,
Я видел жало — ты змея, я знаю!
И я сегодня — заклинатель змей.
Я не пою — я кобру заклинаю.
Прожорлив он, и с жадностью птенца
Он изо рта выхватывает звуки.
Он в лоб мне влепит девять грамм свинца.
Рук не поднять, — гитара вяжет руки!
Опять!.. Не будет этому конца!
Что есть мой микрофон — кто мне ответит?
Теперь он — как лампада у лица,
Но я не свят, и микрофон не светит.
Мелодии мои попроще гамм,
Но лишь сбиваюсь с искреннего тона —
Мне сразу больно хлещет по щекам
Недвижимая тень от микрофона.
Я освещен, доступен всем глазам.
Чего мне ждать — затишья или бури?
Я к микрофону встал, как к образам…
Нет-нет, сегодня точно — к амбразуре!
Песня микрофона
Я оглох от ударов ладоней,
Я ослеп от улыбок певиц —
Сколько лет я страдал от симфоний,
Потакал подражателям птиц!
Сквозь меня, многократно просеясь,
Чистый звук в ваши души летел.
Стоп! Вот — тот, на кого я надеюсь,
Для кого я все муки стерпел.
Сколько раз в меня шептали про луну,
Кто-то весело орал про тишину,
На пиле один играл — шею спиливал,—
А я усиливал, усиливал, усиливал…
На «низах» его голос утробен,
На «верхах» он подобен ножу,—
Он покажет, на что он способен,—
Но и я кое-что покажу!
Он поет, задыхаясь, с натугой —
Он устал, как солдат на плацу,—
Я тянусь своей шеей упругой
К золотому от пота лицу.
Сколько лет в меня шептали про луну,
Кто-то весело орал про тишину,
На пиле один играл — шею спиливал,—
А я усиливал, усиливал, усиливал.
Только вдруг: «Человече, опомнись,—
Что поешь?! Отдохни — ты устал.
Это — патока, сладкая помесь!
Зал, скажи, чтобы он перестал!..»
Все напрасно — чудес не бывает,—
Я качаюсь, еле стою.
Он бальзамом мне горечь вливает
В микрофонную глотку мою.
Сколько лет в меня шептали про луну,
Кто-то весело орал про тишину,
На пиле один играл — шею спиливал,—
А я усиливал, усиливал, усиливал.
В чем угодно меня обвините —
Только против себя не пойдешь:
По профессии я — усилитель,—
Я страдал, — но усиливал ложь.
Застонал я — динамики взвыли,—
Он сдавил мое горло рукой…
Отвернули меня, умертвили —
Заменили меня на другой.
Тот, другой, — он все стерпит и примет,—
Он навинчен на шею мою.
Часто нас заменяют другими,
Чтобы мы не мешали вранью.
…Мы в чехле очень тесно лежали —
Я, штатив и другой микрофон,—
И они мне, смеясь, рассказали,
Как Он рад был, что был заменен.
Нет меня — я покинул Расею
Нет меня — я покинул Расею,—
Мои девочки ходят в соплях!
Я теперь свои семечки сею
На чужих Елисейских полях.
Кто-то вякнул в трамвае на Пресне:
«Нет его — умотал наконец!
Вот и пусть свои чуждые песни
Пишет там про Версальский дворец».
Слышу сзади — обмен новостями:
«Да не тот! Тот уехал — спроси!..» —
«Ах, не тот?!.» — и толкают локтями,
И сидят на коленях в такси.
А с которым сидел в Магадане,
Мой дружок по гражданской войне,—
Говорит, что пишу ему: «Ваня!
Скушно, Ваня, — давай, брат, ко мне!»
Я уже попросился обратно —
Унижался, юлил, умолял…
Ерунда! Не вернусь, вероятно,—
Потому что я не уезжал!
Кто поверил — тому по подарку,—
Чтоб хороший конец, как в кино:
Забирай Триумфальную арку,
Налетай на заводы Рено!
Я смеюсь, умираю от смеха:
Как поверили этому бреду?! —
Не волнуйтесь — я не уехал,
И не надейтесь — я не уеду!
Я к вам пишу
Спасибо вам, мои корреспонденты —
Все те, кому ответить я не смог,—
Рабочие, узбеки и студенты —
Все, кто писал мне письма, — дай вам бог!
Дай бог вам жизни две,
И друга одного,
И света в голове,
И доброго всего.
Найдя стократно вытертые ленты,
Вы хрип мой разбирали по слогам.
Так дай же бог, мои корреспонденты,
И сил в руках, да и удачи вам.
Вот пишут — голос мой не одинаков:
То хриплый, то надрывный, то глухой.
И просит население бараков:
«Володя, ты не пой за упокой!».
Но что поделать, если я не звонок,—
Звенят другие — я хриплю слова.
Обилие некачественных пленок
Вредит мне даже больше, чем молва.
Вот спрашивают: «Попадал ли в плен ты?»
Нет, не бывал — не воевал ни дня!
Спасибо вам, мои корреспонденты,
Что вы неверно поняли меня.
Друзья мои, — жаль что не боевые,—
От моря, от станка и от сохи,
Спасибо вам за присланные — злые
И даже неудачные стихи.
Вот я читаю: «Вышел ты из моды.
Сгинь, сатана, изыди, хриплый бес.
Как глупо, что не месяцы, а годы
Тебя превозносили до небес!»
Еще письмо: «Вы умерли от водки!»
Да, правда, умер — но потом воскрес.
«А каковы доходы ваши все-таки?
За песню трешник — вы же просто крез!»
За письма высочайшего пошиба:
Идите, мол, на Темзу и на Нил,—
Спасибо, люди добрые, спасибо,—
Что не жалели ночи и чернил.
Но только я уже бывал на Темзе,
Собакою на Сене восседал.
Я не грублю, но отвечаю тем же,—
А писем до конца не дочитал.
И ваши похвалы и комплименты,
Авансы мне — не отфутболю я:
От ваших строк, мои корреспонденты,
Прямеет путь и сохнет колея.
Сержанты, моряки, интеллигенты,—
Простите, что не каждому ответ:
Я вам пишу, мои корреспонденты,
Ночами песни — вот уж десять лет.
Расстрел горного эха
В тиши перевала, где скалы ветрам не помеха,
На кручах таких, на какие никто не проник,
Жило-поживало веселое горное, горное эхо,
Оно отзывалось на крик — человеческий крик.
Когда одиночество комом подкатит под горло,
И сдавленный стон еле слышно в обрыв упадет,
Крик этот о помощи эхо подхватит, подхватит
проворно,
Усилит и бережно — в руки своих — донесет.
Должно быть, не люди, напившись дурмана и зелья,
Чтоб не был услышан никем громкий топот и храп.
Пришли умертвить, обеззвучить живое ущелье,
И эхо связали, и в рот ему всунули кляп.
Всю ночь продолжалась кровавая злая потеха,
И эхо топтали, но звука никто не слыхал.
К утру расстреляли притихшее горное эхо,
И брызнули камни, как слезы, из раненых скал…
Горизонт
Чтоб не было следов, повсюду подмели…
Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте:
Мой финиш — горизонт, а лента — край земли,—
Я должен первым быть на горизонте!
Условия пари одобрили не все —
И руки разбивали неохотно.
Условье таково: чтоб ехать — по шоссе,
И только по шоссе бесповоротно.
Наматываю мили на кардан
И еду параллельно проводам.
Но то и дело тень перед мотором —
То черный кот, то кто-то в чем-то черном.
Я знаю — мне не раз в колеса палки ткнут.
Догадываюсь, в чем и как меня обманут.
Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут
И где через дорогу трос натянут.
Но стрелки я топлю — на этих скоростях
Песчинка обретает силу пули,—
И я сжимаю руль до судорог в кистях —
Успеть, пока болты не затянули!
Наматываю мили на кардан
И еду вертикально к проводам.
Завинчивают гайки, — побыстрее! —
Не то поднимут трос как раз, где шея.
И плавится асфальт, протекторы кипят,
Под ложечкой сосет от близости развязки.
Я голой грудью рву натянутый канат,—
Я жив — снимите черные повязки!
Кто вынудил меня на жесткое пари —
Нечистоплотны в споре и расчетах.
Азарт меня пьянит, но, как ни говори,
Я торможу на скользких поворотах.
Наматываю мили на кардан —
Назло канатам, тросам, проводам,—
Вы только проигравших урезоньте,
Когда я появлюсь на горизонте!
Мой финиш — горизонт — по-прежнему далек,
Я ленту не порвал, но я покончил с тросом,—
Канат не пересек мой шейный позвонок,
Но из кустов стреляют по колесам.
Меня ведь не рубли на гонку завели,—
Меня просили: «Миг не проворонь ты —
Узнай, а есть предел — там, на краю земли,
И — можно ли раздвинуть горизонты?!»
Наматываю мили на кардан
И пулю в скат влепить себе не дам.
Но тормоза отказывают, — кода! —
Я горизонт промахиваю с хода!
Песня про первые ряды
Была пора — я рвался в первый ряд,
И это все от недопониманья.
Но с некоторых пор сажусь назад:
Там, впереди, как в спину автомат,—
Тяжелый взгляд, недоброе дыханье.
Может, сзади и не так красиво,
Но — намного шире кругозор,
Больше и разбег, и перспектива,
И еще — надежность и обзор.
Стволы глазищ — числом до десяти —
Как дула на мишень, но на живую.
Затылок мой от взглядов не спасти,
И сзади так удобно нанести
Обиду или рану ножевую.
Может, сзади и не так красиво,
Но — намного шире кругозор,
Больше и разбег, и перспектива,
И еще — надежность и обзор.
Мне вреден первый ряд, и, говорят,—
От мыслей этих я в ненастье ною.
Уж лучше — где темней — в последний ряд:
Отсюда больше нет пути назад,
И за спиной стоит стена стеною.
Может, сзади и не так красиво,
Но — намного шире кругозор,
Больше и разбег, и перспектива,
И еще — надежность и обзор.
И пусть хоть реки утекут воды,
Пусть будут в пух засалены перины —
До лысин, до седин, до бороды
Не выходите в первые ряды
И не стремитесь в примы-балерины.
Может, сзади и не так красиво,
Но — намного шире кругозор,
Больше и разбег, и перспектива,
И еще — надежность и обзор.
Надежно сзади, но бывают дни —
Я говорю себе, что выйду червой:
Не стоит вечно пребывать в тени —
С последним рядом долго не тяни,
А постепенно пробирайся в первый.
Может, сзади и не так красиво,
Но — намного шире кругозор,
Больше и разбег, и перспектива,
И еще — надежность и обзор.
Чужая колея
Сам виноват — и слезы лью и охаю:
Попал в чужую колею глубокую.
Я цели намечал свои на выбор сам —
А вот теперь из колеи не выбраться.
Крутые скользкие края
Имеет эта колея.
Я кляну проложивших ее —
Скоро лопнет терпенье мое —
И склоняю, как школьник плохой:
Колею, в колее, с колеей…
Но почему неймется мне — нахальный я,—
Условья, в общем, в колее нормальные:
Никто не стукнет, не притрет — не жалуйся!
Желаешь двигаться вперед — пожалуйста!
Отказа нет в еде-питье
В уютной этой колее.
И я живо себя убедил:
Не один я в нее угодил,
Так держать — колесо в колесе! —
И доеду туда, куда все.
Вот кто-то крикнул сам не свой: «А ну, пусти!» —
И начал спорить с колеей по глупости.
Он в споре сжег запас до дна тепла души —
И полетели клапана и вкладыши.
Но покорежил он края —
И шире стала колея.
Вдруг его обрывается след…
Чудака оттащили в кювет,
Чтоб не мог он нам, задним, мешать
По чужой колее проезжать.
Вот и ко мне пришла беда — стартер заел,—
Теперь уж это не езда, а ерзанье.
И надо б выйти, подтолкнуть, — но прыти нет,—
Авось подъедет кто-нибудь и вытянет.
Напрасно жду подмоги я —
Чужая эта колея.
Расплеваться бы глиной и ржой
С колеей этой самой чужой —
Тем, что я ее сам углубил,
Я у задних надежду убил.
Прошил меня холодный пот до косточки,
И я прошелся чуть вперед по досточке.
Гляжу — размыли край ручьи весенние,
Там выезд есть из колеи — спасение!
Я грязью из-под шин плюю
В чужую эту колею.
Эй вы, задние, делай как я!
Это значит — не надо за мной,
Колея эта — только моя,
Выбирайтесь своей колеей!
Иноходец
Я скачу, но я скачу иначе
По камням, по лужам, по росе…
Бег мой назван иноходью, значит,—
По-другому, то есть не как все.
Но наездник мой всегда на мне,
Стременами лупит мне под дых.
Я согласен бегать в табуне —
Но не под седлом и без узды!
Если не свободен нож от ножен —
Он опасен меньше, чем игла.
Вот и я подседлан и стреножен,
Рот мой разрывают удила.
Мне набили раны на спине,
Я дрожу боками у воды.
Я согласен бегать в табуне —
Но не под седлом и без узды.
Мне сегодня предстоит бороться —
Скачки! Я сегодня — фаворит.
Знаю, — ставят все на иноходца,
Но не я — жокей на мне хрипит!
Он вонзает шпоры в ребра мне,
Зубоскалят первые ряды.
Ох, как я бы бегал в табуне,
Но не под седлом и без узды.
Пляшут, пляшут скакуны на старте,
Друг на друга злобу затая,
В исступленье, в бешенстве, в азарте —
И роняют пену, как и я.
Мой наездник у трибун в цене,
Крупный мастер верховой езды.
Ах, как я бы бегал в табуне —
Но не под седлом и без узды!
Нет! не будут золотыми горы!
Я последним цель пересеку:
Я ему припомню эти шпоры,
Засбою, отстану на скаку!..
Колокол! Жокей мой «на коне»,
Он смеется в предвкушенье мзды…
Ах, как я бы бегал в табуне —
Но не под седлом и без узды!
Что со мной, что делаю, как смею —
Потакаю своему врагу!
Я собою просто не владею —
Я прийти не первым не могу!
Что же делать? Остается мне
Вышвырнуть жокея моего
И бежать, как будто в табуне,—
Под седлом, в узде, но — без него…
Я пришел, а он в хвосте плетется —
По камням, по лужам, по росе…
Я впервые не был иноходцем —
Я стремился выиграть как все!
Козел отпущения
В заповеднике (вот в каком — забыл)
Жил да был Козел — роги длинные.
Хоть с волками жил — не по-волчьи выл,
Блеял песенки все козлиные.
И пощипывал он травку, и нагуливал бока,
Не услышишь от него худого слова.
Толку было с него, правда, как с козла — молока,
Но вреда, однако, тоже никакого.
Жил на выпасе — возле озерка,
Не вторгаясь в чужие владения,
Но заметили скромного козлика
И избрали в козлы отпущения!
Например, Медведь — баламут и плут —
Обхамит кого-нибудь по-медвежьему —
Враз Козла найдут, приведут и бьют:
По рогам ему и промеж ему…
Не противился он, серенький, насилию со злом,
А сносил побои весело и гордо.
Сам Медведь сказал: «Ребята,
я горжусь Козлом —
Героическая личность, козья морда!»
Берегли Козла, как наследника.
Вышло даже в лесу запрещение
С территории заповедника
Отпускать Козла отпущения.
А- Козел себе все скакал козлом,
Но пошаливать он стал втихомолочку:
Как-то бороду завязал узлом —
Из кустов назвал Волка сволочью.
А когда очередное отпущенье получал
(Все за то, что волки лишку откусили),
Он, как будто бы случайно, по-медвежьи зарычал,
Но внимания тогда не обратили.
Пока хищники меж собой дрались,
В заповеднике крепло мнение,
Что дороже всех медведей и лис —
Дорогой Козел отпущения!
Услыхал Козел — да и стал таков:
«Эй вы, дурые, — кричит, — светло-пегие!
Отниму у вас рацион волков
И медвежие привилегии.
Покажу вам «козью морду» настоящую в лесу,
Распишу туда-сюда по трафарету,
Всех на роги намотаю и по кочкам разнесу
И ославлю по всему по белу свету!
Не один из вас будет землю жрать,
Все подохнете без прощения.
Отпускать грехи кому — это мне решать,
Это я — Козел отпущения!»
В заповеднике (вот в каком — забыл)
Правит бал Козел не по-прежнему:
Он с волками жил — и по-волчьи взвыл,
И рычит теперь по-медвежьему.
А козлятушки-ребятки засучили рукава
И пошли шерстить волчишек в пух и клочья.
А чего теперь стесняться, если их глава
От лесного Льва имеет полномочья.
Ощутил он вдруг остроту рогов
И козлиное вдохновение:
Росомах и лис, медведей, волков —
Превратил в козлов отпущения.
Охота на волков
Рвусь из сил — и из всех сухожилий,
Но сегодня — опять как вчера:
Обложили меня, обложили —
Гонят весело на номера!
Из-за елей хлопочут двустволки —
Там охотники прячутся в тень,—
На снегу кувыркаются волки,
Превратившись в живую мишень.
Идет охота на волков, идет охота —
На серых хищников, матерых и щенков!
Кричат загонщики и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу — и пятна красные флажков.
Не на равных играют с волками
Егеря — но не дрогнет рука,—
Оградив нам свободу флажками,
Бьют уверенно, наверняка.
Волк не может нарушить традиций,—
Видно, в детстве — слепые щенки —
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали: нельзя за флажки!
И вот — охота на волков, идет охота —
На серых хищников, матерых и щенков!
Кричат загонщики и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу — и пятна красные флажков
Наши ноги и челюсти быстры,—
Почему же, вожак, — дай ответ —
Мы затравленно мчимся на выстрел
И не пробуем — через запрет?!
Волк не может, не должен иначе.
Вот кончается время мое:
Тот, которому я предназначен,
Улыбнулся — и поднял ружье.
Идет охота на волков, идет охота —
На серых хищников, матерых и щенков!
Кричат загонщики и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу — и пятна красные флажков.
Я из повиновения вышел —
За флажки — жажда жизни сильней!
Только сзади я радостно слышал
Удивленные крики людей.
Рвусь из сил — и из всех сухожилий,
Но сегодня не так, как вчера:
Обложили меня, обложили —
Но остались ни с чем егеря!
Идет охота на волков, идет охота —
На серых хищников, матерых и щенков!
Кричат загонщики и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу — и пятна красные флажков.
Охота с вертолетов
Словно бритва, рассвет полоснул по глазам,
Отворились курки, как волшебный сезам,
Появились стрелки, на помине легки,—
И взлетели стрекозы с протухшей реки,
И потеха пошла в две руки, в две руки.
Мы легли на живот и убрали клыки.
Даже тот, даже тот, кто нырял под флажки,
Чуял волчии ямы подушками лап,
Тот, кого даже пуля догнать не могла бы,—
Тоже в страхе взопрел — и прилег, и ослаб.
Чтобы жизнь улыбалась волкам — не слыхал:
Зря мы любим ее, однолюбы.
Вот у смерти — красивый широкий оскал
И здоровые, крепкие зубы.
Улыбнемся же волчьей улыбкой врагу,
Псам еще не намылены холки.
Но — на татуированном кровью снегу
Наша роспись: мы больше не волки!
Мы ползли, по-собачьи хвосты подобрав,
К небесам удивленные морды задрав:
Либо с неба возмездье на нас пролилось,
Либо света конец — ив мозгах перекос…
Только били нас в рост из железных стрекоз.
Кровью вымокли мы под свинцовым дождем —
И смирились, решив: все равно не уйдем!
Животами горячими плавили снег.
Эту бойню затеял — не бог — Человек!
Улетающих — влет, убегающих — в бег…
Свора псов, ты со стаей моей не вяжись —
В равной сваре за нами удача.
Волки мы! Хороша наша волчая жизнь.
Вы — собаки, и смерть вам — собачья.
Улыбнемся же волчьей ухмылкой врагу,
Чтобы в корне пресечь кривотолки.
Но — на татуированном кровью снегу
Наша роспись: мы больше не волки!
К лесу! Там хоть немногих из вас сберегу!
К лесу, волки! Труднее убить на бегу!
Уносите же ноги, спасайте щенков!
Я мечусь на глазах полупьяных стрелков
И скликаю заблудшие души волков.
Те, кто жив, — затаились на том берегу.
Что могу я один? Ничего не могу:
Отказали глаза, притупилось чутье…
Где вы, волки, былое лесное зверье,
Где же вы, желтоглазое племя мое?!
Я живу. Но теперь окружают меня
Звери, волчьих не знавшие кличей.
Это — псы, отдаленная наша родня,
Мы их раньше считали добычей.
Улыбаюсь я волчьей ухмылкой врагу,
Обнажаю гнилые осколки.
Но — на татуированном кровью снегу
Тает роспись: мы больше не волки!
«Прошла пора вступлений и прелюдий…»
Прошла пора вступлений и прелюдий,—
«Прошла пора вступлений и прелюдий»
Все хорошо — не вру, без дураков:
Меня к себе зовут большие люди,—
Чтоб я им пел «Охоту на волков»…
Быть может, запись слышал — из окон,
А может быть, с детьми ухи не сваришь,—
Как знать, — но приобрел магнитофон
Какой-нибудь ответственный товарищ.
И, предаваясь будничной беседе
В кругу семьи, где свет торшера тускл,—
Тихонько, чтоб не слышали соседи,
Он взял да и нажал на кнопку «пуск».
И, там не разобрав последних слов,—
Прескверный дубль достали на рабо^,—
Услышал он «Охоту на волков»
И кое-что еще на обороте.
И, все прослушав до последней ноты
И разозлись, что слов последних нет,
Он поднял трубку: «Айтора «Охоты»
Ко мне пришлите завтра в кабинет!»
Я не хлебнул для храбрости винца,—
И, подавляя частую икоту,
С порога — от начала до конца —
Я проорал ту самую «Охоту».
Его просили дети, безусловно,
Чтобы была улыбка на лице.
Но он меня прослушал благосклонно
И даже аплодировал в конце.
И, об стакан бутылкою звеня,
Которую извлек из книжной полки,
Он выпалил: «Да это ж — про меня!
Про нас про всех — какие, к черту, волки!»
Ну все, теперь, конечно, что-то будет —
Уже три года в день по пять звонков:
Меня к себе зовут большие люди,—
Чтоб я им пел «Охоту на волков».
Банька по-белому
Протопи ты мне баньку, хозяюшка,
Раскалю я себя, распалю,
На полбке, у самого краешка,
Я сомненья в себе истреблю.
Разомлею я до неприличности,
Ковш холодный — и все позади.
И наколка времен культа личности
Засинеет на левой груди.
Протопи ты мне баньку по-белому —
Я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.
Сколько веры и лесу повалено,
Сколь изведано горя и трасс.
А на левой груди профиль Сталина,
А на правой — Маринка, анфас.
Эх! За веру мою беззаветную
Столько лет отдыхал я в раю!
Променял я на жизнь беспросветную
Несусветную глупость мою.
Протопи ты мне баньку по-белому,
Я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.
Вспоминаю, как утречком раненько
Брату крикнуть успел: «Пособи!»
И меня два красивых охранника
Повезли из Сибири в Сибирь.
А потом, на карьере ли, в топи ли,
Наглотавшись слезы и сырца,
Ближе к сердцу кололи мы профили,
Чтоб он слышал, как рвутся сердца.
Не топи ты мне баньку по-белому —
Я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.
Ох! Знобит от рассказа дотошного,
Пар мне мысли прогнал от ума.
Из тумана холодного прошлого
Окунаюсь в горячий туман.
Застучали мне мысли под темечком,
Получилось, я зря им клеймен.
И хлещу я березовым веничком
По наследию мрачных времен.
Протопи ты мне баньку по-белому,—
Чтоб я к белому свету привык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.
Баллада о детстве
Час зачатья я помню неточно.
Значит, память моя — однобока.
Но зачат я был ночью — порочно
И явился на свет не до срока.
Я рождался не в муках, не в злобе —
Девять месяцев, это не лет…
Первый срок отбывал я в утробе.
Ничего там хорошего нет.
Спасибо вам, святители,
Что плюнули да дунули,
Что вдруг мои родители
Зачать меня задумали
В те времена укромные,
Теперь почти былинные,
Когда в срока огромные
Брели в этапы длинные.
Их брали в ночь зачатия,
А многих даже ранее.
А вот живет же братия,
Моя честна компания.
Ходу! Думушки резвые, ходу!
Слова, строченьки милые, слова!
В первый раз получил я свободу
По указу от тридцать восьмого.
Знать бы мне, кто так долго мурыжил,—
Отыгрался бы на подлеце!
Но родился, и жил я, и выжил —
Дом на Первой Мещанской, в конце.
Там за стенкой, за стеночкою,
За перегородочкою
Соседушка с соседочкою
Баловались водочкой.
Все жили вровень, скромно так,
Система коридорная,
На тридцать восемь комнаток
Всего одна уборная.
Здесь на зуб зуб не попадал,
Не грела телогреечка,
Здесь я доподлинно узнал,
Почем она, копеечка
Не боялась сирены соседка,
И привыкла к ней мать понемногу.
И плевал я — здоровый трехлетка,
На воздушную эту тревогу.
Да, не все то, что сверху — от Бога.
И народ зажигалки тушил,
И как малая фронту подмога —
Мой песок и дырявый кувшин.
И было солнце в три луча,
Сквозь дыры крыш просеяно,
На Евдоким Кирилыча
И Гисю Моисеевну.
Она ему: — Как сыновья?
— Да без вести пропавшие!
Эх, Гиська, мы одна семья,
Вы — тоже пострадавшие.
Вы тоже пострадавшие,
А значит, обрусевшие,
Мои — без вести павшие,
Твои — безвинно севшие.
Я ушел от пеленок и сосок,
Поживал, не забыт, не заброшен.
И дразнили меня — недоносок,
Хоть и был я нормально доношен.
Маскировку пытался срывать я:
Пленных гонят! Чего ж мы дрожим? —
Возвращались отцы наши, братья
По домам. По своим да чужим.
У тети Зины кофточка
С драконами да змеями —
То у Попова Вовчика
Отец пришел с трофеями.
Трофейная Япония,
Трофейная Германия.
Пришла страна Лимония,
Сплошная Чемодания.
Взял у отца на станции
Погоны, словно цацки, я.
А из эвакуации
Толпой валили штатские.
Осмотрелись они, оклемались,
Похмелились — потом протрезвели.
И отплакали те, что дождались,
Недождавшиеся — отревели.
Стал метро рыть отец Витькин с Генкой,
Мы спросили: — Зачем? — Он в ответ:
Коридоры кончаются стенкой,
А тоннели выводят на свет.
Пророчество папашино
Не слушал Витька с корешом.
Из коридора нашего
В тюремный коридор ушел.
Да он всегда был спорщиком,
Припрут к стене — откажется.
Прошел он коридорчиком
И кончил стенкой, кажется.
Но у отцов свои умы,
А что до нас касательно —
На жизнь засматривались мы
Уже самостоятельно.
Все, от нас до почти годовалых,
Толковище вели до кровянки.
А в подвалах и полуподвалах
Ребятишкам хотелось под танки.
Не досталось им даже по пуле —
В ремеслухе живи да тужи.
Ни дерзнуть, ни рискнуть — но рискнули
Из напильников делать ножи.
Они воткнутся в легкие,
От никотина черные,
По рукоятки легкие,
Трехцветные, наборные.
Вели дела обменные
Сопливые острожники.
На стройке немцы пленные
На хлеб меняли ножики.
Сперва играли в фантики,
В пристенок с крохоборами.
И вот ушли романтики
Из подворотен ворами…
Было время — и были подвалы,
Было дело — и цены снижали.
И текли куда надо каналы,
И в конце куда надо впадали.
Дети бывших старшин да майоров
До ледовых широт поднялись,
Потому что из тех коридоров
Вниз сподручней им было, чем ввысь.
Баллада о короткой шее
Полководец с шеею короткой
Должен быть в любые времена:
Чтобы грудь — почти до подбородка,
От затылка — сразу чтоб спина.
На короткой незаметной шее
Голове удобнее сидеть,—
И душить значительно труднее,
И арканом не за что задеть.
А они вытягивают шеи
И встают на кончики носков:
Чтобы видеть дальше и вернее —
Нужно посмотреть поверх голов.
Все, теперь ты темная лошадка,
Даже если видел свет вдали,—
Поза — неустойчива и шатка,
И открыта шея для петли.
И любая подлая ехидна
Сосчитает позвонки на ней,—
Дальше видно, но — недальновидно
Жить с открытой шеей меж людей.
А они вытягивают шеи
И встают на кончики носков:
Чтобы видеть дальше и вернее —
Нужно посмотреть поверх голов.
Голову задрав — плюешь в колодец,
Сам себя готовишь на убой.
Кстати, настоящий полководец —
Землю топчет полною стопой.
В Азии приучены к засаде —
Допустить не должен полубог,
Чтоб его подкравшиеся сзади
С первого удара сбили с ног.
А они вытягивают шеи
И встают на кончики носков:
Чтобы видеть дальше и вернее —
Нужно посмотреть поверх голов.
Чуть отпустят нервы, как уздечка,
Больше не держа и не храня,—
Под ноги пойдет тебе подсечка
И на шею ляжет пятерня.
Можно, правда, голову тоскливо
Спрятать в плечи — и не рисковать,-
Только это очень некрасиво —
Втянутою голову держать.
Вот какую притчу о Востоке
Рассказал мне старый аксакал.
Даже сказки здесь, и те жестоки,—
Думал я — и шею измерял.
Песня о друге
Если друг оказался вдруг
И не друг и не враг, а — так…
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош,—
Парня в горы тяни — рискни!
Не бросай одного его!
Пусть он в связке одной с тобой —
Там поймешь, кто такой.
Если парень в горах — не ах,
Если сразу раскис и — вниз,
Шаг ступил на ледник и — сник,
Оступился — ив крик,—
Значит, рядом с тобой — чужой.
Ты его не брани — гони:
Вверх таких не берут, и тут
Про таких не поют.
Если ж он не скулил, не ныл,
Пусть он хмур был и зол, но — шел,
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но — держал;
Если шел он с тобой, как в бой,
На вершине стоял, хмельной,—
Значит, как на себя самого,
Положись на него.
Ямщик
Я дышал синевой,
Белый пар выдыхал…
Он летел, становясь облаками.
Снег скрипел подо мной,
Поскрипев — затихал,
А сугробы прилечь завлекали.
И звенела тоска,
Что в безрадостной песне поется,
Как ямщик замерзал
В той глухой незнакомой степи…
Усыпив,
Ямщика
Заморозило желтое солнце.
И никто не сказал:
— Шевелись, подымайся, не спи!
Я шагал по Руси —
До макушек в снегу,
Полз, катился,
Чтоб не провалиться.
Сохрани и спаси!
Дай веселья в пургу!
Дай не лечь, не уснуть,
Не забыться.
Тот ямщик-чудодей
Бросил кнут и —
Куда ему деться?! —
Помянул о Христе,
Ошалев от заснеженных верст.
Он, хлеща лошадей,
Мог бы этим немного
Согреться…
Ну, а он в доброте их жалел,
И не бил,
И замерз.
Отраженье свое
Увидал в полынье —
И взяла меня оторопь:
В пору б
Оборвать житие,
Я по грудь во вранье!
Выпить штоф напоследок —
И в прорубь.
Хоть душа пропита —
Ей там, голой, не выдержать
Стужу.
В прорубь надо да в омут,
Но — сам, а не руки сложа.
Пар валит изо рта…
Эх, душа моя рвется наружу!
Выйдет вся — схороните,
Зарежусь — снимите с ножа.
Снег кружит над землей,
Над страною моей.
Мягко стелет, в запой
Зазывает…
Ах, ямщик удалой!
Пьет и хлещет коней!
А не пьяный ямщик замерзает…
Притча о Правде
В подражание Булату Окуджаве
Нежная Правда в красивых одеждах ходила,
Принарядившись для сирых, блаженных, калек,—
Грубая Ложь эту Правду к себе заманила:
Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег.
И легковерная Правда спокойно уснула,
Слюни пустила и разулыбалась во сне,—
Грубая Ложь на себя одеяло стянула,
В Правду впилась — и осталась довольна вполне.
И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью:
«Баба как баба, и что ее ради радеть?!» —
Разницы нет никакой между Правдой и Ложью,—
Если, конечно, и ту и другую раздеть.
Выплела ловко из кос золотистые ленты
И прихватила одежды, примерив на глаз;
Деньги взяла, и часы, и еще документы,—
Сплюнула, грязно ругнулась — и вон подалась.
Только к утру обнаружила Правда пропажу —
И подивилась, себя оглядев делово:
Кто-то уже, раздобыв где-то черную сажу,
Вымазал чистую Правду, а так — ничего.
Правда смеялась, когда в нее камни бросали:
«Ложь это все, и на Лжи одеянье мое…»
Двое блаженных калек протокол составляли
И обзывали дурными словами ее.
Стервой ругали ее, и похуже, чем стервой,
Мазали глиной, спустили дворового пса…
«Духу чтоб не было, — на километр сто первый
Выселить, выслать за двадцать четыре часа!»
Тот протокол заключался обидной тирадой
(Кстати, навесили Правде чужие дела):
Дескать, какая-то мразь называется Правдой,
Ну а сама — пропилась, проспалась догола.
Чистая Правда божилась, клялась и рыдала,
Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах,—
Грязная Ложь чистокровную лошадь украла —
И ускакала на длинных и тонких ногах.
Некий чудак и поныне за Правду воюет,—
Правда, в речах его правды — на ломаный грош:
«Чистая Правда со временем восторжествует,—
Если проделает то же, что явная Ложь!»
Часто, разлив по сто семьдесят граммов на брата,
Даже не знаешь, куда на ночлег попадешь.
Могут раздеть, — это чистая правда, ребята,—
Глядь — а штаны твои носит коварная Ложь.
Глядь — на часы твои смотрит коварная Ложь.
Глядь — а конем твоим правит коварная Ложь.
«На границе с Турцией или Пакистаном…»
На границе с Турцией или Пакистаном
Полоса нейтральная. Справа, где кусты,—
Наши пограничники с нашим капитаном.
А на левой стороне — ихние посты.
А на нейтральной полосе цветы —
Необычайной красоты!
Капитанова невеста жить решила вместе.
Прикатила, говорит: — Милый! то да се…—
Надо ж хоть букет цветов подарить невесте —
Что за свадьба без цветов? Пьянка, да и все!
А на нейтральной полосе цветы —
Необычайной красоты!
К ихнему начальнику, точно по повестке,
Тоже баба прикатила — налетела блажь.
Тоже: — Милый, — говорит, только по-турецки,—
Будет свадьба, — говорит, — свадьба — и шабаш!
А на нейтральной полосе цветы —
Необычайной красоты!
Наши пограничники — храбрые ребята —
Трое вызвались идти, с ними — капитан.
Разве ж знать они могли про то, что азиаты
Порешили в ту же ночь вдарить по цветам?
Ведь на нейтральной полосе цветы —
Необычайной красоты!
Пьян от запаха цветов капитан мертвецки,
Ну, и ихний капитан тоже в доску пьян.
Повалился он в цветы, охнув по-турецки,
И, по-русски крикнув: — Мать… — рухнул капитан.
А на нейтральной полосе цветы —
Необычайной красоты!
Спит капитан, и ему снится,
Что открыли границы, как ворота в Кремле.
Ему и на фиг не нужна была чужая заграница —
Он пройтиться хотел по ничейной земле.
Почему же нельзя? Ведь земля-то ничья,
Ведь она — нейтральная!
А на нейтральной полосе цветы —
Необычайной красоты!
Братские могилы
На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают.
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче — гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы —
Все судьбы в единую слиты. ·
А в Вечном огне — видишь вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У братских могил нет заплаканных вдов —
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов…
Но разве от этого легче?!
«Мерцал закат, как блеск клинка…»
Мерцал закат, как блеск клинка.
Свою добычу смерть считала.
Бой будет завтра, а пока —
Взвод зарывался в облака
и уходил по перевалу.
Отставить разговоры?
Вперед и вверх, а там…
Ведь это наши горы,
они помогут нам.
А до войны этот склон
немецкий парень брал с тобою.
Он падал вниз, но был спасен,
а вот сейчас, быть может, он
свой автомат готовит к бою.
Отставить разговоры!
Вперед и вверх, а там…
Ведь это наши горы,
Они помогут нам.
Ты снова тут, ты собран весь.
Ты ждешь заветного сигнала.
И парень тот — он тоже здесь,
среди стрелков из «Эдельвейс».
Их надо сбросить с перевала.
Отставить разговоры!
Вперед и вверх, а там…
Ведь это наши горы,
они помогут нам.
Взвод лезет вверх, а у реки —
тот, с кем ходил ты раньше в паре.
Мы ждем атаки до тоски,
а вот альпийские стрелки —
сегодня что-то не в ударе.
Отставить разговоры!
Вперед и вверх, а там…
Ведь это наши горы,
они помогут нам.
Песня о Земле
Кто сказал: «Все сгорело дотла,
Больше в землю не бросите семя…»,
Кто сказал, что Земля умерла?
Нет, она затаилась на время…
Материнства не взять у Земли,
Не отнять, как не вычерпать моря.
Кто поверил, что Землю сожгли?
Нет, она почернела от горя.
Как разрезы, траншеи легли,
И воронки — как раны, зияют.
Обнаженные нервы Земли
Неземное страдание знают.
Она вынесет все, переждет,
Не записывай Землю в калеки.
Кто сказал, что Земля не поет,
Что она замолчала навеки?!
Нет! Звенит она, стоны глуша,
Изо всех своих ран, из отдушин,
Ведь Земля — это наша душа,
Сапогами не вытоптать душу.
Кто сказал, что Земля умерла?
Нет, она затаилась на время…
Он не вернулся из боя
Почему все не так? Вроде — все как всегда:
То же небо — опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода…
Только он не вернулся из боя.
Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас,
Когда он не вернулся из боя.
Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.
То, что пусто теперь, — не про то разговор:
Вдруг заметил я — нас было двое…
Для меня словно ветром задуло костер,
Когда он не вернулся из боя.
Нынче вырвалась, будто из плена, весна.
По ошибке окликнул его я:
«Друг, оставь покурить!» — а в ответ — тишина…
Он вчера не вернулся из боя.
Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие — как часовые…
Отражается небо в лесу, как в воде,—
И деревья стоят голубые.
Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время — текло для обоих…
Все теперь — одному. Только кажется мне,
Это я не вернулся из боя.
Звезды
Мне этот бой не забыть нипочем —
Смертью пропитан воздух,
А с небосклона бесшумным дождем
Падали звезды.
Вон снова упала — и я загадал:
Выйти живым из боя…
Так свою жизнь я поспешно связал
С глупой звездою.
Я уж решил: миновала беда
И удалось отвертеться…
Но с неба свалилась шальная звезда —
Прямо под сердце.
Нам говорили: «Нужна высота!»
И «Не жалеть патроны!»…
Вон покатилась вторая звезда —
Вам на погоны.
Звезд этих в небе, как рыбы в прудах,
Хватит на всех с лихвою.
Если б не насмерть, ходил бы тогда
Тоже — Героем.
Я бы звезду эту сыну отдал,
Просто — на память…
В небе висит, пропадает звезда —
Некуда падать.
«Тот, который не стрелял…»
Я вам мозги не пудрю —
уже не тот завод:
В меня стрелял поутру
из ружей целый взвод.
За что мне эта злая,
нелепая стезя,—
Не то, чтобы не знаю,—
рассказывать нельзя.
Мой командир меня почти что спас,
Но кто-то на расстреле настоял,
И взвод отлично выполнил приказ,
Но был один, который не стрелял.
Судьба моя лихая —
давно наперекос,—
Однажды «языка» я
добыл, да не донес.
И особист Суэтин —
неутомимый наш —
Еще тогда приметил
и взял на карандаш.
Он выволок на свет и приволок
Подколотый, подшитый матерьял.
Никто поделать ничего не смог.
Нет. Смог… один, который не стрелял.
Рука упала в пропасть
с дурацким звяком: «Пли!»
И залп мне выдал пропуск
в ту сторону земли.
Но слышу: — Жив, зараза!
Тащите в медсанбат! —
Расстреливать два раза
уставы не велят.
А врач потом все цокал языком
И, удивляясь, пули удалял,
А я в бреду беседовал тайком
С тем пареньком, который не стрелял.
Я раны, как собака,
лизал, а не лечил.
В госпиталях, однако,
в большом почете был.
Ходил в меня влюбленный
весь слабый женский пол:
— Эй ты, недострелённый!
Давай-ка на укол!
Наш батальон геройствовал в Крыму,
И я туда глюкозу посылал,
Чтоб было слаще воевать ему.
Кому? — Тому, который не стрелял.
Я пил чаек из блюдца,
со спиртиком бывал.
Мне не пришлось загнуться,
и я довоевал.
В свой полк определили:
— Воюй, — сказал комбат,—
А что недострелили,
так я не виноват!
Мне быть бы радым, но, присев у пня,
Я выл белугой и судьбину клял,—
Немецкий снайпер дострелил меня,
Убив того, который не стрелял.
Все ушли на фронт
Нынче все срока закончены,
А у лагерных ворот,
Что крест-накрест заколочены,
Надпись: «Все ушли на фронт».
За грехи за наши нас простят,—
Ведь у нас такой народ:
Если Родина в опасности —
Значит, всем идти на фронт.
Там год — за три, если Бог хранит,—
Как и в лагере зачет.
Нынче мы на равных с ВОХРами,
Нынче всем идти на фронт.
У начальника Березкина —
Ох и гонор, ох и понт!
И душа — крест-накрест досками.
Но и он пошел на фронт.
Лучше б было сразу в тыл его,
Только с нами был он смел.
Высшей мерой наградил его
Трибунал за самострел.
Ну, а мы — все оправдали мы,
Наградили нас потом,
Кто живые — тех медалями,
А кто мертвые — крестом.
И другие заключенные
Прочитают у ворот
Нашу память застекленную —
Надпись: «Все ушли на фронт».
Штрафные батальоны
Всего лишь час дают на артобстрел.
Всего лишь час пехоте передышки.
Всего лишь час до самых важных дел —
Кому до ордена, а кому до «вышки».
За этот час не пишем ни строки.
Молись богам войны — артиллеристам!
Ведь мы ж не просто так, мы — штрафники,
Нам не писать: «Считайте коммунистом».
Перед атакой — водку? Вот мура!
Свое отпили мы еще в гражданку.
Поэтому мы не кричим «ура»,
Со смертью мы играемся в молчанку.
У штрафников один закон, один конец —
Коли-руби фашистского бродягу!
И если не поймаешь в грудь свинец,
Медаль на грудь поймаешь за отвагу.
Ты бей штыком, а лучше бей рукой —
Оно надежней, да оно и тише.
И ежели останешься живой,
Гуляй, рванина, от рубля и выше!
Считает враг — морально мы слабы.
За ними и лес, и города сожжённы.
Вы лучше лес рубите на гробы —
В прорыв идут штрафные батальоны!
Вот шесть ноль-ноль, и вот сейчас — обстрел.
Ну, Бог войны! Давай без передышки!
Всего лишь час до самых главных дел —
Кому до ордена, а большинству до «вышки».
Сыновья уходят в бой
Сегодня не слышно биенье сердец —
оно для аллей и беседок.
Я падаю, грудью хватая свинец,
подумать успев напоследок:
«На этот раз мне не вернуться,
я ухожу — придет другой».
Мы не успели, не успели,
не успели оглянуться,
а сыновья, а сыновья уходят в бой.
Вот кто-то, решив:
«После нас — хоть потоп»,
как в пропасть, шагнул из окопа.
А я для того свой покинул окоп,
чтоб не было вовсе потопа.
Сейчас глаза мои сомкнутся,
я крепко обнимусь с землей.
Мы не успели, не успели
не успели оглянуться,
а сыновья, а сыновья уходят в бой.
Кто сменит меня, кто в атаку пойдет,
кто выйдет к заветному мосту?
И мне захотелось:
пусть будет вон тот,
Одетый во все не по росту.
Я успеваю улыбнуться,
Я видел, кто придет за мной.
Мы не успели, не успели,
не успели оглянуться,
А сыновья, а сыновья уходят в бой.
Разрывы глушили биенье сердец.
Мое же — мне громко стучало,
Что все же конец мой — еще не конец:
Конец — это чье-то начало.
Сейчас глаза мои сомкнутся,
Я крепко обнимусь с землей.
Мы не успели, не успели, не успели оглянуться,
А сыновья, а сыновья уходят в бой.
Мы вращаем Землю
От границы мы Землю вертели назад
(Было дело сначала).
Но обратно ее закрутил наш комбат,
Оттолкнувшись ногой от Урала.
Наконец-то нам дали приказ наступать,
Отбирать наши пяди и крохи,—
Но мы помним, как солнце отправилось вспять
И едва не зашло на Востоке.
Мы не меряем Землю шагами,
Понапрасну цветы теребя,
Мы толкаем ее сапогами —
От себя! От себя.
И от ветра с Востока пригнулись стога,
Жмется к скалам отара.
Ось земную мы сдвинули без рычага,
Изменив направленье удара.
Не пугайтесь, когда не на месте закат,
Судный день — это сказки для старших,
Просто Землю вращают, куда захотят,
Наши сменные роты на марше.
Мы ползем, бугорки обнимаем,
Кочки тискаем — зло, не любя,
И коленями Землю толкаем —
От себя! От себя.
Здесь никто б не нашел, даже если б хотел,
Руки кверху поднявших.
Всем живым ощутимая польза от тел:
Как прикрытье, используем павших.
Этот глупый свинец всех ли сразу найдет;.
Г де настигнет — в упор или с тыла?
Кто-то там впереди навалился на дот,—
И Земля на мгновенье застыла.
Я ступни свои сзади оставил,
Мимоходом по мертвым скорбя.
Шар земной я вращаю локтями —
На себя! На себя!
Кто-то встал в полный рост и, отвесив поклон,
Принял пулю на вдохе.
Но на Запад, на Запад ползет батальон,
Чтобы солнце взошло на Востоке.
Животом по грязи… Дышим смрадом болот…
Но глаза закрываем на запах.
Нынче по небу солнце нормально идет,
Потому что мы рвемся на Запад.
Руки, ноги на месте ли, нет ли,—
Как на свадьбе, росу пригубя,
Землю тянем зубами за стебли —
На себя! На себя!
Белый вальс
Если петь без души — вытекает из уст белый звук.
Если строки ритмичны без рифмы, тогда говорят —
белый стих.
Если все цвета радуги снова сложить — будет свет,
белый свет,
Если все в мире вальсы сольются в один — будет
вальс, белый вальс.
Какой был бал! Накал движенья, звука, нервов,—
Сердца стучали на три счета вместо двух.
К тому же дамы приглашали кавалеров
На белый вальс традиционный, — и захватывало дух.
Ты сам, хотя танцуешь с горем пополам,
Давно решился пригласить ее одну…
Но вечно надо отлучаться по делам,
Спешить на помощь,' собираться на войну.
И вот все ближе, все реальней становясь,
Она, к которой подойти намеревался,
Идет сама, чтоб пригласить тебя на вальс,
И кровь в виски твойстучится в ритме вальса.
Ты внешне спокоен средь шумного бала,
Но тень за тобою тебя выдавала —
Металась, дрожала, ломалась она
в зыбком свете свечей.
И, бережно держа и бережно кружа,
Ты мог бы провести ее по лезвию ножа.
Не стой же ты руки сложа,
Сам не свой и — ничей.
Был белый вальс — конец сомненья маловеров
И завершенье юных снов, забав, утех.
Сегодня дамы приглашают кавалеров
Не потому, не потому, что мало храбрости у тех.
Возведены на время бала в званье дам,
И кружит головы нам вальс, как в старину.
Но вечно надо отлучаться по делам,
Спешить на помощь, собираться на войну.
Белее снега, белый вальс, кружись, кружись,
Чтоб снегопад подольше не прервался.
Она пришла, чтоб пригласить тебя на жизнь,
И ты был бел — бледнее стен, белее вальса.
Где б ни был бал — в Лицее, в Доме офицеров,
В дворцовой зале, в школе — как тебе везло!
В России дамы приглашали кавалеров
Во все века на белый вальс, и было все белым-бело.
Потупя взоры, не смотря по сторонам,
Через отчаянья, молчанье, тишину
Спешили женщины прийти на помощь нам.
Их бальный зал — величиной во всю страну.
Куда б ни бросило тебя, где б ни исчез,
Припомни вальс, как был ты бел — и улыбнешься.
Век будут ждать тебя — и с моря и с небес —
И пригласят на белый вальс, когда вернешься.
Ты внешне спокоен средь шумного бала,
Но тень за тобою тебя выдавала —
Металась, дрожала, ломалась она
в зыбком свете свечей.
И, бережно держа и бешено кружа,
Ты мог бы провести ее по лезвию ножа.
Не стой же ты руки сложа,
Сам не свой и — ничей.
Из дорожного дневника
Ожидание длилось,
а проводы были недолги —
Пожелали друзья:
«В добрый путь! Чтобы — все без помех!»
И четыре страны
предо мной расстелили дороги,
И четыре границы
шлагбаумы подняли вверх.
Тени голых берез
добровольно легли под колеса,
Залоснилось шоссе
и штыком заострилось вдали.
Вечный смертник — комар
разбивался у самого носа,
Лобовое стекло превращая
в картину Дали.
Сколько смелых мазков
на причудливом мертвом покрове,
Сколько серых мозгов
и комарьих раздавленных плевр!
Вот взорвался один,
до отвала напившийся крови,
Ярко-красным пятном
завершая дорожный шедевр.
И сумбурные мысли,
лениво стучавшие в темя,
Устремились в пробой —
ну,
попробуй-ка, останови!
И в машину ко мне
постучало военное время.
Я впустил это время,
замешанное на крови.
И сейчас же в кабину
глаза сквозь бинты заглянули
И спросили: «Куда ты?
На Запад?
Вертайся назад!..»
Я ответить не смог,—
по обшивке царапнули пули.
Я услышал: «Ложись!
Берегись!
Проскочили!
Бомбят!»
Этот первый налет
оказался не так чтобы очень:
Схоронили кого-то,
прикрыв его кипой газет,
Вышли чьи-то фигуры —
назад на шоссе — из обочин,
Как лет тридцать спустя,
на машину мою поглазеть.
И исчезло шоссе —
мой единственный верный фарватер.
Только — елей стволы
без обрубленных минами крон.
Бестелесный поток
обтекал не спеша радиатор.
Я за сутки пути
не продвинулся ни на микрон.
Я уснул за рулем:
я давно разомлел до зевоты.
Ущипнуть себя за ухо
или глаза протереть?
Вдруг в машине моей
я увидел сержанта пехоты:
«Ишь, трофейная пакость,—
сказал он, — удобно сидеть…»
Мы поели с сержантом
домашних котлет и редиски.
Он опять удивился:
откуда такое в войну?
«Я, браток, — говорит,—
восемь дней, как позавтракал в Минске.
Ну, спасибо! Езжай!
Будет время — опять загляну…»
Он ушел на восток
со своим поредевшим отрядом.
Снова мирное время
пробилось ко мне сквозь броню.
Это время глядело
единственной женщиной
рядом.
И она мне сказала:
«Устал! Отдохни — я сменю!»
Все в порядке. На месте.
Мы едем к границе. Нас двое.
Тридцать лет отделяет
от только что виденных встреч.
Вот забегали щетки,
отмыли стекло лобовое.
Мы увидели знаки,
что призваны предостеречь.
Кроме редких ухабов,
ничто на войну не похоже.
Только лес — молодой,
да сквозь снова налипшую грязь
Два огромных штыка
полоснули морозом по коже,
Остриями —
по-мирному —
кверху, а не накренясь.
Здесь, на трассе прямой,
мне, не знавшему пуль,
показалось,
Что и я где-то здесь
довоевывал невдалеке.
Потому для меня
и шоссе, словно штык, заострялось,
И лохмотия свастик
болтались на этом штыке.
О моем старшине
Я помню райвоенкомат.
«В десант не годен — так-то, брат.
Таким, как ты, там невпротык…» И дальше —
смех:
Мол, из тебя какой солдат,
Тебя — хоть сразу в медсанбат!..
А из меня такой солдат, как изо всех.
А на войне — как на войне.
А мне и вовсе, мне — вдвойне.
Прилипла к телу гимнастерка на спине.
Я отставал, сбоил в строю…
Но как-то раз в одном бою,
Не знаю чем — я приглянулся старшине.
…Шумит окопная братва:
«Студент! А сколько дважды два?
Эй, холостой, а правда, графом был Толстой?
И кто евоная жена?..»
Но тут встревал мой старшина:
«Иди поспи, ты ж не святой, а утром — бой».
И только раз, когда я встал
Во весь свой рост, он мне сказал:
«Ложись!..» — и дальше пару слов без падежей.
К чему, мол, дырка в голове?!
И вдруг спросил: «А что, в Москве,—
Неужто вправду есть дома в пять этажей?»
Над нами — шквал! Он застонал —
И в нем осколок остывал,
И на вопрос его ответить я не смог:
Он в землю лег — за пять шагов,
За пять ночей и за пять снов —
Лицом на Запад и ногами на Восток.
Черные бушлаты
Евпаторийскому десанту
За нашей спиною
остались
паденья,
закаты,—
Ну хоть бы ничтожный,
ну хоть бы
невидимый
взлет!
Мне хочется верить,
что черные
наши
бушлаты
Дадут нам возможность
сегодня
увидеть
восход.
Сегодня на людях
сказали:
«Умрите
геройски!»
Попробуем — ладно!
Увидим,
какой
оборот…
Я только подумал,
чужие
куря
папироски:
«Тут — кто как умеет,—
мне важно
увидеть
восход».
Особая рота —
особый
почет для
сапера.
Не прыгайте с финкой
на спину
мою из
ветвей,
Напрасно стараться —
я и
с перерезанным
горлом
Сегодня увижу
восход
до развязки
своей.
Прошли по тылам мы,
держась,
чтоб не резать их,
сонных,
И тут я заметил,
когда
прокусили
проход,—
Еще несмышленый,
зеленый,
но чуткий
подсолнух
Уже повернулся верхушкой своей
на восход.
За нашей спиною
в 6.30
остались,—
я знаю,—
Не только паденья,
закаты,
но взлет
и восход.
Два провода голых,
зубами
скрипя,
зачищаю —
Восхода не видел,
но понял — вот-вот
и взойдет.
Уходит обратно
на нас
поредевшая рота.
Что было — не важно,
а важен
лишь взорванный
форт.
Мне хочется верить,
что грубая
наша
работа
Вам дарит возможность
беспошлинно
видеть
восход.
Высота
Вцепились они в высоту, как в свое.
Огонь минометный, шквальный…
А мы все лезли толпой на нее,
Как на буфет вокзальный.
Ползли к высоте в огневой полосе,
бежали и снова ложились,
Как будто на этой высотке вдруг все
Дороги и судьбы скрестились.
И крики «ура!» застывали во рту,
Когда мы пули глотали.
Семь раз занимали мы ту высоту,
Семь раз мы ее оставляли.
И снова в атаку не хочется всем,
Земля — как горелая каша…
В восьмой раз возьмем мы ее насовсем —
Свое возьмем, кровное, наше.
А может, ее стороной обойти?
И что мы к ней прицепились?!
Но, видно, уж точно — все судьбы-пути
На этой высотке скрестились.
Все наши деревни, леса, города
В одну высоту эту слились —
В одну высоту, на которой тогда
Пути наши, судьбы скрестились.
Вцепились они в высоту, как в свое,
Огнем высоту поливая,
А мы упрямо ползли на нее,
Товарищей оставляя.
Разведка боем
Я стою. Стою спиною к строю.
Только добровольцы — шаг вперед.
Нужно провести разведку боем.
Для чего — да кто ж там разберет…
Кто со мной? С кем идти?
Так, Борисов… Так, Леонов…
И еще этот тип
Из второго батальона!
Мы ползем, к ромашкам припадая.
Ну-ка, старшина, не отставай!
Ведь на фронте два передних края:
Наш, а вот он — их передний край.
Кто со мной? С кем идти?
Так, Борисов… Так, Леонов…
Да!.. Еще этот тип
Из второго батальона!
Проволоку грызли без опаски —
Ночь, темно и не видать ни зги.
В двадцати шагах — чужие каски
(С той же целью — защитить мозги).
Кто со мной? С кем идти?
Здесь Борисов, здесь Леонов.
Ох, еще этот тип
Из второго батальона!
Скоро будет Надя с шоколадом.
В шесть они подавят нас огнем.
Хорошо, нам этого и надо.
С богом, потихонечку начнем.
С кем обратно идти?
Так, Борисов… Где Леонов?!
Эй, ты жив?! Эй ты, тип
Из второго батальона!
Пулю для себя не оставляю.
Дзот накрыт, и рассекречен дот.
Этот тип, которого не знаю,
Очень хорошо себя ведет.
С кем в другой раз ползти?
Где Борисов? Где Леонов?
Правда, жив этот тип
Из второго батальона.
На НП, наверное, в восторге,
Но фуражки сняли из-за нас.
Правильно. Считай, что двое в морге,
Двое остаются про запас.
С кем еще раз ползти?
Где Борисов? Где Леонов?
Рядом лишь этот тип
Из второго батальона.
…Я стою спокойно перед строем.
В этот раз стою к нему лицом.
Кажется, чего-то удостоен,—
Награжден и назван молодцом.
С кем в другой раз идти?!
Где Борисов? Где Леонов?..
И парнишка затих
Из второго батальона.
Песня о госпитале
Жил я с матерью и батей
На Арбате — здесь бы так!
А теперь я в медсанбате —
На кровати, весь в бинтах…
Что нам слава, что нам Клава —
Медсестра — и белый свет!..
Помер мой сосед, что справа,
Тот, что слева, — еще нет.
И однажды, как в угаре,
Тот сосед, что слева, мне
Вдруг сказал: «Послушай, парень,
У тебя ноги-то нет».
Как же так, неправда, братцы,
Он, наверно, пошутил!
«Мы отрежем только пальцы»,—
Так мне доктор говорил.
Но сосед, который слева,
Все смеялся, все шутил.
Даже если ночью бредил —
Все про ногу говорил.
Издевался: мол, не встанешь,
Не увидишь, мол, жены,
Поглядел бы ты, товарищ,
На себя со стороны…
Если б был я не калека
И слезал с кровати вниз,
Я б тому, который слева,
Просто глотку перегрыз!
Умолял сестричку Клаву
Показать, какой я стал…
Был бы жив сосед, что справа,—
Он бы правду мне сказал.
Песня о новом времени
Как призывный набат, прозвучали в ночи
тяжело шаги…
Значит, скоро и нам — уходить и прощаться без слов.
По нехоженым тропам протопали лошади, лошади,
Неизвестно к какому концу унося седоков.
Наше время иное, лихое, но счастье, как встарь, ищи!
И в погоню летим мы за ним, убегающим, вслед.
Только вот в этой скачке теряем мы лучших
товарищей,
На скаку не заметив, что рядом — товарищей нет.
И еще будем долго огни принимать за пожары мы,
Будет долго зловещим казаться нам скрип сапогов,
Про войну будут детские игры с названьями старыми,
И людей будем долго делить на своих и врагов.
А когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется,
И когда наши кони устанут под нами скакать,
И когда наши девушки сменят шинели на платьица,—
Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять…
Аисты
Небо этого дня —
ясное,
Но теперь в нем — броня
лязгает,
А по нашей земле
гул стоит,
И деревья в смоле,—
грустно им.
Дым и пепел встают,
как кресты.
Гнезд по крышам не вьют
аисты.
Колос — в цвет янтаря,
успеем ли?
Нет! Выходит, мы зря
сеяли.
Что ж там, цветом в янтарь,
светится?
Это в поле пожар
мечется.
Разбрелись все от бед
в стороны.
Певчих птиц больше нет —
вороны!
И деревья в пыли —
к осени.
Те, кто песни могли,—
бросили.
И любовь не для нас.
Верно ведь,
Что нужнее сейчас —
ненависть?
Дым и пепел встают,
как кресты.
Гнезд по крышам не вьют
аисты.
Лес шумит, как всегда,—
кронами.
А земля и вода —
стонами.
Но нельзя без чудес —
аукает
Довоенными лес
звуками.
Побрели все от бед
на Восток,
Певчих птиц больше нет,
нет аистов.
Воздух звуки хранит
разные,
Но теперь в нем гремит,
лязгает.
Даже цокот копыт —
топотом,
Если кто закричит —
шепотом.
Побрели все от бед
на Восток,—
И над крышами нет
аистов…
Песня летчика
Их восемь, нас — двое. Расклад перед боем
Не наш, но мы будем играть.
Сережа, держись! Нам не светит с тобою,
Но козыри надо равнять.
Я этот небесный квадрат не покину,
Мне цифры сейчас не важны:
Сегодня мой друг защищает мне спину,
А значит — и шансы равны.
Мне в хвост вышел «мессер», но вот задымил он,
Надсадно завыли винты.
Им даже не надо крестов на могилы,—
Сойдут и на крыльях кресты.
Я — «Первый», я — «Первый», они под тобою,
Я вышел им наперерез…
Сбей пламя, уйди в облака, я прикрою!..
В бою не бывает чудес.
Сергей, ты горишь! Уповай, человече,
Теперь на надежность строп.
Нет, поздно — и мне вышел «мессер» навстречу.
Прощай, я приму его в лоб!..
Я знаю, другие сведут с ними счеты…
Но, по облакам скользя,
Взлетят наши души, как два самолета,—
Ведь им друг без друга нельзя.
Архангел нам скажет: «В раю будет туго».
Но только ворота — шелк,
Мы Бога попросим: «Впишите нас с другом
В какой-нибудь ангельский полк».
И я попрошу Бога, Духа и Сына,
Чтоб выполнил волю мою:
Пусть вечно мой друг защищает мне спину,
Как в этом последнем бою.
Мы крылья и стрелы попросим у Бога,
Ведь нужен им ангел-ас.
А если у них истребителей много —
Пусть пишут в хранители нас.
Хранить — это дело почетное тоже,—
Удачу вести на крыле
Таким, как при жизни мы были с Сережей,—
И в воздухе, и на земле.
Песня самолета-истребителя
Я — «ЯК» — истребитель, мотор мой звенит.
Небо — моя обитель.
Но тот, который во мне сидит,
Считает, что он — истребитель.
В этом бою мною «юнкере» сбит,—
Я сделал с ним, что хотел.
Но тот, который во мне сидит,
Изрядно мне надоел.
Я в прошлом бою навылет прошит,
Меня механик заштопал,—
Но тот, который во мне сидит,
Опять заставляет — в «штопор».
Из бомбардировщика бомба несет
Смерть аэродрому,
А кажется, стабилизатор поет:
«Мир вашему дому!»
Вот сзади заходит ко мне «мессершмитт».
Уйду — я устал от ран.
Но тот, который во мне сидит,
Я вижу, решил — на таран!
Что делает он! Вот сейчас будет взрыв!..
Но мне не сгореть на песке,—
Запреты и скорости все перекрыв,
Я выхожу из пике.
Я — главный. А сзади, ну чтоб я сгорел!
Где же он, мой ведомый?!
Вот он задымился, кивнул и запел:
«Мир вашему дому!»
И тот, который в моем черепке,
Остался один и влип.
Меня в заблужденье он ввел, и в пике —
Прямо из мертвой петли.
Он рвет на себя, и нагрузки вдвойне.
Эх, тоже мне летчик-ас!..
И снова приходится слушаться мне,—
Но это в последний раз.
Я больше не буду покорным, клянусь,
Уж лучше лежать на земле.
Ну, что ж, он не слышит, как бесится пульс:
Бензин — моя кровь — на нуле!
Терпенью машины бывает предел,
И время его истекло.
И тот, который во мне сидел,
Вдруг ткнулся лицом в стекло.
Убит! Наконец-то! Лечу налегке,
Последние силы жгу.
Но… что это, что?! Я в глубоком пике
И выйти никак не могу!
Досадно, что сам я не много успел,
Но пусть повезет другому.
Выходит, и я напоследок спел:
«Мир вашему дому!»
«Я полмира почти через злые бои…»
Я полмира почти через злые бои
Прошагал и прополз с батальоном,
А обратно меня за заслуги мои
Санитарным везли эшелоном.
Подвезли на родимый порог —
На полуторке к самому дому.
Я стоял и немел, а над крышей дымок
Подымался совсем по-другому.
Окна словно боялись в глаза мне взглянуть,
И хозяйка не рада солдату —
Не припала в слезах на могучую грудь,
А руками всплеснула — ив хату.
И залаяли псы на цепях.
Я шагнул в полутемные сени,
За чужое за что-то запнулся в сенях,
Дверь рванул — подкосились колени.
Там сидел за столом, да на месте моем,
Неприветливый новый хозяин.
И фуфайка на нем, и хозяйка при нем,—
Потому я и псами облаян.
Это значит, пока под огнем
Я спешил, ни минуты не весел,
Он все вещи в дому переставил моем
И по-своему все перевесил.
Мы ходили под богом — под богом войны,
Артиллерия нас накрывала.
Но смертельная рана нашла со спины
И изменою в сердце застряла.
Я себя в пояснице согнул,
Силу воли позвал на подмогу:
«Извините, товарищи, что завернул
По ошибке к чужому порогу…»
Дескать, мир да любовь вам, да хлеба на стол,
Чтоб согласье по дому ходило…
Ну а он даже ухом в ответ не повел:
Вроде как и положено было.
Зашатался некрашеный пол,
Я не хлопнул дверьми, как когда-то,—
Только окна раскрылись, когда я ушел,
И взглянули мне вслед виновато…
«Зарыты в нашу память на века…»
Иногда как-то вдруг вспоминается
из войны пара фраз —
например, что сапер ошибается
только раз.
Зарыты в нашу память на века
И даты, и события, и лица,
А память, как колодец, — глубока:
Попробуй заглянуть — наверняка
Лицо — и то — неясно отразится.
Разглядеть, что истинно, что ложно,
Может только беспристрастный суд:
Осторожно с — прошлым, осторожно,—
Не разбейте глиняный сосуд.
Одни его лениво ворошат,
Другие неохотно вспоминают,
А третьи даже помнить не хотят,—
И прошлое лежит, как старый клад,
Который никогда не раскопают.
И поток годов унес с границы
Стрелки — указатели пути,
Очень просто в прошлом заблудиться,—
А назад дороги не найти.
С налета не вини — повремени:
Есть у людей на все свои причины —
Не скрыть, а позабыть хотят они,—
Ведь в толще лет еще лежат в тени
Забытые заржавленные мины.
В минном поле прошлого копаться —
Лучше без ошибок, потому
Что на минном поле ошибаться
Просто абсолютно ни к чему.
Один толчок — и стрелки побегут,—
А нервы у людей не из каната,—
И будет взрыв, и перетрется жгут…
Но, может, мину вовремя найдут
И извлекут до взрыва детонатор!
Спит земля спокойно под цветами,
Но когда находят мины в ней —
Их берут умелыми руками
И взрывают дальше от людей.
Мы вас ждем
Так случилось — мужчины ушли,
Побросали посевы до срока.
Вот их больше не видно из окон,
Растворились в дорожной пыли.
Вытекают из колоса зерна —
Эти слезы несжатых полей,—
И холодные ветры проворно
потекли из щелей…
Мы вас ждем — торопите коней!
В добрый час, в добрый час, в добрый час!..
Пусть попутные ветры не бьют,
а ласкают вам спины…
А потом возвращайтесь скорей:
Ивы плачут по вас,
И без ваших улыбок
бледнеют и сохнут рябины.
Мы в высоких живем теремах —
Входа нет никому в эти зданья:
Одиночество и ожиданье
Вместо вас поселились в домах.
Потеряла и свежесть и прелесть
Белизна ненадетых рубах.
Да и старые песни приелись —
и навязли в зубах.
Все единою болью болит,
И звучит с каждым днем непрестанней
Вековечный надрыв причитаний
Отголоском старинных молитв.
Мы вас встретим и пеших, и конных,
Утомленных, нецелых — любых…
Только б не пустота похоронных,
не предчувствия их!
Мы вас ждем — торопите коней!
В добрый час, в добрый час, в добрый час!..
Пусть попутные ветры не бьют,
а ласкают вам спины…
А потом возвращайтесь скорей,
Ибо плачут по вас,
И без ваших улыбок
бледнеют и сохнут рябины…
Песня о конце войны
Сбивают из досок столы во дворе,
Пока не накрыли — стучат в домино.
Дни в мае длиннее ночей в декабре,
И тянется время — но все решено.
Уже довоенные лампы горят вполнакала,
Из окон на пленных глазела Москва свысока…
А где-то солдатиков в сердце осколком толкало,
А где-то разведчикам надо добыть «языка».
Вот уже обновляют знамена и строят в колонны.
И булыжник на площади чист, как паркет на полу…
А все же на запад идут, и идут, и идут батальоны,
И над похоронкой заходятся бабы в тылу.
Не выпито всласть родниковой воды,
Не куплено впрок обручальных колец —
Все смыло потоком великой беды,
Которой приходит конец наконец!
Со стекол содрали кресты из полосок бумаги,
И шторы — долой! Затемненье уже ни к чему…
А где-нибудь спирт раздают перед боем из фляги,
Он все выгоняет — и холод, и страх, и чуму.
Вот уже очищают от копоти свечек иконы,
И душа и уста — и молитвы творят, и стихи-
Но с красным крестом все идут, и идут,
и идут эшелоны,
А вроде по сводкам потери не так велики.
Уже зацветают повсюду сады.
И землю прогрело, и воду во рвах.
И скоро награда за ратны труды —
Подушка из свежей травы в головах.
Уже не маячат над городом аэростаты.
Замолкли сирены, готовясь победу трубить…
Но ротные все-таки выйти успеют в комбаты,
Которого все еще запросто могут убить.
Вот уже зазвучали трофейные аккордеоны,
Вот и клятвы слышны — жить в согласье, любви,
без долгов…
А все же на запад идут, и идут, и идут эшелоны,
А нам показалось — почти не осталось врагов.
К вершине
Памяти М. Хергиани
Ты идешь по кромке ледника,
Взгляд не отрывая от вершины.
Горы спят, вдыхая облака,
Выдыхая снежные лавины.
Но они с тебя не сводят глаз,
Будто бы тебе покой обещан,
Предостерегая всякий раз
Камнепадом и оскалом трещин.
Г оры знают, к ним пришла беда:
Дымом затянуло перевалы.
Ты не отличал еще тогда
От разрывов горные обвалы.
Если ты о помощи просил —
Громким эхом отзывались скалы,
Ветер по ущельям разносил
Эхо гор, как радиосигналы.
И когда шел бой за перевал,
Чтобы не был ты врагом замечен,—
Каждый камень грудью прикрывал,
Скалы сами подставляли плечи.
Ложь, что умный в горы не пойдет!
Ты пошел — ты не поверил слухам!
И мягчал гранит, и таял лед,
И туман у ног стелился пухом…
Если в вечный снег навеки ты
Ляжешь — над тобою, как над близким,
Наклонятся горные хребты
Самым прочным в мире обелиском.
Горная лирическая
Ну вот, исчезла дрожь в руках,
Теперь — наверх!
Ну вот, сорвался в пропасть страх
Навек, навек.
Для остановки нет причин —
Иду, скользя…
И в мире нет таких вершин,
Что взять нельзя!
Среди нехоженых путей
Один путь — мой!
Среди невзятых рубежей
Один — за мной!
А имена тех, кто здесь лег,
Снега таят…
Среди непройденных дорог
Одна — моя!
Здесь голубым сияньем льдов
Весь склон облит,
И тайну чьих-нибудь следов
Гранит хранит…
А я гляжу в свою мечту —
Поверх голов,
И свято верю в чистоту —
Снегов и слов!
И пусть пройдет немалый срок —
Мне не забыть,
Что здесь сомнения я смог
В себе убить.
В тот день шептала мне вода:
«Удач — всегда!..»
А день, какой был день тогда?
Ах да, — среда!..
Вершина
Здесь вам не равнина, здесь климат иной —
Идут лавины одна за одной,
И здесь за камнепадом ревет камнепад.
И можно свернуть, обрыв обогнуть,—
Но мы выбираем трудный путь,
Опасный, как военная тропа.
Кто здесь не бывал, кто не рисковал —
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звезды хватал с небес.
Внизу не встретишь, как ни тянись,
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес.
Нет алых роз и траурных лент,
И не похож на монумент
Тот камень, что покой тебе подарил.
Как Вечным огнем, сверкает днем
Вершина изумрудным льдом,
Которую ты так и не покорил.
И пусть говорят, да, пусть говорят,
Но — нет, никто не гибнет зря!
Так лучше — чем от водки и от простуд.
Другие придут, сменив уют
На риск и непомерный труд,—
Пройдут тобой не пройденный маршрут.
Отвесные стены… А ну — не зевай!
Ты здесь на везение не уповай,—
В горах не надежны ни камень, ни лед, ни скала.
Надеемся только на крепость рук,
На руки друга и вбитый крюк
И молимся, чтобы страховка не подвела.
Мы рубим ступени… Ни шагу назад!
И от напряженья колени дрожат
И сердце готово к вершине бежать из груди.
Весь мир на ладони — ты счастлив и нем!
И только немного завидуешь тем —
Другим, у которых вершина еще впереди.
Прощание с горами
В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться!
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце.
Так оставьте ненужные споры —
Я себе уже все доказал:
Лучше гор могут быть только горы —
На которых еще не бывал.
Кто захочет в беде оставаться один,
Кто захочет уйти, зову сердца не внемля?!
Но спускаемся мы с покоренных вершин…
Что же делать — и боги спускались на землю.
Так оставьте ненужные споры —
Я себе уже все доказал:
Лучше гор могут быть только горы —
На которых еще не бывал.
Сколько слов и надежд, сколько песен и тем
Горы будят у нас — и зовут нас остаться.
Но спускаемся мы — кто на год, кто совсем,
Потому что всегда мы должны возвращаться.
Так оставьте ненужные споры —
Я себе уже все доказал:
Лучше гор могут быть только горы —
На которых никто не бывал!
«Заказана погода нам удачею самой…»
Заказана погода нам удачею самой,
Довольно футов нам под киль обещано,
И небо поделилось с океаном синевой —
Две синевы у горизонта скрещены.
Не правда ли, морской хмельной невиданный
простор
Сродни горам в безумье, буйстве, кротости;
Седые гривы волн чисты, как снег на пиках гор,
И впадины меж ними — словно пропасти…
Служение стихиям не терпит суеты.
К двум полюсам ведет меридиан.
Благословенны вечные хребты!
Благословен Великий океан!
Нам сам Великий Случай — брат, Везение —
сестра,
Хотя — на всякий случай — мы встревожены.
На суше пожелали нам «ни пуха ни пера»,
Созвездья к нам прекрасно расположены.
Мы все — впередсмотрящие, все начали с азов,
И если у кого-то невезение —
Меняем курс, идем на «SOS» как там,
в горах, — на зов,
На помощь, прерывая восхождение.
Служение стихиям не терпит суеты.
К двум полюсам ведет меридиан.
Благословенны вечные хребты!
Благословен Великий океан!
Потери подсчитаем мы, когда пройдет гроза,
Не сединой, а солью убеленные,
Скупая океанская огромная слеза
Умоет наши лица просветленные.
Взята вершина, клотики вонзились в небеса.
С небес на землю — только на мгновение.
Едва закончив рейс, мы поднимаем паруса —
И снова начинаем восхождение.
Служение стихиям не терпит суеты.
К двум полюсам ведет меридиан.
Благословенны вечные хребты!
Благословен Великий океан!
«Мы говорим не «штормы», а «шторма»…»
Мы говорим не «штормы», а «шторма»,—
Слова выходят коротки и смачны.
«Ветра» — а не «ветры» — сводят нас с ума,
Из палуб выкорчевывая мачты.
Мы на приметы наложили вето,
Мы чтим чутье компасов и носов.
Упругие тугие мышцы ветра
Натягивают кожу парусов.
На чаше звездных подлинных Весов
Седой Нептун судьбу решает нашу.
И стая псов, голодных Гончих Псов,
Надсадно воя, гонит нас на Чашу.
Мы — призрак легендарного корвета,
Качаемся в созвездии Весов.
И словно заострились струи ветра
И вспарывают кожу парусов.
По курсу — тень другого корабля.
Он шел, и в штормы хода не снижая.
Глядите: вон болтается петля
На рее, по повешенным скучая.
С ним провиденье поступило круто:
Лишь вечный штиль — и прерван ход часов,
Попутный ветер, словно бес, попутал —
Он больше не находит парусов.
Нам кажется, мы слышим чей-то зов —
Таинственные четкие сигналы…
Не жажда славы, гонок и призов
Бросает нас на гребни и на скалы.
Изведать то, чего не ведал сроду,—
Глазами, ртом и кожей пить простор!..
Кто в океане видит только воду,
Тот на земле не замечает гор.
Пой, ураган, нам злые песни в уши,
Под череп проникай и в мысли лезь,
Лей звездный дождь, вселяя в наши души
Землей и морем вечную болезнь.
Пиратская
На судне бунт. Над нами чайки реют.
Вчера — из-за дублонов золотых —
Двух негодяев вздернули на рею.
Но мало — нужно было четверых!
Ловите ветер всеми парусами!
К чему гадать?! Любой корабль — враг.
Удача — миф. Но эту веру сами
Мы создали, поднявши черный флаг!
Катился ком по кораблю от бака,
Забыто все — и честь, и кутежи.
И, подвывая (может быть, от страха),
Они достали длинные ножи.
Вот двое в капитана пальцем тычут —
Достать его! — и им не страшен черт!
Но капитан вчерашнюю добычу
При всей команде выбросил за борт.
И вот волна, подобная надгробью,
Все смыла, с горла сброшена рука!
Бросайте ж за борт все, что пахнет кровью,
И верьте, что цена невысока!
Ловите ветер всеми парусами!
К чему гадать?! Любой корабль — враг.
Удача — здесь! И эту веру сами
Мы создали, поднявши черный флаг!
«Упрямо я стремлюсь ко дну…»
Упрямо я стремлюсь ко дну:
Дыханье рвется, давит уши…
Зачем иду на глубину —
Чем плохо было мне на суше?
Там, на земле, — и стол, и дом.
Там — я и пел, и надрывался…
Я плавал все же — хоть с трудом,
Но на поверхности держался.
Линяют страсти под луной
В обыденной воздушной жиже,
А я вплываю в мир иной:
Тем невозвратнее — чем ниже.
Дышу я непривычно — ртом.
Среда бурлит — плевать на среду!
Я погружаюсь, и притом —
Быстрее, в пику Архимеду.
Я потерял ориентир —
Но вспомнил сказки, сны и мифы:
Я открываю новый мир,
Пройдя коралловые рифы.
Коралловые города…
В них многорыбно, но — не шумно:
Нема подводная среда,
И многоцветна, и разумна.
Где ты, чудовищная мгла,
Которой матери стращают?
Светло — хотя ни факела,
Ни солнца мглу не освещают!
Все гениальное и не-
допонятое — всплеск и шалость.
Спаслось и скрылось в глубине —
Все, что гналось и запрещалось.
Дай Бог, я все же дотону,
Не дам им долго залежаться!
И я вгребаюсь в глубину,
И — все труднее погружаться.
Под черепом — могильный звон,
Давленье мне хребет ломает,
Вода выталкивает вон,
И — глубина не принимает.
Я снял с острогой карабин,
Но камень взял (не обессудьте),
Чтобы добраться до глубин,
До тех пластов — до самой сути.
Я бросил нож — не нужен он:
Там нет врагов, там все мы — люди,
Там каждый, кто вооружен,—
Нелеп и глуп, как вошь на блюде.
Сравнюсь с тобой, подводный гриб,
забудем и чины, и ранги.
Мы снова превратились в рыб,
И наши жабры — акваланги.
Нептун — ныряльщик с бородой,
Ответь и облегчи мне душу:
Зачем простились мы с водой,
Предпочитая влаге — сушу?
Меня сомненья — черт возьми! —
Давно буравами сверлили:
Зачем мы сделались людьми?
Зачем потом заговорили?
Зачем, живя на четырех,
Мы встали, распрямивши спины?
Затем — и это видит Бог,—
Чтоб взять каменья и дубины!
Мы умудрились много знать,
Повсюду мест наделать лобных,
И предавать, и распинать,
И брать на крюк себе подобных!
И я намеренно тону,
Ору: «Спасите наши души!»
И если я не дотяну,—
Друзья мои, бегите с суши!
Назад — не к горю и беде,
Назад и вглубь — но не ко гробу,
Назад — к прибежищу, к воде,
Назад — в извечную утробу!
Похлопал по плечу трепанг,
Признав во мне свою породу,
Ия — выплевываю шланг
И в легкие пускаю воду!..
Сомкните стройные ряды,
Покрепче закупорьте уши:
Ушел один — в том нет беды,
Но я приду по ваши души!
Баллада о брошенном корабле
Капитана в тот день называли на «ты»,
Шкипер с юнгой сравнялись в талантах;
Распрямляя хребты и срывая бинты,
Бесновались матросы на вантах.
Двери наших мозгов посрывало с петель
В миражи берегов, в покрывала земель,
Этих обетованных, желанных —
И колумбовых, и магелланных.
Только мне берегов не видать и земель —
С ходу в девять узлов сел по горло на мель,—
А у всех молодцов — благородная цель…
И в конце-то концов — я ведь сам сел на мель.
И ушли корабли — мои братья, мой флот,—
Кто чувствительней — брызги сглотнули.
Без меня продолжался великий поход,
На меня ж парусами махнули.
И погоду, и случай безбожно кляня,
Мои пасынки кучей бросали меня.
Вот со шлюпок два залпа — и ладно! —
От Колумба и от Магеллана.
Я пью пену — волна не доходит до рта,
И от палуб до дна обнажились борта,
А бока мои грязны — таи не таи,—
Так любуйтесь на язвы и раны мои.
Вот дыра у реора — это след от ядра,
Вот рубцы от тарана, и даже
Видно шрамы от крючьев — какой-то пират
Мне хребет перебил в абордаже.
Киль — как старый неровный гитаровый
гриф:
Это брюхо вспорол мне коралловый риф.
Задыхаюсь, гнию — так бывает:
И просоленное загнивает.
Ветры кровь мою пьют и сквозь щели снуют
Прямо с бака на ют, — меня ветры добьют.
Я под ними стою от утра до утра,—
Гвозди в душу мою забивают ветра.
И гулякой шальным все швыряют вверх дном
Эти ветры — незваные гости.
Захлебнуться бы им в моих трюмах вином
Или — с мели сорвать меня в злости!
Я уверовал в это, как загнанный зверь,
Но не злобные ветры нужны мне теперь.
Мои мачты — как дряблые руки,
Паруса — словно груди старухи.
Будет чудо восьмое — и добрый прибой
Мое тело омоет живою водой,
Моря божья роса с меня снимет табу,—
Вздует мне паруса, будто жилы на лбу.
Догоню я своих, догоню и прощу
Позабывшую помнить армаду.
И команду свою я обратно пущу:
Я ведь зла не держу на команду.
Только, кажется, нет больше места в строю.
Плохо шутишь, корвет, потеснись, — раскрою!
Как же так — я ваш брат, я ушел от беды…
Полевее, фрегат, всем нам хватит воды!
До чего ж вы дошли: значит, что — мне уйти?!
Если был на мели — дальше нету пути?!
Разомкните ряды, все же мы — корабли,—
Всем нам хватит воды, всем нам хватит земли,
Этой обетованной, желанной —
И колумбовой, и магелланной.
Цунами
Пословица звучит витиевато:
Не восхищайся прошлогодним небом,
Не возвращайся — где был рай когда-то,
И брось дурить — иди туда, где не был.
Там что творит одна природа с нами!
Туда добраться трудно и молве.
Там каждый встречный — что ему цунами! —
Со штормами в душе и в голове.
Покой здесь, правда, ни за что не купишь,—
Но ты вернешься, говорят ребята,
Наперекор пословице поступишь —
Придешь туда, где встретил их когда-то.
Здесь что творит одна природа с нами!
Сюда добраться трудно и молве.
Здесь иногда рождаются цунами
И рушат все в душе и в голове.
На море штиль, но в мире нет покоя —
Локатор ищет цель за облаками.
Тревога — если что-нибудь такое,—
Или сигнал: внимание — цунами!
Я нынче поднимаю тост с друзьями!
Цунами — равнодушная волна.
Бывают беды пострашней цунами
И — радости сильнее, чем она.
Свой остров
Отплываем в теплый край
навсегда.
Наше плаванье, считай,—
на года.
Ставь фортуны колесо
поперек,
Мы про штормы знаем все
наперед.
Поскорей на мачту лезь,
старик! —
Встал вопрос с землей остро,—
Может быть, увидишь материк,
Ну а, может быть,—
остров.
У кого-нибудь расчет
под рукой,
Этот кто-нибудь плывет
на покой.
Ну а прочие, в чем мать родила,
Не на отдых, а опять —
на дела.
Ты судьбу в монахини постриг,
Смейся ей в лицо
просто.
У кого —
свой личный материк,
Ну а у кого — остров.
Мне накаркали беду
с дамой пик,
Нагадали, что найду
материк.
Нет, гадалка, ты опять
неправа —
Мне понравилось искать
острова.
Вот и берег призрачно возник,
Не спеши — считай до ста.
Что это, тот самый материк
Или это мой остров?..
«Этот день будет первым всегда и везде …»
Этот день будет первым всегда и везде —
Пробил час, долгожданный серебряный час:
Мы ушли по весенней высокой воде,
Обещанием помнить и ждать заручась.
По горячим следам мореходов живых и экранных,
Что пробили нам курс через рифы, туманы и льды,
Мы под парусом белым идем с океаном на равных
Лишь в упряжке ветров — не терзая винтами воды.
Впереди чудеса неземные,
А земле, чтобы ждать веселей,
Будем честно мы слать позывные —
Эту вечную дань кораблей.
Говорят, будто парусу реквием спет,
Черный бриг за пиратство в музей заточен,
Бросил якорь в историю стройный корвет,
Многотрубные увальни вышли в почет.
Но весь род моряков — сколько есть — до седьмого
колена
Будет помнить о тех, кто ходил на накале страстей.
И текла за кормой добела раскаленная пена,
И щадила судьба непутевых своих сыновей.
Впереди чудеса неземные,
А земле, чтобы ждать веселей,
Будем честно мы слать позывные —
Эту вечную дань кораблей.
Материк безымянный не встретим вдали,
Островам не присвоим названий своих —
Все открытые земли давно нарекли
Именами великих людей и святых.
Расхватали открытья — мы ложных иллюзий
не строим,—
Но стекает вода с якорей, как живая вода.
Повезет — и тогда мы в себе эти земли откроем,—
И на берег сойдем — и останемся там навсегда.
Не смыкайте же век, рулевые,—
Вдруг расщедрится серая мгла —
На «Летучем голландце» впервые
Запалят ради нас факела!
Впереди чудеса неземные,
А земле, чтобы ждать веселей,
Будем честно мы слать позывные —
Эту вечную дань кораблей.
Марш аквалангистов
Нас тянет на дно, как балласты.
Мы цепки, легки, как фаланги,
А ноги закованы в ласты,
А наши тела — в акваланги.
В пучину не просто полезли,
Сжимаем до судорог скулы,
Боимся кессонной болезни
И, может, немного — акулы.
Замучила жажда — воды бы!
Красиво здесь — все это сказки,—
Здесь лишь пучеглазые рыбы
Глядят удивленно нам в маски.
Понять ли лежащим в постели,
Изведать ли ищущим брода,—
Нам нужно добраться до цели,
Где третий наш без кислорода.
Мы плачем — пускай мы мужчины,—
Застрял он в пещере кораллов,—
Как истинный рыцарь пучины,
Он умер с открытым забралом.
Пусть рок оказался живучей,—
Он сделал, что мог и что должен.
Победу отпраздновал случай,—
Ну что же, мы завтра продолжим!
Беспокойство
А у дельфина взрезано брюхо винтом,
Выстрела в спину не ожидает никто.
На батарее нету снарядов уже,
Надо быстрее на вираже.
Парус! Порвали парус!
Каюсь! Каюсь, каюсь!
Даже в дозоре можешь не встретить врага.
Это не горе — если болит нога.
Петли дверные многим скрипят, многим поют.
Кто вы такие — вас здесь не ждут!
Парус! Порвали парус!
Каюсь! Каюсь, каюсь!
Многие лета всем, кто поет во сне.
Все части света могут лежать на дне.
Все континенты могут гореть в огне.
Только все это не по мне.
Парус! Порвали парус!
Каюсь! Каюсь, каюсь!
«Если я богат, как царь морской…»
Марине
Если я богат, как царь морской,
Крикни только мне: «Лови блесну!»
Мир подводный и надводный свой,
Не задумываясь, выплесну.
Дом хрустальный на горе для нее.
Сам, как пес бы, так и рос в цепи.
Родники мои серебряные,
Золотые мои россыпи!
Если беден я, как пес, один,
И в дому моем шаром кати —
Ведь поможешь Ты мне, Господи,
Не позволишь жизнь скомкати.
Дом хрустальный на горе для нее.
Сам, как пес бы, так и рос в цепи.
Родники мои серебряные,
Золотые мои россыпи.
Не сравнил бы я любую с тобой,
Хоть казни меня, расстреливай.
Посмотри, как я любуюсь тобой,—
Как Мадонной Рафаэлевой!
Дом хрустальный на горе для нее.
Сам, как пес бы, так и рос в цепи.
Родники мои серебряные,
Золотые мои россыпи!
Я из дела ушел
Я из дела ушел, из такого хорошего дела,
Ничего не унес — отвалился в чем мать родила,—
Не затем, что приспичило мне, — просто
время приспело,
Из-за синей горы понагнало другие дела;
Мы многое из книжек узнаем,
А истины передают изустно:
«Пророков нет в отечестве своем»,—
Но и в других отечествах — не густо.
Растащили меня, но я счастлив, что львиную долю
Получили лишь те, кому я б ее отдал и так.
Я по скользкому полу иду, каблуки канифолю,
Подымаюсь по лестнице и прохожу на чердак.
Пророков нет — не сыщешь днем с огнем,—
Ушли и Магомет, и Заратустра.
Пророков нет в отечестве своем,—
Но и в других отечествах — не густо.
А внизу говорят — от добра ли, от зла ли, не знаю:
«Хорошо, что ушел, — без него стало дело верней!»
Паутину в углу с образов я ногтями сдираю,
Тороплюсь — потому что за домом седлают коней.
Открылся лик — я встал к нему лицом,
И он поведал мне светло и грустно:
«Пророков нет в отечестве своем,—
Но и в других отечествах — не густо».
Я влетаю в седло, я врастаю в коня — тело в тело,—
Конь падёт подо мной, я уже закусил удила.
Я из дела ушел, из такого хорошего дела:
Из-за синей горы понагнало другие дела.
Скачу — хрустят колосья под конем,
Но ясно различаю из-за хруста:
«Пророков нет в отечестве своем,—
Но и в других отечествах — не густо».
Памятник
Я при жизни был рослым и стройным,
Не боялся ни слова, ни пули
И в привычные рамки не лез,—
Но с тех пор, как считаюсь покойным,
Охромили меня и согнули,
К пьедесталу прибив ахиллес.
Не стряхнуть мне гранитного мяса
И не вытащить из постамента
Ахиллесову эту пяту.
И железные ребра каркаса
Мертво схвачены слоем цемента,—
Только судороги по хребту.
Я хвалился косою саженью —
Нате смерьте!
Я не знал, что подвергнусь суженью
После смерти,—
Но в привычные рамки я всажен —
На спор вбили,
А косую неровную сажень —
Распрямили.
И с меня, когда взял я да умер,
Живо маску посмертную сняли
Расторопные члены семьи.
И не знаю, кто их надоумил,—
Только с гипса вчистую стесали
Азиатские скулы мои.
Мне такое не мнилось, не снилось,
И считал я, что мне не грозило
Оказаться всех мертвых мертвей,—
Но поверхность на слепке лоснилась,
И могильною скукой сквозило
Из беззубой улыбки моей.
Я при жизни не клал тем, кто хищный,
В пасти палец,
Подходившие с меркой обычной —
Отступались, —
Но по снятии маски посмертной —
Тут же в ванной —
Гробовщик подошел ко мне с меркой
Деревянной.
А потом, по прошествии года —
Как венец моего исправленья,—
Крепко сбитый литой монумент
При огромном скопленье народа
Открывали под бодрое пенье,—
Под мое — с намагниченных лент.
Тишина надо мной раскололась —
Из динамиков хлынули звуки,
С крыш ударил направленный свет,—
Мой отчаяньем сорванный голос
Современные средства науки
Превратили в приятный фальцет.
Я немел, в покрывало упрятан,—
Все там будем!
Я орал в то же время кастратом
В уши людям.
Саван сдернули — как я обужен,—
Нате, смерьте! —
Неужели такой я вам нужен
После смерти!
Командора шаги злы и гулки.
Я решил: как во времени оном,—
Не пройтись ли, по плитам звеня? —
И шарахнулись толпы в проулки,
Когда вырвал я ногу со стоном
И осыпались камни с меня.
Накренился я — гол, безобразен —
Но, и падая, вылез из кожи,
Дотянулся железной клюкой,—
И когда уже грохнулся наземь,
Из разодранных рупоров все же
Прохрипел я похоже: «Живой!»
И паденье меня и согнуло,
И сломало,—
Но торчат мои острые скулы
Из металла.
Не сумел я, как было угодно,—
Шито-крыто,—
Я, напротив, ушел всенародно —
Из гранита!
«О вкусах не спорят…»
О вкусах не спорят — есть тысяча мнений,
Я этот закон на себе испытал.
Ведь даже Эйнштейн — физический гений —
Весьма относительно все понимал.
Оделся по моде, как требует век,—
Вы скажете сами:
«Да это же просто другой человек!»
А я — тот же самый.
Вот уж действительно —
Все относительно!
Все-все, все!
Набедренный пояс из шкуры пантеры.
О да, неприлично, согласен, ей-ей!
Но так одевались все до нашей эры,
А до нашей эры им было видней.
Оделся по моде, как в каменный век,—
Вы скажете сами:
«Да это же просто другой человек!»
А я — тот же самый.
Вот уж действительно —
Все относительно!
Все-все, все!
Оденусь, как рыцарь я после турнира,—
Знакомые вряд ли узнают меня.
И крикну, как Ричард я в драме Шекспира:
«Коня мне! Полцарства даю за коня!»
Но вот усмехнется и скажет сквозь смех
Ценитель упрямый:
«Да это же просто другой человек!»
А я — тот же самый.
Вот уж действительно —
Все относительно!
Все-все, все!
Вот трость, канотье — я из нэпа, похоже?
Не надо оваций, к чему лишний шум?
Ах, в этом костюме узнали — ну что же,
Тогда я надену последний костюм.
Долой канотье, вместо тросточки стек,—
И шепчутся дамы:
«Да это же просто другой человек!»
А я — тот же самый.
Будьте же бдительны —
Все относительно!
Все-все, все!
Москва — Одесса
В который раз лечу Москва — Одесса…
Опять не выпускают самолет.
А вот прошла вся в синем стюардесса,
как принцесса,
Надежная, как весь гражданский флот.
Над Мурманском ни туч, ни облаков,
И хоть сейчас лети до Ашхабада.
Открыты Киев, Харьков, Кишинев,
И Львов открыт — но мне туда не надо.
Сказали мне: «Сегодня не надейся,
Не стоит уповать на небеса».
И вот опять дают задержку рейса на Одессу,
Теперь — обледенела полоса.
А в Ленинграде — с крыши потекло!
И что мне не лететь до Ленинграда?!
В Тбилиси — там все ясно, там тепло,
Там чай растет, но мне туда не надо.
Я слышу: «Ростовчане вылетают!»
А мне в Одессу надо позарез,
Но надо мне туда, куда меня не принимают,—
И потому откладывают рейс.
Мне надо, где сугробы намело,
Где завтра ожидают снегопада!
А где-нибудь все ясно и светло,
Там хорошо, но мне туда не надо.
Отсюда не пускают, а туда не принимают,—
Несправедливо, муторно, но вот
Нас на посадку скучно стюардесса приглашает,
Похожая на весь гражданский флот.
Открыли самый дальний закуток,
В который не заманят и награды!
Открыт закрытый порт Владивосток,
Париж открыт — но мне туда не надо.
Взлетим мы, распогодится —
теперь запреты снимут.
Напрягся лайнер, слышен визг турбин…
Но я уже не верю ни во что, меня не примут —
У них найдется множество причин.
Мне надо, где метели и туман,
Где завтра ожидают снегопада!..
Открыты Лондон, Дели, Магадан,
Открыто все — но мне туда не надо.
Я прав: хоть плачь, хоть смейся,
Но опять задержка рейса —
И нас обратно к прошлому ведет
Вся стройная, как «ТУ»,
Та стюардесса мисс Одесса,
Доступная, как весь гражданский флот.
Опять дают задержку до восьми —
И граждане покорно засыпают.
Мне это надоело, черт возьми,
И я лечу туда, где принимают!..
«Я все вопросы освещу сполна…»
Я все вопросы освещу сполна,
Дам любопытству удовлетворенье.
Да! У меня француженка жена,—
Но русского она происхожденья!
Нет! У меня сейчас любовниц нет.
А будут ли? Пока что не намерен.
Не пью примерно около двух лет.
Запью ли вновь? Не знаю, не уверен.
Да нет! Живу не возле «Сокола»…
В Париж пока что не проник…
Да что вы все вокруг да около —
Да спрашивайте напрямик!
Я все вопросы освещу сполна —
Как на духу попу в исповедальне!
В блокноты ваши капает слюна —
Вопросы будут, видимо, о спальне…
Да, так и есть! Вот густо покраснел
Интервьюер: «Вы изменяли женам?»
Как будто за портьеру подсмотрел
Иль под кровать залег с магнитофоном.
Теперь я к основному перейду.
Один, стоявший скромно в уголочке,
Спросил: «А что имели вы в виду
В такой-то песне и в такой-то строчке?»
Ответ: «Во мне Эзоп не воскресал.
В кармане фиги нет — не суетитесь!
А что имел в виду — то написал:
Вот, вывернул карманы — убедитесь!»
«Я еще не в угаре…»
Я еще не в угаре,
не втиснулся в роль.
Как узнаешь в ангаре,
кто — раб, кто — король,
Кто сильней, кто слабей,
кто плохой, кто хороший,
Кто кого допечет,
допытает, дожмет:
Летуна самолет
или наоборот? —
На земле притворилась машина святошей.
Завтра я испытаю
судьбу, а пока —
Я машине ласкаю
крутые бока.
На земле мы равны, но равны ли в полете?
Под рукою, не скрою,
ко мне холодок,
Я иллюзий не строю —
я старый ездок:
Самолет — необъезженный дьявол во плоти.
Знаю, силы мне утро утроит,
Ну а конь мой — хорош и сейчас.
Вот решает он: стоит — не стоит
Из-под палки работать на нас.
Ты же мне с чертежей,
как с пеленок, знаком,
Ты не знал виражей —
шел и шел прямиком,
Плыл под грифом «Секретно» по волнам науки.
Генеральный конструктор
тебе потакал,—
И отбился от рук ты —
в КБ, в ОТК,
Но сегодня попал к испытателю в руки.
Здесь возьмутся покруче,—
придется теперь
Расплатиться, и лучше —
без лишних потерь:
В нашем деле потери не очень приятны.
Ты свое отгулял
до последней черты,
Но и я попетлял
на таких вот, как ты,—
Так что грех нам обоим идти на попятный.
Иногда недоверие точит:
Вдруг не все мне машина отдаст,
Вдруг она засбоит, не захочет
Из-под палки работать на нас!
…Мы взлетали, как утки
с раскисших полей:
Двадцать вылетов в сутки —
куда веселей!
Мы смеялись, с парилкой туман перепутав.
И в простор набивались
мы до тесноты,—
Облака надрывались,
рвались в лоскуты,
Пули шили из них купола парашютов.
Возвращались тайком —
без приборов, впотьмах,
И с радистом-стрелком,
что повис на ремнях.
В фюзеляже пробоины, в плоскости — дырки.
И по коже — озноб,
и заклинен штурвал,—
И дрожал он, и дробь
по рукам отбивал,—
Как во время опасного номера в цирке.
До сих пор это нервы щекочет,—
Но садились мы, набок кренясь.
Нам казалось — машина не хочет
И не может работать на нас.
Завтра мне и машине
в одну дуть дуду
В аварийном режиме
у всех на виду.
Ты мне нож напоследок не всаживай в шею!
Будет взлет — будет пища:
придется вдвоем
Нам садиться, дружище,
на аэродром,—
Потому что я бросить тебя не посмею.
Правда, шит я не лыком
и чую чутьем
В однокрылом двуликом
партнере моем
Игрока, что пока все намеренья прячет.
Но плевать я хотел
на обузу примет:
У него есть предел —
у меня его нет,—
Поглядим, кто из нас запоет, кто заплачет.
Если будет полет этот прожит —
Нас обоих не спишут в запас.
Кто сказал, что машина не может
И не хочет работать на нас?!
Песня о двух красивых автомобилях
Без запретов и следов,
Об асфальт сжигая шины,
Из кошмара городов
Рвутся за город машины,—
И громоздкие, как танки,
«Форды», «линкольны», «селены»,
Элегантные «мустанги»,
«Мерседесы», «ситроены».
Будто знают — игра стоит свеч.
Это будет — как кровная месть городам!
Поскорей — только б свечи не сжечь,
Карбюратор — и что у них есть еще там…
И не видно полотна —
Лимузины, лимузины…
Среди них, как два пятна,
Две красивые машины,—
Будто связанные тросом
(А где тонко, там и рвется).
Аксельраторам, подсосам
Больше дела не найдется.
Будто знают — игра стоит свеч.
Только б вырваться — выплатят все по счетам.
Ну а, может, он скажет ей речь
На клаксоне… и что у них есть еще там…
Это скопище машин
На тебя таит обиду,—
Светло-серый лимузин,
Не теряй ее из виду!
Впереди, гляди, разъезд,—
Больше риска, больше веры!
Опоздаешь! Так и есть —
Ты промедлил, светло-серый!
Они знали — игра стоит свеч.
А теперь — что ж сигналить
рекламным щитам?!
Ну а, может, гора ему с плеч,—
Иль с капота — и что у них есть еще там…
Нет, развилка — как беда.
Стрелки врозь — и вот не здесь ты!
Неужели никогда
Не сближают нас разъезды?
Этот сходится, один,—
И, врубив седьмую скорость,
Светло-серый лимузин
Позабыл нажать на тормоз.
Что ж съезжаться — пустые мечты?
Или это есть кровная месть городам…
Покатились колеса, мосты —
И сердца — или что у них есть еще там…
«Один музыкант объяснил мне пространно…»
Один музыкант объяснил мне пространно,«…»
Что будто гитара свой век отжила,—
Заменят гитару электроорганы,
Электророяль и электропила…
Но гитара опять
Не хочет молчать —
Поет ночами лунными,
Как в юность мою,
Своими семью
Серебряными струнами!..
Я слышал вчера — кто-то пел на бульваре:
И голос уверен, и голос красив…
Но мне показалось — устала гитара
Звенеть под его залихватский мотив.
И все же опять
Не может молчать —
Поет ночами лунными,
Как в юность мою,
Своими семью
Серебряными струнами!..
Электророяль мне, конечно, не пара,
Другие появятся с песней другой.
Но кажется мне, не уйдем мы с гитарой
На заслуженный и нежеланный покой.
Гитара опять
Не хочет молчать —
Поет ночами лунными,
Как в юность мою,
Своими семью
Серебряными струнами!..
Пожары
Пожары над страной все выше, жарче, веселей.
Их отблески плясали в два притопа, три прихлопа,
Но вот судьба и время пересели на коней,
А там в галоїд под пули в лоб —
И мир ударило в озноб
От этого галопа.
Шальные пули злы, слепы и бестолковы,
А мы летели вскачь — они за нами влет.
Расковывались кони — и горячие подковы
Летели в пыль на счастье тем, кто их потом найдет.
Увертливы поводья, словно угри,
И спутаны и волосы и мысли на бегу,
А ветер дул и расправлял нам кудри
И распрямлял извилины в мозгу.
Ни бегство от огня, ни страх погони — ни при чем,
А время подскакало, и — фортуна улыбалась.
И сабли седоков скрестились с солнечным лучом.
Седок — поэт, а конь — Пегас,
Пожар померк, потом погас,
А скачка разгоралась.
Еще не видел свет подобного аллюра!
Копыта били дробь. Трезвонила капель.
Помешанная на крови, слепая пуля-дура
Прозрела, поумнела вдруг — и чаще била в цель.
И кто кого — азартней перепляса,
И кто скорее — в этой скачке опоздавших нет,
А ветер дул, с костей сдувая мясо
И радуя прохладою скелет.
Удача впереди и исцеление больным —
Впервые скачет время напрямую, не по кругу.
Обещанное завтра будет горьким и хмельным…
Легко скакать — врага видать,
И друга тоже… Благодать!
Судьба летит по лугу!
Доверчивую Смерть вкруг пальца обернули,—
Замешкалась она, забыв махнуть косой.
Уже не догоняли нас и отставали пули.
Удастся ли умыться нам не кровью, а росой?!
Пел ветер все печальней, глуше,
Навылет время ранено, досталось и судьбе.
Ветра и кони — и тела и души
Убитых — выносили на себе.
Канатоходец
Он не вышел ни званьем, ни ростом.
Не за славу, не за плату —
На свой, необычный манер —
Он по жизни шагал над помостом —
По канату, по канату,
Натянутому, как нерв!..
Посмотрите! Вот он без страховки идет!
Чуть правее наклон — упадет, пропадет!
Чуть левее наклон — все равно не спасти!..
Но, должно быть, ему очень нужно пройти
Четыре четверти пути!
И лучи его с шага сбивали,
И кололи, словно лавры.
Труба надрывалась — как две!
Крики «браво!» его оглушали,
А литавры, а литавры —
Как обухом по голове!
Посмотрите! Вот он без страховки идет!
Чуть правее наклон — упадет, пропадет!
Чуть левее наклон — все равно не спасти!..
Но теперь ему меньше осталось пройти —
Уже три четверти пути!
Ах, как жутко, как смело, как мило!
Бой со смертью — три минуты!
Раскрыв в ожидании рты,
Из партера глядели уныло —
Лилипуты, лилипуты —
Казалось ему с высоты.
Посмотрите! Вот он без страховки идет!
Чуть правее наклон — упадет, пропадет!
Чуть левее наклон — все равно не спасти!..
Но спокойно. Ему остается пройти
Всего две четверти пути…
Он смеялся над славою бренной,
Но хотел быть только первым,—
Такого попробуй угробь!
Не по проволоке над ареной —
Он по нервам — нам по нервам —
Шел под барабанную дробь!
Посмотрите! Вот он без страховки идет!
Чуть правее наклон — упадет, пропадет!
Чуть левее наклон — все равно не спасти!..
Но — замрите! Ему остается пройти
Не больше четверти пути…
Закричал дрессировщик —
И звери
Клали лапы на носилки…
Но прост приговор и суров:
Был растерян он или уверен —
Но в опилки, но в опилки
Он пролил досаду и кровь!
И сегодня другой без страховки идет.
Тонкий шнур под ногой — упадет, пропадет!..
Вправо, влево наклон — и его не спасти!
Но зачем-то ему тоже нужно пройти
Четыре четверти пути…
Про конькобежца на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную
Десять тысяч — и всего один забег
остался.
В это время наш Бескудников Олег
зазнался.
Я, мол, болен, бюллетеню, нету сил —
и сгинул!
Вот наш тренер мне тогда и предложил:
беги, мол.
Я ж на длинной на дистанции помру —
не охну:
Пробегу, быть может, только первый круг —
и сдохну!
Но сурово эдак тренер мне: мол, надо,
Федя,
Главно дело — чтобы воля, говорит, была
к победе.
Воля волей, если сил невпроворот,—
а я увлекся:
Я на десять тыщ рванул, как на пятьсот,—
и спекся!
Подвела меня — ведь я предупреждал!
дыхалка:
Пробежал всего два круга — и упал.
А жалко!
И наш тренер, экс- и вице-чемпион
ОРУДа,
Не пускать меня велел на стадион,—
иуда!
Ведь вчера мы только брали с ним с тоски
по банке,
А сегодня он кричит: «Меняй коньки —
на санки!»
Жалко тренера, — он тренер неплохой,—
ну бог с ним!
Я ведь нынче занимаюся борьбой
и боксом.
Не имею больше я на счет на свой
сомнений.
Все вдруг стали очень вежливы со мной,
и — тренер.
Песня о сентиментальном боксере
Удар, удар… Еще удар… опять удар — и вот
Борис Буткеев (Краснодар) проводит апперкот.
Вот он прижал меня в углу, вот я едва ушел…
Вот апперкот — я на полу, и мне нехорошо!
И думал Буткеев, мне челюсть кроша:
И жить хорошо, и жизнь хороша!
При счете семь я все лежу — рыдают землячки.
Встаю, ныряю, ухожу — и мне идут очки.
Неправда, будто бы к концу я силы берегу,—
Бить человека по лицу я с детства не могу.
Но думал Буткеев, мне ребра круша:
И жить хорошо, и жизнь хороша!
В трибунах свист, в трибунах вой: —
Ату его.
Он трус. — Буткеев лезет в ближний бой —
А я к канатам жмусь.
Но он пролез — он сибиряк,—
Настырные они,—
И я сказал ему: «Чудак!
Устал ведь — отдохни!»
Но он не услышал — он думал, дыша,
Что жить хорошо и жизнь хороша!
А он все бьет — здоровый, черт, — я вижу — быть беде.
Ведь бокс не драка — это спорт отважных и т. д.
Вот он ударил — раз, два, три —
И… сам лишился сил,—
Мне руку поднял рефери, которой я не бил.
Лежал он и думал, что жизнь хороша.
Кому хороша, а кому — ни шиша.
Песня про правого инсайда
Мяч затаился в стриженой траве,
Секунда паузы на поле и в эфире…
Они играют по системе «дубль-ве»,—
А нам плевать, у нас — «четыре-два-четыре».
Ох инсайд! Для него — что футбол, что балет,—
И всегда он играет по правому краю.
Справедливости в мире и на поле нет,—
Потому я всегда только слева играю.
Мяч затаился в стриженой траве,
Секунда паузы на поле и в эфире…
Они играют по системе «дубль-ве»,—
А нам плевать, у нас — «четыре-два-четыре».
Вот инсайд гол забил, получив точный пас.
Я хочу, чтоб он встретился мне на дороге,—
Не могу: меня тренер поставил в запас,
А ему сходят с рук перебитые ноги.
Мяч затаился в стриженой траве,
Секунда паузы на поле и в эфире…
Они играют по системе «дубль-ве»,—
А нам плевать, у нас — «четыре-два-четыре».
Ничего! Я немножечко повременю,
И пускай не дают от команды квартиру —
Догоню, я сегодня его догоню,—
Пусть меня не заявят на первенство мира.
Мяч затаился в стриженой траве,
Секунда паузы на поле и в эфире…
Они играют по системе «дубль-ве»,—
А нам плевать, у нас — «четыре-два-четыре».
Ничего! После матча его подожду —
И тогда побеседуем с ним без судьи мы,—
Пропаду, чует сердце мое — попаду
Со скамьи запасных на скамью подсудимых.
Мяч затаился в стриженой траве,
Секунда паузы на поле и в эфире…
Они играют по системе «дубль-ве»,—
А нам плевать, у нас — «четыре-два-четыре».
Песенка про метателя молота
Я раззудил плечо — трибуны замерли,
Молчанье в ожидании храня.
Эх, что мне мой соперник — Джонс ли,
Крамер ли,—
Рекорд уже в кармане у меня!
Заметано, заказано, заколото,—
Мне кажется, я следом полечу.
Но мне нельзя, ведь я — метатель молота:
Приказано метать — и я мечу.
Эх, жаль, что я мечу его в Италии,—
Я б дома кинул молот без труда —
Ужасно далеко, куда подалее,
И лучше — если б враз и навсегда.
Я был кузнец, ковал на наковальне я,
Сжимал свой молот и всегда мечтал:
Закинуть бы его куда подалее,
Чтобы никто его не разыскал.
Я против восхищения повального,
Но я надеюсь: года не пройдет —
Я все же зашвырну в такую даль его,
Что и судья с ищейкой не найдет.
А вот сейчас, как все и ожидали, я
Опять его метнул себе во вред —
Ужасно далеко, куда подал ее,
Так в чем успеха моего секрет?
Сейчас кругом корреспонденты бесятся.
«Мне помогли, — им отвечаю я,—
Подняться по крутой спортивной лестнице
Мой коллектив, мой тренер и — семья».
Песенка про прыгуна в высоту
Разбег, толчок… И стыдно подыматься:
Во рту опилки, слезы из-под век,—
На рубеже проклятом два двенадцать
Мне планка преградила путь наверх.
Я признаюсь вам, как на духу:
Такова вся спортивная жизнь,—
Лишь мгновение ты наверху —
И стремительно падаешь вниз.
Но съем плоды запретные с древа я,
И за хвост подергаю славу я.
У кого толчковая — левая,
А у меня толчковая — правая.
Разбег, толчок… Свидетели паденья
Свистят и тянут за ноги ко дну.
Мне тренер мой сказал без сожаленья:
«Да ты же, парень, прыгаешь в длину!
У тебя — растяженье в паху;
Прыгать с правой — дурацкий каприз,—
Не удержишься ты наверху —
Ты стремительно падаешь вниз».
Но, задыхаясь, словно от гнева я,
Объяснил толково я: главное,
Что у них толчковая — левая,
А у меня толчковая — правая!
Разбег, толчок… Мне не догнать канадца —
Он мне в лицо смеется на лету.
Я снова планку сбил на два двенадцать —
И тренер мне сказал напрямоту,
Что — начальство в десятом ряду,
И что мне прополощут мозги,
Если враз, в сей же час не сойду
Я с неправильной правой ноги.
Но лучше я выпью зелье с отравою,
Я над собою что-нибудь сделаю,—
Но свою неправую правую
Я не сменю на правую левую!
Трибуны дружно начали смеяться —
Но пыл мой от насмешек не ослаб:
Разбег, толчок, полет… И два двенадцать —
Теперь уже мой пройденный этап.
И пусть болит моя травма в паху,
Пусть допрыгался до хромоты,—
Но я все-таки был наверху —
И меня не спихнуть с высоты.
Я им всем показал «ху из ху»,—
Жаль, жена подложила сюрприз:
Пока я был на самом верху —
Она с кем-то спустилася вниз.
Но съел плоды запретные с древа я,
И за хвост подергал все же славу я.
Пусть у них толчковая левая,
Но моя толчковая — правая.
Песенка про прыгуна в длину
Что случилось, почему кричат?
Почему мой тренер завопил?
Просто — восемь сорок результат,—
Правда, за черту переступил.
Ой, приходится до дна ее испить —
Чашу с ядом вместо кубка я беру.
Стоит только за черту переступить —
Превращаюсь в человека-кенгуру.
Что случилось, почему кричат?
Почему соперник завопил?
Просто — ровно восемь шестьдесят,—
Правда, за черту переступил.
Что же делать мне, как быть, кого винить —
Если мне черта совсем не по нутру?
Видно, негру мне придется уступить
Этот титул человека-кенгуру.
Что случилось, почему кричат?
Стадион в единстве завопил…
Восемь девяносто, говорят,—
Правда, за черту переступил.
Посоветуйте вы все, ну как мне быть?
Так и есть, что негр титул мой забрал.
Если б ту черту да к черту отменить,
Я б Америку догнал и перегнал.
Что случилось, почему молчат?
Комментатор даже приуныл.
Восемь пять — который раз подряд,—
Значит — за черту не заступил.
Марафон
Я бегу, топчу, скользя
По гаревой дорожке,—
Мне есть нельзя, мне пить нельзя,
Мне спать нельзя — ни крошки.
А может, я гулять хочу
У Гурьева Тимошки,—
Так нет: бегу, бегу, топчу
По гаревой дорожке.
А гвинеец Сэм Брук
Обошел меня на круг,—
А вчера все вокруг
Говорили: «Сэм — друг!
Сэм — наш гвинейский друг!»
Друг гвинеец так и прет —
Все больше отставанье,—
Ну, я надеюсь, что придет
Второе мне дыханье.
Третее за ним ищу,
Четвертое дыханье,—
Ну, я на пятом сокращу
С гвинейцем расстоянье.
Тоже мне — хорош друг,—
Обошел меня на круг!
А вчера все вокруг
Говорили: «Сэм — друг!
Сэм — наш гвинейский друг!»
Гвоздь программы — марафон,
А градусов — все тридцать,—
Но к жаре привыкший он —
Вот он и мастерится.
Я поглядел бы на него,
Когда бы — минус тридцать!
Ну, а теперь — достань его,
Осталось — материться!
Тоже мне — хорош друг,—
Обошел на третий круг!
Нужен мне такой друг,—
Как его — забыл… Сэм Брук!
Сэм — наш гвинейский Брут!
После чемпионата мира по футболу Разговор с женой
Комментатор из своей кабины
Кроет нас для красного словца,—
Но недаром клуб «Фиорентины»
Предлагал мильон за Бышевца.
Что ж, Пеле как Пеле,
Объясняю Зине я,
Ест Пеле крем-брюле
Вместе с Жаирзинио.
Муром занялась прокуратура,—
Что ему — реклама! — он и рад.
Здесь бы Мур не выбрался из МУРа —
Если б был у нас чемпионат.
Я сижу на нуле,—
Дрянь купил жене — и рад.
А у Пеле — «шевроле»
В Рио-де-Жанейро.
Может, не считает и до ста он,—
Но могу сказать без лишних слов:
Был бы глаз второй бы у Тостао —
Он вдвое больше б забивал голов.
Что ж, Пеле как Пеле,
Объясняю Зине я,
Ест Пеле крем-брюле
Вместе с Жаирзинио.
Я сижу на нуле,—
Дрянь купил жене — и рад.
А у Пеле — «шевроле»
В Рио-де-Жанейро.
Вратарь
Л. Яшину
Да, сегодня я в ударе, не иначе,—
Надрываются в восторге москвичи —
Я спокойно прерываю передачи
И вытаскиваю мертвые мячи.
Вот судья противнику пенальти назначает,—
Репортеры тучею кишат у тех ворот.
Лишь один упрямо за моей спиной скучает —
Он сегодня славно отдохнет!
Извиняюсь,
вот мне бьют головой…
Я касаюсь —
подают угловой.
Бьет десятый — дело в том,
Что своим «сухим листом»
Размочить он может счет нулевой.
Мяч в моих руках — с ума трибуны сходят —
Хоть десятый его ловко завернул.
У меня давно такие не проходят!..
Только сзади кто-то тихо вдруг вздохнул.
Обернулся — голос слышу из-за фотокамер:
«Извини, но ты мне, парень, снимок запорол.
Что тебе — ну лишний раз потрогать мяч руками,
Ну а я бы снял красивый гол».
Я хотел его послать —
не пришлось:
Еле-еле мяч достать
удалось.
Но едва успел привстать,
Слышу снова: «Вот опять!
Все б ловить тебе, хватать, не дал снять».
«Я, товарищ дорогой, все понимаю,
Но культурно вас прошу: подите прочь!
Да, вам лучше, если хуже я играю,
Но поверьте — я не в силах вам помочь».
Вот летит девятый номер с пушечным ударом,
Репортер бормочет: «Слушай, дай ему забить!
Я бы всю семью твою всю жизнь снимал задаром…» —
Чуть не плачет парень. Как мне быть?
«Это все-таки футбол,—
говорю,—
Нож по сердцу каждый гол —
вратарю».
«Да я тебе как вратарю
Лучший снимок подарю,
Пропусти — а я отблагодарю!»
Гнусь, как ветка, от напора репортера,
Неуверенно иду наперехват…
Попрошу-ка потихонечку партнеров,
Чтоб они ему разбили аппарат.
Ну, а он все ноет: «Это, друг, бесчеловечно.
Ты, конечно, можешь взять, но только извини:
Это лишь момент, а фотография — навечно.
А ну, не шевелись, потяни!»
Пятый номер в двадцать два —
знаменит.
Не бежит он, а едва
семенит.
В правый угол мяч, звеня,—
Значит, в левый от меня —
Залетает и нахально лежит.
В этом тайме мы играли против ветра,
Так что я не мог поделать ничего…
Снимок дома у меня — два на три метра —
Как свидетельство позора моего.
Проклинаю миг, когда фотографу потрафил,
Ведь теперь я думаю, когда беру мячи:
Сколько ж мной испорчено прекрасных фотографий!..
Стыд меня терзает, хоть кричи!
Искуситель змей, палач!
Как мне жить?!
Так и тянет каждый мяч
пропустить.
Я весь матч борюсь с собой,
Видно, жребий мой такой…
Так, спокойно, — подают угловой…
Честь шахматной короны
ПОДГОТОВКА
Я кричал: «Вы что там, обалдели,—
Уронили шахматный престиж!»
Мне сказали в нашем спортотделе:
«Вот прекрасно, ты и защитишь.
Но учти, что Фишер очень ярок,
Даже спит с доскою — сила в нем.
Он играет чисто, без помарок…»
Ничего, я тоже не подарок,
У меня в запасе ход конем.
Ох вы, мускулы стальные,
Пальцы цепкие мои!
Эх, резные, расписные,
Деревянные ладьи!
Друг мой, футболист, учил: «Не бойся,
Он к таким партнерам не привык.
За тылы и центр не беспокойся,
А играй по краю — напрямик…»
Я налег на бег, на стометровки,
В бане вес согнал, отлично сплю,
Были по хоккею тренировки…
В общем, после этой подготовки
Я его без мата задавлю.
Ох вы, сильные ладони,
Мышцы крепкие спины!
Эх вы, кони мои, кони,
Ах вы, милые слоны!
«Не спеши и, главное, не горбись,—
Так боксер беседовал со мной,—
В ближний бой не лезь, работай в корпус,
Помни, что коронный твой — прямой».
Честь короны шахматной — на карте!
Он от пораженья не уйдет:
Мы сыграли с Талем десять партий —
В преферанс, в очко и на бильярде.
Таль сказал: «Такой не подведет».
Ох, рельеф мускулатуры,
Мышцы крепкие спины!
Эх вы, легкие фигуры,
Ах вы, кони да слоны!
И в буфете, для других закрытом,
Повар успокоил: «Не робей!
Да с таким прекрасным аппетитом —
Ты проглотишь всех его коней!
Ты присядь перед дорогой дальней —
И бери с питанием рюкзак,
На двоих готовь пирог пасхальный:
Этот Шифер — хоть и гениальный,
А, небось, покушать не дурак!»
Будет тихо все и глухо,
А на всякий там цейтнот
Существует сила духа
И красивый апперкот.
Не скажу, чтоб было без задорин,—
Были анонимки и звонки.
Я всем этим только раззадорен,
Только зачесались кулаки.
Напугали даже спозаранка:
«Шифер может левою ногой
С шахматной машиной Капабланка,
Сам он вроде заводного танка…»
Ничего, я тоже заводной!
Ох мы — крепкие орешки!
Эх, корону привезем!
Спать ложусь я — вроде пешки,
Просыпаюся — ферзем!
ИГРА
Только прилетели — сразу сели.
Фишки все заранее стоят.
Фоторепортеры налетели —
И слепят, и с толку сбить хотят.
Но меня и дома — кто положит?
Репортерам с ног меня не сбить!..
Мне же неумение поможет:
Этот Шифер ни за что не сможет
Угадать, чем буду я ходить.
Выпало ходить ему, задире.
Говорят, он белыми мастак.
Сделал ход с е-2 на е-4 —
Что-то мне знакомое… Так-так!..
Ход за мной. Что делать?! Надо, Сева,—
Наугад, как ночью по тайге…
Помню — всех главнее королева:
Ходит взад-вперед и вправо-влево,
Ну а кони — только буквой «Г».
Эх, спасибо заводскому другу —
Научил, как ходят, как сдают…
Выяснилось позже — яс испугу
Разыграл классический дебют!
Все гляжу, чтоб не было промашки,
Вспоминаю повара в тоске.
Эх, сменить бы пешки на рюмашки,
Сразу б прояснилось на доске!
У него ферзи, ладьи — фигуры!
И слоны опасны и сильны.
У меня же все фигуры — чдуры:
Королевы у меня и туры,
Офицеры — это ж не слоны!
Вижу, он нацеливает вилку —
Хочет есть. И я бы съел ферзя…
Под такой бы закусь да — бутылку!
Но во время матча пить нельзя.
Я голодный, посудите сами:
Здесь у них лишь кофе да омлет.
Клетки — как круги перед глазами,
Королей я путаю с тузами
И с дебютом путаю дуплет.
Есть примета — вот я и рискую:
В первый раз должно мне повезти.
Я его замучу, зашахую —
Мне бы только дамку провести!
Не мычу, не телюсь, весь — как вата.
Надо что-то бить — уже пора!
Чем же бить? Ладьею — страшновато.
Справа в челюсть — вроде рановато,
Неудобно — первая игра.
…Он мою защиту разрушает —
Старую индийскую — в момент.
Это смутно мне напоминает
Индо-пакистанский инцидент.
Только зря он шутит с нашим братом —
У меня есть мера, даже две:
Если он меня прикончит матом,
Я его — через бедро с захватом
Или — ход конем — по голове!
Я еще чуток добавил прыти —
Все не так уж сумрачно вблизи.
В мире шахмат пешка может выйти —
Если тренируется — в ферзи!
Шифер стал на хитрости пускаться:
Встанет, пробежится и — назад,
Предложил турами поменяться —
Ну еще б ему не опасаться:
Я же лежа жму сто пятьдесят!
Я его фигурку смерил оком
И, когда он объявил мне шах,
Обнажил я бицепс ненароком,
Даже снял для верности пиджак.
И мгновенно в зале стало тише,
Он заметил, как я привстаю…
Видно, ему стало не до фишек —
И хваленый пресловутый Фишер
Тут же согласился на ничью.
Вес взят
В. Алексееву
Как спорт — поднятье тяжестей не ново
В истории народов и держав:
Вы помните, как некий грек другого
Поднял и бросил, чуть попридержав?
Как шею жертвы, круглый гриф сжимаю.
Овации услышу или свист?
Я от земли Антея отрываю,
Как первый древнегреческий штангист.
Не отмечен грацией мустанга,
Скован я, в движениях не скор.
Штанга, перегруженная штанга —
Вечный мой соперник и партнер.
Такую неподъемную громаду
Врагу не пожелаю своему.
Я подхожу к тяжелому снаряду
С тяжелым чувством: вдруг не подниму?!
Мы оба с ним как будто из металла,
Но только он — действительно металл.
А я так долго шел до пьедестала,
Что вмятины в помосте протоптал.
Не отмечен грацией мустанга,
Скован я, в движениях не скор.
Штанга, перегруженная штанга —
Вечный мой соперник и партнер.
Повержен враг на землю. Как красиво!
Но крик «Вес взят!» у многих на слуху.
Вес взят — прекрасно, но несправедливо:
Ведь я внизу, а штанга наверху.
Такой триумф подобен пораженью,
А смысл победы до смешного прост:
Все дело в том, чтоб, завершив движенье,
С размаху штангу бросить на помост!
Не отмечен грацией мустанга,
Скован я, в движениях не скор.
Штанга, перегруженная штанга —
Вечный мой соперник и партнер.
Он вверх ползет — чем дальше, тем безвольней,
Мне напоследок мышцы рвет по швам.
И со своей высокой колокольни
Мне зритель крикнул: «Брось его к чертям!»
Еще одно последнее мгновенье —
И брошен наземь мой железный бог!
…Я выполнял обычное движенье
С коротким, злым названием «рывок».
Дальний рейс
Мы без этих колес — словно птицы без крыл.
Пуще зелья нас приворожила
Пара сот лошадиных сил
И, наверно, нечистая сила.
Говорят, все конечные пункты Земли
Нам маячат большими деньгами,
Километры длиною в рубли,
Говорят, остаются за нами.
Хлестнет по душам
наш конечный пункт —
Моторы глушим,
и плашмя на грунт!
Пусть говорят — мы за рулем
За длинным гонимся рублем…
Да, это — тоже, но суть не в том.
Нам — то тракты прямые, то петли шоссе…
Эх, еще бы чуток шоферов нам!
Не надеюсь, что выдержат все,—
Не сойдут на участке неровном.
Но я скатом клянусь — тех, кого мы возьмем
На два рейса на нашу галеру,—
Живо в божеский вид приведем
И, понятно, в шоферскую веру.
И нам, трехосным,
тяжелым на подъем
И в переносном
смысле, и в прямом,
Обычно — надо позарез,
И вечно — времени в обрез!
Оно понятно — далекий рейс…
В дальнем рейсе сиденье — то стол, то лежак,
А напарник считается братом.
Просыпаемся на виражах,
На том свете почти правым скатом.
На колесах наш дом, стол и кров за рулем —
Это надо учитывать в сметах.
Мы друг с другом расчеты ведем
Общим сном в придорожных кюветах.
Земля нам пухом,
когда на ней лежим,—
Полдня под брюхом
что-то ворожим.
Мы не шагаем по росе —
Все наши оси, тонны все
В дугу сгибают мокрое шоссе.
Обгоняет нас вся мелкота, и слегка
Нам обгоны, конечно, обидны.
Но мы смотрим на них свысока —
А иначе нельзя из кабины.
Чехарда дней, ночей, то лучей, то теней…
Но в ночные часы перехода —
Перед нами стоит без сигнальных огней
Шоферская лихая свобода!
Сиди и грейся,—
болтает, как в седле-
Без дальних рейсов —
нет жизни на земле!
Кто на себе поставил крест,
Кто сел за руль, как под арест,
Тот не способен на дальний рейс!
Песня автомобилиста
Отбросив прочь свой деревянный посох,
Упав на снег и полежав ничком,
Я встал — и сел в «погибель на колесах»,
Презрев передвижение пешком.
Я не предполагал играть с судьбою,
Не собирался спирт в огонь подлить,
Я просто этой быстрою ездою
Намеревался жизнь себе продлить.
Подошвами своих спортивных «чешек»
Топтал я прежде тропы и полы,—
И был неуязвим я для насмешек,
И был недосягаем для хулы.
Но я в другие перешел разряды,—
Меня не примут в общую кадриль.
Я еду, я ловлю косые взгляды
И на меня, и на автомобиль.
Прервав общенье и рукопожатья,
Отворотилась прочь моя среда.
Но кончилось глухое неприятье —
И началась открытая вражда.
Я в мир вкатился, чуждый нам по духу,
Все правила движения поправ.
Орудовцы мне робко жали руку,
Вручая две квитанции на штраф.
Я во вражду включился постепенно,
Я утром зрел плоды ночных атак:
Морским узлом завязана антенна…
То был намек: с тобою будет так!
Прокравшись огородами, полями,
Вонзали шило в шины, как кинжал.
Я ж отбивался целый день рублями,
И не сдавался, и в боях мужал.
Безлунными ночами я нередко
Противника в засаде поджидал,
Но у него поставлена разведка,
И он в засаду мне не попадал.
И вот — как «языка» — бесшумно сняли
Передний мост и унесли во тьму.
Передний мост!.. Казалось бы — детали-
Но без него и задний ни к чему.
Я доставал мосты, рули, колеса…
Не за глаза красивые — за мзду.
Но понял я: не одолеть колосса.
Назад — пока машина на ходу!
Назад, к моим нетленным пешеходам!
Пусти назад, о, отворись, сезам!
Назад, в метро — к подземным переходам!
Назад, руль влево, и — по тормозам!
Восстану я из праха, вновь обыден,
И улыбнусь, выплевывая пыль.
Теперь народом я не ненавидим
За то, что у меня автомобиль!
«Так дымно, что в зеркале нет отраженья…»
Так дымно, что в зеркале нет отраженья,«…»
И даже напротив не видно лица,
И пары успели устать от круженья,—
И все-таки я допою до конца.
Все нужные ноты давно
сыграли,
Сгорело, погасло вино
в бокале,
Минутный порыв говорить —
пропал…
Нет, лучше мне молча допить
бокал…
Полгода не балует солнцем погода,
И души застыли под коркою льда,
И, видно, напрасно я жду ледохода,
И память не может согреть в холода.
В оркестре играют устало, сбиваясь,
Смыкается круг — не прорвать мне кольца…
Спокойно! Я должен уйти улыбаясь,
Но все-таки я допою до конца.
Все нужные ноты давно
сыграли,
Сгорело, погасло вино
в бокале,
Тусклей, равнодушней оскал
зеркал…
И лучше мне просто разбить
бокал!
«Не впадай ни в тоску, ни в азарт ты…»
Не впадай ни в тоску, ни в азарт ты
Даже в самой невинной игре,
Не давай заглянуть в свои карты
И до срока не сбрось козырей.
Отключи посторонние звуки
И следи, чтоб не прятал глаза,
Чтоб держал он на скатерти руки
И не смог передернуть туза.
Никогда не тянись за деньгами.
Если ж ты, проигравши, поник —
Как у Пушкина в «Пиковой даме»,—
Ты останешься с дамою пик.
Если ж ты у судьбы не в любимцах,—
Сбрось очки и закончи на том.
Крикни: — Карты на стол, проходимцы! —
И уйди с отрешенным лицом.
Случай в ресторане
В ресторане по стенкам висят тут и там —
«Три медведя», «Заколотый витязь».
За столом одиноко сидит капитан.
Разрешите? — спросил я.
Садитесь.
…Закури.
Извините, «Казбек» не курю.
Ладно, выпей. Давай-ка посуду.
Да пока принесут… Пей, кому говорю!
Будь здоров!
Обязательно буду.
Ну так что же, — сказал, захмелев, капитан,—
Водку пьешь ты красиво, однако.
А видал ты вблизи пулемет или танк,
А ходил ли ты, скажем, в атаку?
В сорок третьем под Курском я был старшиной,
За моею спиной такое…
Много всякого, брат, за моею спиной,
Чтоб жилось тебе, парень, спокойно…
Он ругался и пил, он спросил про отца,
И кричал он, уставясь на блюдо:
«Я полжизни отдал за тебя, подлеца,
А ты жизнь прожигаешь, паскуда.
А винтовку тебе? А послать тебя в бой?!
А ты водку тут хлещешь со мною!..»
Я сидел, как в окопе под Курской дугой,—
Там, где был капитан старшиною.
Он все больше хмелел. Я — за ним по пятам.
Только в самом конце разговора
Я обидел его — я сказал: «Капитан,
Никогда ты не будешь майором!»
«Проложите, проложите…»
Проложите, проложите
Хоть туннель по дну реки
И без страха приходите
На вино и шашлыки.
И гитару приносите,
Подтянув на ней колки,—
Но не забудьте — затупите
Ваши острые клыки.
А когда сообразите —
Все пути приводят в Рим,—
Вот тогда и приходите,
Вот тогда поговорим.
Нож забросьте, камень выньте
Из-за пазухи своей,
И перебросьте, перекиньте
Вы хоть жердь через ручей.
За посев ли, за покос ли —
Надо взяться, поспешать,—
А прохлопав, сами после
Локти будете кусать.
Сами будете не рады,
Утром вставши, — вот те раз! —
Все мосты через преграды
Переброшены без нас.
Так проложите, проложите
Хоть туннель по дну реки!
Но не забудьте — затупите
Ваши острые клыки!
Кругом пятьсот
Я вышел ростом и лицом —
Спасибо матери с отцом,
С людьми в ладу — не понукал, не помыкал,
Спины не гнул — прямым ходил,
И в ус не дул, и жил как жил,
И голове своей руками помогал…
Но был донос и был навет…
Кругом пятьсот и наших нет.
Был кабинет с табличкой «Время уважай!»
Там прямо без соли едят,
Там штемпель ставят наугад,
В конверт кладут и посылают за Можай.
Потом зачёт, потом домой
С семью годами за спиной.
Висят года на мне — ни бросить, ни продать.
Но на начальника попал,
Который бойко вербовал,—
И за Урал машины стал перегонять.
Дорога, а в дороге — МАЗ,
Который по уши увяз.
В кабине тьма, напарник третий час молчит.
Хоть бы кричал, аж зло берет,—
Назад пятьсот, пятьсот вперед,—
А он зубами «Танец с саблями» стучит.
Мы оба знали про маршрут,
Что этот МАЗ на стройках ждут.
А наше дело — сел, поехал — ночь, полночь!
Ну надо ж так — под Новый год
Назад пятьсот, пятьсот вперед,
Сигналим зря — пурга, и некому помочь!
— Глуши мотор, — он говорит,—
Пусть этот МАЗ огнем горит!»
Мол, видишь сам — тут больше нечего ловить,
Мол, видишь сам — кругом пятьсот,
И к ночи точно — занесет,
Так заровняет, что не надо хоронить!..
Я отвечаю: — «Не канючь!»
А он — за гаечный за ключ
И волком смотрит, он вообще бывает крут.
А что ему — кругом пятьсот,
И кто кого переживет,
Тот и докажет, кто был прав, когда припрут.
Он был мне больше чем родня,—
Он ел с ладони у меня.
А тут глядит в глаза — и холодно спине.
А что ему — кругом пятьсот,
И кто там после разберет,
Что он забыл, кто я ему и кто он мне!
И он ушел куда-то вбок.
Я отпустил, а сам прилег,
Мне снился сон про наш веселый наворот:
Что будто вновь кругом пятьсот,
Ищу я выход из ворот,
Но нет его, есть только вход — и то не тот.
Конец простой: пришел тягач,
И там был трос, и там был врач,
И МАЗ попал — куда положено ему,
И он пришел — трясется весь…
А там опять далекий рейс…
Я зла не помню — я опять его возьму.
Черное золото
Не космос — метры грунта надо мной,
И в шахте не до праздничных процессий,
Но мы владеем тоже внеземной —
И самою земною из профессий!
Любой из нас — ну чем не чародей?!
Из преисподни наверх уголь мечем.
Мы топливо отнимем у чертей —
Свои котлы топить им будет нечем!
Взорвано,
уложено,
сколото
черное
надежное
золото.
Да, сами мы — как дьяволы — в пыли,
Зато наш поезд не уйдет порожний.
Терзаем чрево матушки Земли,
Но на земле теплее и надежней.
Вот вагонетки, душу веселя,
Проносятся, как в фильме о погонях,
И шуточку «Даешь стране угля!»
Мы чувствуем на собственных ладонях.
Взорвано,
уложено,
сколото
черное
надежное
золото.
Да, мы бываем в крупном барыше,
Но роем глубже: голод — ненасытен.
Порой копаться в собственной душе
Мы забываем, роясь в антраците.
Воронками изрытые поля
Не позабудь — и оглянись во гневе!
Но нас, благословенная Земля,
Прости за то, что роемся во чреве.
Взорвано,
уложено,
сколото
черное
надежное
золото.
Вгрызаясь в глубь веков хоть на виток
(То взрыв, то лязг — такое безгитарье!),—
Вот череп вскрыл отбойный молоток,
Задев кору большого полушарья.
Не бойся заблудиться в темноте
И захлебнуться пылью — не один ты!
Вперед и вниз! Мы будем на щите —
Мы сами рыли эти лабиринты!
Взорвано,
уложено,
сколото
черное
надежное
золото.
Песня студентов-археологов
Наш Федя с детства связан был с землею —
Домой таскал и щебень, и гранит…
Однажды он домой принес такое,
Что папа с мамой плакали навзрыд.
Студентом Федя очень был настроен
Поднять археологию на щит —
Он в институт притаскивал такое,
Что мы кругом все плакали навзрыд.
Привез он как-то с практики
Два ржавых экспонатика
И утверждал, что это — древний клад.
Потом однажды в Элисте
Нашел вставные челюсти
Размером с самогонный аппарат.
Диплом писал про древние святыни,
О скифах, о языческих богах.
При этом так ругался по-латыни,
Что скифы эти корчились в гробах.
Он древние строения
Искал с остервенением
И часто диким голосом кричал,
Что есть еще пока тропа,
Где встретишь питекантропа,
И в грудь себя при этом ударял.
Он жизнь решил закончить холостую
И стал бороться за семейный быт.
«Я, — говорил, — жену найду такую
От зависти заплачете навзрыд!»
Он все углы облазил — и
В Европе был, и в Азии —
И вскоре раскопал свой идеал.
Но идеал связать не мог
В археологии двух строк,—
И Федя его снова закопал.
Тюменская нефть
Один чудак из партии геологов
Сказал мне, вылив грязь из сапога:
«Послал же бог на головы нам олухов!
Откуда нефть — когда кругом тайга?!
И деньги — в прорву!.. Лучше бы на тыщи те
Построить ресторан на берегу!
Вы ничего в Тюмени не отыщете —
В болото вы вгоняете деньгу!»
И шлю депеши в Центр из Тюмени я:
«Дела идут, все боле-менее!..»
Мол, роем землю, но пока у многих мнение,
Что меньше «более» у нас, а больше «менее».
А мой рюкзак —
Пустой на треть.
А с нефтью как?
Да будет нефть!
Давно прошли открытий эпидемии,
И с лихорадкой поисков — борьба.
И дали заключенье в Академии:
«В Тюмени с нефтью — полная труба!»
Нет бога нефти здесь — перекочую я.
Раз бога нет — не будет короля!
Но только вот нутром и носом чую я,
Что подо мной не мертвая земля!..
И шлю депеши в Центр из Тюмени я:
«Дела идут, все боле-менее».
Мне отвечают, что у них такое мнение,
Что меньше «более» у нас, а больше «менее».
Пустой рюкзак —
Исчезла снедь…
А с нефтью как?
Да будет нефть!
И нефть пошла! Мы, по болотам рыская,
Не на пол-литра выиграли спор!
Тюмень, Сибирь, земля хантымансийская
Сквозила нефтью из открытых пор…
Моряк, с которым столько переругано —
Не помню уж, с какого корабля,—
Все перепутал и кричал испуганно:
«Земля! Глядите, братики, земля!»
И шлю депеши в Центр из Тюмени я:
«Дела идут, все боле-менее».
Мне не поверили, и оставалось мнение,
Что меньше «более» у нас, а больше «менее».
Но подан знак:
«Бурите здесь!»
А с нефтью как?
Да будет нефть!
И бил фонтан и рассыпался искрами.
При свете их я бога увидал:
По пояс голый, он с двумя канистрами
Холодый душ из нефти принимал…
И ожила земля, и помню ночью я
На той земле танцующих людей!..
Я счастлив, что, превысив полномочия,
Мы взяли риск — и вскрыли вены ей!
И шлю депеши в Центр из Тюмени я:
«Дела идут, все боле-менее»,
Что прочь сомнения, что есть месторождение,
Что больше «более» у нас и меньше «менее»…
Так я узнал —
Бог нефти есть,
И он сказал:
«Да будет нефть!»
Депешами не преступался в двери я,
А вот канистры в цель попали, в цвет:
Одну принес под двери недоверия,
Другую внес в высокий кабинет.
Я доложил про смену положения:
Отрекся сам владыка тьмы и тли,
Вчера я лично принял отречение
И вышел в нефтяные короли!
«Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты…»
А. Назаренко и экипажу
теплохода «Шота Руставели»
Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты,
И хрипят табуны, стервенея, внизу.
На глазах от натуги худеют канаты,
Из себя на причал выжимая слезу.
И команды короткие, злые
Быстрый ветер уносит во тьму:
«Кранцы за борт!», «Отдать носовые!»
И «Буксир, подработать корму!»
Капитан, чуть улыбаясь,—
Все, мол, верно, молодцы,—
От земли освобождаясь,
Приказал рубить концы.
Только снова назад обращаются взоры,
Цепко держит земля, все и так, и не так.
Почему слишком долго не сходятся створы,
Почему слишком часто моргает маяк?
Всё в порядке, конец всем вопросам.
Кроме вахтенных, всем — отдыхать.
Но пустуют каюты — матросам
К той свободе еще привыкать.
Капитан, чуть улыбаясь,
Молвил только: «Молодцы!»
От земли освобождаясь,
Нелегко рубить концы.
Переход — двадцать дней.
Рассыхаются шлюпки,
Нынче утром последний отстал альбатрос…
Хоть бы шторм! Или лучше, чтоб в радиорубке
Обалдевший радист принял чей-нибудь «SOS».
Так и есть: трое — месяц в корыте,
Яхту вдребезги кит разобрал…
Да за что вы нас благодарите?!
Вам спасибо за этот аврал!
Капитан, чуть улыбаясь,
Бросил только: «Молодцы!» —
Тем, кто, с жизнью расставаясь,
Не хотел рубить концы.
И опять будут Фиджи, и порт Кюрасао,
И еще чёрта в ступе, и бог знает что,
И красивейший в мире фиорд Милфорд-Саунд —
Все, куда я ногой не ступал, но зато —
Пришвартуетесь вы на Таити
И прокрутите запись мою —
Через самый большой усилитель
Я про вас на Таити спою.
Скажет мастер, улыбаясь,
Мне и песне: «Молодцы!»
Так, на суше оставаясь,
Я везде креплю концы.
И опять продвигается, словно на ринге,
По воде осторожная тень корабля.
В напряженье матросы, ослаблены шпринги.
«Руль полборта налево!» — ив прошлом земля.
Затяжной прыжок
Хорошо, что за ревом не слышалось звука,
Что с позором своим был один на один…
Я замешкался возле открытого люка
Я забыл пристегнуть карабин.
Мне инструктор помог — и коленом пинок —
Перейти этой слабости грань.
За обычное наше «Спасибо, сынок!»
Принял я его сонную брань.
И оборвали крик мой,
И обожгли мне щеки
Холодной острой бритвой
Восходящие потоки.
И звук обратно в печень мне
Вогнали вновь на вдохе
Веселые, беспечные
Воздушные потоки.
Я попал к ним в умелые, цепкие руки:
Мнут, швыряют меня — что хотят, то творят!
И с готовностью я сумасшедшие трюки
Выполняю, шутя, все подряд.
Есть ли в этом паденье какой-то резон —
Я узнаю потом, а пока:
То валился в лицо мне земной горизонт,
То шарахались вниз облака…
И обрывали крик мой,
И выбривали щеки
Холодной острой бритвой
Восходящие потоки.
И кровь вгоняли в печень мне,
Упрямы и жестоки,
Невидимые встречные
Воздушные потоки.
Но рванул я кольцо на одном вдохновенье,
Как рубаху от ворота или чеку.
Это было в случайном, свободном паденье —
Восемнадцать недолгих секунд.
А теперь некрасив я, горбат с двух сторон,
В каждом горбе — спасительный шелк.
Я на цель устремлен, и влюблен, и влюблен
В затяжной, неслучайный прыжок.
И обрывают крик мой,
И обривают щеки,
Холодной острой бритвой
Скользят по мне потоки.
И задувают в печень мне
На выходе и входе
Бездушные, но вечные
Воздушные потоки.
Я лечу — треугольники, ромбы, квадраты
Проявляются в реки, озера, луга.
Только воздух густеет, твердеет, проклятый,
Он мне враг — парашютный слуга!
А машина уже на посадку идет,
В землю сплюнув в отчаянье мной.
Буду я на земле раньше, чем самолет,
Потому что прыжок — затяжной.
И обрывают крик мой,
И выбривают щеки —
Тупой холодной бритвой
Скребут по мне потоки.
На мне мешки заплечные,
Встречаю — руки в боки —
Шальные, быстротечные
Воздушные потоки.
Беспримерный прыжок из глубин стратосферы.
По сигналу «Пошел!» я шагнул в никуда —
За невидимой тенью безликой химеры,
За свободным паденьем — айда!
Я пробьюсь сквозь воздушную ватную тьму,
Хоть условья паденья не те.
Но и падать свободно нельзя, потому
Что мы падаем не в пустоте.
И обрывают крик мой,
И выбривают щеки,
У горла старой бритвой
Уже снуют потоки.
Но жгут костры, как свечи, мне,
Я приземлюсь и в шоке,
Прямые, безупречные
Воздушные потоки.
Ветер в уши сочится и шепчет скабрезно:
«Не тяни за кольцо, скоро легкость придет!»
До земли триста метров — сейчас будет поздно…
Ветер врет, обязательно врет!
Стропы рвут меня вверх, выстрел купола — стоп!
И — как не было этих минут.
Нет свободных падений с высот, но зато
Есть свобода раскрыть парашют.
Мне охлаждают щеки
И открывают веки —
Исполнены потоки
Забот о человеке!
Глазею ввысь печально я —
Там звезды одиноки —
И пью горизонтальные
Воздушные потоки.
Холода
В холода, в холода
От насиженных мест
Нас другие зовут города,
Будь то Минск, будь то Брест…
В холода, в холода…
Неспроста, неспроста
От родных тополей
Нас суровые манят места —
Будто там веселей…
Неспроста, неспроста.
Как нас дома ни грей,
Не хватает всегда
Новых встреч нам и новых друзей,—
Будто с нами беда,
Будто с ними теплей.
Как бы ни было нам
Хорошо иногда —
Возвращаемся мы по домам.
Где же наша звезда?
Может, здесь, может, там…
«Кто старше нас на четверть века, тот…»
Кто старше нас на четверть века, тот
Уже увидел близости и дали:
Им повезло — и кровь, и дым, и пот
Они понюхали, хлебнули, повидали.
И ехали в теплушках — не в тепле,
На стройки, на фронты и на рабфаки.
Они ходили в люди по земле
И в штыковые жесткие атаки.
Но время эшелонное прошло —
В плацкартных едем, травим анекдоты…
Мы не ходили — шашки наголо,
В отчаянье не падали на доты.
И все-таки традиция живет:
Взяты не все вершины и преграды —
Не потому ли летом каждый год
Идем в студенческие наши стройотряды.
Песок в глазах, в одежде и в зубах —
Мы против ветра держим путь на тракте,
На дивногорских Каменных Столбах
Хребты себе ломаем и характер.
Мы гнемся в три погибели — ну, что ж,
Такой уж ветер… Только, друг, ты знаешь —
Зато ничем нас после не согнешь,
Зато нас на равнине не сломаешь!
«Я первый смерил жизнь обратным счетом…»
Я первый смерил жизнь обратным счетом.
Я буду беспристрастен и правдив:
Сначала кожа выстрелила потом,
И задымилась, поры разрядив.
Я затаился, и затих, и замер.
Мне показалось, я вернулся вдруг
В бездушье безвоздушных барокамер
И в замкнутые петли центрифуг.
Сейчас я стану недвижим и грузен
И погружен в молчанье, а пока
Меха и горны всех газетных кузен
Раздуют это дело на века.
Хлестнула память мне кнутом по нервам,
В ней каждый образ был неповторим:
Вот мой дублер, который мог быть первым,
Который смог впервые стать вторым.
Пока что на него не тратят шрифта —
Запас заглавных букв на одного.
Мы с ним вдвоем прошли весь путь до лифта,
Но дальше я поднялся без него.
Вот тот, который прочертил орбиту.
При мне его в лицо не знал никто.
Я знал: сейчас он в бункере закрытом
Бросает горсти мыслей в решето.
И. словно из-за дымовой завесы,
Друзей явились лица и семьи.
Они все скоро на страницах прессы
Расскажут биографии свои.
Их всех, с кем знал я доброе соседство,
Свидетелями выведут на суд.
Обычное мое босое детство
Обуют и в скрижали занесут.
Чудное слово «Пуск!» — подобье вопля —
Возникло и нависло надо мной.
Недобро, глухо заворчали сопла
И сплюнули расплавленной слюной.
И вихрем чувств пожар души задуло,
И я не смел или забыл дышать.
Планета напоследок притянула,
Прижала, не рискуя отпускать.
И килограммы превратились в тонны,
Глаза, казалось, вышли из орбит,
И правый глаз впервые удивленно
Взглянул на левый, веком не прикрыт.
Мне рот заткнул — не помню, крик ли, кляп ли.
Я рос из кресла, как с корнями пень.
Вот сожрала все топливо до капли
И отвалилась первая ступень.
Там, подо мной, сирены голосили,
Не знаю — хороня или храня.
А здесь надсадно двигатели взвыли
И из объятий вырвали меня.
Приборы на земле угомонились.
Вновь чередом своим пошла весна.
Глаза мои на место возвратились,
Исчезли перегрузки, — тишина.
Эксперимент вошел в другую фазу.
Пульс начал реже в датчики стучать.
Я в ночь влетел, минуя вечер, сразу,
И получил команду отдыхать.
И тесно стало голосам в эфире,
Но Левитан ворвался, как в спортзал.
Он отчеканил громко: «Первый в мире!»
Он про меня хорошее сказал.
Я шлем скафандра положил на локоть.
Изрек про самочувствие свое…
Пришла такая приторная легкость,
Что даже затошнило от нее.
Шнур микрофона словно в петлю свился,
Стучали в ребра легкие, звеня.
Я на мгновенье сердцем подавился —
Оно застряло в горле у меня.
Я отдал рапорт весело, на совесть.
Разборчиво и очень делово.
Я думал: вот она и невесомость,
Я вешу нуль, так мало — ничего!
Но я не ведал в этот час полета,
Шутя над невесомостью чудной,
Что от нее кровавой будет рвота
И костный кальций вымоет с мочой.
«Все. что сумел запомнить, я сразу перечислил…»
…Все. что сумел запомнить, я сразу перечислил, Надиктовал на ленту и даже записал. Но надо мной парили разрозненные мысли И стукались боками о вахтенный журнал. Весомых, зримых мыслей я насчитал немало, И мелкие сновали меж ними чуть плавней, Но невесомость в весе их как-то уравняла — Там после разберутся, которая важней. А. я ловил любую, какая попадалась, Тянул ее за тонкий, невидимый канат. Вот первая возникла и сразу оборвалась. Осталось только слово одно: «Не виноват!» Но слово «невиновен» — не значит «не причастен»,— Так на Руси ведется уже с давнишних пор. Мы не тянули жребий, — мне подмигнуло счастье. И причастился к звездам член партии, майор. Между «нулем» и «пуском» кому-то показалось, А может, оператор с испугу записал, Что я довольно бодро, красуясь даже малость, Раскованно и браво «Поехали!» сказал.Белое безмолвие
Все года, и века, и эпохи подряд
Всё стремится к теплу от морозов и вьюг.
Почему ж эти птицы на север летят,
Если птицам положено только на юг?
Слава им не нужна и величие.
Вот под крыльями кончится лед —
И найдут они счастие птичее,
Как награду за дерзкий полет.
Что же нам не жилось, что же нам не спалось?
Что нас выгнало в путь по высокой волне?
Нам сиянье пока наблюдать не пришлось,
Это редко бывает — сиянья в цене!
Тишина. Только чайки — как молнии…
Пустотой мы их кормим из рук.
Но наградою нам за безмолвие
Обязательно будет звук!
Как давно снятся нам только белые сны,
Все иные оттенки снега замели.
Мы ослепли давно от такой белизны,
Но прозреем от черной полоски земли.
Наше горло отпустит молчание,
Наша слабость растает, как тень.
И наградой за ночи отчаянья —
Будет вечный полярный день.
Север — воля, надежда, страна без границ.
Снег без грязи — как долгая жизнь без вранья.
Воронье нам не выклюет глаз из глазниц,
Потому что не водится здесь воронья.
Кто не верил в дурные пророчества,
В снег не лег ни на миг отдохнуть,
Тем наградою за одиночество
Должен встретиться кто-нибудь.
Дальний Восток
Долго же шел ты, в конверте листок, —
Вышли последние строки!..
Но потому он и Дальний Восток,
Что далеко на востоке.
Ждешь с нетерпеньем ответ ты —
Весточку в несколько слов…
Мы здесь встречаем рассветы
Раньше на восемь часов.
Здесь до утра пароходы ревут
Средь океанской шумихи.
Не потому его Тихим зовут,
Что он действительно тихий.
Ты не пугайся рассказов о том,
Будто здесь самый край света:
Сзади еще Сахалин, а потом —
Круглая наша планета.
Что говорить — здесь, конечно, не рай,
Но невмоготу переписка!
Знаешь что, милая, ты приезжай:
Дальний Восток — это близко.
Скоро получишь ответ ты —
Весточку в несколько слов…
Вместе бы встретить рассветы
Раньше на восемь часов.
«И вкусы и запросы мои странны…»
И вкусы и запросы мои странны,
Я экзотичен, мягко говоря:
Могу одновременно грызть стаканы
И Шиллера читать без словаря.
Во мне два «Я», два полюса планеты,
Два разных человека, два врага.
Когда один стремится на балеты —
Другой стремится прямо на бега!
Я лишнего и в мыслях не позволю,
Когда живу от первого лица.
Но часто вырывается на волю
Второе «Я» в обличье подлеца.
И я борюсь, давлю в себе мерзавца.
О, участь беспокойная моя!
Боюсь ошибки — может оказаться,
Что я давлю не то второе «Я».
Когда в душе я раскрываю гранки —
На тех местах, где искренность сама,—
Тогда мне в долг дают официантки
И женщины ласкают задарма.
Но вот летят к чертям все идеалы,
Но вот я груб, я нетерпим и зол.
Но вот сижу и тупо ем бокалы,
Забрасывая Шиллера под стол.
…А суд идет, весь зал мне смотрит в спину.
Вы, прокурор, вы, гражданин судья,
Поверьте мне, не я разбил витрину,
А подлое мое второе «Я».
И я прошу вас: строго не судите,
Лишь дайте срок (но не давайте срок!) —
Я буду посещать суды как зритель
И к судьям заходить на огонек.
И я клянусь вам искренне, публично:
Старания свои утрою я —
И поборю раздвоенную личность
И — не мое — мое второе «Я».
Я больше не намерен бить витрины
И лица граждан — так и запиши!
Я воссоединю две половины
Моей больной, раздвоенной души.
Искореню, похороню, зарою,
Очищусь, ничего не скрою я!
Мне чуждо это «Я» мое второе-
Нет! Это не мое второе «Я».
Диалог у телевизора
Ой, Вань, смотри, какие клоуны,
Рот — хоть завязочки пришей…
Ой, до чего, Вань, размалеваны,
И голос, как у алкашей!
А тот похож — нет, правда, Вань,—
На шурина — такая ж пьянь.
Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь,—
А правда, Вань!..
Послушай, Зин, не трогай шурина:
Какой ни есть, а он — родня.
Сама намазана, прокурена —
Гляди, дождешься у меня!
А чем болтать — взяла бы, Зин,
В антракт сгоняла в магазин.
Что, не пойдешь? Ну, я один,—
Подвинься, Зин…
Ой, Вань, гляди, какие карлики,—
В джерси одеты, не в шевьет,—
На нашей пятой швейной фабрике
Такое вряд ли кто пошьет.
А у тебя, ей-богу, Вань,
Ну все друзья — такая рвань
И пьют всегда, в такую рань,
Такую дрянь!..
Мои друзья хоть не в болоний,
Зато не тащат из семьи.
А гадость пьют — из экономии,
Хоть поутру — да на свои!
А у тебя самой-то, Зин,
Приятель был с завода шин,
Так тот — вообще хлебал бензин,
Ты вспомни, Зин!..
— Ой, Вань, гляди-кось, попугайчики!
Нет, я, ей-богу, закричу!..
А это кто в короткой маечке?
Я, Вань, такую же хочу.
В конце квартала — правда, Вань,—
Ты мне такую же сваргань…
Ну, что «отстань», опять «отстань»,—
Обидно, Вань!
— Ты, Зина, лучше помолчала бы —
Накрылась премия в квартал!
Кто мне писал на службу жалобы?
Не ты?! Да я же их читал!
К тому же эту майку, Зин,
Тебе напяль — позор один.
Тебе ж шитья пойдет аршин —
Где деньги, Зин?..
— Ой, Вань, умру от акробатиков!
Смотри, как вертится, нахал!
Завцеха наш, товарищ Сатиков,
Недавно в клубе так скакал.
А ты придешь домой, Иван,
Поешь — и сразу на диван,
Иль вон кричишь, когда не пьян…
Ты что, Иван?
— Ты, Зин, на грубость нарываешься,
Все, Зин, обидеть норовишь.
Тут за день так накувыркаешься…
Придешь домой — там ты сидишь!..
Ну, и меня, конечно, Зин,
Все время тянет в магазин,
А там друзья… Ведь я же, Зин,
Не пью один.
Ого, однако же — гимнасточка!
Гляди-кось, ноги на винтах.
У нас в кафе молочном «Ласточка»
Официантка может так.
А у тебя подруги, Зин,
Все вяжут шапочки для зим,
От ихних скучных образин
Дуреешь, Зин!..
— Как, Вань, — а Лилька Федосеева,
Кассирша из ЦПКО?
Ты к ней все лез на новоселии,
Она — так очень ничего!..
А чем ругаться, лучше, Вань,
Поедем в отпуск в Еревань,
Ну, что «отстань» — всегда «отстань»!
Обидно, Вань…
Баллада о бане
Благодать или благословенье
Ниспошли на подручных своих —
Дай им, Бог, совершить омовенье,
Окунаясь в святая святых!
Все пороки, грехи и печали,
Равнодушье, согласье и спор —
Пар, который вот только наддали,
Вышибает, как пулей, из пор.
Все, что мучит тебя, — испарится
И поднимется вверх, к небесам.
Ты ж, очистившись, должен спуститься —
Пар с грехами расправится сам.
Не стремись прежде времени к душу,
Не равняй с очищеньем мытье,—
Надо выпороть веником душу,
Нужно выпарить смрад из нее.
Исцеленьем от язв и уродства —
Этот душ из живительных вод,
Это словно возврат первородства.
Или нет — осушенье болот.
Здесь нет голых — стесняться не надо,
Что кривая рука да нога.
Здесь — подобие райского сада:
Пропуск тем, кто раздет донага.
И, в предбаннике сбросивши вещи,
Всю одетость свою позабудь:
Одинаково веничек хлещет,
Как ты там ни выпячивай грудь!
Все равны здесь единым богатством,
Все легко переносят жару,—
Здесь свободу и равенство с братством
Ощущаешь в кромешном пару.
Загоняй поколенья в парную
И крещенье принять убеди!
Лей на нас свою воду святую —
И от варварства освободи!
Благодать или благословенье
Ниспошли на подручных твоих —
Дай им, Бог, совершить омовенье,
Окунаясь в святая святых!
Смотрины
Там у соседа пир горой
И гость солидный, налитой.
Ну, а хозяйка — хвост трубой —
Идет к подвалам.
В замок врезаются ключи,
И вынимаются харчи,
И с тягой ладится в печи,
И с поддувалом.
А у меня сплошные передряги —
То в огороде недород, то скот падёт,
То печь чадит от нехорошей тяги,
А то щеку на сторону ведет.
Там у соседа мясо в щах,
На всю деревню хруст в хрящах.
И дочь-невеста вся в прыщах —
Дозрела, значит.
Смотрины, стало быть, у них,—
На сто рублей гостей одних,
И даже тощенький жених
Поет и скачет.
А у меня цепные псы взбесились,—
Средь ночи с лая перешли на вой,
И на ногах моих мозоли прохудились
От топотни по комнате пустой.
Ох! У соседа быстро пьют.
А что не пить, когда дают?
А что не петь, когда уют
И не накладно?
А тут вон — баба на сносях,
Гусей некормленных косяк,
Да дело, в общем, не в гусях,
А всё неладно.
Тут у меня постены появились,
Я их гоню и так, и сяк — они опять.
Да в неудобном месте чирей вылез,
Пора пахать, а тут — ни сесть, ни встать.
Сосед малёночка прислал —
Он от щедрот меня позвал.
Ну, я, понятно, отказал,
А он — сначала.
Должно, литровую огрел,
Ну и, конечно, подобрел.
И я пошел — попил, поел —
Не полегчало.
И посредине этого разгула
Я пошептал на ухо жениху.
И жениха как будто ветром сдуло,
Невеста, вон, рыдает наверху.
Сосед орет, что он — народ,
Что основной закон блюдет,
Мол, кто не ест, тот и не пьет,
И выпил кстати.
Все сразу повскакали с мест…
Ну, тут малец с поправкой влез:
«Кто не работает — не ест,
Ты спутал, батя!».
А я сидел с засаленною трешкой,
Чтоб завтра гнать похмелие мое,
В обнимочку с обшарпанной гармошкой.—
Меня и пригласили за нее.
Сосед другую литру съел —
И осовел, и опсовел.
Он захотел, чтоб я попел,—
Зря, что ль, поили?
Меня схватили за бока
Два здоровенных паренька:
«Играй, паскуда, пой, пока
Не удавили!»
Уже дошло веселие до точки,
Уже невеста брагу пьет тайком,
И я запел про светлые денечки,
Когда служил на почте ямщиком.
Потом у них была уха
И заливные потроха,
Потом поймали жениха
И долго били,
Потом пошли плясать в избе,
Потом дрались не по злобе
И все хорошее в себе
Доистребили.
А я стонал в углу болотной выпью,
Набычась, а потом и подбочась,
И думал я, — а с кем я завтра выпью
Из тех, с которыми я пью сейчас?
Наутро там всегда покой
И хлебный мякиш за щекой,
И без похмелья перепой,
Еды навалом.
Никто не лается в сердцах,
Собачка мается в сенцах,
И печка — в синих изразцах
И с поддувалом.
А у меня и в ясную погоду
Хмарь на душе, которая горит.
Хлебаю я колодезную воду,
Чиню гармошку, а жена корит.
Товарищи ученые
— Товарищи ученые! Доценты с кандидатами!
Замучились вы с иксами, запутались в нулях!
Сидите, разлагаете молекулы на атомы,
Забыв, что разлагается картофель на полях.
Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаетесь
И корни извлекаете по десять раз на дню.
Ох, вы там добалуетесь! Ох, вы доизвлекаетесь,
Пока сгниёт, заплесневет картофель на корню!
Автобусом до Сходни доезжаем,
А там — рысцой, и не стонать!
Небось, картошку все мы уважаем,
Когда с сольцой ее намять!
Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль
С лопатами проявите здесь свой патриотизм.
А то вы всем кагалом там набросились на опухоль,
Собак ножами режете, а это — бандитизм.
Товарищи ученые, кончайте поножовщину,
Бросайте ваши опыты, гидрит и ангидрит!
Садитесь вон в полуторки, валяйте к нам,
в Тамбовщину,
А гамма-излучение денек повременит.
На полуторке к Тамбову подъезжаем,
А там — рысцой, и не стонать,
Небось, картошку все мы уважаем,
Когда с сольцой ее намять!
К нам можно даже с семьями,
с друзьями и знакомыми.
Мы славно здесь разместимся, и скажете потом,
Что бог, мол, с ними, с генами!
Бог с ними, с хромосомами!
Мы славно поработали и славно отдохнем.
Товарищи ученые. Эйнштейны драгоценные,
Ньютоны ненаглядные, любимые до слез!
Ведь лягут в землю общую останки наши бренные.
Земле — ей все едино: апатиты и навоз.
Автобусом до Сходни доезжаем,
А там — рысцой, и не стонать!
Небось, картошку все мы уважаем,
Когда с сольцой ее намять!
Так приезжайте, милые, рядами и колоннами.
Хотя вы все там химики и нет на вас креста,
Но вы же там задохнетесь за синхрофазотронами —
А здесь места отменные, воздушные места!
Товарищи ученые! Не сумлевайтесь, милые:
Коль что у вас не ладится — ну, там, не тот аффект,—
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и вилами,
Денечек покумекаем — и выправим дефект.
Инструкция перед поездкой за рубеж
Я вчера закончил ковку,
Я два плана залудил,—
И в загранкомандировку
От завода угодил.
Копоть, сажу смыл под душем,
Съел холодного язя
И инструктора послушал,
Что там можно, что нельзя.
Там, у них, пока что лучше бытово.
Так чтоб я не отчебучил не того,
Он мне дал прочесть брошюру, — как наказ,
Чтоб не вздумал жить там сдуру как у нас.
Говорил со мной, как с братом,
Про коварный зарубеж,
Про поездку к демократам
В польский город Будапешт.
«Там, у них, уклад особый,—
Нам — так сразу не понять.
Ты уж их, браток, попробуй
Хоть немного уважать.
Будут с водкою дебаты — отвечай:
«Нет, ребята-демократы! Только чай».
От подарков их сурово отвернись,—
«У самих добра такого — завались».
Он сказал: «Живя в комфорте —
Экономь, но не дури.
И, гляди, не выкинь фортель,
С сухомятки не помри!
В этом чешском Будапеште —
Уж такие времена.
Может, скажут «пейте-ешьте»,
Ну, а может, — ни хрена».
Ох, я в Венгрии на рынок похожу,
На немецких на румынок погляжу!
«Демократки, — уверяли кореша,—
Не берут с советских граждан ни гроша».
«Буржуазная зараза
Всюду ходит по пятам.
Опасайся пуще глаза
Ты внебрачных связей там.
Там шпионки с крепким телом.
Ты их в дверь — они в окно!
Говори, что с этим делом
Мы покончили давно.
Могут действовать они не прямиком:
Шасть в купе — и притворится мужиком,
Л сама наложит тола под корсет.
Проверяй, какого пола твой сосед!»
Тут давай его пытать я:
«Опасаюсь — маху дам!
Как проверить — лезть под платье?
Так схлопочешь по мордам…»
Но инструктор — парень дока,
Деловой — попробуй срежь!
И опять пошла морока
Про коварный зарубеж.
Популярно объясняю для невежд:
Я к болгарам уезжаю — в Будапешт.
Если темы там возникнут — сразу снять.
Бить не нужно, а не вникнут — разъяснять!
Я по-ихнему ни слова,
Ни в дугу и ни в тую!
Молоток мне — дак я любого
В своего перекую.
Но ведь я не агитатор,
Я — потомственный кузнец.
Я к полякам в Улан-Батор
Не поеду, наконец.
Сплю с женой, а мне не спится: «Дусь, а Дусь…
Может, я без заграницы обойдусь?
Я ж не ихнего замеса — я сбегу,
Я на ихнем ни бельмеса, ни гугу!»
Дуся дремлет, как ребенок,
Накрутивши бигуди.
Отвечает мне спросонок:
«Знаешь, Коля, не зуди.
Что ты, Коля, больно робок?
Я с тобою разведусь.
Двадцать лет живем бок о бок —
И все время «Дусь, а Дусь…»
Обещал, — забыл ты нешто? Ох хорош!..—
Что клеенку с Бангладешта привезешь.
Сбереги там пару рупий, не бузи.
Мне хоть че! — хоть черта в ступе привези».
Я уснул, обняв супругу,
Дусю нежную мою.
Снилось мне, что я кольчугу,
Щит и меч себе кую.
Там у них другие мерки,
Не поймешь — съедят живьем…
И все снились мне венгерки
С бородами и ружьем.
Снились Дусины клеенки цвета беж
И нахальные шпиёнки в Бангладеш,—
Поживу я, воля божья, у румын.
Говорят, Они с Поволжья, как и мы.
Агент 07
Себя от надоевшей славы спрятав
В одном из их соединенных штатов,
В глуши и в дебрях чуждых нам систем
Жил-был известный больше, чем Иуда,
Живое порожденье Голливуда —
Артист, шпион, Джеймс Бонд, агент 07.
Был этот самый парень —
Звезда, ни дать ни взять.
Настолько популярен,
Что страшно рассказать.
Да шуточное ль дело —
Почти что полубог.
Известный всем Марчелло
В сравненье с ним — щенок.
Он на своей на загородной вилле
Скрывался, чтоб его не подловили,
И умирал от скуки и тоски.
А то, бывало, встретят у квартиры,
Набросятся — и рвут на сувениры
Последние штаны и пиджаки.
Вот так и жил, как в клетке,
Ну, а в кино — потел,
Различные разведки
Дурачил, как хотел:
То ходит в чьей-то шкуре,
То в пепельнице спит,
А то на абажуре
Кого-то соблазнит.
И вот артиста этого, Джеймс Бонда,
Товарищи из ГОСаФИЛЬМОФОНДА
В совместную картину к нам зовут.
Чтоб граждане его не узнавали,
Он к нам решил приехать в одеяле —
Мол, все равно на клочья разорвут.
Вы посудите сами:
На проводах в ЮСА
Все хиппи с волосами
Побрили волоса.
С него содрали свитер,
Отгрызли вмиг часы
И растащили плиты
Со взлетной полосы.
И вот в Москве нисходит он по трапу,
Дает доллар носильщику на лапу
И личность прикрывает на ходу.
Вдруг кто-то — шасть на газике к агенту!
И — киноленту, вместо документу,
Что, мол, свои, мол, «хау-ду-ю-ду».
Огромная колонна
Стоит сама в себе —
Встречаем чемпиона
По стендовой'стрельбе.
Попал во все, что было,
Он выстрелом с руки.
Бабье с ума сходило
И даже мужики.
Довольный, что его не узнавали,
Он одеяло снял в «Национале»,
Но, несмотря на личность и акцент,
Его там обозвали оборванцем,
Который притворился иностранцем
И заявлял, что, дескать, он — агент.
Швейцар его — за ворот.
Решил открыться он:
— 07 — я!
— Вам межгород?
Так надо взять талон!
Во рту скопилась пена
И горькая слюна,
И в позе супермена
Он уселся у окна.
Но тут киношестерки прибежали
И недоразумение замяли,
И разменяли фунты на рубли.
Уборщица ворчала: — Вот же пройда!
Подумаешь — агентишка какой-то!
У нас в десятом — принц из Самали!
Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное — невероятное»
Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась,
Вместо, чтоб поесть, помыться,
Уколоться и забыться,—
Вся безумная больница
У экрана собралась.
Говорил, ломая руки,
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплел.
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол.
Уважаемый редактор!
Может, лучше про реактор?
Про любимый лунный трактор?..
Ведь нельзя же! — Хоть кричи! —
То тарелками пугают,
Дескать, подлые, летают —
То зазря людей кромсают
Филиппинские врачи.
Мы кой в чем поднаторели,—
Мы тарелки бьем весь год.
Мы на них собаку съели,
Если повар нам не врет.
А медикаментов груды —
В унитаз, кто не дурак.
Это жизнь! И вдруг — Бермуды.
Вот те раз! Нельзя же так!
Мы не сделали скандала —
Нам вождя недоставало.
Настоящих буйных мало,
Вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни
Сети есть у нас и бредни,—
Не испортят нам обедни
Злые происки врагов!
Это их худые черти
Бермутят воду во пруду.
Это все придумал Черчилль
В восемнадцатом году!
Мы про взрывы, про пожары
Сочинили ноту ТАСС,
Но примчались санитары,
Зафиксировали нас.
Тех, кто был особо боек,
Прикрутили к спинкам коек.
Бился в пене параноик,
Как ведьмак на шабаше:
«Развяжите полотенцы,
Иноверцы, изуверцы!
Нам бермуторно на сердце
И бермутно на душе».
Сорок душ посменно воют,
Раскалились добела.
Во как сильно беспокоят
Треугольные дела.
Все почти с ума свихнулись,
Даже — кто безумен был,
И тогда главврач Маргулис
Телевизор запретил.
Вот он, змей, в окне маячит,
За спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то — значит,
Фельдшер вырвет провода.
Нам осталось уколоться
И упасть на дно колодца,
И пропасть на дне колодца,
Как в Бермудах — навсегда.
Ну, а завтра спросят дети,
Навещая нас с утра:
«Папы, что сказали эти
Кандидаты в доктора?»
Мы откроем нашим чадам
Правду, им не все равно:
Удивительное — рядом,
Но оно — запрещено.
Вот дантист-надомник Рудик.
У него приемник «Грюндиг»,—
Он его ночами крутит,
Ловит, контра, ФРГ.
Он там был купцом по шмуткам —
И подвинулся рассудком,—
К нам попал в волненье жутком,
С расстревоженным желудком,
С номерочком на ноге.
Взволновал нас Рудик крайне —
Сообщением потряс,
Будто наш научный лайнер
В треугольнике погряз,
Сгинул, топливо истратив,
Весь распался на куски,
Двух безумных наших братьев
Подобрали рыбаки.
Те, кто выжил в катаклизме,
Пребывают в пессимизме.
Их вчера в стеклянной призме
К нам в больницу привезли.
И один из них, механик,
Рассказал, сбежав от нянек,
Что Бермудский многогранник —
Незакрытый пуп земли.
«Что там было? Как ты спасся?»
Каждый лез и приставал.
Но механик только трясся
И чинарики стрелял.
Он то плакал, то смеялся,
То щетинился, как еж.
Он над нами издевался.
Сумасшедший — что возьмешь?!
Взвился бьюший алкоголик,
Матершинник и крамольник:
«Надо выпить треугольник!
На троих его — даешь!»
Разошелся — так и сыпет:
«Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед,
Будь он круг, едрена вошь!»
Больно бьют по нашим душам
«Голоса» за тыщи миль.
Зря «Америку» не глушим,
Зря не давим «Израиль»!
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят —
Кормят-поят нас бермутью
Про таинственный квадрат.
Лектора из передачи!
Те, кто так или иначе
Говорят про неудачи
И нервируют народ,—
Нас берите — обреченных,—
Треугольник вас, ученых,
Превратит в умалишенных,
Ну, а нас — наоборот.
Пусть безумная идея —
Не рубите сгоряча,
Вызывайте нас скорее
Через доку главврача.
С уваженьем. Дата. Подпись.
Отвечайте нам! А то —
Если вы не отзоветесь —
Мы напишем в «Спортлото».
Милицейский протокол
Считай по-нашему, мы выпили не много.
Не вру, ей-богу! Скажи, Серега!
И если б водку гнать не из опилок,
То что б нам было с пяти бутылок!..
…Вторую пили близ прилавка в закуточке.
Но это были еще цветочки.
Потом в скверу, где детские грибочки.
Потом… не помню — дошел до точки.
Я пил из горлышка, с устатку и не евши,
Но как стекло был — остекляневший…
Ну, а когда коляска подкатила,
Тогда в нас было — семьсот на рыло!
Мы, правда, третьего насильно затащили,
Но тут промашка — переборщили!
А что очки товарищу разбили —
Так то портвейном усугубили.
Товарищ первый нам сказал, что, мол, уймитесь,
Что не буяньте, что разойдитесь.
На «разойтись» я сразу ж согласился —
И разошелся, и расходился.
Но если я кого ругал — карайте строго!
Но это — вряд ли! Скажи, Серега!
А что упал — так то от помутненья,
Орал не с горя — от отупенья.
…Теперь дозвольте пару слов без протокола.
Чему нас учит семья и школа?
Что жизнь сама таких накажет строго.
Тут мы согласны. Скажи, Серега!
Вот он проснется утром и, конечно, скажет:
Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет!
Так отпустите — вам же легче будет:
Чего возиться, раз жизнь осудит!
Вы не глядите, что Серега все кивает,—
Он соображает, он все понимает!
А что молчит — так это от волненья,
От осознанья и просветленья.
Не запирайте, люди, — плачут дома детки,
Ему же в Химки, а мне в Медведки!..
Да, все равно: автобусы не ходят,
Метро закрыто, в такси не содят.
Приятно все-таки, что нас тут уважают,
Гляди, подвозят, гляди, сажают.
Разбудит утром не петух, прокукарекав,
Сержант поднимет — как человеков!
Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся.
Я рупь заначил! Слышь, Сергей, — опохмелимся!
И все же, брат, трудна у нас дорога!
Эх, бедолага! Ну спи, Серега!..
«Не берись, коль не умеешь…»
Не берись, коль не умеешь,
Не умеючи — не трожь.
Не подмажешь — не поедешь,
А подмажешь — упадешь.
Эх, недаром говорится:
Мастер дела не боится.
А боится дело это
Ваню — мастера паркета.
Посередке всей эпохи
Ты на щетках попляши.
С женским полом шутки плохи,
А с натертым хороши!
Говорят, не нужно скоро
Будет званье полотера.
В наше время это мненье —
Роковое заблужденье.
Даже в этой пятилетке
На полу играют детки,
Проливают детки слезы
От какой-нибудь занозы.
Пусть елозят наши дети,
Пусть играются в юлу
На натертом на паркете —
На надраенном полу.
Песня завистника
Мой сосед объездил весь Союз.
Что-то ищет, а чего — не видно.
Я в дела чужие не суюсь,
Но мне очень больно и обидно.
У него на окнах плюш и шелк.
Клава его шастает в халате,
Я б в Москве с киркой уран нашел
При такой повышенной зарплате.
И сдается мне, что люди врут,—
Он нарочно ничего не ищет.
Для чего? — ведь денежки идут,
Ох, какие крупные деньжищи!
А вчера на кухне ихний сын
Головой упал у нашей двери —
И разбил нарочно мой графин,
Я — мамаше счет в тройном размере.
Ему, значит, руль — а мне пятак?!
Пусть теперь мне платит неустойку.
Я ведь не из зависти, я так —
Ради справедливости, и только.
…Ничего, я им создам уют —
Живо он квартиру обменяет.
У них денег — куры не клюют,
А у нас на водку не хватает.
Две судьбы
Жил я славно в первой трети —
Двадцать лет на белом свете, по влечению.
Жил безбедно и при деле,
Плыл куда глаза глядели — по течению.
Думал: вот она, награда —
Ведь ни веслами не надо, ни ладонями…
Комары, слепни да осы
Донимали, кровососы, да не доняли!
Слышал, с берега вначале
Мне о помощи кричали, о спасении…
Не дождались, бедолаги:
Я лежал, чумной от браги, в расслаблении.
Крутанет ли в повороте,
Завернет в водовороте — все исправится.
То разуюсь, то обуюсь,
На себя в воде любуюсь — очень ндравится!
Берега текут за лодку —
Ну, а я ласкаю глотку медовухою.
После лишнего глоточку —
Глядь: плыву не в одиночку — со старухою.
И пока я удивлялся —
Пал туман, и оказался в гиблом месте я,
И огромная старуха
Хохотнула прямо в ухо, злая бестия.
Я кричу — не слышу крика,
Не вяжу от страха лыка, вижу плохо я,
На ветру меня качает…
«Кто здесь?» Слышу, отвечает:
«Я, Нелегкая!
Брось креститься, причитая,
Не спасет тебя святая Богородица!
Кто рули да весла бросит,
Тех Нелегкая заносит — так уж водится».
Я впотьмах ищу дорогу,
Медовухи понемногу — только по сту пью.
А она не засыпает,
Впереди меня ступает тяжкой поступью.
Вот споткнулась о коренья,
От большого ожиренья гнусно охая,
У нее одышка даже,
А заносит ведь туда же, тварь нелегкая.
Вдруг навстречу нам — живая
Колченогая Кривая — морда хитрая.
«Ты, — кричит, — стоишь над бездной,
Я спасу тебя, болезный, слезы вытру я!»
Я спросил: «Ты кто такая?»
А она мне: «Я Кривая. Воз молвы везу».
И — хотя я кривобока,
Криворука, кривоока, — я, мол, вывезу…
Я воскликнул, наливая:
«Вывози меня, Кривая, я на привязи.
Я тебе и жбан поставлю,
Кривизну твою исправлю — только вывези!
И ты, Нелегкая, маманя,
На-ка истину в стакане, больно нервная!
Ты забудь себя на время,
Ты же — толстая, в гареме будешь первая!»
И упали две старухи
У бутылки медовухи в пьянь-истерику.
Я пока за кочки прячусь,
Озираюсь, задом пячусь прямо к берегу.
Лихо выгреб на стремнину —
В два гребка на середину. Ох, пройдоха я!
Чтоб вы сдохли, выпивая,
Две судьбы мои — Кривая да Нелегкая!
Греб до умопомраченья,
Правил против ли теченья, на стремнину ли,—
А Нелегкая с Кривою
От досады с перепою там и сгинули.
Летела жизнь
Я сам с Ростова, а вообще подкидыш,
Я смог бы быть с каких угодно мест,
И если ты, мой Бог, меня не выдашь,
Тогда моя свинья меня не съест.
Живу везде, сейчас, к примеру, в Туле.
Живу и не считаю ни потерь, ни барышей.
Из детства помню детский дом в ауле
В республике чечено-ингушей.
Они нам детских душ не загубили,
Делили с нами пищу и судьбу.
Летела жизнь в плохом автомобиле
И вылетала с выхлопом в трубу.
Я сам не знал, в кого я воспитаюсь.
Любил друзей, гостей и анашу.
Теперь — чуть что — за нож хватаюсь.
Которого, по счастью, не ношу.
Как сбитый куст, я по ветру волокся,
Питался при дороге, помня зло, но и добро.
Я хорошо усвоил чувство локтя,
Который мне совали под ребро.
Бывал я там, где и другие были —
Все те, с кем резал пополам судьбу.
Летела жизнь в плохом автомобиле
И вылетала с выхлопом в трубу.
Нас закалили в климате морозном,
Нет никому ни в чем отказа там.
Так что чечены, жившие при Грозном,
Намылились с Кавказа в Казахстан.
А там — Сибирь, лафа для брадобреев,
Скопление народов и нестриженых бичей,
Где место есть для зеков, для евреев
И недоистребленных басмачей.
В Анадыре что надо мы намыли,
Нам там ломы ломали на горбу.
Летела жизнь в плохом автомобиле
И вылетала с выхлопом в трубу.
Мы пили все, включая политуру,
И лак, и клей, стараясь не взболтнуть.
Мы спиртом обманули Пулю-дуру,
Так, что ли, умных нам не обмануть?
Пью водку под орехи для потехи,
Коньяк под плов с узбеками, по-ихнему — пилав.
В Норильске, например, в горячем цехе
Мы пробовали пить стальной расплав.
Мы дыры в деснах золотом забили,
Состарюсь — выну, денег наскребу.
Летела жизнь в плохом автомобиле
И вылетала с выхлопом в трубу.
Какие песни пели мы в ауле,
Как прыгали по скалам нагишом!
Пока меня с пути не завернули,
Писался я чечено-ингушом.
Одним досталась рана ножевая,
Другим — дела другие, ну, а третьим —
третья треть.
Сибирь! Сибирь — держава бичевая,
Где есть, где жить, и есть где помереть.
Я был КУДРЯВ, но кудри истребили,
Семь пядей из-за лысини во лбу.
Летела жизнь в плохом автомобиле
И вылетала с выхлопом в трубу.
Воспоминанья только потревожь я,—
Всегда одно: «На помощь! Караул!»
Вот бьют чеченов немцы из Поволжья,
А место битвы — город Барнаул.
Когда дошло почти до самосуда,
Я встал горой за горцев, чье-то горло теребя.
Те и другие были не отсюда,
Но воевали, словно за себя.
А те, кто нас на подвиги подбили,
Давно лежат и корчатся в гробу,—
Их всех свезли туда в автомобиле,
А самый главный вылетел в трубу.
Райские яблоки
Я умру, говорят, мы когда-то всегда умираем.
Съезжу на дармовых, если в спину сподобят ножом,—
Убиенных щадят, отпевают и балуют раем.
Не скажу про живых, а покойников мы бережем.
В грязь ударю лицом, завалюсь покрасивее набок,
И ударит душа на ворованных клячах в галоп.
Вот и дело с концом,—
в райских кущах покушаю яблок.
Подойду не спеша — вдруг апостол вернет, остолоп.
Чур меня самого! Наважденье, знакомое что-то,—
Неродящий пустырь и сплошное ничто — беспредел,
И среди ничего возвышались литые ворота,
И этап-богатырь — тысяч пять — на коленках сидел.
Как ржанет коренник,—
я смирил его ласковым словом,
Да репей из мочал еле выдрал и гриву заплел.
Петр-апостол, старик, что-то долго возился с засовом.
И кряхтел, и ворчал, и не смог отворить — и ушел.
Тот огромный этап не издал ни единого стона,
Лишь на корточки вдруг с онемевших колен пересел.
Вон — следы песьих лап. Да не рай это вовсе, а зона!
Все вернулось на круг, и Распятый над кругом висел.
Мыс конями глядим — вот уж истинно
зона всем зонам! —
Хлебный дух из ворот — так надежней,
чем руки вязать.
Я пока невредим, но и я нахлебался озоном,
Лепоты полон рот, и ругательства трудно сказать.
Засучив рукава пролетели две тени в зеленом.
С криком — «В рельсу стучи!» пропорхнули на
крыльях бичи.
Там малина, братва, — нас встречают
малиновым звоном!
Нет, звенели ключи — это к нам подбирали ключи.
Я подох на задах, на руках на старушечьих, дряблых,
Не к Мадонне прижат Божий сын, а к стене, как холоп.
В дивных райских садах просто
прорва мороженых яблок,
Но сады сторожат, и стреляют без промаха в лоб.
Херувимы кружат, ангел окает с вышки — занятно!
Да не взыщет Христос, — рву плоды ледяные с дерев.
Как я выстрелу рад — ускакал я на землю обратно,
Вот и яблок принес, их за пазухой телом согрев.
Я вторично умру — если надо, мы вновь умираем.
Удалось, бог ты мой, я не сам, вы мне пулю в живот.
Так сложилось в миру — всех застреленных
балуют раем,
А оттуда землей — береженого бог бережет.
В грязь ударю лицом, завалюсь после выстрела набок.
Кони хочут овса, но пора закусить удила.
Вдоль обрыва, с кнутом,
по-над пропастью, пазуху яблок
Я тебе принесу — ты меня и из рая ждала.
Баллада о вольных стрелках
Если рыщут за твоею непокорной головой,
Чтоб петлей худую шею сделать более худой,
Нет надежнее приюта —
скройся в лес, не пропадешь,—
Если продан ты кому-то с потрохами ни за грош.
Бедняки и бедолаги, презирая жизнь слуги,
И бездомные бродяги, у кого одни долги,—
Все, кто загнан, неприкаян, в этот вольный лес бегут,
Потому что здесь хозяин —
славный парень Робин Гуд!
Здесь с полслова понимают, не боятся острых слов,
Здесь с почетом принимают оторви-сорвиголов.
И скрываются до срока даже рыцари в лесах:
Кто без страха и упрека — тот всегда не при деньгах.
Знают все оленьи тропы, словно линии руки,
В прошлом слуги и холопы, ныне — вольные стрелки.
Здесь того, кто все теряет, защитят и сберегут:
По лесной стране гуляет славный парень — Робин Гуд!
И живут да поживают всем запретам вопреки
И ничуть не унывают эти вольные стрелки.
Спят, укрывшись звездным небом,
мох под ребра подложив.
Им, какой бы холод ни был, — жив, и славно, если жив.
Но вздыхают от разлуки: где-то дом и клок земли,
Да поглаживают луки, чтоб в бою не подвели.
И стрелков не сыщешь лучших.
Что же завтра, где их ждут,—
Скажет первый в мире лучник
славный парень Робин Гуд!
Баллада о времени
Замок временем срыт и укутан, укрыт
В нежный плед из зеленых побегов,
Но… развяжет язык молчаливый гранит —
И холодное прошлое заговорит
О походах, боях и победах…
Время подвиги эти не стерло:
Оторвать от него верхний пласт
Или взять его крепче за горло —
И оно снова тайны отдаст!
Упадут сто замков, и спадут сто оков,
И сойдут сто потов с целой груды веков,
И польются легенды из сотен стихов —
Про турниры, осады, про вольных стрелков.
Ты к знакомым мелодиям ухо готовь
И гляди понимающим оком.
Потому что любовь — это вечно любовь,
Даже в будущем вашем далеком.
Звонко лопалась сталь под напором меча,
Тетива от натуги дымилась,
Смерть на копьях сидела, утробно урча,
В грязь валились враги, о пощаде крича,
Победившим сдаваясь на милость.
Но не все, оставаясь живыми,
В доброте сохраняли сердца,
Защитив свое доброе имя
От заведомой лжи подлеца.
Хорошо, если конь закусил удила
И рука на копье поудобней легла,
Хорошо, если знаешь, откуда стрела,
Хуже, если по-подлому — из-за угла.
Как у вас там с мерзавцами? Бьют? Поделом!
Ведьмы вас не пугают шабашем?
Но не правда ли, зло называется злом
Даже там, в светлом будущем вашем.
И во веки веков, и во все времена
Трус, предатель — всегда презираем.
Враг есть враг, и война всё равно есть война,
И темница тесна, и свобода одна —
И всегда на нее уповаем!
Время эти понятья не стерло,
Нужно только поднять верхний пласт —
И, дымящейся кровью из горла,
Чувства вечные хлынут на нас!..
Ныне, присно, во веки веков, старина,—
И цена есть цена, и вина есть вина,
И всегда хорошо, если честь спасена,
Если другом надежно прикрыта спина.
Чистоту, простоту мы у древних берем,
Саги, сказки из прошлого тащим,
Потому что добро остается добром —
В прошлом, будущем и настоящем!
«Проделав брешь в затишье…»
Проделав брешь в затишье,
Весна идет в штыки,
И высунули крыши
Из снега языки.
Голодная до драки,
Оскалилась весна,—
Как с языка собаки,
Стекает с крыш слюна.
Весенние армии жаждут успеха,
Все ясно, и стрелы на карте прямы,
И воины в легких небесных доспехах
Врубаются в белые рати зимы.
Но рано веселиться:
Сам зимний генерал
Никак своих позиций
Без боя не сдавал.
Тайком под белым флагом
Он собирал войска —
И вдруг ударил с фланга
Мороз исподтишка.
И битва идет с переменным успехом:
Где свет и ручьи — где поземка и мгла,
И воины в легких небесных доспехах
С потерями вышли назад из котла.
Морозу удирать бы,
А он впадает в раж:
Играет с вьюгой свадьбу,
Не свадьбу — а шабаш!
Окно скрипит фрамугой —
То ветер перебрал,—
Но он напрасно с вьюгой
Победу пировал!
А в зимнем тылу говорят об успехах,
И наглые сводки приходят из тьмы,
Но воины в легких небесных доспехах
Врубаются клиньями в царство зимы.
Откуда что берется —
Сжимается без слов
Рука тепла и солнца
На горле холодов.
Не совершиться чуду:
Снег виден лишь в тылах —
Войска зимы повсюду
Бросают белый флаг.
И дальше на север идет наступленье,
Запела вода, пробуждаясь от сна,—
Весна неизбежна — ну, как обновленье,
И необходима, как — просто весна.
Кто славно жил в морозы,
Те не снимают шуб,
Но ржаво льются слезы
Из водосточных труб.
Но только грош им, нищим,
В базарный день цена —
На эту землю свыше
Ниспослана весна.
Два слова войскам: несмотря на успехи,
Не прячьте в чулан или в старый комод
Небесные легкие ваши доспехи —
Они пригодятся еще через год!
Я не успел (Тоска по романтике)
Болтаюсь сам в себе, как камень в торбе,
и силюсь разорваться на куски,
придав своей тоске значенье скорби,
но сохранив загадочность тоски…
Свет Новый не единожды открыт,
А Старый весь разбили на квадраты,
К ногам упали тайны пирамид,
К чертям пошли гусары и пираты.
Пришла пора всезнающих невежд,
Все выстроено в стройные шеренги.
За новые идеи платят деньги,
И больше нет на «эврику» надежд.
Все мои скалы ветры гладко выбрили,
Я опоздал ломать себя на них.
Все золото мое в Клондайке выбрали,
Мой черный флаг в безветрии поник.
Под илом сгнили сказочные струги,
И могикан последних замели.
Мои контрабандистские фелюги
Худые ребра сушат на мели.
Висят кинжалы добрые в углу
Так плотно в ножнах, что не втиснусь между.
Мой плот папирусный — последнюю надежду —
Волна в щепы разбила об скалу.
Вон из рядов мои партнеры выбыли —
У них сбылись гаданья и мечты.
Все крупные очки они повыбили
И за собою подожгли мосты.
Азартных игр теперь наперечет,
Авантюристов всех мастей и рангов…
По прериям пасут домашний скот,
Там кони пародируют мустангов.
И состоялись все мои дуэли,
Где б я почел участие за честь.
Там вызвать и явиться — все успели,
Все предпочли, что можно предпочесть.
Спокойно обошлись без нашей помощи
Все те, кто дело сделали мое.
И по щекам отхлестанные сволочи
Бессовестно ушли в небытие.
Я не успел произнести: «К барьеру!» —
А я за залп в Дантеса все отдам.
Что мне осталось — разве красть химеру
С туманного собора Нотр-Дам?!
В других веках, годах и месяцах
Все женщины мои отжить успели,
Позанимали все мои постели,
Где б я хотел любить — и так, и в снах.
Захвачены все мои одра смертные —
Будь это снег, трава иль простыня,—
Заплаканные сестры милосердия
В госпиталях обмыли не меня.
Мои друзья ушли сквозь решето —
Им всем досталась Лета или Прана,—
Естественною смертию — никто,
Все — противоестественно и рано.
Иные жизнь закончили свою —
Не осознав вины, не скинув платья,—
И, выкрикнув хвалу, а не проклятья,
Спокойно чашу выпили сию.
Другие — знали, ведали и прочее…
Но все они на взлете, в нужный год —
Отплавали, отпели, отпророчили…
Я не успел — я прозевал свой взлет!
Моя цыганская
В сон мне — желтые огни, И хриплю во сне я: «Повремени, повремени — Утро мудренее!» Но и утром все не так, Нет того веселья: Или куришь натощак, Или пьешь с похмелья. В кабаках — зеленый штоф, Белые салфетки — Рай для нищих и шутов, Мне ж — как птица в клетке… В церкви смрад и полумрак, Дьяки курят ладан… Нет, и в церкви все не так, Все не так, как надо! Я — на гору впопыхах, Чтоб чего не вышло,— На горе стоит ольха, Под горою вишня. Хоть бы склон увить плющом — Мне б и то отрада, Хоть бы что-нибудь еще… Все не так, как надо! Я — по полю вдоль реки: Света — тьма, нет бога! В чистом поле васильки, Дальняя дорога. Вдоль дороги — лес густой С бабами-ягами, А в конце дороги той — Плаха с топорами. Где-то кони пляшут в такт, Нехотя и плавно. Вдоль дороги все не так, А в конце — подавно. И ни церковь, ни кабак — Ничего не свято! Нет, ребята, все не так, Все не так, ребята…«Дурацкий сон, как кистенем…»
Дурацкий сон, как кистенем,
Избил нещадно:
Невнятно выглядел я в нем
И неприглядно —
Во сне я лгал, и предавал,
И льстил легко я…
А я и не подозревал
В себе такое!
Еще — сжимал я кулаки
И бил с натугой —
Но мягкой кистию руки,
А не упругой…
Тускнело сновиденье, но
Опять являлось.
Смыкались веки, и оно
Возобновлялось.
Я не шагал, а семенил
На ровном брусе —
Ни разу ногу не сменил —
Трусил и трусил;
Я перед сильным лебезил,
Пред злобным гнулся…
И сам себе я мерзок был,
Но не проснулся.
Да это бред — я свой же стон
Слыхал сквозь дрему!
Но — это мне приснился он,
А не другому.
Очнулся я — и разобрал
Обрывок стона,
И с болью веки разодрал,
Но облегченно!
И сон повис на потолке —
И распластался…
Сон в руку ли? И вот в руке
Вопрос остался!
Я вымыл руки — он в спине
Холодной дрожью!
…Что было правдою во сне,
Что было ложью?
Коль этот сон — виденье мне,—
Еще везенье.
Но если было мне во сне
Ясновиденье?..
Сон — отраженье мыслей дня?
Нет, быть не может!
Но вспомню — и всего меня
Перекорежит.
Или — в костер! Вдруг нет во мне
Шагнуть к костру сил,—
Мне будет стыдно, как во сне,
В котором струсил.
Но скажут мне: «Пой в унисон,
Жми что есть духу!..» —
И я пойму: вот это сон,
Который в руку!
«Был побег на рывок…»
Вадиму Туманову
Был побег на рывок —
Наглый, глупый, дневной.
Вологодского с ног
И — вперед головой.
И запрыгали двое,
В такт сопя на бегу,
На виду у конвоя
Да по пояс в снегу.
Положен строй в порядке образцовом,
И взвыла «Дружба» — старая пила,
И осенили знаменьем свинцовым
С очухавшихся вышек три ствола.
Все лежали плашмя,
В снег уткнули носы,
А за нами двумя —
Бесноватые псы.
Девять граммов горячие,
Как вам тесно в стволах!
Мы на мушках корячились,
Словно как на колах.
Нам добежать до берега, до цели,
Но свыше — с вышек —
все предрешено.
Там у стрелков
мы дергались в прицеле,
Умора просто, — до чего смешно.
Вот бы мне посмотреть,
С кем отправился в путь,
С кем рискнул помереть,
С кем затеял рискнуть…
Где-то виделись будто.
Чуть очухался я,
Прохрипел: «Как зовут-то?
И какая статья?»
Но поздно, зачеркнули его пули
Крестом — затылок, пояс, два плеча.
А я бежал и думал: «Добегу ли?» —
И даже не заметил сгоряча.
Я к нему, чудаку,—
Почему, мол, отстал? —
Ну, а он на боку
И мозги распластал.
Пробрало — телогрейка
Аж просохла на мне.
Лихо бьет трехлинейка,
Прямо как на войне.
Как за грудки, держался я за камни,
Когда собаки близко — не беги.
Псы покропили землю языками
И разбрелись, слизав его мозги.
Приподнялся и я,
Белый свет стервеня.
И гляжу — кумовья
Поджидают меня.
Пнули труп: «Сдох, скотина,
Нету прока с него.
За поимку — полтина,
А за смерть — ничего».
И мы прошли гуськом перед бригадой,
Потом за вахту, отряхнувши снег.
Они обратно в зону — за наградой,
А я — за новым сроком за побег.
Я сначала грубил,
А потом перестал.
Целый взвод меня бил,
Аж два раза устал.
Зря пугают тем светом —
Тут с дубьем, там с кнутом.
Врежут там — я на этом,
Врежут здесь — я на том.
А в промежутках — тишина и снеги,
Тоскуют глухари да бродит лось…
И снова вижу я себя в побеге,
Да только вижу, будто удалось.
Надо б нам вдоль реки,—
Он был тоже не слаб.
Чтоб людям не с руки,
А собакам — не с лап.
Вот и сказке конец,
Зверь бежал на ловца.
Снес, как срезал, ловец
Беглецу пол-лица.
Я гордость под исподнее упрятал,
Видал, как пятки лижут гордецы.
Пошел лизать я раны в лизолятор —
Не зализал, и вот они, рубцы.
Все взято в трубы, перекрыты краны,
Ночами только воют и скулят.
Но надо, надо сыпать соль на раны,
Чтоб лучше помнить — пусть они болят.
«Беда! Теперь мне кажется…»
Беда!
Теперь мне кажется, что мне не успеть
за собой:
Всегда
Как будто в очередь встаю за судьбой…
Дела!
Меня замучили дела — каждый миг, каждый час,
каждый день…
Дотла
Сгорело время, да и я — нет меня,
только тень!
Ты ждешь…
А может, ждать уже устал — и ушел
или спишь…
Ну, что ж,—
Быть может, мысленно со мной говоришь.
Теперь
Ты должен вечер мне один подарить,
подарить —
Поверь,
Мы будем много говорить!..
Опять!..
Все время новые дела, у меня
все дела —
Догнать,
Или успеть, или найти… Нет, опять
не нашла!
Беда!
Теперь мне кажется, что мне не успеть
за собой,—
Всегда
Последний в очереди — ты, дорогой!
Теперь
Ты должен вечер мне один подарить,
подарить —
Поверь,
Мы будем только говорить.
Подруг
Давно не вижу — все дела у меня,
все дела…
И вдруг
Сгорели пламенем дотла — не дела,
а зола!
Весь год
Он ждал, но больше ждать и дня
не хотел,—
И вот
Не стало вовсе у меня добрых дел.
Теперь
Ты должен вечер мне один подарить,
подарить —
Поверь,
Что мы не будем говорить.
Случай
Мне в ресторане вечером вчера
Сказали с юморком и с этикетом,
Что киснет водка, выдохлась икра
И что у них — ученый по ракетам.
И, многих помня — с водкой пополам,
Не разобрав, что плещется в бокале,
Я, улыбаясь, подходил к столам,
И отзывался, если окликали.
Вот он — надменный, словно Ришелье,
Как благородный папа в старом скетче…
Но это был директор ателье
И не был засекреченный ракетчик.
Со мной гитара, струны к ней в запас,
И я гордился тем, что тоже в моде.
(К науке тяга сильная сейчас,
Но и к гитаре тяга есть в народе).
Я выпил залпом — и разбил бокал!
Мгновенно мне гитару дали в руки.
Я три своих аккорда перебрал,
Запел и запил от любви к науке.
Я пел и думал: вот икра стоит,
А говорят, кеты не стало в реках…
А мой ученый где-нибудь сидит
И мыслит в миллионах и парсеках…
И, обнимая женщину в колье
И сделав вид, что хочет в песни вжиться,
Задумался директор ателье…
О том, что завтра скажет сослуживцам.
Он предложил мне позже на дому,
Успев включить магнитофон в портфеле:
«Давай дружить домами». Я ему
Сказал: «Давай: мой дом — твой Дом моделей».
И я нарочно разорвал струну
И, утаив, что есть запас в кармане,
Сказал: «Привет, зайти не премину,
Но только — если будет марсианин…»
Я шел домой под утро, как старик.
Мне под ноги катились дети с горки,
И аккуратный первый ученик
Шел в школу получать свои пятерки.
Ну что ж, мне поделом и по делам —
Лишь первые пятерки получают!..
Не надо подходить к чужим столам
И отзываться, если окликают.
«Мне судьба — до последней черты, до креста …»
Мне судьба — до последней черты, до креста —
Спорить до хрипоты, а за ней — немота,
Убеждать и доказывать с пеной у рта,
Что — не то это вовсе, не тот и не та…
Что — лабазники врут про ошибки Христа,
Что — пока еще в грунт не влежалась плита,
Триста лет под татарами — жизнь еще та,
Маета трехсотлетняя и нищета.
Но под властью татар жил Иван Калита,
И уж был не один, кто один — против ста.
Вот намерений добрых, и бунтов тщета,
Пугачевщина, кровь и опять — нищета.
Пусть не враз, пусть сперва не поймут ни черта,—
Повторю, даже в образе злого шута!
Но — не стоит предмет, да и тема не та:
«Суета всех сует — все равно суета».
Только чашу испить — не успеть на бегу,
Даже если разлить — все равно не смогу.
Или выплеснуть в наглую рожу врагу?..
Не ломаюсь, не лгу — не могу. Не могу!
На вертящемся гладком и скользком кругу
Равновесье держу, изгибаюсь в дугу!
Что же с чашею делать?! Разбить — не могу!
Потерплю — и достойного подстерегу:
Передам — и не надо держаться в кругу
И в кромешную тьму, и в неясную згу.
Другу передоверивши чашу, сбегу…
Смог ли он ее выпить — узнать не смогу.
Я с сошедшими с круга пасусь на лугу,
Я о чаше невыпитой здесь ни гугу,—
Никому не скажу, при себе сберегу,
А сказать — и затопчут меня на лугу…
Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу!
Может, кто-то когда-то поставит свечу
Мне за голый мой нерв, на котором кричу,
И веселый манер, на котором шучу…
Даже если сулят золотую парчу
Или порчу грозят Напустить, — не хочу!
На ослабленном нерве· я не зазвучу —
Я уж свой подтяну, подновлю, подвинчу!..
Лучше я загуляю, запью, заторчу,
Все, что ночью кропаю, — в чаду растопчу,
Лучше голову песне своей откручу —
Но не буду скользить, словно пыль по лучу!
Если все-таки чашу испить мне судьба,
Если музыка с Несней не слишком груба,
Если вдруг докажу, даже с пеной у рта,—
Я умру — и скажу, что не все суета!
Лирическая
Здесь лапы у елей дрожат на весу,
Здесь птицы щебечут тревожно —
Живешь в заколдованном диком лесу,
Откуда уйти невозможно.
Пусть черемухи сохнут бельем на ветру,
Пусть дождем опадают сирени.
Все равно я отсюда тебя заберу
Во дворец, где играют свирели.
Твой мир колдунами на тысячи лет
Укрыт от меня и от света,—
И думаешь ты, что прекраснее нет,
Чем лес заколдованный этот.
Пусть на листьях не будет росы поутру,
Пусть луна с небом пасмурным в ссоре…
Все равно я отсюда тебя заберу
В светлый терем с балконом на море.
В какой день недели, в котором часу
Ты выйдешь ко мне осторожно,
Когда я тебя на руках унесу
Туда, где найти невозможно?
Украду, если кража тебе по душе,—
Зря ли я столько сил разбазарил?!
Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,
Если терем с дворцом кто-то занял.
«День-деньской я с тобой, за тобой…»
День-деньской я с тобой, за тобой —
Будто только одна забота,
Будто выследил главное что-то —
То, что снимет тоску как рукой.
Это глупо — ведь кто я такой?!
Ждать меня — никакого резона,
Тебе нужен другой и — покой,
А со мной — неспокойно, бессонно.
Сколько лет ходу нет — в чем секрет?!
Может, я невезучий — не знаю!
Как бродяга, гуляю по маю,
И прохода мне нет от примет.
Может быть, наложили запрет?
Я на каждом шагу спотыкаюсь:
Видно, сколько шагов — столько бед.
Вот узнаю, в чем дело, — покаюсь.
«Запомню, оставлю в душе этот вечер…»
Запомню, оставлю в душе этот вечер —
Не встречу с друзьями, не праздничный стол:
Сегодня я сам — самый главный диспетчер,
И стрелки сегодня я сам перевел.
И пусть отправляю составы в пустыни,
Где только барханы в горячих лучах,—
Мои поезда не вернутся пустыми,
Пока мой оазис совсем не зачах.
Свое я отъездил, и даже сверх нормы.
Стою, вспоминаю, сжимая флажок,
Как мимо меня проносились платформы
И реки — с мостами, которые сжег.
Теперь отправляю составы в пустыни,
Где только барханы в горячих лучах,—
Мои поезда не вернутся пустыми,
Пока мой оазис совсем не зачах.
Они без меня понесутся по миру —
Я рук не ломаю, навзрыд не кричу.
И мне не навяжут чужих пассажиров —
Сажаю в свой поезд, кого захочу.
Итак, я отправил составы в пустыни,
Где только барханы в горячих лучах,—
Мои поезда не вернутся пустыми,
Пока мой оазис совсем не зачах.
Растаяли льды, километры и годы —
Мой первый состав возвратился назад.
Он мне не привез драгоценной породы,
Но он возвратился, и рельсы гудят.
Давай постоим и немного остынем —
Я вижу, в пути ты не встретил реки.
Я сам не поехал с тобой по пустыням —
И вот мой оазис убили пески.
Романе
Она была чиста, как снег зимой.
В грязь соболя! Иди по ним — по праву…
Но вот мне руки жжет ее письмо,
Я узнаю мучительную правду.
Не ведал я: страданье — только маска,
И маскарад закончится сейчас.
На этот раз я потерпел фиаско,—
Надеюсь, это был последний раз.
Подумал я: дни сочтены мои,
Дурная кровь в мои проникла вены.
Я сжал письмо, как голову змеи,—
Сквозь пальцы просочился яд измены.
Не ведать мне страданий и агоний,
Мне встречный ветер слезы оботрет,
Моих коней обида не нагонит,
Моих следов метель не заметет.
Итак, я оставляю позади,
Под этим серым неприглядным небом,
Дурман фиалок, наготу гвоздик
И слезы вперемешку с талым снегом.
Москва слезам не верит и слезинкам —
И не намерен больше я рыдать.
Спешу навстречу новым поединкам
И, как всегда, намерен побеждать!
Она была в Париже
Наверно, я погиб: глаза закрою — вижу.
Наверно, я погиб: робею, а потом —
Куда мне до нее, она была в Париже,
И я вчера узнал — не только в нем одном.
Какие песни пел я ей про Север дальний!
Я думал: вот чуть-чуть — и будем мы на «ты»,
Но я напрасно пел о полосе нейтральной —
Ей глубоко плевать, какие там цветы.
Я спел тогда еще — я думал, это ближе,—
«Про счетчик», «Про того, кто раньше с нею был»…
Но что ей до меня: она была в Париже —
Ей сам Марсель Марсо чего-то говорил.
Я бросил свой завод — хоть, в общем,
был не вправе,—
Засел за словари на совесть и на страх…
Но что ей до того: она уже в Варшаве —
Мы снова говорим на разных языках…
Приедет — я скажу по-польски: «Проше, пани,
Прими таким, как есть, не буду больше петь…»
Но что ей до меня: она уже в Иране,—
Я понял: мне за ней, конечно, не успеть!
Ведь она сегодня здесь, а завтра будет в Осло.
Да, я попал впросак, да, я попал в беду!..
Кто раньше с нею был и тот, кто будет после,—
Пусть пробуют они, я лучше пережду.
«Мне каждый вечер зажигают свечи…»
Мне каждый вечер зажигают свечи,
И образ твой окуривает дым.
И не хочу я знать, что время лечит,
Что все проходит вместе с ним.
Теперь я не избавлюсь от покоя:
Ведь все, что было на душе, — на год вперед,
Не ведая, она взяла с собою —
Сначала в порт, а после — в самолет…
В душе моей — пустынная пустыня.
Так что стоите над пустой моей душой?!
Обрывки песен там и паутина.
А остальное все она взяла с собой.
В моей душе все цели без дороги,
Поройтесь в ней — и вы найдете лишь
Две полуфразы, полудиалоги,
А остальное — Франция, Париж…
И пусть мне вечер зажигает свечи,
И образ твой окуривает дым…
Но не хочу я знать, что время лечит,
Что все проходит вместе с ним.
«Люблю тебя сейчас…»
Люблю тебя сейчас,
Не тайно — напоказ.
Не «после» и не «до» в лучах твоих сгораю.
Навзрыд или смеясь, но я люблю сейчас,
А в прошлом — не хочу, а в будущем — не знаю.
В прошедшем «Я любил» —
Печальнее могил,
Все нежное во мне бескрылит и стревожит.
Хотя поэт поэтов говорил:
«Я вас любил: любовь еще, быть может…»
Так говорят о брошенном, отцветшем —
И в этом жалость есть и снисходительность,
Как к свергнутому с трона королю.
Есть в этом сожаленье об ушедшем
Стремленьи, где утеряна стремительность,
И как бы недоверье к «Я люблю».
Люблю тебя теперь —
Без пятен, без потерь.
Мой век стоит сейчас — я вен не перережу!
Во время, в продолжение теперь —
Я прошлым не дышу и будущим не брежу.
Приду и вброд и вплавь
К тебе — хоть обезглавь! —
С цепями на ногах и с гирями по пуду.
Ты только по ошибке не заставь,
Чтоб после «Я люблю» добавил я «и буду».
Есть горечь в этом «буду», как ни странно,
Подделанная подпись, червоточина
И лаз для отступленья про запас,
Бесцветный яд на самом дне стакана
И, словно настоящему пощечина,—
Сомненье в том, что «Я люблю» — сейчас.
Смотрю французский сон
С обилием времен,
Где в будущем — не так, и в прошлом —
по-другому.
К позорному столбу я пригвожден,
К барьеру вызван я — языковому.
Ах — разность в языках!
Не положенье — крах!
Но выход мы вдвоем поищем — и обрящем!
Люблю тебя и в прошлых временах —
И в будущем, и в прошлом настоящем!
Баллада о любви
Когда вода Всемирного потопа
Вернулась вновь в границы берегов,
Из пены уходящего потока
На сушу тихо выбралась Любовь.
И растворилась в воздухе до срока,
А срока было — сорок сороков…
И чудаки — еще такие есть —
Вдыхают полной грудью эту смесь,
И ни наград не ждут, ни наказанья,
И, думая, что дышат просто так,—
Они внезапно попадают в такт
Такого же неровного дыханья.
Только чувству, словно кораблю,
Долго оставаться на плаву,
Прежде чем узнать, что «я люблю» —
То же, что «дышу» или «живу»!
И вдоволь будет странствий и скитаний:
Страна Любви — великая страна!
И с рыцарей своих — для испытаний —
Все строже станет спрашивать она:
Потребует разлук и расстояний,
Лишит покоя, отдыха и сна…
Но вспять безумцев не поворотить,
Они уже согласны заплатить
Любой ценой — и жизнью бы рискнули,—
Чтобы не дать порвать, чтоб сохранить
Волшебную невидимую нить,
Которую меж ними протянули.
Свежий ветер избранных пьянил,
С ног сбивал, из мертвых воскрешал,
Потому что, если не любил,—
Значит, и не жил, и не дышал!
Но многих, захлебнувшихся любовью,
Не докричишься — сколько ни зови…
Им счет ведут молва и пустословье,
Но этот счет замешен на крови…
А мы поставим свечи в изголовье
Погибших от невиданной любви…
Их голосам — всегда сливаться в такт,
И душам их дано бродить в цветах,
И вечностью дышать в одно дыханье,
И встретиться — со вздохом на устах —
На хрупких переправах и мостах,
На узких перекрестках мирозданья.
Я поля влюбленным постелю —
Пусть поют во сне и наяву!..
Я дышу, и значит — я люблю!
Я люблю, и значит — я живу!
«Если где-то в глухой, неспокойной ночи…»
Если где-то в глухой, неспокойной ночи
Ты споткнулся и ходишь по краю —
Не таись, не молчи, до меня докричи —
Я твой голос услышу, узнаю.
Если с пулей в груди ты лежишь в спелой ржи —
Потерпи: я спешу, и усталости ноги не, чуют!
Мы вернемся туда, где и воздух, и травы врачуют,—
Только ты не умри, только кровь удержи!..
Если конь под тобой, ты домчи, доскачи —
Конь дорогу отыщет буланый —
В те края, где всегда бьют живые ключи,—
И они исцелят твои раны.
Где же ты — взаперти или в долгом пути,
На каких ты сейчас перепутиях и перекрестках?!
Может быть, ты устал, приуныл,
заблудился в трех соснах —
И не можешь обратно дорогу найти?..
Здесь такой чистоты из-под снега ручьи —
Не найдешь, не придумаешь краше!
Здесь цветы, и кусты, и деревья — ничьи:
Стоит нам захотеть — будут наши!
Если трудно идешь — по колени в грязи
Да по острым камням, босиком по воде по студеной —
Пропыленный, обветренный, дымный,
огнем опаленный —
Хоть какой, — доберись, добреди, доползи!..
Маска
Смеюсь навзрыд — как у кривых зеркал.
Меня, должно быть, ловко разыграли:
Крючки носов и до ушей оскал —
Как на венецианском карнавале!
Что делать мне — бежать, да поскорей?
А может, вместе с ними веселиться?..
Надеюсь я — под масками зверей
У многих человеческие лица.
Все в масках, в париках — все, как один:
Кто сказочен, а кто — литературен…
Сосед мой слева — грустный Арлекин,
Другой — палач, а каждый третий — дурень.
Один себя старался обелить,
Другой лицо скрывает от огласки,
А кто — уже не в силах отличить
Свое лицо от непременной маски.
Я в хоровод вступаю хохоча,
Но все-таки мне неспокойно с ними:
А вдруг кому-то маска палача
Понравится — и он ее не снимет?!
Вдруг Арлекин навеки загрустит,
Любуясь сам своим лицом печальным?!
Что, если дурень свой дурацкий вид
Так и забудет на лице нормальном?!
Вокруг меня смыкается кольцо —
Меня хватают, вовлекают в пляску:
Так-так, мое нормальное лицо
Все остальные приняли за маску.
Петарды, конфетти… Но все не так.
И маски на меня глядят с укором.
Они кричат, что я опять не в такт
И наступаю на ноги партнерам.
Смеются злые маски надо мной,
Веселые — те начинают злиться,
За маской пряча, словно за стеной,
Свои людские, подлинные лица.
За музами гоняюсь по пятам,
Но ни одну не попрошу открыться:
Что, если маски сброшены, а там —
Все те же полумаски-полулица?!
Я в тайну масок все-таки проник.
Уверен я, что мой анализ точен:
И маски равнодушия у них —
Защита от плевков и от пощечин.
Но если был без маски подлецом —
Носи ее! А вы… У вас все ясно:
Зачем скрываться под чужим лицом,
Когда свое воистину прекрасно?!
Как доброго лица не прозевать,
Как честных угадать наверняка мне?!
…Они решили маски надевать,
Чтоб не разбить свое лицо о камни.
Баллада о борьбе
Средь оплывших свечей и вечерних молитв,
Средь военных трофеев и мирных костров
Жили книжные дети, не знавшие битв,
Изнывая от мелких своих катастроф.
Детям вечно досаден
Их возраст и быт,—
И дрались мы до ссадин,
До смертных обид.
Но одежды латали
Нам матери в срок,
Мы же книги глотали,
Пьянея от строк.
Липли волосы нам на вспотевшие лбы,
И сосало под ложечкой сладко от фраз,
И кружил наши головы запах борьбы,
Со страниц пожелтевших стекая на нас.
И пытались постичь
Мы, не знавшие войн,
За воинственный клич
Принимавшие вой,
Тайну слова «приказ»,
Назначенье границ,
Смысл атаки и лязг
Боевых колесниц.
А в кипящих котлах прежних боен и смут
Столько пищи для маленьких наших мозгов!
Мы на роли предателей, трусов, иуд
В детских играх своих — назначали врагов.
И злодея следам
Не давали остыть,
И прекраснейших дам
Обещали любить.
И, друзей успокоив
И ближних любя,
Мы на роли героев
Вводили себя.
Только в грезы нельзя насовсем убежать:
Краткий миг у забав — столько боли вокруг!
Попытайся ладони у мертвых разжать
И оружье принять из натруженных рук.
Испытай, завладев
Еще теплым мечом
И доспехи надев,
Что почем, что почем!
Разберись, кто ты — трус
Иль избранник судьбы,
И попробуй на вкус
Настоящей борьбы.
И когда рядом рухнет израненный друг,
И над первой потерей ты взвоешь, скорбя,
И когда ты без кожи останешься вдруг
Оттого, что убили его — не тебя,—
Ты поймешь, что узнал,
Отличил, отыскал
По оскалу забрал —
Это смерти оскал!
Ложь и зло — погляди,
Как их лица грубы,
И всегда позади —
Воронье и гробы!
Если, путь прорубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почем,—
Значит, нужные книги ты в детстве читал!
Если мяса с ножа
Ты не ел и куска,
Если руки сложа
Наблюдал свысока
И в борьбу не вступил
С подлецом, с палачом,—
Значит, в жизни ты был
Ни при чем, ни при чем!
Семья в каменном веке
А ну, отдай мой каменный топор!
И шкур моих набедренных не тронь!
Молчи, не вижу я тебя в упор,—
Сиди вон и поддерживай огонь.
Выгадывать не смей на мелочах,
Не опошляй семейный наш уклад!
Не убрана пещера и очаг,—
Разбаловалась ты в матриархат!
Придержи свое мнение,
Я — глава, и мужчина — я.
Соблюдай отношения
Первобытнообщинный.
Там мамонта убьют — поднимут вой,
Начнут добычу поровну делить…
Я не могу весь век сидеть с тобой,
Мне надо хоть кого-нибудь убить!
Старейшины сейчас придут ко мне,
Смотри еще — не выйди голой к ним!
В век каменный — и не достать камней —
Мне стыдно перед племенем своим!
Пять бы жен мне — наверное,
Разобрался бы с вами я!
Но дела мои скверные,
Потому — моногамия.
А все твоя проклятая родня!..
Мой дядя, что достался кабану,
Когда был жив — предупреждал меня:
Нельзя из людоедок брать жену.
Не ссорь меня с общиной — это ложь,
Что будто к тебе ктой-то пристает.
Не клевещи на нашу молодежь,
Она — надежда наша и оплот!
Ну, что глядишь — тебя пока не бьют,—
Отдай топор, добром тебя прошу!
И шкуры где? Ведь люди засмеют!..
До трех считаю, после — задушу!
Семейные дела в древнем Риме
Как-то вечером патриции
Собрались у Капитолия
Новостями поделиться — и
Выпить малость алкоголия.
Не вести ж бесед тверезыми!
Марк-патриций не мытарился —
Пил нектар большими дозами
И ужасно нанектарился.
И под древней под колонною
Он исторг из уст проклятия:
— Эх, с почтенною матроною
Разойдусь я скоро, братия.
Она спуталась с поэтами,
Помешалась на театрах —
Так и шастает с билетами
На приезжих гладиаторов.
«Я, — кричит, — от бескультурия
Скоро стану истеричкою…»
В общем, злобствует, как фурия,
Поощряема сестричкою.
Только цыкают и шикают…
Ох, налейте снова мне двойных!
Мне ж рабы в лицо хихикают.
На войну бы мне, да нет войны.
Я нарушу все традиции —
Мне не справиться с обеими.
Опускаюсь я, патриции,
Дую горькую с плебеями.
Я ей дом оставлю в Персии,
Пусть берет сестру-мегерочку…
А на отцовские сестерции
Я заведу себе гетерочку.
У гетер — хоть и безнравственней,
Но они не обезумели.
У гетеры пусть все явственней,
Зато родственники умерли.
Там сумею исцелиться — и
Из запоя скоро выйду я…
И пошли домой патриции,
Марку пьяному завидуя.
Про любовь в средние века
Сто сарацинов я убил во славу Ей —
Прекрасной даме посвятил я сто смертей!
Но наш король — лукавый сир —
Затеял рыцарский турнир.
Я ненавижу всех известных королей!
Вот мой соперник — рыцарь Круглого стола.
Чужую грудь мне под копье король послал.
Но — в сердце нежное Ее
Мое направлено копье…
Мне наплевать на королевские дела!
Герб на груди его — там плаха и петля.
Но будет дырка там, как в днище корабля.
Он — самый первый фаворит,
К нему король благоволит.
Но мне сегодня наплевать на короля!
Король сказал: «Он с вами справится шаля,—
И пошутил: — Пусть будет пухом вам земля!»
Я буду пищей для червей,
Тогда он женится на Ней…
Простит мне бог, я презираю короля!
Вот подан знак — друг друга взглядом пепеля,
Коней мы гоним, задыхаясь и пыля.
Забрало поднято — изволь!
Ах, как волнуется король!..
Но мне, ей-богу, наплевать на короля!
Итак, все кончено — пусть отдохнут поля.
Вот льется кровь его на стебли ковыля.
Король от бешенства дрожит,
Но мне Она принадлежит —
Мне так сегодня наплевать на короля!
…Но в замке счастливо мы не пожили с Ней —
Король в поход послал на сотни долгих дней…
Не ждет меня мой идеал,
Ведь он — король, а я — вассал,—
И рано, видимо, плевать на королей.
Антиклерикальная
Возвращаюся с работы,
Рашпиль ставлю у стены…
Вдруг — в окно порхает кто-то
Из постели от жены.
Я, конечно, вопрошаю:
Кто такой? —
А она мне отвечает:
Дух святой!
Ох, я встречу того духа —
Ох, отмечу его в ухо…
Дух — он тоже духу рознь.
Коль святой — так Машку брось!
Хоть ты — кровь голубая,
Хоть ты — белая кость,
До Христа дойду, и знаю —
Не пожалует Христос!
Машка, вредная натура,—
Так и лезет на скандал.
Разобиделася, дура,
Вроде, значит, — помешал.
Я сперва-сначала с лаской —
То да се,—
А она к стене с опаской:
Нет, и все!
Я тогда цежу сквозь зубы,
Но уже, конечно, грубо:
Хоть он возрастом и древний,
Хоть годов ему тыщ шесть —
У него в любой деревне
Две-три бабы точно есть!
Я к Марии с предложеньем
(я на выдумки мастак!),
Мол, в другое воскресенье
Ты, Мария, сделай так:
Я потопаю под утро —
Мол, пошел…
А ты прими его как будто…
Хорошо?
Ты накрой его периной
И запой — тут я с дубиной!
Он крылом — а я колом.
Он псалом — а я кайлом!
Тут, конечно, он сдается,
Честь Марии спасена!..
Потому что мне сдается,
Этот ангел — Сатана…
…Вот влетаю с криком, с древом,
Весь в надежде на испуг.
Машка плачет.
Машка, где он?
Улетел желанный дух!..
Как же это, я не знаю…
Как успел?
Да вот так вот, — отвечает,—
Улетел.
Он псалом мне прочитал
И крылом пощекотал…
— Ты шутить с живым-то мужем?!
Ах ты, скверная жена! —
Я взмахнул своим оружьем…
Смейся, смейся, Сатана!
Игра в карты в двенадцатом году
На стол колоду, господа,—
Крапленая колода!
Он подменил ее, когда,
Барон, вы пили воду.
Валет наколот, так и есть!
Барон, ваш долг погашен!
Вы проходимец, ваша честь!
Вы проходимец, ваша честь,—
И я к услугам вашим.
Что? Я не слышу ваш апарт.
О нет, так не годится…
А в это время Бонапарт,
А в это время Бонапарт
Переходил границу.
Закончить не смогли вы кон —
Верните бриллианты!
А вы, барон, и вы, виконт,
Пожалте в секунданты!
Ответьте — если я не прав,
Но наперед все лживо!
Итак, оружье ваше, граф,
Итак, оружье ваше, граф?!
За вами выбор — живо!
Вы не получите инфаркт,
Вам не попасть в больницу!..
А в это время Бонапарт,
А в это время Бонапарт
Переходил границу.
Да полно, предлагаю сам:
На шпагах, пистолетах…
Хотя сподручней было б вам —
На дамских амулетах.
Кинжал… Ах, если б вы смогли…
Я дрался им в походах!
Но вы б, конечно, предпочли —
На шулерских колодах!
Вам скоро будет не до карт,
Вам предстоит сразиться!..
А в это время Бонапарт,
А в это время Бонапарт
Переходил границу.
Не поднимайте, ничего,
Я встану сам, сумею!
Я снова вызову его,
Пусть даже протрезвею.
Барон, молчать! Виконт, не хнычь!
Плевать, что тьма народу!
Пусть он расскажет, старый хрыч,
Пусть он расскажет, старый хрыч,
Чем он крапил колоду.
Когда откроет тайну карт,
Дуэль не состоится!..
А в это время Бонапарт,
А в это время Бонапарт
Переходил границу.
А коль откажется сказать —
Клянусь своей главою:
Графиню можете считать
Сегодня же — вдовою.
И хоть я шуток не терплю,
Но я могу взбеситься.
Тогда я графу прострелю,
Тогда я графу прострелю,
Эскьюз ми, ягодицу!
Вы не получите инфаркт —
Вам предстоит сразиться!..
А в это время Бонапарт,
А в это время Бонапарт
Переходил границу.
А вы, виконт, хоть и не трус,
А все-таки скотина!
Я с вами завтра же дерусь,
Вот слово дворянина!
А вы, барон, извольте здесь
Не падать — как же можно?!
Ну а за сим, имею честь,
Ну а за сим, имею честь,—
Я спать хочу безбожно!
Стоял весенний месяц март,
Летели с юга птицы…
А в это время Бонапарт,
А в это время Бонапарт
Переходил границу.
…Ах, граф, прошу меня простить
Я вел себя бестактно.
Я в долг хотел у вас просить,
Но не решился как-то.
Хотел просить наедине —
Мне на людях неловко —
И вот пришлось устроить мне,
И вот пришлось устроить мне
Дебош и потасовку.
Я весь в долгах. Пусть я не прав,
Имейте снисхождение!
Примите уверенья, граф,
А с ними — извиненье…
О да, я выпил целый штоф —
И сразу вышел червой…
Дурак?! Вот так! Что ж, я готов!
Итак, ваш выстрел первый…
Стоял июль, а может, март…
Летели с юга птицы…
А в это время Бонапарт,
А в это время Бонапарт
Переходил границу.
«Оплавляются свечи…»
Оплавляются свечи
На старинный паркет.
Дождь стекает на плечи
Серебром с эполет.
Как в агонии, бродит
Золотое вино.
Пусть былое уходит,
Что придет — все равно.
И, в предсмертном томленье
Озираясь назад,
Убегают олени,
Нарываясь на залп.
Кто-то дуло наводит
На невинную грудь.
Пусть былое уходит,
Пусть придет что-нибудь.
Кто-то злой и умелый,
Веселясь, наугад
Мечет острые стрелы
В воспаленный закат.
Слышно в буре мелодий
Повторение нот.
Все былое уходит.
Пусть придет что придет.
Песня о петровской Руси
Как засмотрится мне нынче, как задышится?
Воздух крут перед грозой, крут да вязок.
Что споется мне сегодня, что услышится?
Птицы вещие поют — да все из сказок!
Птица Сирин мне радостно скалится,
Веселит, зазывает из гнезд.
А напротив — тоскует, печалится,
Травит душу чудной Алконост.
Словно семь заветных струн
Зазвенели в свой черед —
Это птица Гамаюн
Надежду подает!..
В синем небе, колокольнями проколотом,—
Медный колокол, медный колокол —
То ль возрадовался, то ли осерчал…
Купола в России кроют чистым золотом,
Чтобы чаще Господь замечал…
Я стою как перед вечною загадкою —
Пред великою да сказочной страною,—
Перед солоно- да горько-кисло-сладкою,
Голубою, родниковою, ржаною.
Грязью чавкая, жирной да ржавою,
Вязнут лошади по стремена,—
Но влекут меня сонной державою,
Что раскисла, опухла от сна.
Словно семь богатых лун
На пути моем встает —
То мне птица Гамаюн
Надежду подает!
Душу, сбитую утратами да тратами,
Душу, стертую перекатами,—
Если до крови лоскут истончал,—
Залатаю золотыми я заплатами,
Чтоб чаще Господь замечал…
«Как по Волге-матушке…»
Как по Волге-матушке,
по реке-кормилице —
Все суда с товарами,
струги да ладьи…
И не надорвалася,
и не притомилася —
Ноша не тяжелая,
корабли свои.
Вниз по Волге плавая,
прохожу пороги я
И гляжу на правые
берега пологие.
Там камыш шевелится,
поперек ломается,
Справа берег стелется,
слева — поднимается…
Волга песни слышала
хлеще, чем «Дубинушка»,—
В ней вода исхлестана
пулями врагов.
И плыла по матушке
наша кровь-кровинушка,
Стыла бурой пеною
возле берегов.
Долго в воды пресные
лились слезы строгие,—
Берега отвесные,
берега пологие
Плакали, измызганы
острыми подковами,
Но теперь зализаны
злые раны волнами.
Что-то с вами сделалось,
города старинные,
Там, где стены древние,
на холмах кремли,—
Словно пробудилися
молодцы былинные
И, числом несметные,
встали из земли.
Лапами грабастая,
корабли стараются —
Тянут биржи с Каспия,
тянут, надрываются,
Тянут — не оглянутся,
и на версты многие
За крутыми тянутся
берега пологие.
«Водой наполненные горсти…»
Водой наполненные горсти
Ко рту спешили поднести —
Впрок пили воду черногорцы
И жили впрок — до тридцати.
А умирать почетно было —
Средь пуль и матовых клинков
И уносить с собой в могилу
Двух-трех врагов, двух-трех. врагов.
Пока курок в ружье не стерся,
Стрелял и с седел, и с колен,
И в плен не брали черногорца —
Он просто не сдавался в плен.
А им прожить хотелось до ста,
До жизни жадным, — век с лихвой,
В краю, где гор и неба вдосталь,
И моря тоже — с головой.
Шесть сотен тысяч равных порций
Воды живой в одной горсти…
Но проживали черногорцы
Свой долгий век — до тридцати.
И жены их водой помянут;
И прячут их детей в горах
До той поры, пока не станут
Держать оружие в руках.
Беззвучно надевали траур,
И заливали очаги,
И молча лили слезы в траву,
Чтоб не услышали враги.
Чернели женщины от горя,
Как плодородная земля,—
За ними вслед чернели горы,
Себя огнем испепеля.
То было истинное мщенье
(бессмысленно себя не жгут!):
Людей и гор самосожженье —
Как несогласие и бунт.
И пять веков — как божьи кары,
Как мести сына за отца,
Пылали горные пожары
И черногорские сердца.
Цари менялись, царедворцы,
Но смерть в бою всегда в чести,
Не уважали черногорцы
Проживших больше тридцати.
…Мне одного рожденья мало —
Расти бы мне из двух корней…
Жаль, Черногория не стала
Второю родиной моей!
Мой Гамлет
Я только малость объясню в стихе,
На все я не имею полномочий…
Я был зачат, как нужно, во грехе —
В поту и в нервах первой брачной ночи.
Я знал, что, отрываясь от земли,—
Чем выше мы, тем жестче и суровей;
Я шел спокойно, прямо — в короли
И вел себя наследным принцем крови.
Я знал — все будет так, как я хочу,
Я не бывал внакладе и в уроне,
Мои друзья по школе и мечу
Служили мне, как их отцы — короне.
Не думал я над тем, что говорю,
И с легкостью слова бросал на ветер.
Мне верили и так, как главарю,
Все высокопоставленные дети.
Пугались нас ночные сторожа,
Как оспою, болело время нами.
Я спал на кожах, мясо ел с ножа
И злую лошадь мучил стременами.
Я знал, мне будет сказано: «Царуй!» —
Клеймо на лбу мне рок с рожденья выжег.
И я пьянел среди чеканных сбруй,
Был терпелив к насилью слов и книжек.
Я улыбаться мог одним лишь ртом,
А тайный взгляд, когда он зол и горек,
Умел скрывать, воспитанный шутом.
Шут мертв теперь: «Аминь!» Бедняга Йорик…
Но отказался я от дележа
Наград, добычи, славы, привилегий:
Вдруг стало жаль мне мертвого пажа,
Я объезжал зеленые побеги…
Я позабыл охотничий азарт,
Возненавидел и борзых, и гончих.
Я от подранка гнал коня назад
И плетью бил загонщиков и ловчих.
Я видел — наши игры с каждым днем
Все больше походили на бесчинства.
В проточных водах, по ночам, тайком
Я отмывался от дневного свинства.
Я прозревал, глупея с каждым днем,
Я прозевал домашние интриги.
Не нравился мне век, и люди в нем
Не нравились. И я зарылся в книги.
Мой мозг, до знаний жадный как паук,
Все постигал: недвижность и движенье,—
Но толка нет от мыслей и наук,
Когда повсюду — им опроверженье.
С друзьями детства перетерлась нить.
Нить Ариадны оказалась схемой.
Я бился над словами — «быть, не быть»,
Как над неразрешимою дилеммой.
Но вечно, вечно плещет море бед.
В него мы стрелы мечем — в сито просо,
Отсеивая призрачный ответ
От вычурного этого вопроса.
Зов предков слыша сквозь затихший гул,
Пошел на зов, — сомненья крались с тылу,
Груз тяжких дум наверх меня тянул,
А крылья плоти вниз влекли, в могилу.
В непрочный сплав меня спаяли дни —
Едва застыв, он начал расползаться.
Я пролил кровь, как все. И, как они,
Я не сумел от мести отказаться.
А мой подъем пред смертью — есть провал.
Офелия! Я тленья не приемлю.
Но я тебя убийством уравнял
С тем, с кем я лег в одну и ту же землю.
Я. Гамлет, я насилье презирал.
Я наплевал на Датскую корону,—
Но в их глазах — за трон я глотку рвал
И убивал соперника по трону.
Но гениальный всплеск похож на бред.
В рожденье смерть проглядывает косо.
А мы все ставим каверзный ответ
И не находим нужного вопроса.
Мой черный человек
Мой черный человек в костюме сером,
Он был министром, домуправом, офицером.
Как злобный клоун, он менял личины
И бил под дых, внезапно, без причины.
И, улыбаясь, мне ломали крылья,
Мой хрип порой похожим был на вой,
И я немел от боли и бессилья
И лишь шептал: — Спасибо, что живой.
Я суеверен был, искал приметы,
Что, мол, пройдет, терпи, все ерунда…
Я даже прорывался в кабинеты
И зарекался: — Больше — никогда!
Вокруг меня кликуши голосили:
В Париж мотает, словно мы в Тюмень!
Пора такого выгнать из России!
Давно пора, видать, начальству лень.
Судачили про дачу и зарплату:
Мол, денег прорва, по ночам кую.
Я все отдам! — берите без доплаты
Трехкомнатную камеру мою.
И мне давали добрые советы,
Чуть свысока, похлопав по плечу,
Мои друзья — известные поэты:
Не стоит рифмовать «кричу — торчу».
И лопнула во мне терпенья жила,
И я со смертью перешел на «ты»,—
Она давно возле меня кружила,
Побаивалась только хрипоты.
Я от суда скрываться не намерен,
Коль призовут — отвечу на вопрос.
Я до секунд всю жизнь свою измерил
И худо-бедно, а тащил свой воз.
Но знаю я, что лживо, а что свято,—
Я понял это все-таки давно.
Мой путь один, всего один, ребята,
Мне выбора, по счастью, не дано.
Две просьбы
I
Мне снятся крысы, хоботы и черти. Я
Гоню их прочь, стеная и браня,
Но вместо них я вижу виночерпия.
Он шепчет: «Выход есть: к исходу дня —
Вина! И прекратится толкотня,
Виденья схлынут, сердце и предсердие
Отпустят, и расплавится броня!»
Я — снова я, и вы теперь мне верьте, я
Немногого прошу взамен бессмертия,—
Широкий тракт, да друга, да коня,
Прошу покорно, голову склоня,
В тот день, когда отпустите меня,—
Не плачьте вслед, во имя милосердия!
II
Чту Фауста ли, Дориана Грея ли,
Но чтобы душу дьяволу — ни-ни!
Зачем цыганки мне гадать затеяли?
День смерти называли мне они…
Ты эту дату, боже сохрани,
Не отмечай в своем календаре, или
В последний миг — возьми да измени,
Чтоб я не ждал, чтоб вороны не реяли
И чтобы агнцы жалобно не блеяли,
Чтоб люди не хихикали в тени.
От них от всех, о Боже, охрани
Скорее, ибо душу мне они
Сомненьями и страхами засеяли!
О переселении душ
Кто верит в Магомета, кто — в Аллаха, кто — в Исуса,
Кто ни во что не верит — даже в черта, назло всем…
Хорошую религию придумали индусы —
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.
Стремилась ввысь душа твоя —
Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья —
Останешься свиньею.
Пусть косо смотрят на тебя — привыкни к укоризне.
Досадно — что ж, родишься вновь, на колкости горазд.
А если видел смерть врага еще при этой жизни —
В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.
Живи себе нормальненько,
Есть повод веселиться:
Ведь, может быть, в начальника
Душа твоя вселится.
Пускай живешь ты дворником,
Родишься вновь — прорабом,
А после из прораба до министра дорастешь.
Но если туп, как дерево, — родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь.
Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком…
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком?!
Какие ситуации! Простор воображению:
Был гордым и почтенным, а родился — чураком.
А если мало радует такое положение,
Скажи ещё спасибо, что не сделался скотом.
Уж лучше сразу — в дело, чем
Копить свои обиды,
Ведь если будешь мелочен —
Докатишься до гниды.
Так кто есть кто, так кто был кем —
мы никогда не знаем,—
С ума сошли генетики от ген и хромосом.
Быть может, тот облезлый кот —
был раньше негодяем,
А этот милый человек — был раньше добрым псом.
Я от восторга прыгаю,
Я обхожу искусы,—
Удобную религию
Придумали индусы.
О знаках зодиака
Неправда, над ними не бездна, не мрак —
Каталог наград и возмездий.
Любуемся мы на ночной зодиак,
На вечное танго созвездий.
Глядим, запрокинули головы вверх,
В безмолвие, тайну и вечность,—
Там трассы судеб и мгновенный наш век
Отмечены в виде невидимых вех,
Что могут хранить и беречь нас.
Горячий нектар в холода февралей —
Как сладкий елей вместо грога —
Льет звездную воду чудак Водолей
В бездонную пасть Козерога.
Вселенский поток и извилист и крут,
Окрашен то ртутью, то кровью,
Но, вырвавшись мартовской мглою из пут,
Могучие Рыбы на нерест плывут
По Млечным протокам — к верховью.
Декабрьский Стрелец отстрелялся вконец,
Он мается, копья ломая,—
И может без страха резвиться Телец
На светлых урочищах мая.
Из августа изголодавшийся Лев
Глядит на Овена в апреле.
В июнь, к Близнецам свои руки воздев,
Нежнейшие девы созвездия Дев
Весы превратили в качели.
Лучи световые пробились сквозь мрак,
Как нить Ариадны, конкретны,
Но — и Скорпион, и таинственный Рак
От нас далеки и безвредны.
На свой зодиак человек не роптал.
Да звездам страшна ли опала?!
Он эти созвездия с неба достал,
Оправил он их в драгоценный металл —
И тайна доступною стала.
Тау Кита
В далеком созвездии Тау Кита
Все стало для нас непонятно.
Сигнал посылаем: «Вы что это там?»
А нас посылают обратно.
На Тау Ките
Живут в красоте,
Живут, между прочим, по-разному
Товарищи наши по разуму.
Вот, двигаясь по световому лучу
Без помощи, но при посредстве,
Я к Тау Ките этой самой лечу,
Чтоб с ней разобраться на месте.
На Тау Кита
Чего-то не так,
Там таукитовая братия
Свихнулась, по нашим понятиям.
Покамест я в анабиозе лежу,
Те таукитяне буянят.
Все реже я с ними на связь выхожу —
Уж очень они хулиганят.
У таукитов
В алфавите слов —
Немного, и строй буржуазный,
И юмор у них безобразный.
Корабль посадил я, как собственный зад,
Слегка покривив отражатель.
Я крикнул по-таукитянски: «Виват!»,
Что значит по-нашему — «здрасьте!».
У таукитян
Вся внешность — обман,
Тут с ними нельзя состязаться:
То явятся, то растворятся…
Мне таукитянин — как вам папуас,
Мне вкратце о них намекнули.
Я крикнул: «Галактике стыдно за вас!»
В ответ они чем-то мигнули.
На Тау Ките
Условья не те:
Тут нет атмосферы, тут душно,
Но таукитяне радушны.
В запале я крикнул им: мать вашу, мол!..
Но кибернетический гид мой
Настолько дословно меня перевел.
Что мне за себя стало стыдно.
Но таукиты —
Такие скоты,—
Наверно, успели набраться:
То — явятся, то — растворятся…
«Вы, братья по полу, — кричу, — мужики!
Ну что…» Тут мой голос сорвался.
Я таукитянку схватил за грудки:
«А ну, — говорю, — признавайся!»
Она мне: «Уйди!» —
Мол, мы впереди —
Не хочем с мужчинами знаться,
А будем теперь — почковаться!
Не помню, как поднял я свой звездолет,
Лечу в настроенье питейном:
Земля ведь ушла лет на триста вперед
По гнусной теорье Эйнштейна —
Что, если и там,
Как на Тау Кита,
Ужасно повысилось знанье,
Что, если и там — почкованье?!
Что случилось в Африке
В желтой жаркой Африке,
В центральной ее части,
Как-то вдруг вне графика
Случилося несчастье.
Слон сказал, не разобрав:
«Видно, быть потопу!..»
В общем, так: один Жираф
Влюбился — в Антилопу.
Поднялся галдеж и лай,
И только старый Попугай
Громко крикнул из ветвей:
«Жираф большой — ему видней!»
«Что же, что рога у ней,—
Кричал Жираф любовно,—
Нынче в нашей фауне
Равны все пороговно.
Если вся моя родня
Будет ей не рада,
Не пеняйте на меня,
Я уйду из стада!»
Папе Антилопьему —
Зачем такого сына!
Все равно — что в лоб ему,
Что по лбу — все едино!
И Жирафов зять брюзжит:
«Видали остолопа!»
И ушли к бизонам жить
С Жирафом Антилопа.
В желтой жаркой Африке
Не видать идиллий:
Льют Жираф с Жирафихой
Слезы крокодильи…
Только горю не помочь —
Нет теперь закона:
У Жирафов вышла дочь
Замуж за Бизона.
…Пусть Жираф был неправ,
Но виновен не Жираф,
А тот, кто крикнул из ветвей:
«Жираф большой — ему видней!»
Песня про мангустов
«Змеи, змеи кругом — будь им пусто!» —
Человек в исступленье кричал,
И позвал на подмогу мангуста,
Чтобы, значит, мангуст выручал.
И мангусты взялись за работу,
Не щадя ни себя, ни родных,—
Выходили они на охоту
Без отгулов и без выходных.
И в пустынях, в степях и в пампасах
Даже дали наказ патрулям —
Игнорировать змей безопасных,
Но сводить ядовитых к нулям.
Приготовьтесь, сейчас будет грустно:
Человек появился тайком —
И поставил силки на мангуста,
Объявив его вредным зверьком.
Он наутро пришел, с ним собака,—
И мангуста упрятал в мешок,—
А мангуст отбивался, и плакал,
И кричал: «Я полезный зверек!»
Но зверьков в переломах и ранах
Все швыряли в мешок, как грибы,—
Одуревших от боли в капканах,
Ну, и от поворота судьбы.
И гадали они: в чем же дело,
Почему нас несут на убой?
И сказал им мангуст престарелый
С перебитой передней ногой:
«Козы в Бельгии съели капусту,
Воробьи — рис в Китае с полей,
А в Австралии злые мангусты
Истребили полезнейших змей!»
Это вовсе не дивное диво:
Раньше были полезны, и вдруг —
Оказалось, что слишком ретиво
Истребляли мангусты гадюк!
Вот за это им вышла награда
От расчетливых этих людей.
Видно, люди не могут без яда,
Ну, а значит, не могут без змей.
«Змеи, змеи кругом — будь им пусто!»
Человек в исступленье кричал.
И позвал на подмогу мангуста,
Чтобы, значит, мангуст выручал…
Песня о коротком счастье
Трубят рога: «Скорей, скорей!»
И копошится свита.
Душа у ловчих без затей —
Из жил воловьих свита.
Ну и забава у людей —
Убить двух белых лебедей!
И стрелы ввысь помчались…
У лучников наметан глаз,—
А эти лебеди как раз
Сегодня повстречались.
Она жила под солнцем — там,
Где синих звезд без счета,
Куда под силу лебедям
Высокого полета.
Вспари — и два крыла раскинь
В густую трепетную синь,
Скользи по божьим склонам —
В такую высь, куда и впредь
Возможно будет долететь
Лишь ангелам и стонам.
Но он и там ее настиг —
И счастлив миг единый,—
Но только был тот яркий миг
Их песней лебединой.
Крылатым ангелам сродни,
К земле направились они —
Опасная повадка!
Из-за кустов, как из-за стен,
Следят охотники за тем,
Чтоб счастье было кратко.
Вот отирают пот со лба
Виновники паденья:
Сбылась последняя мольба —
Остановись, мгновенье!
Так пелся этот вечный стих,
В пик лебединой песне их —
Счастливцев одночасья.
Они упали вниз вдвоем,
Так и оставшись на седьмом,
На высшем небе счастья.
Погоня
Во хмелю слегка лесом правил я…
Не устал пока — пел за здравие!
А умел я петь песни вздорные:
«Как любил я вас, очи черные!..»
То плелись, то неслись, то трусили рысцой,
И болотную слизь конь швырял мне в лицо.
Только я проглочу вместе с грязью слюну,
Штофу горло скручу — и опять затяну:
«Очи черные, как любил я вас…»
Но прикончил я то, что впрок припас.
Головой тряхнул, чтоб слетела блажь,
И вокруг взглянул — и присвистнул аж:
Лес стеной впереди — не пускает стена,
Кони прядут ушами, назад подают…
Где просвет, где прогал — не видать ни рожна!
Колют иглы меня, до костей достают!
Коренной ты мой, выручай же, брат!
Ты куда, родной, — почему назад?!
Дождь — как яд с ветвей — недобром пропах.
Пристяжной моей волк нырнул под пах.
Вот же пьяный дурак, вот же налил глаза —
Ведь погибель пришла, а бежать не суметь.
Из колоды моей утащили туза,
Да такого туза — без которого смерть.
Я ору волкам: «Побери вас прах!..»
А коней моих подгоняет страх.
Шевелю кнутом, бью крученые
И пою притом: «Очи черные…»
Храп, да топот, да лязг, да лихой перепляс —
Бубенцы плясовую играют с дуги!
Ах вы, кони мои, погублю же я вас,
Выносите, друзья, выносите, враги!..
От погони той даже хмель иссяк,
Мы на кряж крутой — на одних осях,—
В хлопьях пены мы, струи в кряж лились,—
Отдышались, отхрипелись да откашлялись.
Я лошадкам забитым, что не подвели,
Поклонился в копыта до самой земли,
Сбросил с воза манатки, повел в поводу…
Спаси бог вас, лошадки, что целым иду.
Дом
Что за дом притих, погружен во мрак,
На семи лихих продувных ветрах,
Всеми окнами обратясь в овраг,
А воротами — на проезжий тракт?
Хоть устать я устал, а лошадок распряг.
— Эй! Живой кто нибудь — выходи —
помоги!
Никого — только тень промелькнула в сенях,
Да стервятник спустился и сузил круги.
В дом заходишь, как… все равно в кабак.
А народишко — каждый третий — враг.
Своротят скулу — гость непрошеный.
Образа в углу — и те перекошены.
И затеялся смутный, чудной разговор.
Кто-то песню стонал и гитару терзал,
А припадочный малый — придурок и вор —
Мне тайком из-под скатерти нож показал.
Кто ответит мне, что за дом такой?
Почему во тьме, как барак чумной?
Свет лампад погас, воздух вылился.
Али жить у вас разучилися?
Двери настежь у вас, а душа взаперти!
Кто хозяином здесь — напоил бы вином?!
А в ответ мне: — Видать, был ты долго в пути
И людей позабыл — мы всегда так живем.
Траву кушаем, век на щавеле,
Скисли душами — опрыщавели,
Да еще вином много тешились,
Разоряли дом — дрались, вешались…
— Я коней заморил, от волков ускакал,
Покажите мне край, где светло от лампад!
Укажите мне место, какое искал,—
Где поют, а не стонут, где пол не покат!
— О таких домах не слыхали мы.
Долго жить впотьмах привыкали мы.
Испокону мы в зле да шепоте,
Под иконами в черной копоти!
И из смрада, где косо висят образа,
Я башку очертя гнал, забросивши кнут,
Куда кони несли да глядели глаза,
И где люди живут и как люди живут…
Сколько кануло, сколько схлынуло!
Жизнь кидала меня — не докинула.
Может, спел про вас неумело я,
Очи черные, скатерть белая!
«Мы верные, испытанные кони…»
Мы верные, испытанные кони,
Победоносцы ездили на нас,
И не один великий богомаз
Нам золотил копыта на иконе.
Пес-рыцарь или рыцарь благородный —
Хребты нам гнули тяжестию лат.
Один из наших, самый сумасбродный,
Однажды ввез Калигулу в Сенат.
Мажорный светофор
Мажорный светофор, трехцветье, трио,
Палитра-партитура цветонот.
Но где же он, мой «голубой период»?
Был? Не был? Канул иль грядет?
Представьте, черный цвет невидим глазу,
Все то, что мы считаем черным, — серо,
Мы черноты не видели ни разу —
Лишь серость пробивает атмосферу.
И ультрафиолет, и инфракрасный —
Ну, словом, все, что чересчур — не видно.
Они, как правосудье, беспристрастны,
В них все равны, прозрачны, стекловидны.
И только красный, желтый цвет бесспорен,
Зеленый тоже, зелень — в хлорофилле.
Поэтому трехцветье в светофоре
Для тех, кто пеш и кто в автомобиле.
Три этих цвета — в каждом организме,
В любом мозгу, как яркий отпечаток.
Есть, правда, отклоненье в дальтонизме,
Но дальтонизм — порок и недостаток.
Трехцветны музы, но как будто серы,
А инфра, ультра — как всегда в загоне.
Гуляют на свободе полумеры,
И «псевдо» ходят, как воры «в законе».
Все в трех цветах нашло отображенье,
Лишь изредка меняется порядок.
Три цвета избавляют от броженья,
Незыблемы, как три ряда трехрядок.
Песня Кэрролла
Этот рассказ мы с загадки начнем —
Даже Алиса ответит едва ли:
Что остается от сказки потом —
После того, как ее рассказали?
Где, например, волшебный рожок,
Добрая фея куда улетела?
А? Э!.. Так-то, дружок,
В этом-то все и дело.
Они не испаряются, они не растворяются,
Рассказанные в сказке, промелькнувшие во сне.
В страну чудес волшебную они переселяются,
Мы их, конечно, встретим в этой сказочной стране.
Много неясного в странной стране —
Можно запутаться и заблудиться.
Даже мурашки бегут по спине,
Если представить, что может случиться!
Вдруг будет пропасть — и нужен прыжок!
Струсишь ли сразу? Прыгнешь ли смело?
А? Э!.. Так-то, дружок,
В этом-то все и дело.
Добро и зло в стране чудес — как и везде —
встречаются,
Но только здесь они живут на разных берегах.
Здесь по дорогам разные истории скитаются,
И бегают фантазии на тоненьких ногах.
Ну и последнее: хочется мне,
Чтобы всегда меня вы узнавали.
Буду я птицей в волшебной стране,
«Птица Додо» меня дети прозвали.
Даже Алисе моей невдомек.
Как упакуюсь я в птичее тело.
А? Э!.. Так-то, дружок,
В этом-то все и дело.
И не такие странности в стране чудес случаются,
В ней нет границ — не нужно плыть, бежать
или лететь.
Попасть туда несложно, никому не запрещается,
В ней можно оказаться — стоит только захотеть.
…Не обрывается сказка концом.
Помнишь, тебя мы спросили вначале:
Что остается от сказки потом —
После того, как ее рассказали?
Может, не все, даже съев пирожок,
Наша Алиса во сне разглядела.
А? Э!.. Так-то, дружок,
В этом-то все и дело.
И если кто-то снова вдруг проникнуть попытается
В страну чудес волшебную в красивом, добром сне,
Тот даже то, что кажется, что только представляется.
Найдет в своей загадочной и сказочной стране.
Песня Алисы
Я страшно скучаю, я просто без сил.
И мысли приходят — меня беспокоя,—
Чтоб кто-то куда-то меня пригласил
И я там увидела что-то такое!..
Но что именно — право, не знаю.
Все советуют наперебой:
«Почитай», — я сажусь и читаю,
«Поиграй», — ну, я с кошкой играю.
Все равно я ужасно скучаю!
Сэр! Возьмите Алису с собой!
Мне так бы хотелось, хотелось бы мне
Когда-нибудь, как-нибудь выйти из дома
И вдруг оказаться вверху, в глубине,
Внутри и снаружи — где все по-другому.
Но что именно — право, не знаю.
Все советуют наперебой:
«Почитай», — ну, я с кошкой играю,
«Поиграй», — я сажусь и читаю.
Все равно я ужасно скучаю!
Сэр! Возьмите Алису с собой!
Пусть дома поднимется переполох
И пусть наказанье грозит — я согласна,—
Глаза закрываю, считаю до трех…
Что будет, что будет! Волнуюсь ужасно.
Но что именно — право, не знаю.
Все смешалось в полуденный зной:
Почитать? — я сажусь и играю,
Поиграть? — ну, я с кошкой читаю.
Все равно я скучать ужасаю!
Сэр! Возьмите Алису с собой!
Падение Алисы
Догонят ли в воздухе — или шалишь —
Летучая кошка летучую мышь,
Собака летучая — кошку летучую?
Зачем я себя этой глупостью мучаю?!
А раньше я думала, стоя над кручею:
Ах, как бы мне сделаться тучей летучею!
Ну вот! Я и стала летучею тучею.
Ну вот и решаю по этому случаю:
Догонят ли в воздухе — или шалишь —
Летучую кошку летучая мышь?..
В море слез
Слезливое море вокруг разлилось,
И вот принимаю я слезную ванну.
Должно быть, по морю из собственных слез
Плыву к Слезовитому я океану.
Растеряешься здесь поневоле —
Со стихией одна на один!
Может, зря проходили мы в школе,
Что моря — из поваренной соли…
Хоть бы льдина попалась мне, что ли,
Или встретился добрый дельфин!..
Песня мыши
Спасите! Спасите! О ужас, о ужас!
Я больше не вынырну, если нырну.
Немного проплаваю, чуть поднатужусь,
Но силы покинут — ия утону.
Вы мне по секрету ответить могли бы:
Я — рыбная мышь или мышная рыба?
Я тихо лежала в уютной норе,
Читала, мечтала и ела пюре.
И вдруг — это море около,
Как будто кот наплакал.
Я в нем, как мышь, промокла,
Продрогла, как собака.
Спасите! Спасите! Хочу я, как прежде,
В нору — на диван из сухих камышей!..
Здесь плавают девочки в верхней одежде,
Которые очень не любят мышей.
И так от лодыжек дрожу до ладошек,
А мне говорят про терьеров и кошек.
А вдруг кошкелот на меня нападет,
Решив по ошибке, что я мышелот!
Ну вот! Я зубами зацокала
От холода и страха.
Я здесь, как мышь, промокла,
Продрогла, как собака.
Песенка лягушонка Джимми и ящерки Билли
У Джимми и Билли всего в изобилье —
Давай не зевай, сортируй, собирай!..
И Джимми и Билли давно позабыли,
Когда собирали такой урожай.
И Джимми и Билли, конечно, решили
Закапывать яблоки в поте лица.
Расстроенный Билли сказал: «Или-или!
Копай, чтоб закончилась путаница!»
И Джимми и Билли друг друга побили.
Ура! Караул! Закопай! Откопай!
Ан глядь — парники все вокруг подавили.
Хозяин, где яблоки? Ну-ка, решай!
У Джимми и Билли всего в изобилье —
Давай не зевай, сортируй, собирай!..
И Джимми и Билли давно позабыли,
Когда собирали такой урожай!
Песня попугая
Послушайте все — ого-го, эге-гей! —
Меня — попугая — пирата морей!
Родился я в тыща каком-то году
В банано-лиановой чаще.
Мой папа был папа-пугай какаду,
Тогда еще не говорящий.
Но вскоре покинул я девственный лес:
Взял в плен меня страшный Фернандо Кортес.
Он начал на бедного папу кричать,
А папа Фернанде не мог отвечать,
Не мог — не умел — отвечать.
И чтоб отомстить, от зари до зари
Учил я три слова, всего только три,
Упрямо себя заставлял — повтори:
«Карамба!», «Коррида!!» и «Черт побери!!!»
Послушайте все — ого-го, эге-гей! —
Рассказ попугая — пирата морей!
Нас шторм на обратной дороге застиг,
Мне было особенно трудно.
Английский фрегат под названием «бриг»
Взял на абордаж наше судно.
Был бой рукопашный три ночи, три дня —
И злые пираты пленили меня.
Так начал я плавать на разных судах —
В районе экватора, в северных льдах…
На разных пиратских судах.
Давали мне кофе, какао, еду,
Чтоб я их приветствовал:
«Хау ду ю ду!»
Но я повторял от зари до зари:
«Карамба!», «Коррида!!» и «Черт побери!!!»
Послушайте все — ого-го, эге-гей! —
Меня — попугая — пирата морей!
Лет сто я проплавал пиратом, и что ж?
Какой-то матросик пропащий
Продал меня в рабство за ломаный грош,
А я уже был — говорящий.
Турецкий паша нож сломал пополам,
Когда я сказал ему: «Паша, садам!»
И просто кондрашка хватила пашу,
Когда он узнал, что еще я пишу,
Считаю, пою и пляшу.
Я Индию видел, Иран и Ирак.
Я — инди-и-видум — не попка-дурак.
(Так думают только одни дикари).
Карамба! Коррида!! И — черт побери!!!
Куплеты нечисти
Я Баба Яга,
вот и вся недолга.
Я езжу в немазаной ступе.
Я к русскому духу не очень строга:
Люблю его… сваренным в супе.
Ох, надоело с метелкой гонять,
Зелье я переварила.
Нет, чтой-то стала совсем изменять
Наша нечистая сила!
Добрый день, добрый тень!
Я дак Оборотень,
Неловко на днях обернулся:
Хотел превратиться в дырявый плетень,
Да вот посередке запнулся.
Кто я теперь — самому не понять,
Эк меня, братцы, скривило!..
Нет, чтой-то стала нам всем изменять
Наша нечистая сила!
Я старый больной
озорной Водяной,
Но мне надоела квартира.
Лежу под корягой, простуженный, злой,
Ведь в омуте мокро и сыро.
Вижу намедни — утопленник. Хвать!
А он меня пяткой по рылу…
Нет, перестали вконец уважать
Нашу нечистую силу!
Такие дела:
Лешачиха со зла,
Лишив меня лешевелюры,
Вчера из дупла на мороз прогнала —
У ней с Водяным шуры-муры.
Со свету стали совсем изживать,
Прост-таки гонят в могилу…
Нет, перестали совсем ублажать
Нашу нечистую силу!
Скоморохи на ярмарке
Эй, народ честной, незадачливый!
Эй вы, купчики да служилый люд,
Живо к городу поворачивай —
Зря ли в колокол с колоколен бьют!
Все ряды уже с утра
Позахвачены —
Уйма всякого добра,
Всякой всячины:
Там точильные круги —
Точат лясы,
Там лихие сапоги —
Самоплясы.
Тагарга-матагарга,
Во столице ярмарка,
Сказочно-реальная,
Цветомузыкальная.
Богачи и голь перекатная,
Покупатели все, однако, вы.
И хоть ярмарка не бесплатная,
Все на ярмарке одинаковы.
За едою в закрома
Спозараночка
Скатерть сбегает сама —
Самобраночка.
Кто не схочет есть и пить,
Тем — изнанка:
Их начнет сама бранить
Самобранка.
Тагарга-матагарга,
Во, какая ярмарка:
Праздничная, вольная,
Белохлебосольная.
Вот и шапочки-невидимочки.
Кто наденет их — станет барином.
Леденцы во рту — словно льдиночки,
И жар-птица есть в виде жареном.
Прилетали год назад
Гуси-Лебеди,—
А теперь они лежат
На столе, гляди!
Эй, слезайте с облучка,
Добры люди,
Да из Белого Бычка
Ешьте студень!
Тагарга-матагарга,
Всем богата ярмарка!
Вон орехи рядышком —
С изумрудным ядрышком!
Скоморохи здесь — все хорошие,
Скачут-прыгают через палочку.
Прибауточки скоморошие,—
Смех и грех от них — все вповалочку.
По традиции, как встарь,—
Вплавь и волоком
Привезли царь-самовар,
Как царь-колокол.
Скороварный самовар,
Он — на торфе,
Вам на выбор сварит вар
Или кофе.
Тагарга-матагарга,
Удалая ярмарка,
С плясунами резвыми,
Большей частью — трезвыми.
Вот Балда пришел, поработать чтоб:
Без работы он киснет-квасится.
Тут как тут и Поп — толоконный лоб,
Но Балда ему — кукиш с маслицем!
Разновесые весы —
Проторгуешься!
В скороходики-часы —
Не обуешься.
Скороходы-сапоги
Не залапьте!
А для стужи да пурги —
Лучше лапти.
Тагарга-матагарга,
Что за чудо ярмарка —
Звонкая, несонная,
Нетрадиционная!
Вон Емелюшка Щуку мнет в руке,
Щуке быть ухой, вкусным варевом.
Черномор Кота продает в мешке —
Слишком много Кот разговаривал.
Говорил он без тычка
Без задорины —
Все мы сказками слегка
Объегорены.
Не скупись, не стой, народ,
За ценою.
Продается с цепью Кот —
С золотою!
Тагарга-матагарга,
Упоенье — ярмарка —
Общее, повальное,
Эмоциональное!
Будет смехом-то рвать животики,
Кто отважится, разохотится
Да на коврике-самолетике
Не откажется, а прокотится.
Разрешите сделать вам
Примечание:
Никаких воздушных ям
И качания.
Ковролетчики вчера
Ночь не спали —
Пыль из этого ковра
Выбивали.
Тагарга-матагарга,
Удалася ярмарка!
Тагарга-матагарга,
Хорошо бы — надолго!
Здесь река течет — вся молочная,
Берега на ней — сплошь кисельные.
Мы вобьем во дно сваи прочные,
Запрудим ее — дело дельное.
Запрудили мы реку —
Это плохо ли?!
На кисельном берегу
Пляж отгрохали.
Но купаться нам пока
Нету смысла,
Потому — у нас река
Вся прокисла.
Тагарга-матагарга,
Не в обиде ярмарка —
Хоть залейся нашею
Кислой простоквашею!
Мы беду-напасть подожгем огнем,
Распрямим хребты втрое сложенным,
Меда хмельного до краев нальем
Всем скучающим и скукоженным.
Много тыщ имеет кто —
Тратьте тыщи те:
Даже то — не знаю что —
Здесь отыщите!
Коль на ярмарку пришли —
Так гуляйте,
Неразменные рубли —
Разменяйте!
Тагарга-матагарга,
Во какая ярмарка!
Подходи, подваливай,
Сахари, присаливай!..
Песня Марьи
Отчего не бросилась, Марьюшка, в реку ты,
Что же не замолкла-то навсегда ты,
Как забрали милого в рекруты, в рекруты,
Как ушел твой суженый во солдаты?!
Я слезами горькими горницу вымою
И на годы долгие дверь закрою,
Наклонюсь над озером ивою, ивою,
Высмотрю, как в зеркале, — что с тобою.
Травушка-муравушка — сочная, мятная —
Без тебя ломается, ветры дуют…
Долюшка солдатская — ратная, ратная:
Что — как пули грудь твою не минуют?!
Тропочку глубокую протопчу по ПОЛЮ
И венок свой свадебный впрок совью,
Дивну косу девичью — до полу, до полу —
Сберегу для милого с проседью.
Вот возьмут кольцо мое с белого блюдица,
Хоровод завертится — грустно в нем.
Пусть мое гадание сбудется, сбудется,
Пусть вернется суженый вешним днем.
Пой как прежде весело, идучи к дому, ты,
Тихим словом ласковым утешай.
А житье невестино — омуты, омуты…
Дожидает Марьюшка, поспешай!
Иван да Марья
Не сдержать меня уговорами.
Верю свято я не в него ли?
Пусть над ним кружат черны вороны,
Но он дорог мне и в неволе.
Пели веку испокон,
Да прослышала сама я,
Как в году невесть каком
Стали вдруг одним цветком
Два цветка — Иван да Марья.
Клич глашатаев
Если в этот скорбный час
Спустим рукава —
Соловей освищет нас,
И пойдет молва,
Дескать, силой царский трон
Все скудней,
Ел, мол, мало каши он, Евстигней.
Если кровь у кого горяча —
Саблей бей, пикой лихо коли!
Царь дарует вам шубу с плеча
Из естественной выхухоли.
Сей указ без обману-коварства,
За печатью, по форме точь-в-точь:
В бой — за восемь шестнадцатых царства
И за целую царскую дочь.
Да, за целую царскую дочь!
Торопись указ зачесть,
Изданный не зря:
Кто заступится за честь
Батюшки-царя,
Кто разбойника уймет —
Соловья,—
К государю попадет в сыновья!
Частушки
Подходи, народ, смелее —
Слушай, переспрашивай!
Мы споем про Евстигнея,
Государя нашего.
Вы себе представьте сцену,
Как папаша Евстигней
Дочь-царевну Аграфену
Хочет сплавить поскорей.
Но не получается —
Царевна не сплавляется.
Как-то ехал царь из леса,
Весело, спокойненько,—
Вдруг услышал свист, балбес,
Соловья-разбойника.
С той поры царя корежит,
Словно кость застряла в нем:
Пальцы в рот себе заложит —
Хочет свистнуть Соловьем!
Надо с этим бой начать,
А то начнет разбойничать.
Серенада Соловья-разбойника
Выходи, я тебе посвищу серенаду!
Кто тебе серенаду еще посвистит?
Сутки кряду могу, до упаду,
Если муза меня посетит.
Я пока еще только шутю и шалю,
Я пока на себя не похож,
Я обиду терплю,
но когда я вспылю,
Я дворец подпилю,
подпалю,
развалю,
Если ты на балкон не придешь.
Ты отвечай мне прямо, откровенно —
Разбойничую душу не трави!..
О, выйди, выйди, выйди, Аграфена,—
Послушать серенаду о любви!
Ей-ей-ей, трали-вали…
Кабы красна девица жила в полуподвале,
Я б тогда на корточки
Приседал у форточки,
Мы бы до утра проворковали.
Во лесных кладовых моих уйма товара:
Два уютных дупла, три пенечка гнилых…
Чем же я тебе, Груня, не пара,
Чем я, Феня, тебе не жених?!
Так тебя я люблю,
что ночами не сплю,
Сохну с горя у всех на виду.
Вон и голос сорвал — и хриплю, и сиплю.
Ох, я дров нарублю,
я себя погублю,
Но тебя украду, уведу!
Я женихов твоих — через колено!
Я папе твоему попорчу кровь!
О, выйди, выйди, выйди, Аграфена,
О, не губи разбойничью любовь!
Ей-ей-ей, трали-вали…
Кабы красна девица жила в полуподвале,
Я б тогда на корточки
Приседал у форточки,
Мы бы до утра проворковали.
Свадебная
Ты, звонарь-пономарь, не кемарь,
Звонкий колокол раскочегаривай!
Ты очнись, встрепенись, гармонист,
Переливами щедро одаривай!
Мы беду навек спровадили,
В грудь ей вбили кол осиновый.
Перебор сегодня — свадебный,
Звон над городом — малиновый.
Эй, гармошечка, дразни,
Не спеши, подманивай.
Главный колокол, звони,
Маленький — подзванивай.
Крикуны, певуны, плясуны!
Оглашенные, неугомонные!
Нынче пир, буйный пир на весь мир.
Все — желанные, все — приглашенные!
Как на ярмарочной площади
Вы веселие обрящете,
Там и горло прополощете,
Там споете да попляшете.
Не серчай, а получай
Чашу полновесную!
Подходи да привечай
Жениха с невестою!
Топочи, хлопочи, хохочи!
Хороводы води развеселые!
По бокам, по углам — к старикам —
Разойдись, недоёные, квелые!
Поздравляй, да с пониманием,
За застольною беседою —
Со счастливым сочетанием
Да с законною победою.
Наша свадьба — не конец
Дельцу пустяковому:
Делу доброму — венец
Да начало — новому!
Беда
Я несла свою Беду
По весеннему по льду.
Обломился лед — душа оборвалася,
Камнем под воду пошла,
А Беда — хоть тяжела,—
А за острые края задержалася.
И Беда с того вот дня
Ищет по свету меня.
Слухи ходят — вместе с ней —
с Кривотолками.
А что я не умерла,
Знала голая ветла
И еще перепела с перепелками.
Кто ж из них сказал ему,
Господину моему,—
Только выдали меня, проболталися.
И, от страсти сам не свой,
Он отправился за мной,
А за ним — Беда с Молвой увязалися.
Он настиг меня, догнал,
Обнял, на руки поднял.
Рядом с ним в седле Беда ухмылялася…
Но остаться он не мог —
Был всего один денек,
А Беда — на вечный срок задержалася.
Песня про нечисть
В заповедных и дремучих
Страшных Муромских лесах
Всяка нечисть бродит тучей
И в проезжих сеет страх:
Воет воем, что твои
упокойники…
Если есть там соловьи —
то разбойники.
Страшно, аж жуть!
В заколдованных болотах
Там кикиморы живут,—
Защекочут до икоты
И на дно уволокут.
Будь ты конный, будь ты пеший —
заграбастают,
А уж лешие —
так по лесу и шастают.
Страшно, аж жуть!
А мужик — купец и воин —
Попадал в дремучий лес —
Кто за чем: кто с перепою,
А кто сдуру в чащу лез.
По причине попадали,
без причины ли,
Только всех их и видали —
словно сгинули.
Страшно, аж жуть!
Из заморского из лесу,
Где и вовсе сущий ад,
Где такие злые бесы —
Чуть друг друга не едят,
Чтоб творить им совместное
зло потом,
Поделиться приехали
опытом.
Страшно, аж жуть!
Соловей-разбойник главный
Им устроил буйный пир,
А от них был Змей трехглавый
И слуга его — Вампир.
Пили зелье в черепах,
ели бульники,
Танцевали на гробах,
богохульники.
Страшно, аж жуть!
Змей Горыныч влез на древо,
Ну — раскачивать его:
«Выводи, Разбойник, девок,
Пусть покажут кой-чего,
Пусть нам лешие попляшут,
попоют,
А не то я, матерь вашу,
всех сгною!»
Страшно, аж жуть!
Соловей-разбойник тоже
Был не только лыком шит,—
Гикнул, свистнул, крикнул: «Рожа,
Гад, заморский паразит,
Убирайся без бою,
уматывай
И Вампира с собою
прихватывай!»
Страшно, аж жуть!
Все взревели, как медведи:
«Натерпелись — столько лет!
Ведьмы мы али не ведьмы,
Патриотки али нет?!
Налил бельма, ишь ты, клещ,
отоварился,
А еще на наших женщин
позарился!..»
Страшно, аж жуть!
…А теперь седые люди
Помнят прежние дела:
Билась нечисть грудью в груди
И друг друга извела.
Прекратилося навек
безобразие —
Ходит в лес человек
безбоязненно.
И не страшно ничуть!
Разбойничья
Как во смутной волости
Лютой, злой губернии,
Выпадали молодцу
Все шипы да тернии.
Он обиды зачерпнул, зачерпнул
Полные пригоршни,
Ну, а горе, что хлебнул,—
Не бывает горше.
Пей отраву, хоть залейся!
Благо, денег не берут.
Сколь веревочка ни вейся —
Все равно совьешься в кнут.
Гонит неудачников
По миру с котомкою.
Жизнь текет меж пальчиков
Паутинкой тонкою.
А которых повело, повлекло
По лихой дороге —
Тех ветрами сволокло
Прямиком в остроги.
Тут на милость не надейся —
Стиснуть зубы да терпеть!
Сколь веревочка ни вейся —
Все равно совьешься в плеть!
Ох, родная сторона,
Сколь в тебе ни рыскаю,
Лобным местом ты красна
Да веревкой склизкою…
А повешенным сам дьявол-сатана
Голы пятки лижет.
Смех-досада, мать честна! —
Ни пожить, ни выжить!
Ты не вой, не плачь, а смейся —
Слез-то нынче не простят.
Сколь веревочка ни вейся —
Все равно укоротят!
Ночью думы муторней.
Плотники не мешкают.
Не успеть к заутрене —
Больно рано вешают.
Ты об этом не жалей, не жалей,—
Что тебе отсрочка?
На веревочке твоей
Нет ни узелочка.
Лучше ляг да обогрейся —
Я, мол, казни не просплю…
Сколь веревочка ни вейся —
А совьешся ты в петлю!
Про дикого вепря
В королевстве, где все тихо и складно,
Где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь,
Появился дикий вепрь огромадный —
То ли буйвол, то ли бык, то ли тур.
Сам король страдал желудком и астмой,
Только кашлем сильный страх наводил.
А тем временем зверюга ужасный
Коих ел, а коих в лес волочил.
И король тотчас издал три декрета:
«Зверя надо одолеть, наконец!
Кто отважится на дело на это —
Тот принцессу поведет под венец!»
А в отчаявшемся том государстве —
Как войдешь, так сразу наискосок,—
В бесшабашной жил тоске и гусарстве
Бывший лучший королевский стрелок.
На полу лежали люди и шкуры,
Пели песни, пили мёды — и тут
Протрубили на дворе трубадуры,
Хвать стрелка! — и во дворец волокут.
И король ему прокашлял: — Не буду
Я читать тебе моралей, юнец!
Если завтра победишь Чуду-юду,
То принцессу поведешь под венец.
А стрелок: — Да это что за награда?
Мне бы выкатить портвейна бадью!
Мол, принцессу мне и даром не надо —
Чуду-юду я и так победю.
А король: — Возьмешь принцессу — и точка!
А не то тебя — раз-два! — ив тюрьму!
Это все же королевская дочка!
А стрелок: — Ну, хоть убей — не возьму!
И пока король с ним так препирался,—
Съев уже почти всех женщин и кур,
Возле самого дворца ошивался
Этот самый то ли бык, то ли тур.
Делать нечего: портвейн он отспорил,
Чуду-юду победил и убег.
Так принцессу с королем опозорил
Бывший лучший, но опальный стрелок.
О судьбе
Куда ни втисну душу я, куда себя ни дену,
За мною пес — судьба моя — беспомощна, больна.
Я гнал ее каменьями, но жмется пес к колену,
Глядит — глаза безумные и с языка слюна.
Морока мне с нею.
Я оком грустнею,
Я ликом тускнею,
Я чревом урчу,
Нутром коченею,
А горлом немею,
И жить не умею,
И петь не хочу.
Неужто старею?
Пойти к палачу,—
Пусть вздернет на рею,
А я заплачу.
Я зарекался столько раз, что на судьбу я плюну,
Но жаль ее, голодную, — ласкается, дрожит.
И стал я по возможности подкармливать
фортуну,—
Она, когда насытится, всегда подолгу спит.
Тогда я — гуляю,
Петляю, вихляю
И ваньку валяю,
И небо копчу,
Но пса охраняю —
Сам вою, сам лаю,
Когда пожелаю,
О чем захочу.
Когда постарею,
Пойду к палачу,—
Пусть вздернет скорее,
А я заплачу.
Бывают дни — я голову в такое пекло всуну,
Что и судьба попятится испуганна, бледна.
Я как-то влил стакан вина для храбрости
в фортуну,
С тех пор — ни дня без стакана. Еще ворчит она:
«Закуски — ни корки!»
Мол, я бы в Нью-Йорке
Ходила бы в норке,
Носила б парчу…
Я ноги — в опорки,
Судьбу — на закорки,
И в гору, и с горки
Пьянчугу влачу.
Я не постарею,
Пойду к палачу,—
Пусть вздернет на рею,
А я заплачу.
Однажды переперелил судьбе я ненароком —
Пошла, родимая, вразнос и изменила лик,
Хамила, безобразила и обернулась роком,
И, сзади прыгнув на меня, схватила за кадык.
Мне тяжко под нею,—
Уже я бледнею,
Уже сатанею.
Кричу на бегу:
«Не надо за шею!
Не надо за шею!!
Не надо за шею!!! —
Я петь не смогу!»
Судьбу, коль сумею,
Снесу к палачу,—
Пусть вздернет на рею,
А я заплачу.
Большой Каретный
Где твои семнадцать лет?
На Большом Каретном.
Где твои семнадцать бед?
На Большом Каретном.
Где твой черный пистолет?
На Большом Каретном.
Где тебя сегодня нет?
На Большом Каретном.
Помнишь ли, товарищ, этот дом?
Нет, не забываешь ты о нем!
Я скажу, что тот полжизни потерял,
Кто в Большом Каретном не бывал.
Еще бы…
Где твои семнадцать лет?
На Большом Каретном.
Где твои семнадцать бед?
На Большом Каретном.
Где твой черный пистолет?
На Большом Каретном.
Где тебя сегодня нет?
На Большом Каретном.
Переименован он теперь,
Стало все по-новой там, верь не верь!
И все же, где б ты ни был, где ты ни бредешь,—
Нет-нет, да по Каретному пройдешь.
Еще бы…
Где твои семнадцать лет?
На Большом Каретном.
Где твои семнадцать бед?
На Большом Каретном.
Где твой черный пистолет?
На Большом Каретном.
Где тебя сегодня нет?
На Большом Каретном.
«Истома ящерицей ползает в костях…»
Истома ящерицей ползает в костях,
И сердце с трезвой головой не на ножах.
И не захватывает дух на скоростях,
Не холодеет кровь на виражах.
И не прихватывает горло от любви,
И нервы больше не в натяжку, хочешь — рви.
Провисли нервы, как веревки от белья,
И не волнует, кто кого — он или я.
На коне — толкани — яс коня.
Только «не», только «ни» — у меня.
Не пью воды, чтоб стыли зубы, ключевой,
И ни событий, ни людей не тороплю.
Мой лук валяется со сгнившей тетивой,
Все стрелы сломаны, я ими печь топлю.
Не напрягаюсь и не рвусь, а как-то так.
Не вдохновляет даже самый факт атак.
Сорвиголов не принимаю и корю,
Про тех, кто в омут с головой — не говорю.
На коне — толкани — яс коня.
Только «не», только «ни» — у меня.
И не хочу ни выяснять, ни изменять.
И ни вязать, и ни развязывать узлы.
Углы тупые можно и не огибать,
Ведь после острых — это не углы.
Любая нежность душу не разбередит,
И не внушит никто, и не разубедит.
А так как чужды всякой всячине мозги,
То ни предчувствия не жмут, ни сапоги.
На коне — толкани — яс коня.
Только «не», только «ни» — у меня.
Не ноют раны, да и шрамы не болят —
На них наложены стерильные бинты.
И не зудят, и не свербят, не теребят
Ни мысли, ни вопросы, ни мечты.
Свободный ли, тугой ли пояс — мне-то что.
Я пули в лоб не удостоюсь — не за что.
Я весь прозрачен, как раскрытое окно,
И неприметен, как льняное полотно.
На коне — толкани — яс коня.
Только «не», только «ни» — у меня.
Ни философский камень больше не ищу,
Ни корень жизни, — ведь уже нашли женьшень.
Не посягаю, не стремлюсь, не трепещу
И не надеюсь поразить мишень.
Устал бороться с притяжением земли.
Лежу — так больше расстоянье до петли.
И сердце дергается, словно не во мне.
Пора туда, где только «ни» и только «не».
Толка нет, толкани — и с коня.
Только «не», только «ни» — у меня.
«Сыт я по горло…»
Сыт я по горло, до подбородка.
Даже от песен стал уставать.
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
Чтоб не могли запеленговать.
Друг подавал мне водку в стакане,
Друг говорил, что это пройдет.
Друг познакомил с Веркой по пьяни —
Верка поможет, а водка спасет.
Не помогли ни Верка, ни водка.
С водки похмелье, а с Верки — что взять?
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
Чтоб не смогли запеленговать.
Сыт я по горло, сыт я по глотку.
Ох, надоело петь и играть!
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
И позывных не передавать.
«В дорогу живо — или в гроб ложись…»
В дорогу живо — или в гроб ложись…
Да! Выбор небогатый перед нами.
Нас обрекли на медленную жизнь.
Мы к ней для верности прикованы цепями.
И кое-кто поверил второпях,
Поверил без оглядки, бестолково…
Но разве это жизнь — когда в цепях?
Но разве это выбор — если скован?
Коварна нам оказанная милость.
Как зелье полоумных ворожих.
Смерть от своих — за камнем притаилась,
И сзади — тоже смерть, но от чужих.
Душа застыла, тело затекло,
И мы молчим, как подставные пешки.
А в лобовое грязное стекло
Глядит и скалится позор в кривой усмешке.
А если бы оковы разломать,
Тогда бы мы и горло перегрызли
Тому, кто догадался приковать
Нас узами цепей к хваленой жизни.
Неужто мы надеемся на что-то?
А может быть, нам цепь не по зубам?
Зачем стучимся в райские ворота
Костяшками по кованым скобам?
Нам предложили выход из войны,
Но вот какую заломили цену:
Мы к долгой жизни приговорены,
Через вину, через позор, через измену.
Но стоит ли и жизнь такой цены?
Дорога не окончена — спокойно! —
И в стороне от той, большой войны
Еще возможно умереть достойно.
И рано нас равнять с болотной слизью —
Мы гнезд себе на гнили не совьем!
Мы не умрем мучительною жизнью —
Мы лучше верной смертью оживем!
«Мосты сгорели, углубились броды…»
Мосты сгорели, углубились броды,
И тесно — видим только черепа,
И перекрыты выходы и входы,
И путь один — туда, куда толпа.
И парами коней, привыкших к цугу,
Наглядно доказав, как тесен мир,
Толпа идет по замкнутому кругу…
И круг велик, и сбит ориентир.
Течет
под дождь попавшая палитра,
Врываются галопы в полонез,
Нет запахов, цветов, тонов и ритмов,
И кислород из воздуха исчез.
Ничье безумье или вдохновенье
Круговращенье это не прорвет.
Не есть ли это — вечное движенье,
Тот самый бесконечный путь вперед?
«Когда я отпою и отыграю…»
Когда я отпою и отыграю,
Чем кончу я, на чем — не угадать.
Но лишь одно наверняка я знаю —
Мне будет не хотеться умирать!
Посажен на литую цепь почета,
И звенья славы мне не по зубам…
Эй! Кто стучит в дубовые ворота
Костяшками по кованым скобам?!
Ответа нет. Но там стоят, я знаю,
Кому не так страшны цепные псы,—
И вот над изгородью замечаю
Знакомый серп отточенной косы.
…Я перетру серебряный ошейник
И золотую цепь перегрызу,
Перемахну забор, ворвусь в репейник,
Порву бока — и выбегу в грозу!
«И снизу лед, и сверху — маюсь между…»
И снизу лед, и сверху — маюсь между, Пробить ли верх иль пробуравить низ? Конечно, всплыть и не терять надежды, А там — за дело в ожиданье виз. Лед надо мною — надломись и тресни! Я весь в поту, как пахарь от сохи. Вернусь к тебе, как корабли из песни, Все помня, даже старые стихи. Мне меньше полувека — сорок с лишним, Я жив, двенадцать лет тобой и Господом храним. Мне есть что спеть, представ перед всевышним, Мне есть чем оправдаться перед ним…Корабли
Корабли постоят — и ложатся на курс, Но они возвращаются сквозь непогоды… Не пройдет и полгода — и я появлюсь, Чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, Кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется верить, что это не так, Что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь — весь в друзьях и в мечтах… Я, конечно, спою — не пройдет и полгода.КОРОТКО ОБ АВТОРЕ
Владимир Семенович Высоцкий (1938–1980) родился в Москве. Учился в инженерно-строительном институте (ушел с первого курса), затем — в школе-студии МХАТа (окончил в 1960 году).
Работал в столичных театрах — в Театре имени Пушкина, Театре миниатюр. С 1964 года — в Театре на Таганке, где сыграл более 20 ролей. Много выступал с концертами по всей стране и за рубежом. Участвовал в создании 30 художественных и телевизионных фильмов. Автор около 700 поэтических произведений.
В 1987 году удостоен звания лауреата Государственной премии СССР (посмертно).
Примечания
1
Текст составлен по расшифровкам фонограмм интервью и публичных выступлений В. С. Высоцкого 1966—1980-х годов. Печатается по изданию: Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути. — М.: Физкультура и спорт, 1988.
(обратно)2
Умер 28 декабря 1986 г. (Прим. ред.).
(обратно)3
Брехт Б. «Добрый человек из Сезуана».
(обратно)4
Спектакль «10 дней, которые потрясли мир» (1965 г.).
(обратно)



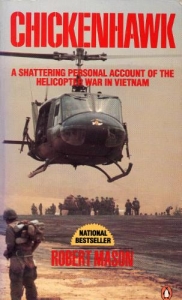
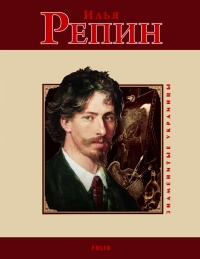


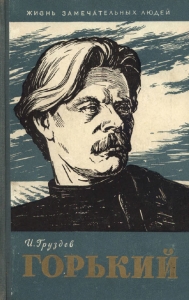
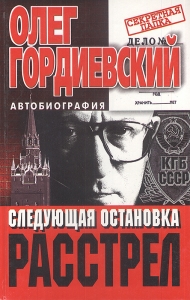

Комментарии к книге «Ни единою буквой не лгу: Стихи и песни», Владимир Семенович Высоцкий
Всего 0 комментариев