Томас Рикс Черчилль и Оруэлл: Битва за свободу
Переводчик Наталья Колпакова
Редактор Владимир Потапов
Руководитель проекта Д. Петушкова
Дизайн обложки Ю. Буга
Корректоры И. Панкова, С. Чупахина
Компьютерная верстка М. Поташкин
© 2017 by Thomas E. Ricks
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2019
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
* * *
Посвящается всем, кто борется за сохранение наших свобод
Глава 1 Два Уинстона
13 декабря 1931 г. 57-летний английский политик, парламентарий, не пользующийся расположением руководства собственной партии, вышел из такси[1] на Пятой авеню в Нью-Йорке. С этого города начиналось его лекционное турне по Америке, которым он надеялся поправить свое финансовое положение, пошатнувшееся два года назад во время биржевого краха 1929 г. Англичанин, видимо погруженный в свои проблемы, переходя улицу, машинально взглянул направо и не заметил приближавшегося слева со скоростью почти 50 км/ч автомобиля. Машина сбила его и протащила по мостовой, однако он отделался несколькими сломанными ребрами и ссадиной на голове. Погибни он тогда, сегодня его имя было бы известно лишь горстке историков, специалистов по Британии начала XX в. Но он выжил. Его звали Уинстон Черчилль.
Почти шесть лет спустя, 20 мая 1937 г., другой англичанин, проснувшись до рассвета, выбрался из неудобного блиндажа в окоп. Линия фронта проходила по северо-западу Испании, южнее Пиренеев. В стране шла гражданская война, и этот солдат-иностранец на самом деле был писателем, малоизвестным автором посредственных, плохо расходящихся романов. Он считал себя левым, но его последняя, можно сказать, нашумевшая книга, в которой в жанре журналистской социологии исследовалась бедность в Англии и критиковались социалистические идеи, вероятно, оттолкнула некоторых его друзей. Тем не менее в Испании он воевал в рядах проправительственных сил социалистов-республиканцев. Он был высокого роста, и, когда двинулся на запад по траншее, чтобы проверить бойцов своего отделения, восходящее солнце четко высветило его голову. Заметивший его снайпер-националист[2] прицелился и выстрелил с расстояния 160 метров. Пуля калибра 7 мм с оболочкой из медного сплава пробила основание шеи и чудом не задела сонную артерию. Англичанин упал. Он осознавал, что его ранило, но из-за шока не мог понять, куда именно. Услышав разговоры солдат, что пуля пробила шею, он подумал, что жить ему осталось несколько минут, поскольку никогда не слышал, чтобы с такой раной выживали. Умри он тогда, сегодня о нем не помнил бы никто, кроме разве что литературоведов, знатоков второразрядных английских романистов середины XX века. Однако он не умер. Его звали Эрик Блэр, литературный псевдоним – Джордж Оруэлл.
На первый взгляд между этими двумя людьми не было ничего общего. Отличавшийся во всех смыслах большей жизнестойкостью Черчилль родился на 28 лет раньше Оруэлла и пережил его на 15 лет. Однако в главном это были родственные души. Самые плодотворные их годы пришлись на середину ХХ в., когда оба они искали ответы на главные вопросы эпохи: Гитлер и фашизм, Сталин и коммунизм, Америка и ее превосходство перед Британией. Они подходили к ним во всеоружии интеллекта, убежденности в своих суждениях, даже если те отвергались большинством современников, и выдающегося мастерства обращения со словом. Оба верили в ключевые принципы либеральной демократии: свободу мысли, слова и собраний.
Их пути ни разу не пересеклись[3], но они восхищались друг другом на расстоянии, и когда Джордж Оруэлл начал писать роман «1984», он назвал главного героя Уинстоном. По свидетельствам очевидцев, Черчиллю книга так понравилась, что он прочел ее дважды[4].
Несмотря на все различия, они служили общему делу, считая главной для себя верность принципу свободы. В остальном это были действительно совершенно разные люди, которые прожили очень разные жизни. Бросающаяся в глаза экстравертность Черчилля, его ораторский талант и приоритетное значение вопросов национальной обороны в годы Второй мировой войны вознесли его на вершину публичной политики, во многом предопределившей характер современного мира. Флегматичный и интровертивный характер Оруэлла в сочетании с непримиримым идеализмом и стремлением к точности наблюдений и описаний заставлял его бороться за сохранение личного пространства в современном мире.
Рассматривать их параллельно мешает шумное и вездесущее присутствие Черчилля. Какое ключевое событие 1940-х гг. ни возьми, он тут как тут: участвует в нем, ораторствует о нем, а несколько лет спустя пишет о нем. Дебатировать с Черчиллем было все равно, что «спорить с духовым оркестром»[5], как посетовал один член Кабинета министров. Политический философ Исайя Берлин заметил[6], что Черчилль воспринимал жизнь как карнавальное шествие, которое возглавлял он лично. «Должен сказать, я люблю яркие цвета, – писал Черчилль. – Не могу притязать в этом отношении на беспристрастность. Меня радуют ослепительно яркие краски, а тусклые коричневые оттенки по-настоящему расстраивают»[7].
В середине XX в. эти два человека дали политический и интеллектуальный ответ на двойную тоталитарную угрозу фашизма и коммунизма. В день вступления Британии во Вторую мировую войну Черчилль заявил: «По своей внутренней сути это война за то, чтобы установить на нерушимом фундаменте права личности, война за то, чтобы утвердить и возродить достоинство человека»[8]. Оруэлл выразил ту же мысль в свойственном ему более простом стиле, написав два года спустя: «Мы живем в эпоху, которая грозит покончить с независимой личностью»[9].
Оруэлл и Черчилль поняли, что ключевой вопрос их столетия состоит не в том, кто контролирует средства производства, как считал Маркс, и не в том, как функционирует психика человека, чему учил Фрейд, а в том, как сохранить свободу личности в эпоху, когда государство со всей мощью вторгается в частную жизнь. Историк Саймон Шама назвал их архитекторами своего времени[10] и «самыми невероятными союзниками»[11]. У них имелась общая цель – не допустить дальнейшего подъема убийственной государственной машины, начавшегося в 1920–1930-х и достигшего пика в 1940-е гг.
* * *
Как-то раз в 1950-е гг. в кабинет старика-Черчилля заглянул один из его внуков и спросил, правда ли, что он величайший человек в мире. Черчилль ответил в своем стиле: «Да, а теперь убирайся»[12].
В наше время теория о том, что историю творят «великие люди», практически дискредитирована. Однако порой от одиночек зависит очень многое. Черчилль и Оруэлл оказали огромное влияние на то, как мы сегодня живем и мыслим. Конечно, не они создали процветающий либеральный послевоенный Запад с его устойчивым экономическим подъемом и последовательным распространением равных прав – на женщин, чернокожих, гомосексуалов и социально притесняемые меньшинства, но их усилия помогли создать политические, физические и интеллектуальные условия, в которых такой мир стал возможен.
Я давно восхищался ими, каждым в отдельности, но в одно неразрывное целое они превратились для меня, когда после освещения хода войны в Ираке я погрузился в изучение гражданской войны 1936–1939 гг. в Испании. Тогда я осознал, что и Оруэлл, и Черчилль были в свое время военными корреспондентами, как и я в тот момент. Оруэлл освещал гражданскую войну в Испании и участвовал в ней, Черчилль выступал в той же двойной роли в Англо-бурской войне 1899–1902 гг.[13]
* * *
Кем были эти люди, какими аргументами пользовались, чтобы отстоять место отдельного человека в современной жизни, и как пришли к своим взглядам?
Эта книга сосредоточивается на главном отрезке их жизней – на десятилетиях 1930–1940-х. Самый плодотворный период обоих приходится на один и тот же определяющий исторический промежуток – с прихода нацистов к власти в Германии и до первых лет после Второй мировой войны. В это время, когда многие их современники утратили веру в демократию, сочтя ее бессильной, ни тот ни другой ни на миг не усомнились в ценности личности для мира и следующих из этой ценности прав – права расходиться во взглядах с большинством и даже упорствовать в своем заблуждении, права сомневаться в правоте большинства, права (и необходимости) допускать, что власть может ошибаться, в особенности если облеченные ею уверены в своей непогрешимости. Оруэлл однажды написал: «Если свобода вообще что-нибудь значит, она означает право говорить людям то, чего они не хотят слышать»[14]. Для него это прежде всего были факты, которые люди не хотели признавать. Это особое право он отстаивал всю жизнь.
Черчилль помог обрести свободу, которой мы располагаем. А то, что писал Оруэлл, влияет на наши представления о ней. Поэтому жизнь и труды этих двух людей заслуживают понимания. В свою очередь, мы лучше поймем мир, в котором живем, и, возможно, будем решать его проблемы так же успешно, как они решали проблемы своего мира.
Давайте познакомимся с ними в молодости, в момент, когда они только вступали в жизнь.
Глава 2 Черчилль: Искатель приключений
В обычный для декабря на юге Англии промозглый день 1884 г. Уинстон Черчилль, десятилетний рыжеволосый новичок в школе мисс Томсон в Брайтоне, развлекался на уроке по искусству, дергая одноклассника за ухо. Наконец жертва перешла в контратаку, ткнув своего мучителя в грудь перочинным ножом.
Черчилль спокойно признавал, что был «проблемным ребенком»[15]. Тем не менее он умолчал об этом случае в своих автобиографических сочинениях, возможно, потому, что даже собственная мать позже во всем обвинила его. «Я не сомневаюсь, что Уинстон отчаянно задирал мальчика – и пусть это станет для него уроком»[16], – написала Дженни Черчилль отцу Уинстона в Индию. В конце концов, рассудила она, лезвие вошло в тело всего на полсантиметра – достаточно глубоко, чтобы остался след, но недостаточно, чтобы серьезно ранить. Через месяц, когда новости дошли до Индии, его беспутный отец лорд Рэндольф Черчилль беззаботно ответил: «Надеюсь, больше поножовщины не будет».
Родителей, обращающихся с сыном так, как Черчилли, в наше время могли бы обвинить в преступном небрежении. Его отец, восходящее светило Консервативной партии, оказывается, почти не разговаривал с отпрыском. Несколько десятилетий спустя Черчилль сумел вспомнить всего «три или четыре задушевные беседы с ним»[17]. Учившийся в школе в Брайтоне, прибрежном городе почти в 100 км от Лондона, юный Черчилль был обескуражен, узнав, что отец приезжал выступить с речью, но не остался повидаться с ним. «Вы ни разу не навестили меня в воскресенье, когда были в Брайтоне»[18], – упрекнул он отца в письме. Позднее, уже в школе Хэрроу, Черчилль развернул настоящую кампанию, чтобы залучить отца на вручение специального приза. «Вы никогда не приезжали увидеться со мной»[19], – пенял он, меланхолически добавляя, что до школы всего 30 минут на поезде от Лондона: «Если выехать в 11:07 с Бейкер-стрит, вы будете в Хэрроу в 11:37». Написал и матери: «Постарайтесь все-таки убедить папу приехать. Он ни разу не был». Лорд Рэндольф не приехал.
Матери Черчилля хватало собственных дел. Дженни Джером Черчилль, «красивая, пустая, увешанная бриллиантами женщина-пантера», по определению одного из биографов Черчилля, блистала в поздневикторианском обществе. По скромной оценке, у нее было 19 любовников[20]. Высказывались мнения, что она переспала, в общей сложности, с двумя сотнями мужчин, но добросовестные биографы считают это преувеличением. «Подозрительно круглое число»[21], – пишет один из лучших, британский политик Рой Дженкинс.
Как бы то ни было, заключает Кон Кафлин, специалист по раннему периоду жизни Черчилля, леди Рэндольф Черчилль вела «как бы выразиться помягче, активную жизнь в обществе»[22]. Во времена, когда татуировки можно было увидеть разве что у обитателей самых подозрительных портовых кварталов, она щеголяла со змеей, набитой на левом запястье[23]. После ранней смерти первого мужа, отца Уинстона, шокировала лондонское общество браком с молодым щеголем, сверстником своего сына. Мало того, разведясь с ним, она нашла третьего мужа, также одних лет с Уинстоном. Уже на склоне лет она, по слухам, сетовала: «Я никогда не привыкну быть не самой красивой женщиной в комнате»[24].
Однажды в рождественские каникулы занятые родители Черчилля подбросили его бабушке, герцогине Мальборо. Через несколько недель она с облегчением написала им: «Сегодня Уинстон возвращается в школу. Entre nous[25], я не сожалею об этом, поскольку он сущее наказание»[26].
В первой школе, где учился Черчилль, часто применялись телесные наказания – до слез и крови. «Как же я ненавидел эту школу»[27], – вспоминал он. Позже родители перевели его в маленькую прогрессивную академию в Брайтоне, где Черчиллю, вероятно, страдавшему от чего-то вроде синдрома дефицита внимания, мудро позволили изучать только предметы, которые его интересовали – «французский, историю, много поэзии, которая заучивалась наизусть, а главное, верховую езду и плавание»[28]. Однако и там он, хотя и был счастливее, умудрился стать худшим по поведению[29].
Позже его школьный воспитатель отмечал, что Черчилль отличался «забывчивостью, нерадивостью, непунктуальностью и беспорядочностью во всех отношениях»[30]. Несмотря на эти пороки, подростком он все-таки выучился писать. «В мою плоть и кровь вошли принципы построения обычного английского предложения, а это вещь благородная»[31], – писал он. Способности к английскому языку станут его главным активом на обоих поприщах, политическом и литературном, за свою жизнь он опубликует сочинения объемом около 15 млн слов[32]. Однако его формальное образование на этом закончилось, оставив на всю жизнь большие пробелы в знаниях.
Черчилль, по собственным воспоминаниям, окончил школу «весьма разочарованным»[33]. Родители сочли его недостаточно умным для карьеры юриста и отправили в армию, обычное прибежище бездарных отпрысков британских аристократических семейств. При умственной ограниченности служить было проще в пехоте, чем на флоте, который считался более важным для обороны островного государства и потому предпочитал меритократический принцип подбора кадров. Даже при весьма низкой планке Черчилль лишь с третьего раза пробился в Сандхерст, военную академию пехотных войск и кавалерии[34]. Его приняли в кавалерию, куда был ниже конкурс, поскольку немногие молодые люди могли себе позволить расходы на содержание лошадей и конюхов. «Тем, кто был внизу списка, – писал Черчилль, – предлагался упрощенный доступ в кавалерию»[35]. Этот выбор отвечал любви Черчилля к комфорту и пышности. Мало того, что можно было ездить, а не ходить, к тому же, как он замечает, «кавалерийская форма была намного великолепнее, чем у пехотинцев»[36].
Письмо отца к нему, написанное в августе 1893 г. по поводу долгожданного зачисления в Сандхерст, стоит привести полностью, чтобы ощутить невыносимый груз родительского разочарования, который Черчилль будет нести всю жизнь. Лорд Рэндольф писал сыну:
При всех преимуществах, что Вы имели, при всех способностях, которые по глупости себе приписывали и которые как будто подтверждались некоторыми Вашими знакомствами, несмотря на все усилия сделать Вашу жизнь легкой и приятной, а Вашу работу необременительной и непротивной, вот он, выдающийся результат, – Вы оказываетесь среди учеников второго и третьего списка, которые годятся лишь на службу в кавалерийском полку…
Я не стану больше писать об этом предмете, и Вам незачем трудиться отвечать на эту часть моего письма, поскольку я более не придаю ни малейшего значения ничему, что Вы можете сказать о своих достижениях и деяниях…
Вы станете заурядным прожигателем жизни, одним из сотен неудачников, выходцев из публичных школ, и впадете в жалкое несчастливое и бесплодное существование. Во всех этих бедствиях Вам придется винить лишь самого себя[37].
Лорд Рэндольф Черчилль в это время умирал, вероятно, от сифилиса, что, возможно, объясняет несколько безумный тон письма. «Он находился в тисках прогрессирующего паралича, от которого обречен был умереть»[38], – писал его внук Рэндольф, сын Уинстона Черчилля. Но и при смерти ему хватило энергии, чтобы продолжать унижать сына, с тоской написавшего матери, что, по мнению лорда Рэндольфа, он «ничего не может сделать как следует»[39]. Отец умрет в январе 1895 г., когда Уинстону будет 20 лет.
С кончиной отца в Уинстоне словно зажегся запал. Сын, который пережил такое обращение, должен вырасти совершенно уничтоженным или, при некотором везении, исключительно уверенным в себе. Черчиллю очень повезло. Смерть отца, похоже, освободила его. Следующие несколько лет он будет стремительно перемещаться – Англия, Индия на границе с Афганистаном, снова Англия, Судан, опять Индия, опять Англия, затем Южная Африка – все это время строя блестящую карьеру.
* * *
Позднее Черчилль заявит: «Я добился многого потому, что не перегружал ум, когда был молодым»[40]. Обычно он пытался превратить этот минус в плюс, утверждая в 1921 г.: «Это ошибка: читать слишком много хороших книг, когда еще молод… Молодые люди должны с такой же осмотрительностью подходить к тому, что они читают, как старики к тому, что едят. Не следует есть слишком много. Нужно хорошо пережевывать пищу»[41].
Он не учился в университете. Судя по всему, настоящее образование Черчилля началось, когда он стал практически взрослым человеком, молодым кавалерийским офицером в индийском Бангалоре. Там, вдали от дома, зимой 1896 г., им «овладело желание учиться»[42] и он неутомимо штудировал Аристотеля, Платона, Маколея, Шопенгауэра, Мальтуса и Дарвина[43].
В списке прочитанного Черчиллем особо отметим «Историю упадка и крушения Римской империи» Гиббона. «Меня сразу же покорили как повествование, так и стиль. Долгие ослепляющие часы индийского полудня, с момента, когда мы покидали конюшни, до тех пор, пока вечерние тени не объявляли час игры в поло, я посвящал Гиббону»[44]. Влияние Гиббона на стиль прозы Черчилля бросается в глаза. Это предложение, взятое практически наугад из недр третьего тома «Истории» Гиббона, могло бы быть написано Черчиллем: «Когда их длинные копья были закреплены в упорах, воины яростно гнали коней на врага; легкая кавалерия турок и арабов редко когда могла выстоять против их прямого и стремительного натиска»[45]. Сравните его с фрагментом описания Черчиллем битвы при Омдурмане под Хартумом в 1898 г.: «Когда потомки сарацин спускались с длинных пологих склонов, ведущих к реке и их врагу, они наткнулись на винтовочный огонь двух с половиной отделений обученной пехоты, выстроенной в два ряда сомкнутым строем и поддержанной по меньшей мере 70 ружьями с берега реки и канонерками, стрелявшими с равнодушной точностью»[46]. Черчилль назначил себе прочитывать ежедневно 25 страниц из Гиббона и в два раза больше из пятитомной «Истории Англии» Томаса Маколея[47].
Джордж Оруэлл однажды заметил: «Хорошая проза – как оконное стекло»[48]. Если бы проза Черчилля стала стеклом, это был бы витраж, сияющий в торце трансепта в соборе. Временами он писал цветисто, даже вычурно, но хорошо знал, что делает. Черчилль был отравлен языком, опьянен оттенками и звучанием слов. «Он любит использовать четыре или пять слов с одним значением, так старик показывает вам свои орхидеи – не из хвастовства, а потому что они ему нравятся»[49], – заметил его врач в годы войны Чарльз Уилсон.
Исайя Берлин заключает: «Язык Черчилля – это посредник между ним и миром, он создал его, потому что нуждался в нем. Его язык отличает мощный, тяжеловесный, довольно свободный и узнаваемый ритм, удобный для пародирования (в том числе самого себя), как удобен для этого любой ярко индивидуальный стиль»[50]. Однако его стиль одобряли не все. Романист Ивлин Во, пожалуй, единственный человек, предпочитавший Рэндольфа, озлобленного, пьющего сына Черчилля, самому Черчиллю, с насмешкой называл его «мастером псевдоавгустинской прозы»[51].
Как многие самоучки, Черчилль отличался глубочайшей уверенностью в своих знаниях и счастливым неведением пробелов в них. То, что он знал, он знал хорошо, но при этом упускал из виду огромный массив литературы, о чем, похоже, и не догадывался. В 1903 г. он был приглашен на ланч вместе с Генри Джеймсом, но, что объяснимо, проявил к рассуждениям Мастера меньше внимания, чем к другой персоне из Америки – сидевшей за тем же столом, красивой молодой актрисе Этель Барримор[52]. Через 12 лет он вновь встретился на обеде с Джеймсом и вновь его проигнорировал. У знакомой Черчилля, также бывшей в числе гостей, сложилось впечатление, что «он никогда не слышал о Генри Джеймсе и не мог понять, почему мы все с таким благоговейным вниманием и таким терпением слушаем этого весьма многоречивого старого человека. Он пренебрегал им, возражал ему, прерывал его, не выказывая совершенно никакого уважения»[53].
Когда его приятельница Вайолет Асквит, впоследствии Вайолет Бонэм Картер, в то время 19-летняя девушка, на званом обеде процитировала ему «Оду соловью» Китса, оказалось, что Черчилль о ней и не слыхивал, хотя ода входит в сотню самых знаменитых стихотворений на английском языке[54]. Черчилль, видимо, заметил изумление девушки, поскольку к следующей встрече выучил эту, а заодно, на всякий случай, и остальные пять од Китса, которые продекламировал ей одну за другой. Его врач однажды написал, что Черчилль, оказывается, не читал «Гамлета» до 80 лет, но это остается неподтвержденным, поскольку в более ранние периоды жизни он цитировал фрагменты шекспировской пьесы другим людям[55]. Как бы то ни было, заключил его консультант в годы войны сэр Десмонд Мортон, фактологические знания Черчилля в совокупности «были колоссальными»[56].
Бывая на публике, Черчилль редко молчал, – а публикой для него были почти все. Единственное в жизни, чем он, по воспоминаниям Вайолет Асквит, занимался молча, была живопись, которой он увлекся в зрелые годы, когда лишился должности и очутился в своего рода политической ссылке[57]. В беседах, исчерпав собственные мысли, он продолжал говорить, цитируя огромные поэтические фрагменты, часто из Байрона или Поупа[58].
Как многие писатели, особенно зарабатывающие на жизнь своим ремеслом, Черчилль выработал профессиональное отношение к работе. «Писать книгу – все равно что строить дом»[59], – заметил он однажды. Нужно собрать материалы и выстроить их на надежном фундаменте. Он подолгу размышлял о важности крепкого предложения и о том, что абзацы «должны соединяться, как автоматические сцепки железнодорожных вагонов»[60].
* * *
Научившись писать и решив задачу самообразования, Черчилль почувствовал, что готов свернуть горы. Он начал искать войны, чтобы писать о них, рассчитывая снискать определенную славу и использовать ее как основу для политической карьеры. В течение нескольких лет он лихорадочно гонялся за боевыми действиями. В 1897 г., когда на афгано-индийской границе произошла малозначительная стычка англичан с местными пуштунскими племенами, Черчилль преодолел от места службы в Бангалоре до театра боевых действий на северо-западной оконечности субконтинента около 2400 км. Однако получить назначение в Афганистан не удалось, и мать выбила ему работу – освещать ход конфликта для лондонской The Daily Telegraph, с чего началось длительное сотрудничество Черчилля с этой газетой. Когда армейская вакансия открылась, он перешел на обычную офицерскую службу. Его должны были зачислить в 31-й Пенджабский пехотный полк.
На деле Черчилль наблюдал не настоящую войну, а несколько недель перестрелок. Операция сентября 1897 г. теперь памятна лишь тем, что Черчилль был там и попал под обстрел. «Ничто в жизни так не бодрит, как когда в тебя стреляют безрезультатно»[61], – заметил он тогда.
Сослуживцам казалось, что риск доводит его до состояния эйфории. Лейтенант Дональд Маквин, недолго деливший с ним палатку в период столкновений на афганской границе, писал в дневнике, что единственное, чего боялся Черчилль в схватке, – получить ранение в рот[62].
Стычки с афганскими племенами оказались единственной войной, в которой участвовал Уинстон, и он уцепился за эту возможность, ухитрившись за два месяца раздуть считаные недели мелких столкновений, очевидцем которых стал, в небольшую «Историю Малакандского полевого корпуса». Напиши ее любой другой автор, она вряд ли увидела бы свет, но у молодого человека имелся мощный тыл в Лондоне. Его мать обратилась к литературному агенту и издателю[63] с предложением превратить заметки Черчилля в книгу. Через несколько месяцев она была издана, и мать пообещала сыну: «Я буду методично “продвигать” ее»[64], – что и сделала, расхваливая ее лондонским рецензентам и редакторам газет.
«История Малакандского полевого корпуса» – незрелое сочинение, несколько злоупотребляющее назойливым остроумием при описании событий краткой наступательной операции британцев. О войне христиан с мусульманскими племенами Черчилль с тяжеловесной иронией замечает: «К счастью, миролюбивая религия обычно лучше вооружена»[65]. В этой прозе чувствуется рисовка крутого парня: «Около полудюжины выстрелов в сторону лагеря имели единственный результат – потревожили чуткий сон»[66]. Тот, кого будил неприятельский огонь над головой, сочтет это высказывание неправдоподобным, хотя бы потому, что неизвестно, сколько продлится стрельба и не усилится ли она.
Сам автор не испытывал сомнений насчет своей книги: «Мой стиль хорош, отчасти даже классичен»[67]. Это преувеличение, но и в нем проглядывает будущий Черчилль.
Возможно, самым важным для Черчилля было то, что его книга удостоилась лестных упоминаний. После двух десятилетий игнорирования, пренебрежения и унижения одобрение оказалось для этого молодого человека желанным и непривычным удовольствием. «Чтение положительных рецензий невероятно тонизировало его, – утверждал Саймон Рид в своем исследовании. – Никогда прежде Черчилля не хвалили так. Он вырос, привыкнув в школьные годы слышать выражение недовольства от отца и учителей»[68].
Черчилль в Африке
Итак, карьера молодого Уинстона Черчилля началась. Он взял в полку отпуск, сел на корабль, идущий домой, в Англию, и предстал в Лондоне в качестве начавшего публиковаться автора. Книга помогла ему завязать знакомства с важными людьми, и Черчилль воспользовался этим, чтобы добиться назначения в состав организовывавшейся британской экспедиции для борьбы с исламистами в Судане. Там, всего через год после первого опыта военных действий, Черчилль оказался в очередной заварушке. Он участвовал в кавалерийской атаке под Хартумом, где британцы истребили воинов из суданских племен, и превратил этот опыт в новую книгу «Речная война». После этого Черчилль вернулся в Индию, сыграл в турнире по поло и завершил свои отношения с армией.
Его влекла политическая карьера. Благодаря газетным заметкам и двум книгам он создал себе достаточно известное имя, чтобы включиться в борьбу за место в парламенте. В июле 1899 г., 25 лет от роду, Черчилль участвовал в выборах и проиграл их с незначительной разницей в голосах. Это было достаточно веское основание видеть в нем перспективного политика.
Воинская удача продолжала сопутствовать ему. На периферии империи назревала очередная битва. Меньше чем через четыре месяца после выборов Черчилль отправился в Южную Африку освещать конфликт, которому вскоре предстояло стать Англо-бурской войной[69]. Терпеть военные тяготы он не собирался и захватил с собой два ящика вина, 18 бутылок виски и по шесть бутылок портвейна, бренди и вермута. В конце октября 1899 г. Черчилль прибыл в Южную Африку. Менее чем через год он вернется в Англию знаменитым.
Приключения начались 15 ноября 1899 года. Не пробыв в Южной Африке и двух недель и, по собственным воспоминаниям, «стремясь к неприятностям»[70], Черчилль оказался в британском бронепоезде, отправленном на фронт в разведывательную операцию. Едва пыхтящий состав оказался на территории, удерживаемой бурами, как попал под обстрел легких пулеметов противника. Машинист прибавил скорость, и часть состава сошла с рельсов: видимо, буры подорвали железнодорожное полотно.
Черчилль начал действовать. Больше часа он под огнем помогал организовывать людей, расчищать пути от перевернувшихся вагонов и подцеплять устоявшие на рельсах к паровозу. Наконец полный раненых состав начал отступать со скоростью пешехода. Солдаты, которые могли идти сами, отступали под прикрытием паровоза, который, однако, нарушив наспех составленный план, начал разгоняться, оставив их на виду. Черчилль велел машинисту остановиться на дальнем конце моста через реку Блю Кранц, а сам стал пробираться вдоль состава, чтобы собрать пехотинцев. Вскоре он встретил людей, но не британцев. К нему подъехал всадник с винтовкой. Черчилль потянулся к кобуре и увидел, что она пуста – он вытащил револьвер, когда помогал запускать машину. Он сдался и оказался в плену у буров.
Для неукротимо энергичного молодого человека положение военнопленного было почти пыткой. Его держали вместе с другими британскими офицерами в здании школы в Претории, бурской столице. «Часы ползут, как разбитая параличом сороконожка. Никаких развлечений. Читать трудно, писать невозможно… Я буквально ненавидел каждую минуту своего плена больше, чем когда-либо ненавидел любой другой период жизни»[71], – вспоминал Черчилль. Он протестовал, заявлял, что он военный корреспондент, однако буры отвечали, что он был вооружен и помогал британским военным во время боя.
Однажды ночью в середине декабря 1899 г., пробыв в плену меньше месяца, Черчилль взобрался на стену, ускользнул от часовых (возможно, не обошлось без небольшого подкупа) и, ориентируясь по звездам, пошел к железной дороге, находившейся примерно в полумиле. Добравшись до нее, он лег на землю возле путей и дождался момента, когда поезд начал отходить от станции. «Тогда я бросился к вагонам, попытался схватиться за что-то, промахнулся, снова попытался, снова промахнулся, уцепился за подобие поручня, потерял опору под ногами – мои ботинки бились о рельсы»[72]. Черчилль лег на кучу пустых мешков из-под угля и заснул. Ему казалось, что нет колыбельной прекраснее, «чем дребезжание поезда, увозящего бежавшего пленника со скоростью двадцать миль в час из вражеской столицы».
Это было идеальное приключение для молодого, подающего надежды империалиста. Черчилль пробирался к границе с Португальской Восточной Африкой, проходившей примерно в 440 км от Претории. Днем он отсыпался в укромных местах, а ночью запрыгивал в поезда. Когда кончились еда и силы, зашел в дом управляющего шахтой, шотландца, поддерживающего Британию. Черчилль описывает это как счастливую случайность, но закрадывается мысль, что ему посоветовали разыскать этого человека, спрятавшего его на глубине 320 м под землей в недрах брошенной шахты. Беглеца снабдили свечами, виски, сигарами, жареной курятиной и остросюжетным романом Роберта Льюиса Стивенсона «Похищенный». Вскоре его посадили на следовавший в португальскую колонию товарный поезд, укрыв под грузом прессованной шерсти. Прибыв в Лоуренсу-Маркиш, столицу Португальской Восточной Африки, Черчилль представился британскому консулу. Опасаясь, что в городе его снова схватят буры, консул той же ночью доставил его на пароход, идущий обратно в Южную Африку. Там Черчилль выступил с речью и вновь присоединился к британским войскам в двойной роли офицера и корреспондента, что в те времена считалось вполне приемлемым.
В последующие месяцы он наслаждался выходившими в Британии статьями о своих приключениях в инциденте с бронепоездом и при последующем побеге. «Газеты… неумеренно восхваляли меня, – вспоминал Черчилль. – На какое-то время я стал довольно знаменит»[73]. В действительности мыслями он был уже не на этой войне, выродившейся в мелкие стычки.
Написав еще несколько менее увлекательных репортажей, Черчилль направился домой, чтобы использовать растущую славу для перезапуска политической карьеры. Когда он прибыл в Англию летом 1900 г., мать не потрудилась его встретить. Она была полностью поглощена своим вторым браком, выйдя замуж за капитана Джорджа Корнуоллиса-Уэста, красавца 20 годами моложе ее и всего на 16 дней старше Уинстона[74]. Спустя годы Черчилль включит в свои мемуары главу «Бронепоезд» – вполне заслуженно, поскольку этот случай послужил трамплином для его прыжка из второразрядных знаменитостей в крупнейшую фигуру британской общественной жизни.
С самого начала его карьеры многие современники считали, что Черчиллю недостает воспитания, силы характера и темперамента. «Среди тори и в общественных кругах он… был аутсайдером, проталкивающим, продвигающим и рекламирующим самого себя»[75], – заметила Вайолет Асквит. В октябре, всего через 12 месяцев после плена и бегства, Черчилль был избран в парламент.
Искатель приключений становится политиком и мужем
Стремительный взлет только начинался. Через четыре года после того, как Черчилль стал членом Палаты общин, он вышел из Консервативной партии и примкнул к либералам, надолго внушив консерваторам недоверие к себе. В апреле 1908 г., когда ему было всего 33 года, Г. Г. Асквит (отец Вайолет), только что избранный на пост премьер-министра, предложил ему стать членом Кабинета министров. Король Эдуард VII был не в восторге от этого и сказал сыну, что Черчилль «в правительстве еще несноснее, чем в оппозиции»[76].
В том же году Черчилль сделал предложение и женился. Жена станет его ближайшим доверенным лицом более чем на полвека. Годами Черчилль ухаживал за женщинами без особых результатов. Он чрезвычайно сблизился с Вайолет Асквит, но, казалось, считал романтические отношения между ними нелепыми. Она явно ждала, что Уинстон попросит ее руки. Он не попросил. Наоборот, весной 1908 г. увлекся куда менее заметной особой – Клементиной Хозьер. Она принадлежала к младшей ветви обедневшей шотландской аристократической фамилии и какое-то время была вынуждена давать уроки французского, чтобы себя обеспечить.
В августе 1908 г. Вайолет узнала, что Черчилль сделал предложение Клементине. «Не знаю, заметит ли он когда-нибудь, что она глупа, как сова, – писала она лучшей подруге Венеции Стэнли. – Он не желает, хотя отчаянно в этом нуждается, обрести критичную, искореняющую его недостатки жену, которая покончила бы с издержками его вкуса и прочего и удерживала бы его от промахов»[77]. Старые добрые затруднения жизни британской аристократии! Через несколько лет отец Вайолет влюбится в ее подругу Венецию и на заседаниях правительства, посвященных Первой мировой войне, будет писать ей любовные письма.
В любом случае Вайолет вряд ли примирилась бы с явным недостатком романтичности в Черчилле. Несколько лет спустя они, держась за поручни, стояли на корме яхты, совершающей круиз по Адриатике, – они остались близкими друзьями. «Идеальная картина!» – воскликнула она.
«Верно, – подхватил Черчилль. – Идеальная береговая линия, идеальная видимость»[78]. И пустился в рассуждения о способах обстрела прибрежных городов.
С происхождением Клементины Хозьер не все было ясно. По мнению некоторых биографов, ее биологическим отцом являлся Бертрам Митфорд[79], дед шести сестер Митфорд, которые в 1930–1940-х гг. приобретут шумную популярность в Британии. «Клементина не была до конца уверена, кто был ее отцом»[80], – замечает писатель и политик Борис Джонсон.
Для Черчилля личность Клементины окажется намного важнее ее происхождения. Женитьба на Клементине стала, пожалуй, самым мудрым выбором в его жизни. Сдержанная, весьма осмотрительная, она была не похожа на него и ничем не напоминала его мать: она знала, что такое страх безденежья и жизнь рядового человека. Не была она и потенциальным политиком, как Вайолет. Вместо того чтобы пытаться затмить мужа или конкурировать с ним, она спускала его с небес на землю, когда тот слишком возносился, и поддерживала, когда Уинстон сваливался удручающе низко. Годы спустя она скажет супругу: «Именно потому, что я самая обычная и люблю тебя, я знаю, что для тебя правильно и в конечном счете хорошо»[81]. Уинстон и Клементина обвенчались в сентябре 1908 г. всего через несколько недель после объявления о помолвке. Пожалуй, показательно, что на брачной церемонии «Берти» Митфорд стоял рядом с матерью Клементины[82].
* * *
В 1911 г. Черчилль получил высокий пост первого лорда Адмиралтейства, ведомства, руководящего британским военно-морским флотом. В этой должности он встретил начало Первой мировой войны. Черчилль считался одним из главных инициаторов высадки британских войск на турецкий полуостров Галлиполи в 1915 году. Операция окончилась полным провалом. Через девять месяцев военных действий войска Антанты ушли с полуострова, потеряв погибшими более 50 тысяч человек и почти ничего не добившись.
Черчилль, в общем, принявший на себя вину за провальную турецкую кампанию, вдруг оказался безработным. Это было потрясением. «Как у морского животного, вытащенного из глубины на поверхность, или слишком быстро всплывшего ныряльщика, мои вены грозили разорваться от давления»[83], – вспоминал он и добавлял, что, размышляя о событиях войны, «испытывал огромную тревогу и ничем не мог ее облегчить». Стремясь занять себя и успокоиться, он занялся живописью. На протяжении многих десятилетий это занятие будет помогать ему отвлекаться от забот.
Однако бегства от публичной жизни и созерцания красот английской глубинки оказалось недостаточно, чтобы облегчить его страдания или открыть путь для возвращения к известности. Черчилль не считал, что его следует винить за Галлиполийскую операцию, но все-таки полагал необходимым заплатить за этот провал, и потому пошел добровольцем на войну во Франции. Он прибыл на фронт в ноябре 1915 г. и – так сложилось – несколько месяцев командовал батальоном на передовой. «Это дикое место, – писал он Клементине. – Всюду грязь и мерзость, могилы, вырытые в оборонительных укреплениях, и нечистоты со всех сторон; и на этой сцене под сияющим лунным светом – полчища крыс, подкрадывающиеся, скользящие под непрекращающийся аккомпанемент винтовок, пулеметов, под злобный вой и жужжание пуль, летящих над головой»[84]. В то же время его удивляло, насколько лучше он чувствовал себя во Франции, чем в Англии: «Я обрел счастье и довольство, которых не знал долгие месяцы».
Не зная другой жизни, кроме той, где всегда было шампанское и изысканные яства, он оказался в окопной грязи плечом к плечу с другими людьми – именно так он во всех подробностях узнал, какова она, жизнь простого человека[85]. Но и там Черчилль постарался облегчить свое положение, попросив жену прислать ему «большие куски солонины; сыр «Стилтон»; сливки; ветчину; сардины; сушеные фрукты»: «Можете даже попытаться отправить большой мясной пирог; только не консервы из куропатки и не консервированные изыски. Чем проще, тем лучше, да и сытнее; мясо в нашем пайке жесткое и безвкусное»[86].
Клементина, чувствовавшая перепады его настроения, также стремилась поддержать мужа, когда он терял присутствие духа на фронте. «Мой дорогой, – писала она в феврале 1916 г., – одно из писем, что я получила вчера, было написано Вами в унынии. Разве я не умоляла Вас не позволять этому чувству углубляться, придавая постоянный оттенок меланхолии Вашим чувствам и мыслям!»[87]
Когда Черчилль, получив увольнительную, приехал домой, жена сочла, что он уделяет слишком много внимания политике и слишком мало – ее потребностям и мягко пеняла ему: «Дорогой, все эти важные общественные заботы очень обременительны. Когда я в следующий раз увижу вас, то надеюсь, у нас найдется немного времени побыть вдвоем»[88]. Она не заявляла прямо, что нуждается в большей сексуальной близости, но была почти откровенна: «Мы еще молоды, но Время летит, похищая любовь и оставляя лишь дружбу, которая очень умиротворяет, но не вдохновляет и не согревает». Памела Дигби, которая во время Второй мировой войны выйдет замуж за Рэндольфа Черчилля, сына Клементины и Уинстона, откровенно обсуждала со свекровью свои семейные проблемы. Десятилетия спустя Памела вспоминала, что, насколько она могла судить, мужчины семейства Черчиллей не отличались чувственностью. Ее сексуальная жизнь с Рэндольфом оставляла желать много лучшего. Памела рассказывала своему биографу: «Что касалось секса, Рэндольф, как и некоторые другие Черчилли, вовсе не выказывал к нему интереса. То, что он слишком много пил, не помогало ему проявить себя лучше или чаще»[89]. Этому обобщению, впрочем, противоречит факт рождения у Уинстона и Клементины детей в 1909, 1911, 1914, 1918 и 1922 гг.
Та часть фронта, на которой служил Черчилль, была относительно спокойной, поскольку на этом этапе войны боевые действия шли в основном вокруг Вердена, дальше к югу. Тем не менее батальон Черчилля нес потери. В мае 1917 г. батальон был настолько обескровлен, что его расформировали, а оставшихся в живых перевели в другие части. Черчилль воспользовался этой возможностью, чтобы отправиться домой и вернуться в политику. В июле того же года он снова был членом правительства в должности министра вооружений.
Однако перевыборы в 1922 г. и следующую избирательную кампанию 1923 г. Черчилль проиграл. В апреле 1924 г. он писал жене, отдыхавшей во Франции, что наслаждается сельской жизнью с детьми. «Я пью шампанское за каждой трапезой и ведра кларета с содовой в промежутках, а здешняя простая кухня великолепна. По вечерам мы заводим граммофон и… играем в маджонг»[90]. В том же году в Британии было впервые сформировано лейбористское правительство, и он вернулся в парламент. Однако, поскольку Либеральную партию лихорадило, Черчилль опять перешел к консерваторам и словно бы бахвалился: «Любой может сбежать, но для того, чтобы сбежать обратно, нужно быть большим оригиналом»[91]. Бывшие товарищи-консерваторы приветствовали его без восторга. В среде тори, писал его друг и политический союзник лорд Бивербрук, «его ненавидели, ему не доверяли, его боялись»[92].
Тем не менее в конце 1924 г., когда новорожденное лейбористское правительство потерпело крах и консерваторы снова взяли власть, Черчилль удостоился важной должности канцлера казначейства, соответствующей посту министра финансов в других странах. Должность имела для него большое психологическое значение, ведь это была вершина блистательной карьеры его отца. Лорд Рэндольф занимал пост канцлера Казначейства всего пять месяцев в 1886 году.
К концу 1920-х гг. Черчилль повторил путь отца в другом отношении: он повздорил с лидерами своей партии, будучи уверен, что сумеет настоять на своем. Вместо этого после 1929 г., когда консерваторов сменило второе лейбористское правительство, Черчилль оказался выброшенным из власти. Его финансовое положение было плачевным в результате неудачных биржевых спекуляций. Пытаясь поправить дела, он посвятил себя сочинительству и лекционной деятельности, почему и очутился в декабре 1931 г. на Пятой авеню, переходя которую по рассеянности посмотрел не в ту сторону и не заметил мчавшийся на него американский автомобиль.
Глава 3 Оруэлл: Полицейский
Если Черчилль посвятил молодые годы погоне за властью и славой, то Оруэлл – поиску своей главной темы. В конце концов он ее найдет: злоупотребление властью. Она прослеживается во всем, что он написал, с первых текстов и до самого конца.
* * *
Писатель, которого мы сегодня знаем как Джорджа Оруэлла, родился под именем Эрика Блэра в июне 1903 г. в Бенгалии, в Британской Индии, где его отец, являвшийся сыном офицера Британской Индийской армии, занимал мелкую должность в отделении администрации, контролировавшем выращивание и переработку опиума. Большая часть выращенного и произведенного наркотика экспортировалась в Китай, помогая сбалансировать огромный импорт в Британию китайского чая, фарфора и шелка. В середине XIX в. торговля опиумом приносила 15 % доходов Индии[93]. Мать Эрика Блэра происходила из французской семьи Лимузен, выращивавшей чай в Бирме.
Ребенок недолго пробыл в Бирме. Ему было меньше года, когда мать, забрав сына и его старшую сестру, уехала в Англию. Они поселились в Хенли-он-Темз к западу от Лондона. Несколько лет мальчик прожил недалеко от Уинстона Черчилля, служившего здесь в Оксфордширском гусарском эскадроне. В первую зиму жизни, семи месяцев от роду, он переболел бронхитом[94].
Первое слово, произнесенное юным Эриком Блэром в возрасте около 18 месяцев, по всей видимости, «скотство»[95]. Как и Черчилль, Оруэлл был несчастным ребенком. Его сводный брат Хамфри Дэйкин, знавший и искренне не любивший Оруэлла с детских лет, описывал его как «маленького жирного мальчика… вечно хнычущего; а еще подлизывающегося, ябедничающего и прочее»[96]. У автора знаменитого впоследствии словосочетания «Старший Брат» было две сестры, но ни старших, ни младших братьев.
Как и Черчилль, Оруэлл редко видел отца, приезжавшего из Бирмы проведать семью в 1907 г., но воссоединившегося с ней только после выхода в отставку в 1912 г. «До восьмилетнего возраста я почти не видел его»[97], – писал Оруэлл. К этому времени его уже отослали в школу-пансион. Недоступный отец виделся Оруэллу «просто человеком преклонных лет с хриплым голосом, всегда говорящим “нет”»[98]. Это источник скептического отношения Оруэлла к властям, которое он сохранит на всю жизнь.
Юный Эрик ненавидел свой первый пансион, школу Св. Киприана в Восточном Суссексе. Впоследствии он с таким негодованием описал ее в эссе «О радости детства», что оно не было издано при его жизни из опасений получить обвинения в клевете. «В восемь лет вас вдруг забирают из теплого гнезда и швыряют в мир принуждения, лжи и замалчивания, словно золотую рыбку в аквариум, кишащий щуками»[99], – вспоминал Оруэлл.
В школе, одинокий и испуганный, Оруэлл начал мочиться в постель. Из-за этого его выпорол директор, приговаривавший «ты гряз-ный маль-чиш-ка» в такт взмахам хлыста с костяной рукояткой. После первого наказания Оруэлл сказал товарищам, что ему не было больно. Гордое заявление услышал кто-то из руководства, и мальчика вызвали на вторую порку, такую жестокую, что хлыст сломался. Это навело Оруэлла на мысль, что он живет в мире, где невозможно быть хорошим, – он не хотел мочиться в постель, пытался с этим справиться, но ничего не вышло. Оруэлл назвал это «великим, непреходящим уроком моего детства»[100].
Оруэлл также осознал, что посещает школу на условиях льготной оплаты. Это не было актом благотворительности со стороны администрации. Оруэлл был обязан успешно учиться и попасть в школу высшего уровня, Итон или Хэрроу, добавив таким образом блеска репутации начальной школы. Будущий взрослый социалист проглядывает в ребенке, осознающем, что богатых учеников никогда не бьют, как бы плохо они себя ни вели. «Страдали бедные, но “умные” мальчики. Наши мозги были золотой шахтой, откуда он [директор] добывал деньги, из нас необходимо было выжать прибыль»[101]. К окончанию школы юноша усвоил два уродливых жизненных правила: сильный всегда побьет слабого и любой проект, за который он возьмется, провалится.
Тем не менее он не обманул ожиданий, выиграв заветную стипендию в Итоне. Как ни странно, закончив школу в 19 лет, Оруэлл не стал поступать в университет, а пошел служить в Индийскую колониальную полицию, направившую его в Бирму. Даже теперь трудно понять, чем он руководствовался. Одним из уроков, усвоенных в школе, писал Оруэлл, было «нарушай правила или погибни»[102]. Ничто в этом молодом человеке не наводило на мысль, что он захочет насаждать закон, не говоря уже о том, чтобы подавлять население колоний, однако следующие четыре года жизни именно в этом состояла работа Оруэлла. Возможно, он хотел разок увидеть, что значит быть на стороне силы, самому быть облеченным властью.
Итак, как и Черчилль, Оруэлл повзрослел в дальней части Британской империи. В его случае это была провинция Верхняя Бирма, примерно в 2500 км к юго-востоку от афганской границы, где 25 годами раньше служил в кавалерии Черчилль, описавший этот опыт в «Истории Малакандского полевого корпуса». Оруэлл жил в Бирме с конца 1922-го до середины 1927 г., будучи офицером колониальной полиции. Он оказался в тех краях, потому что британцы аннексировали неколонизированные центральную и северную части Бирмы в 1886 г. в ходе боевых действий, надзор за которыми осуществлял отец Уинстона лорд Рэндольф Черчилль во время недолгого пребывания на посту британского министра по делам Индии.
Произведя неблагоприятное первое впечатление на свое полицейское начальство[103], Оруэлл был отправлен в город Кату на северной оконечности Бирманской железной дороги в 128 км от границы с Китаем. Там, в дальнем городе на реке Иравади, он возмужал, выработав взгляды, которые будут определять его творчество на протяжении всего пути. Рассмотрим чрезвычайно реалистичный фрагмент его раннего очерка «Казнь через повешение»[104], где рассказывается о том, как он конвоировал осужденного индуса на 36-метровом пути к виселице.
…один раз, несмотря на вцепившихся ему в плечи людей, он шагнул чуть в сторону, огибая лужу на дороге.
Как ни странно, но до этой минуты я еще до конца не понимал, что значит убить здорового, находящегося в полном сознании человека.
Когда я увидел, как осужденный делает шаг в сторону, чтобы обойти лужу, я словно прозрел, осознав, что человек не имеет никакого права оборвать бьющую ключом жизнь другого человека. Осужденный не находился на смертном одре, жизнь его продолжалась, так же как наши[105].
О годах, проведенных здесь, Оруэлл написал свой первый роман «Дни в Бирме», скорее, мемуары, чем плод работы воображения. Как он сформулировал спустя годы в письме: «Во многом это просто рассказ о том, что я видел»[106].
Эту книгу лучше всего читать как исследование злоупотребления властью в разных формах. В одном из лучших своих очерков «Убийство слона»[107] Оруэлл описал то, что наблюдал каждый день.
На такой службе грязное дело Империи видишь с близкого расстояния. Несчастные заключенные, набитые в зловонные клетки тюрем, серые, запуганные лица приговоренных на долгие сроки, покрытые шрамами ягодицы людей после наказаний бамбуковыми палками…[108]
Он ушел со службы в полиции в 24 года. Вернулся домой и начал шататься без дела по Лондону и Парижу. «Дни в Бирме» он окончит через несколько лет, роман издадут после выхода второй написанной им книги «Фунты лиха в Париже и Лондоне», но в жизни самого Оруэлла Бирма предшествовала Парижу и Лондону.
Его рассказ о времени, прожитом в Бирме, прямолинеен. Антигероем «Дней в Бирме» является Флори, скучающий, недовольный, неопределенно либеральных взглядов торговец лесом, живущий в маленьком колониальном поселении на дальнем севере страны у реки Иравади. Таким мог бы стать сам Оруэлл, если бы остался в Бирме еще на 10 лет, – несчастный человек лет тридцати пяти с черными жесткими волосами, подстриженными черными усами и выжженной солнцем кожей: «Его лицо было очень худым… с впалыми щеками и дряблой припухлостью вокруг глаз»[109]. Главным различием между Оруэллом и Флори является самая заметная физическая особенность персонажа – родимое пятно цвета портвейна на щеке, из-за которого он постоянно чувствовал себя не в своей тарелке.
Флори знакомится с Элизабет Лакерстин, молодой британкой, которую отправили в Бирму искать мужа. Он ей не нравится, Элизабет презирает его увлечение изобразительным искусством и литературой и с подозрением относится к его симпатии к бирманской жизни и культуре. Она смягчается к Флори, только когда он ведет себя как представитель империи, например подстреливает голубя, но эта имперская составляющая является той гранью его личности, которую сам он не переносит, сожалея, что ему не хватает смелости через нее переступить. Однако Элизабет находится в отчаянном положении, каждую ночь терпя приставания дядюшки, у которого остановилась. В этих сложных обстоятельствах она вроде бы готова довольствоваться Флори, пока коварному бирманскому чиновнику, продажному окружному судье, не удается опозорить того, подстроив его публичное разоблачение любовницей-бирманкой, которую Флори прогнал. Это побуждает Элизабет разорвать помолвку. Мучась от стыда и переживая разрыв, очутившись в глубокой эмоциональной изоляции, Флори стреляется. Когда он умирает, «омерзительное»[110] родимое пятно исчезает.
Все это происходит в антураже социальной и политической возни британцев и бирманцев вокруг мелких вопросов престижа и репутации, как, например, кого из бирманцев пригласить в городской Европейский клуб, где высокие британские инстанции велели смягчить расистскую политику членства[111]. Полный наблюдений за бесконечными мелкими жестокими проявлениями социальной власти, роман подчас кажется чем-то средним между творениями Джейн Остин и Э. М. Форстера, чья «Поездка в Индию» увидела свет за четыре года до того, как Оруэлл сел за рукопись своего романа об империи в упадке.
Описывая место действия в начале романа, Оруэлл пишет: «В любом месте Британской Индии клуб европейцев – духовная цитадель верховной власти, рай, по которому томится вся чиновная и торговая туземная знать»[112]. Этот клуб, маленький и изолированный, отстал от других и так и не принял ни одного «местного». Когда это потребовалось сделать, три члена клуба яростно протестуют. «Рассядется тут черномазый и будет в нос тебе чесноком вонять»[113], – намеренно грубо заявляет один, но второму члену клуба Флори идея нравится, и фактический глава британской общины, склонный к патернализму мистер Макгрегор, решается выполнить инструкции.
Сюжетные повороты почти всегда призваны достичь более общей цели при помощи довольно неуклюжей идеологической схемы, которую использует Оруэлл. Например, британка, сетуя на «леность» своих слуг, замечает: «Аборигены уже начинают дерзить, почти как наши низшие классы»[114]. Когда заезжий британский офицер дает пинок бармену, член клуба бранится: «Ваше-то какое право колотить наших негритосов?»[115] Флори говорит доктору-индусу, единственному настоящему другу, что ему стыдно жить «в сплошном вранье» и что «мы сюда заявились не поднимать культуру бедных братьев, а грабить их»[116]. Империя, рассуждает он, стоит на строительстве банков и тюрем и называет это прогрессом[117]. В общем, утверждает Флори, «империя – просто способ обеспечить торговую монополию английским, точнее, еврейско-шотландским бандам»[118]. Нет никакого намека на то, что Оруэлл иронизирует, влепив эту пощечину двум народам сразу, тем более что он идентифицирует себя с Флори. Действительно, в экспорте опиума из Индии в Бирму главенствовали две компании – шотландская Jardine Matheson и ставшие британцами выходцы из еврейской семьи Сассун, жившей в Ираке (к ней принадлежал Зигфрид Сассун, мемуарист и поэт Первой мировой войны).
Оруэлл написал второстепенный, но неплохой роман. Он лучше ранних сочинений Черчилля (особенно его единственного и справедливо забытого опыта в беллетристике «Саврола»), но отчасти потому, что Оруэлл в этот период карьеры был более опытным писателем.
Если бы Оруэлл не написал последующие, намного более сильные книги, сегодня «Дни в Бирме», вероятно, вспоминали бы как непримечательное, но местами любопытное литературное исследование империи. Много лет спустя автор признался, что в молодости
…хотел писать чрезвычайно натуралистические романы с несчастливыми концовками, полные подробных описаний и завораживающих сравнений, а также пассажей, в которых слова используются отчасти ради их звучания. На самом деле мой первый завершенный роман «Дни в Бирме», который я написал, когда мне было тридцать, но задумал намного раньше, во многом таков[119].
Тем не менее роман до сих пор читается и примечателен прежде всего постижением характера империи и империализма в целом. У По Кин, макиавеллиевски коварный бирманский чиновник, в первой сцене романа говорит, что европейцам «плевать на аргументы»: «Когда речь о всяких там темнокожих, сомнение для них уже есть доказательство»[120], – и мудро обращает это наблюдение в свою пользу. Позже рассказчик напоминает читателю, что Флори «забыл, что большинству людей в чужой стране уютно жить, лишь ощущая презрительное превосходство над коренными жителями»[121], – истина не универсальная, но, бесспорно, являющаяся верным наблюдением над несчастливой маленькой общиной британцев из «Дней в Бирме».
В конце Флори ждут горе, ненависть к себе и отчаяние. Его последние слова оказываются ложью. «Хозяин не сделает тебе больно»[122], – уверяет он свою перепуганную собаку, прежде чем застрелить ее и себя.
Сначала Оруэлл заставил Флори написать самому себе эпитафию, но вычеркнул ее из окончательного варианта текста: «Учитесь у меня, как не надо жить»[123]. В финале романа Флори – не более чем очередная жертва империи. Одна из главных мыслей книги заключается в том, что англичане, как и бирманцы, изуродованы колониальной системой.
Это, пожалуй, важнейший урок из жизни Оруэлла в Бирме. Если в школе он научился скептически относиться к властям, то в Азии узнал, как пользование властью может развратить человека. Он ненавидел то, что власть, как он замечал, делала с ним самим, и боялся того, во что мог бы превратиться, если бы продолжил поддерживать колониальный закон. В эссе «Убийство слона» он написал: «Когда белый человек становится тираном, он уничтожает свою свободу. Он превращается в пустую, податливую куклу, условную фигуру сахиба»[124]. Такой вывод был равносилен полному отторжению собственного опыта службы в бюрократическом аппарате британских колоний.
* * *
Теперь трудно представить, какой пощечиной для английского среднего класса, осуществлявшего повседневные функции империи, стал этот роман о Британии в Бирме. Еще в 1930-х гг. в английской культуре было принято изображать Британскую империю как силу добра, распространяющую образование, торговлю и закон в дальних уголках Азии и Африки. Здесь же британский писатель показал ее как зло, движимое самыми примитивными мотивами. «Мне книга показалась местами озлобленной, если вы меня понимаете, – вспоминал сводный брат Оруэлла Хамфри Дэйкин, тоже государственный служащий. – Он выискивал грязь, убожество и тому подобное и находил это»[125]. Из опасений столкнуться с судебным преследованием за клевету со стороны людей, узнавших себя в персонажах романа, книга сначала была издана в Соединенных Штатах. Некоторые из них подумывали о более непосредственной реакции, например инструктор Оруэлла в полиции, будто бы поклявшийся отхлестать его плеткой, если еще раз его встретит[126].
Главное, что вынес Оруэлл из пребывания в Бирме: «Угнетенные всегда правы, а угнетатели всегда неправы»[127]. Оруэлл далее написал, что это была «ошибочная теория, но естественный результат того, что сам был одним из угнетателей».
Чтобы наказать себя за годы в роли угнетателя, Оруэлл по возвращении в Европу погрузился в затяжное самоотречение. Некоторое время он бродяжничал в Англии, затем весной 1928 г. опустился на парижское дно. Оруэлл жил и работал в ужасных условиях. Он перенес пневмонию, первую в череде болезней легких, которые будут мучить его оставшиеся два десятилетия жизни. Он голодал. Это был главным образом его собственный выбор – в Париже жила его тетка Нелли Лимузен, которая помогла бы ему, если бы он попросил, но не этого он искал. Позднее Оруэлл рассказал другу, что все его сбережения похитила девушка по имени Сюзанн, «маленькая потаскушка», которую он подцепил в кафе: «Она была красивой, имела мальчишескую фигуру, носила стрижку под мальчика и была желанной во всех отношениях»[128]. Кроме того, Оруэлл начал писать ради гонорара, продав в конце 1928 г. свои первые очерки во французские и английские газеты. Он все еще писал под собственным именем – Эрик Блэр.
В конце 1929 г. Оруэлл вернулся из Франции в Англию и поселился у родителей, перебравшихся в Саутволд, город на юго-восточном побережье, облюбованный отставными чиновниками из колоний. Оруэлл немного зарабатывал преподаванием, затем получил место учителя в средней школе. Он влюбился в Бренду Салкелд, начитанную преподавательницу физкультуры, неоднократно сватался к ней, но в конце концов смирился с ее отказом и завязал короткий роман с другой.
Затем Оруэлл пустился исследовать жизнь подонков британского общества. Собирал в полях хмель с бродягами. Спал на мостовой на Трафальгарской площади. Пытался добиться собственного ареста. Кочевал по ночлежкам, где людей кормили отбросами и обращались с ними как с собаками.
Опыт, полученный в Англии и Франции, Оруэлл описал в своеобразных беллетризованных мемуарах, изданных в 1933 г. под названием «Фунты лиха в Париже и Лондоне». Впервые он опубликовался под псевдонимом «Джордж Оруэлл», соединив типично английское имя с названием реки, протекающей к югу от Саутволда и впадающей в море.
Оруэлл писал в эпоху, когда считалось допустимым, чтобы богатые не просто игнорировали, а откровенно презирали образ жизни и труд большинства окружающих. Яркие примеры – британская романистка Вита Сэквилл-Уэст и ее муж, талантливая посредственность Гарольд Николсон. Они считали себя венцом творения – достойными, благоприличными, терпимыми, утонченными людьми, представителями лучшего человеческого типа, созданного лучшей частью лучшей нации на Земле. «Я счастливый, честный, любящий человек»[129], – поведал Николсон своему дневнику. Одним из тех, с кем он делил свою любовь, был Гай Берджесс, который будет разоблачен в 1950-х гг. как представитель аристократического круга советских шпионов, сплотившегося в Кембридже в 1930-е гг. вокруг Г. А. Р. «Кима» Филби.[130]
Николсон был снобом до мозга костей. Однажды он написал жене: «Мы гуманны, великодушны, справедливы и не вульгарны. Слава богу, мы не вульгарны!»[131] Он охотно соглашался с высокомерным замечанием другого своего любовника, литературного критика Рэймонда Мортимера, что «массы не волнуются об истине так, как мы»[132].
«Я ненавижу демократию, – откровенничала Сэквилл-Уэст с Николсоном. – Я бы хотела, чтобы la populace[133] никогда не поощряли бы подниматься со своего законного места. Я предпочла бы видеть их так же хорошо накормленными и хорошо содержащимися, как Т. Т. коровы, но выражающими свои мысли не отчетливей их» (Т. Т. – это коровы, проверенные на туберкулез, остававшийся реальной угрозой в Англии в середине XX в., в чем придется убедиться Оруэллу). В другом письме неделей позже романистка поделилась чувством облегчения по поводу того, что не родилась заурядной особой: «Разве не ужасно было бы оказаться особой, лишь существовавшей, осиливавшей один за другим дни, заполненные глупейшей мелкой суетой, не имеющей совершенно никакого значения? Я имею в виду наведением чистоты, мытьем крыльца и пересудами о соседях?»[134]
В общем, Оруэлл имел некоторые основания задать в «Фунтах лиха» вопрос: «Что знает большинство образованных людей о бедности?»[135] Именно в «вульгарный» мир работы и выживания, в существование огромного большинства человечества он стремился погрузиться, а затем описать его для всех. Иногда он тыкал читателя носом в это знание, как, например, в начале книги, когда он нейтральным тоном пересказывает воспоминания «Шарля», молодого французского бездельника, завсегдатая ближайшего бара, заплатившего за возможность изнасиловать 20-летнюю пленницу[136]: «Без единого слова я, резко дернув, скинул ее на пол. И набросился на нее как тигр!.. Снова и снова повторял я свои все более свирепые атаки, опять и опять девица пыталась спастись. Она взмолилась о пощаде, но в ответ прозвучал мой хохот»[137]. Пожалуй, Оруэлл совершил ошибку, посвятив шесть страниц 213-страничной книги этой страшилке в стиле По. Это отвлечение от его истинной темы – изображения забот, поглощающих мысли парижских и лондонских бедняков в 1930-е гг.: как прокормиться, согреться, поспать ровно столько, чтобы суметь подняться и вернуться к работе, и упиться дешевым вином в субботний вечер.
Это была книга, которую он должен был написать в той же степени для себя, что и для читателя, принципиально важный шаг на его жизненном и литературном пути. Погружаясь в мерзость, апатию и голод бедняка-рабочего, Оруэлл расплачивался за прежнюю колониальную жизнь. В Бирме он добровольно присоединился к европейцам-угнетателям, теперь в качестве наказания самому себе он по своей воле жил среди угнетенных Европы. «Я пришел к выводу, что это был… акт искупления за то, что он служил целям британского колониализма, проведя пять лет в Бирме офицером колониальной полиции»[138], – заметил философ А. Дж. Айер, работавший на британскую разведку к моменту знакомства с Оруэллом в Париже в конце Второй мировой войны.
Книга «Фунты лиха», опубликованная в январе 1933 г., наиболее важна как переходная работа Оруэлла, составная часть его поисков себя как писателя и наблюдателя. В ней видна некоторая неопределенность, неустойчивость тона, особенно в первой трети текста. Как многие молодые писатели, Оруэлл был склонен шокировать простыми средствами, как в сцене с изнасилованием. Другой фрагмент в начале книги свидетельствует, что он турист в мире нищеты, что он к нему не прикован. Проголодавшись, он замечает, что в стакан молока попало насекомое, и реагирует так: «Не остается ничего другого, только вылить молоко и остаться без еды»[139]. Тот, кто долго страдал от настоящего голода, а не совершал в него экскурсию, скорее всего, выловил бы жука и выпил молоко. Бедняки привычны к насекомым.
«Фунты лиха» местами превращается в мрачный путеводитель по экзотическому миру городской бедноты. Оруэлл описывает иерархическое устройство этой части пролетарской среды, проявляя тем самым неосознанный, но типично британский интерес к теме статусов[140]. В ресторане, где он работает, на вершине пирамиды стоит менеджер отеля, затем следует метрдотель, а дальше в нисходящем порядке старший официант, старший повар, заведующий персоналом, другие повара, остальные официанты, официанты-стажеры, посудомойки и горничные. Ближе к концу книги рассказчик возвращается в Англию и живет на лондонских улицах, где также замечает отчетливую кастовую систему у бродяг: «Резкая социальная граница проходит между теми, кто только попрошайничает, и теми, кто пытается как-то заработать»[141]. Самые процветающие – уличные артисты: шарманщики, акробаты и уличные художники. Ниже стоят продавцы спичек, шнурков и лаванды, певцы религиозных гимнов – прикрытие необходимо, поясняет он, потому что просить деньги за так – преступление. Как истинный автор путевых очерков, Оруэлл даже приводит словарь уличного языка, давая определение таким сленговым словам, как «трюкач», «гик» и «топотун» – последнее означает «уличный танцор»[142].
Оруэллу было всего 25 лет, когда он поехал в Париж, и недостатки книги являются ошибками молодого писателя, осваивающего ремесло. Оруэлл отличался обостренным обонянием, и временами кажется, что «Фунты лиха» посвящена зловонию отверженных, а не их страданиям или способам выживания. Во время утренней поездки в парижском метро, рассказывает он, «стиснутый напором густой толпы нос к носу с каким-нибудь отвратительным местным субъектом, дышишь отрыжкой кислого вина и чеснока»[143]. В отличие от «Дней в Бирме» нам не сообщают, отличаются ли вислобрюхостью люди, воняющие чесноком. Оруэлл был особенно чувствителен к этому запаху, фермерствуя в Марокко зимой 1939 г., он не мог пить молоко после того, как корова с его маленькой фермы наелась дикого чеснока[144]. Ему, однако, удалось использовать чеснок в готовке. Далее он пишет: «Смердящие застарелым пóтом простыни я был вынужден отодвинуть подальше от носа»[145]. В книге найдется еще восемь примеров того, как Оруэлл упоминает запахи, почти всегда отвратительные.
В этом отношении следует отметить два момента. Во-первых, болезненная чувствительность к запахам проявляется в большей части написанного Оруэллом. Во-вторых, что огорчительнее, его отпугивает запах человека. О запахах природы, пусть даже скотного двора, он отзывается почти всегда одобрительно, но всегда готов прийти в ужас от человечества.
Еще более отталкивающая особенность всей книги – привычное предубеждение автора против каждого встреченного еврея. В кофейне он примечает: «Сидевший особняком в углу еврей, уткнувшись в тарелку, жадно и виновато ел бекон»[146]. Особенно колет в этом предложении слово «уткнувшись», словно речь идет о животном. В другом месте Оруэлл вспоминает рассказ своего друга Бориса, бывшего русского офицера, о том, как ему за 15 франков предложил для сексуальных услуг собственную дочь «жуткий старый еврей, борода рыжая, как у Иуды Искариота»[147]. Обыденный антисемитизм проскальзывает у Оруэлла и в некоторых других сочинениях. Слабо утешает, что в этом отношении он свободен от дискриминации, как, например, когда одобрительно цитирует в «Фунтах лиха» поговорку «змее верь больше, чем еврею, еврею верь больше, чем греку, но никогда не доверяй армянину»[148].
Дело в том, что Оруэлл всегда плохо улавливал политическую конъюнктуру еврейского вопроса. Во время Второй мировой войны он много раз будет обличать антисемитизм[149], но забудет пересмотреть собственные тексты предыдущего десятилетия. После войны Оруэлл удивительно мало сказал о холокосте, одном из важнейших событий своего времени[150]. Всю жизнь он оставался убежденным противником сионизма, но это, вероятно, следует рассматривать в контексте его стойкого отвращения к национализму, а не антисемитизма ряда его ранних сочинений. Тем не менее его друг журналист Малкольм Маггеридж считал, что «в душе он был ярым антисемитом»[151].
Лучшие страницы «Фунтов лиха» демонстрируют, как борьба за существование день за днем выжимает из людей все соки. Этот фундаментальный факт жизни работников ярче всего изображен Оруэллом, когда он повествует, как был посудомойщиком в ресторане отеля. Все начинается с погружения рассказчика на дно жизни, столь напоминающее преисподнюю.
Мы спустились по винтовой лесенке глубоко вниз, в узкий коридор с потолком таким низким, что местами мне приходилось нагибать голову. Невыносимо душно и очень темно, еле светились желтоватые редкие лампочки. Сумрачный лабиринт, тянувшийся, казалось, на много миль (вообще-то, вероятно, и километра не было)…
Очередной поворот вывел к прачечной, где из рук тощей старой мумии я получил синий передник и кучу застиранных тряпок. Оттуда шеф сопроводил меня в берлогу под основным подвалом – я еле втиснулся между раковиной и газовыми плитами; жарища градусов сорок пять и потолок, мне лично не позволявший во весь рост распрямиться[152].
Далее следует один из самых запоминающихся фрагментов текста, где автор сопоставляет зловонные испарения кухни и ароматы соседствующего с ней зала ресторана, одного из самых дорогих в Париже. Клиенты едят среди зеркал, цветов, белоснежных скатертей и позолоченных карнизов. Но всего в нескольких шагах, сразу за дверью кухни
…наша мерзкая грязища… До вечера на уборку пола ни минуты, и топчешься по скользкой мыльной каше салатных листьев, размокших салфеток, остатков пищи. За столиками дюжина официантов, сняв пиджаки, демонстрируя взмокшие подмышки, месит себе салаты (на больших пальцах едоков следы сметаны из горшочков)… Умывальника не имелось, только две раковины с затычками, и у официантов было обычным делом ополоснуть лицо в той же воде, где споласкивалась посуда. Клиенты, однако, об этом не подозревали[153].
Пожив среди богачей в Итоне и среди бедняков в подвале парижского отеля и на улицах Лондона, Оруэлл пришел к твердому выводу, что «рядовой миллионер – тот же рядовой мойщик тарелок в ином костюме»[154]. Тем же, кто боится, что толпа вырвется на волю и начнет громить улицу, он отвечал: «Толпа фактически уже теперь свободна – толпа богатых…» Иными словами, с точки зрения Оруэлла, богачи вели классовую борьбу, грабя бедняков, только не желали этого признавать.
* * *
Теперь Оруэлл считал себя писателем. В середине 1930-х гг. он жил в богемном районе Хэмпстед в северном Лондоне в комнате над букинистической лавкой «Уголок книгочея». Здесь по утрам и вечерам он писал плохие романы, днем продавал книги. В описании Оруэлла его пристанище походило на гробницу: «Пропахшую старой бумагой комнатенку сплошь заполняли книги из разряда ветхих и неходовых»[155].
Вряд ли тот период его жизни был многообещающим. «Он не был прирожденным романистом»[156] – так деликатно охарактеризовала Оруэлла писательница Мэри Маккарти. Границы возможностей Оруэлла как традиционного беллетриста видны каждому, кто пролистает его романы середины 1930-х гг.: «Дочь священника» (A Clergyman’s Daughter, 1935), «Да будет фикус» (Keep the Aspidistra Flying, 1936), «Глотнуть воздуха» (Coming Up for Air, 1939). Читать их почти невозможно. Вот неуклюжая завязка «Дочери священника»[157]:
Будильник на комоде грохнул мерзкой лязгающей бомбой. Вырванная из чащи каких-то безумных кошмаров, Дороти вздрогнула, очнулась, перевернулась навзничь и лежала, уставясь в темноту, не в силах даже шевельнуться[158].
Помимо опубликованных, Оруэлл написал еще два романа, которые впоследствии уничтожил[159]. От них ничего не осталось. Его друг Джек Коммон, также писатель-социалист, сказал однажды, что в 1930-х Оруэлл писал быстро, как только мог, зарабатывая ровно столько, чтобы прокормиться[160].
Обобщенной характеристикой этих книг служит уничижительная реплика романиста Энтони Пауэлла, также друга Оруэлла: «За исключением проекций его самого, персонажи его романов лишены жизненности, хотя порой удачно исполняют роли марионеток для выражения текущего тезиса автора»[161].
Сам Оруэлл позднее писал приятелю, попросившему прислать ему экземпляр «Да будет фикус»:
Есть две или три книги, которых я стыжусь и не позволяю переиздавать или переводить, и это одна из них. Она даже хуже той, что называется «Дочь священника». Я написал ее просто в качестве упражнения и не собирался издавать, но отчаянно нуждался в деньгах, так же как и во времена, когда написал «Да будет». В то время во мне просто не было книги, но я практически голодал и был вынужден состряпать хоть что-нибудь, чтобы получить фунтов сто[162].
Все это было далеко от таланта Оруэлла, еще не открытого им самим. Два великих романа, которые он напишет к концу жизни, «Скотный двор» и «1984», окажутся не натуралистической беллетристикой, типичной для XX в., а скорее разновидностью жанров, в общем, считающихся второстепенными, – сказки и триллера. Однако, построенные на фундаменте политики в ее основном понимании как способа организации социума и взаимоотношений с ним личности, «Скотный двор» и «1984» отражали действительность точнее, чем многие традиционные романы.
* * *
Более успешным итогом весны 1935 г. стало знакомство Оруэлла с будущей женой. Эйлин О’Шонесси, привлекательная, яркая молодая женщина, окончила в 1927 г. Оксфорд, где изучала английскую литературу. На момент их встречи она работала над магистерской диссертацией по психологии в Университетском колледже Лондона. Ее темой была оценка интеллекта и воображения у детей.
Через несколько месяцев увидело свет британское издание «Дней в Бирме». Теперь на счету Оруэлла было две книги. Однако у него уже появилось подозрение, что в книге о Париже и Лондоне он сосредоточился не на тех группах людей. «К сожалению, классовую проблему нельзя решить, водя дружбу с оборванцами, – писал он. – Оборванцы, попрошайки, преступники и отбросы общества, как правило, совершенно исключительные существа и для рабочего класса в целом типичны не более, чем, скажем, пишущая интеллигенция типична для класса буржуазии»[163]. Теперь Оруэлл хотел погрузиться в средоточие британской экономики, которым в те годы являлись угольные шахты северной Англии, пожить среди людей, вкалывающих в забоях.
В январе 1936 г. Оруэлл бросил книжную лавку и отправился изучать рабочий класс. Первой остановкой на его пути стала гостиница в Ковентри, где он провел ночь. «Запах как в типичных меблированных комнатах, – записал он в дневнике. – Полоумная горничная с огромным телом, крохотной головой и валиками жира на шее, до нелепости похожими на жир свиных окороков»[164].
Он приехал на север на поезде и провел два месяца, перемещаясь по угледобывающему району недалеко от Ливерпуля. Большую часть времени Оруэлл проводил на ногах, пешком совершая многокилометровые переходы между городами в дождь и снег. 12 февраля 1936 г. он прошел через Уиган, город угля и каналов на полпути между Манчестером и Ливерпулем, испещренный терриконами и грязными лужами. «Пронизывающий ветер. Пришлось отправить пароход ломать лед перед угольными баржами на канале… Несколько крыс, медленно бегущих в снегу, очень смирных, вероятно, слабых от голода»[165].
Написанная впоследствии книга «Дорога на Уиган-Пирс» – самое прямолинейное из небеллетристических сочинений Оруэлла. Это в действительности не повествование, а просто, но блестяще построенное отображение реалий жизни рабочего класса в угледобывающем регионе в период экономической депрессии. Это не значит, что собрать материал для этой книги и написать ее было делом простым, – вспомним одну из самых знаменитых реплик Оруэлла: «Чтобы видеть то, что происходит прямо у вас перед носом, нужны отчаянные усилия»[166].
Вернувшись на юг из Уигана, Оруэлл открыл лавку[167], арендовав маленький двухэтажный коттедж в деревне Уоллингтон в Хартфордшире на полпути из Лондона в Кембридж. Это было крохотное селение с 34 домами, 2 пабами и церковью. В коттедже не было электричества, горячей воды и водопровода, но имелась комната, которую писатель приспособил под магазин. Входная дверь высотой всего около 1,2 м, вероятно, доставляла много проблем долговязому Оруэллу. Между приступами сочинительства он продавал бекон, сахар и свечи, а также яйца от своих несушек и выращенные им овощи[168]. «У них была правильная беконорезка, – вспоминал Фред Бейтс, местный сельскохозяйственный рабочий. – Красивый же у них был бекон»[169]. Доходы от торговли покрывали арендную плату, составлявшую меньше двух фунтов в месяц.
Книга, которую Оруэлл написал в этом коттедже, словно сшита из разных кусков. Первая часть «Дороги на Уиган-Пирс» представляет собой коллекцию свидетельств непосредственного очевидца о жизни английских бедняков: где они живут, что едят, как пытаются сберегать тепло в доме, как работают или как, по мере углубления кризиса, все больше превращаются в безработных. На этих страницах впервые появляется писатель Джордж Оруэлл, которого мы знаем сегодня. Что-то от его личности проглядывало еще в «Фунтах лиха», но теперь Оруэлл достиг зрелости. Он уже не пытается поразить шокирующей сенсационностью, как в более ранней книге, а выстраивает повествование из мелких надежных фактов. Он пишет, что рацион рабочих составляет «белый хлеб и маргарин, солонина, чай с сахаром и картофель»[170]. Вероятно, из-за недостатка кальция большинство остаются без зубов к тридцати годам. В Ланкашире он наблюдает, как женщины приходят к терриконам и, «стоя на коленях в зольной грязи на пронзительном ветру», собирают кусочки угля: «Они рады этой возможности. Зимой им отчаянно не хватает топлива; оно почти более важно, чем пища. Вокруг, насколько хватает глаз, виднеются терриконы и подъемные лебедки угольных шахт, и [из-за экономической депрессии] ни одна из этих шахт не может продать весь уголь, который способна добыть»[171].
Часть книги представляет собой оруэлловские «Записки из подполья» – в буквальном смысле. В книге о Париже и Лондоне он сходил в подземный мир гостиничной судомойни, здесь спускался в угольную шахту и убеждался, что она соответствует его представлению о преисподней. «Здесь было почти все, что мысленно видишь в аду, – зной, шум, сумятица, темнота, нечистый воздух, а главное, невыносимо тесное пространство»[172]. Однажды под землей ему пришлось, скорчившись, пробираться до забоя больше 1,5 км по туннелю высотой около 1,2 м. Путь занял почти час и смертельно его вымотал, а ведь для шахтера это всего лишь дорога до рабочего места, писал Оруэлл. А потом ему предстоит день тяжелой работы, «до потемнения в глазах и с глоткой, забитой угольной пылью»[173]. Перед нами Оруэлл, добравшийся до сути проблемы.
Однако он еще не полностью сформировался как писатель. Вторая половина книги представляет собой странное, непривычно многословное эссе, в котором Оруэлл препарирует английский социализм, пытаясь понять, почему социалистические идеи не смогли покорить воображение английского среднего класса или хотя бы добиться эмоциональной приверженности социалистов-рабочих. Эта часть также примечательна своими промахами, как и удачами, что делает «Дорогу на Уиган-Пирс» «занятно неровным достижением»[174], как выразились Питер Стэнски и Уильям Абрахамс в биографии Оруэлла.
Эта вторая половина ненаблюдательна и местами плохо написана, что необычно для Оруэлла. Вдобавок временами текст отдает злопыхательством, например, когда автор высмеивает странности среднего класса, ассоциирующиеся с английским социализмом: «Создается впечатление, что сами слова “социализм” и “коммунизм” притягивают к ним с магнетической силой каждого поглотителя фруктовых соков, нудиста, сандалиеносца, сексуального маньяка, квакера, шарлатана-натуропата, пацифиста и феминистку в Англии»[175]. Всего через восемь страниц он снова обличает «унылое племя высоколобых женщин, любителей сандалий и усатых глотальщиков фруктового сока, слетающихся на запах “прогресса”, как навозные мухи на дохлую кошку»[176].
Еще больше поражает в этой части книги один из самых странных замыслов Оруэлла – его попытка создать политическую теорию на основе собственного гипертрофированного обоняния. «Подлинный секрет классовых различий на Западе… сводится к четырем пугающим словам… Низшие классы мерзко пахнут»[177]. Практически любой другой порок можно преодолеть, рассуждает он. «Можно проникнуться сочувствием к убийце или содомиту, но нельзя питать привязанность к человеку, чье дыхание смердит, – я имею в виду, постоянно смердит. …Вы его возненавидите»[178]. И в том же духе еще несколько страниц, которые, вероятно, лучше всего поймут другие жертвы сверхчувствительных обонятельных рецепторов – эта напасть называется гиперосмией.
Неудивительно, что «Дорога на Уиган-Пирс» возмутила многих его друзей и товарищей-социалистов. «Я подумала, что это действительно ужасная книга, – сказала Кей Икволл, одна из левацких друзей Оруэлла в то время. – Я полагала, что она опорочила всех социалистов; она выставила рабочий класс в самом гнусном свете»[179]. Ей особенно не понравилось то, как он изобразил шахтеров: «Шахтеры в те дни были очень политизированы; они были, в большей или меньшей степени, авангардом профсоюзного движения. Он же словно проигнорировал все позитивное, что происходило в политике, и сосредоточился на всех отталкивающих аспектах». Здесь слышится эхо критики, которой империалисты старой закалки встретили «Дни в Бирме».
Даже издатель, опубликовавший книгу, действовал вопреки своему желанию. Предисловие Виктора Голланца граничит с извинениями за то, что книга вышла в рамках его Левого книжного клуба. Он шокирован тем, что Оруэлл изобразил социалистов чудаковатыми сумасбродами. Он пытается интерпретировать ароматическую теорию классовых различий как откровенное признание раскаивающегося сноба из среднего класса. Он осуждает оруэлловскую «странную невежливость, с которой тот называет русских комиссаров “полуграммофонами – полугангстерами”»[180], и наконец отбивает идеологическую чечетку, которую Оруэлл будет высмеивать на протяжении всей дальнейшей карьеры: «У Левого книжного клуба “нет политики”… было бы даже неверным сказать, что Народный фронт является “политикой” Левого книжного клуба… Иными словами, Народный фронт – это не “политика” Левого книжного клуба, а само существование Левого книжного клуба тяготеет к Народному фронту»[181]. Непонятно, что все это значит, – возможно, ничего.
В конечном счете в «Дороге на Уиган-Пирс» при всей ее неоднородности и противоречиях виден писатель, движущийся вперед, но пока еще несколько сбиваясь с темпа. Лучшее в этой книге то, что, написав ее, Оруэлл завершил учебу и нашел свои истинные способности и настоящую тему. Его литературным методом было открывать и излагать факты. Его ви́дение заключалось в том, что обладающий властью почти всегда попытается исказить правду.
Оруэлл не мог этого знать, но тогда, в конце 1930-х гг., он стоял на пороге величия. Он стал особенно восприимчив к расхождениям между теорией и реальностью, между тем, какими люди пытаются казаться, и тем, какие они на самом деле. Он был готов и даже стремился принять неудобную и непопулярную правду. Этот образ мысли прекрасно подготовил Оруэлла к тому, чтобы писать о смертельном столкновении идеологии и реальности, сначала на национальном уровне, на гражданской войне в Испании, затем в глобальном масштабе Второй мировой войны[182].
Оруэлл и Эйлин О’Шонесси поженились в июне 1936 г.[183], когда он превращал свои заметки о путешествии на север Англии в книгу. Они вдвоем отправились из своего коттеджа в церковь деревни Уоллингтон. После церемонии было празднование в пабе.
В браке Эйлин порой будет проявлять свой непокорный характер. Когда однажды утром за завтраком муж мимоходом обронил перед гостями, что «производители бекона» добились принятия государственных мер, делающих невозможным для фермеров засолку свинины, Эйлин оспорила его «голословное утверждение»[184]. Оруэлл упорно продолжал клясть санитарные нормы, не приводя никаких подтверждений сказанному. Эйлин заметила: «Подобное мог бы утверждать безответственный журналист». Она вникала в местную жизнь. Узнав, что в деревне есть неграмотный десятилетний мальчик, Эйлин научила его читать, чтобы он мог поступить в школу[185].
Через месяц после их свадьбы началась война в Испании между левым правительством и повстанцами – значительной частью испанской армии и флота, поддержанных фашистами, ультранационалистами и некоторыми католическими организациями[186]. Эта война сразу захватила внимание новобрачных. В декабре, едва закончив рукопись «Дороги на Уиган-Пирс» и передав ее издателю, Оруэлл заложил кое-какое фамильное серебро, чтобы покрыть путевые расходы, и устремился в Барселону. Эйлин последовала за ним через два месяца.
Оруэлл поехал в Испанию бороться с фашизмом, а в итоге был затравлен коммунистами. Это главный факт его участия в гражданской войне в Испании и ключевой факт всей его жизни. Но если бы пуля снайпера немного иначе прошла через его шею в мае 1937 г., он бы так и не написал свою первую великую книгу «Памяти Каталонии». И мир так и не получил бы великого писателя, к которому до сих пор приковано наше внимание.
Глава 4 Черчилль: Фунты лиха в 1930-е гг.
Теперь каждый из наших героев готов вступить в период жизни, сделавший их людьми, о которых мы до сих пор размышляем, людьми, важными для понимания не только своего, но и нашего времени.
Десятилетие 1930-х гг. было ужасным во многих отношениях. Многим казалось, что близятся новые Темные века. Эти страхи начались с огромных экономических и социальных потрясений всемирной Великой депрессии. Долгая жестокая война, которая уничтожит десятки миллионов человек в 1940-е гг., началась в Азии и назревала в Европе. По словам поэта Стивена Спендера, возникало общее ощущение, что его поколение может увидеть «конец западной цивилизации»[187].
Многие люди, особенно молодые и активные, считали, что либеральная капиталистическая демократия достигла предела своих возможностей и терпит фиаско. Они видели только два варианта дальнейшего пути: фашизм или коммунизм, новые энергичные идеологии, продвигаемые Берлином, Римом и Москвой. Конец западного образа жизни и особенно смерть либеральной демократии были популярной темой культурной полемики, ежедневно обсуждались в газетах и частных дневниках[188]. Историк Арнольд Тойнби в начале 1930-х гг. отмечал распространение идеи, будто «западная система общественного устройства может сломаться и перестать работать». Он завершил это десятилетие в 1939 г. лекцией в Лондонской школе экономики, которая была посвящена гибели цивилизаций. В 1935 г. шекспировед А. Л. Роузе записал в дневнике, что «слишком поздно спасать любой либерализм, возможно, слишком поздно спасать социализм» (через 20 лет Роузе издаст восторженное описание истории семьи Черчилль). Луис Фишер, журналист, тогда симпатизировавший сталинизму, написал Беатрисе Вебб в 1936 г., что «вся система обанкротилась». В 1937 г. Гарольд Лассуэлл, ведущий американский политолог, опубликовал эссе, предсказывающее подъем «гарнизонного государства», в котором «специалист по насилию стоит у руля, а организованная экономическая и общественная жизнь систематически подчинена вооруженным силам»[189]. После Мюнхенского соглашения между британским премьер-министром Невиллом Чемберленом и Адольфом Гитлером в 1938 г. Вирджиния Вулф в письме сестре Ванессе Белл оплакивала «неизбежный конец цивилизации». Три года спустя она покончила с собой.
На фоне всех этих признаков приближающегося бедствия Уинстон Черчилль был оттеснен на задний план политической жизни. На протяжении бо́льшей части 1930-х гг. он находился в фактической изоляции в своей партии, многие считали его политическую карьеру законченной. Гарольд Николсон, увидев Черчилля, нашел, что тот очень изменился с их последней встречи: «Большое круглое белое, словно волдырь, лицо. Ужасно постарел… Его дух также в упадке, и он сокрушается, что утратил прежнюю бойцовскую мощь»[190]. Примерно в это время Джордж Бернард Шоу и Нэнси Астор, политические противники Черчилля, вместе съездили в Советский Союз и посетили Сталина в Кремле. Когда обсуждение антисоветской политики Британии коснулось Черчилля, леди Астор пренебрежительно отмахнулась, заверив Сталина, что Черчилль «закончился». Шоу вторил ей, сказав, что Черчилль никогда не станет премьер-министром. Сталин усомнился в этом и высказал предположение, что английский народ может обратиться к Черчиллю в кризисной ситуации[191].
Черчилль столько разглагольствовал о политике в отношении Индии (он был против ее независимости) и Германии (он считал, что угроза с ее стороны недооценивается), что истощил терпение собственной партии, лидеры которой твердо решили не допустить его назначения в правительство. Бирма заставила Оруэлла стать левым и отказаться от доходной службы, точно так же Индия подтолкнет Черчилля вправо и отдалит от власти, заставив его в 1931 г. разругаться с лидером Консервативной партии Стэнли Болдуином и выйти из партийного комитета по составлению повестки дня[192]. После этого его риторика еще более ужесточилась; как-то в палате общин он заявил, что бывший лейбористский премьер-министр Рамзей Макдональд просто клоун, «бесхребетное нечто, сидящее на скамье министров»[193]. Одна из причин скептического отношения к его пророческим речам об угрозе Германии во второй половине этого десятилетия состояла в том, что Черчилль с той же страстью рассуждал об опасностях независимости Индии.
Он уделял много времени работе над книгами и газетными статьями. Однажды, когда Evening Standard отказалась взять его статью, Малкольм Маггеридж, тогда молодой репортер этой газеты, встретив его, решил, что с Черчиллем что-то стряслось. «Вот человек, у которого плохо идут дела, которого постигло несчастье или разорение»[194], – подумал Маггеридж, сидевший в отделе новостей рядом с Рэндольфом Черчиллем, беспутным сыном Уинстона.
Как Маггеридж и подозревал, Черчилль столкнулся с серьезными финансовыми проблемами[195]. Они затянутся на все десятилетие, в конце концов заставив его задуматься о продаже нежно любимого сельского дома, Чартуэлла, ставшего его убежищем от треволнений мира.
В своих военных мемуарах Черчилль отзовется о 1930-х гг. как о времени своей «политической опалы»[196]. В наши дни некоторые исследователи выражают сомнение в глубине его политической изоляции[197], но факты и наблюдения современников подтверждают мнение Черчилля.
Возвращение Черчилля во власть было долгим и трудным. Большую часть десятилетия он блуждал, разойдясь со своим временем, символом которого стало принятое в феврале 1933 г. решение университетского дискуссионного общества «Оксфордский союз» «ни при каких условиях не воевать за своего короля и свою страну»[198]. Лидеры нации, многие из которых разделяли настроения участников оксфордских дискуссий, начали проводить политику умиротворения Германии, идя на уступки с позиции слабого.
* * *
Содержание политики умиротворения агрессора – что это такое, как ее осуществлять, когда прекратить – стал ключевой темой британской политики на протяжении большей части 1930-х гг.
Здесь важно помнить, что тонкая, но прочная ниточка симпатии к фашизму и даже к Гитлеру связывала часть английской аристократии с Германией. Самым видным среди дружественно настроенных к Германии аристократов был лорд Лондондерри, родственник Черчилля, член кабинета в начале 1930-х гг., затем недолго возглавлявший палату лордов. Оруэлл однажды заметил: «Порочен ли британский правящий класс, или просто туп – один из самых сложных вопросов нашего времени, а в определенные моменты – очень важный вопрос»[199]. Возможно, он имел в виду лорда Лондондерри.
Недалекий и легковерный, Лондондерри привык к уважению в силу своего богатства и положения, к которому сам он относился с большим пиететом. Король называл его Чарли, и в те времена подобная фамильярность обеспечивала высокий статус. Он был виднейшей фигурой лондонского общества. «Между риббентропами и лондондерри царит задушевная дружба»[200], – записал в 1936 г. в дневнике сэр Генри «Чипс» Кэннон, представитель лондонского света и политик-тори, имея в виду посла Германии в Англии, который скоро станет гитлеровским министром иностранных дел. После знакомства с Гитлером в том же году Лондондерри заявил, что германский лидер является «весьма приемлемым»[201], и призвал британское правительство искать «точки соприкосновения» с Германией на почве борьбы с коммунизмом. Он даже приветствовал захват Германией Австрии в марте 1938 г. как, возможно, радикальный, но необходимый шаг для предотвращения кровопролития. Троюродный брат Черчилля, Лондондерри оставался с ним в сердечных отношениях вплоть до резкого разговора за столом обеденного клуба Grillions в октябре 1938 г., когда Черчилль высмеял его политику[202].
Лондондерри представлял собой крайний случай, но не был исключением ни в приятии некоторых элементов фашизма, ни даже в том, что одобрял их, будучи родственником Черчилля. Еще теснее, во всех отношениях, Черчилль был связан с семейством Митфорд. Его жена Клементина была кузиной отца сестер Митфорд и, как уже говорилось, могла даже иметь с ними более тесную кровную связь, в зависимости от того, кто приходился ей отцом.
Сын Клементины и Уинстона Рэндольф Черчилль одно время был «очень сильно влюблен»[203] в одну из сестер, Диану Митфорд. Художник, писавший ее портрет, сказал Нэнси Митфорд, что слышал, будто у Дианы связь с Рэндольфом. Нэнси поведала об этом Диане в письме, в следующем абзаце упомянув о беседе за ланчем с сестрой Фреда Астера, Адель, объявившей: «Мне все равно, что люди срываются с цепи и трахаются, но я все-таки против всей этой свободной любви»[204].
В другом клубке аристократических страстей завяз племянник Клементины Эсмонд Ромилли, который воевал в 1936 г. в Испании на стороне республиканцев, а год спустя сошелся со своей троюродной сестрой Джессикой Митфорд. Долго ходили слухи, что Эсмонд на самом деле сын Уинстона Черчилля. Возможно, сам Эсмонд способствовал этим слухам, по словам Джессики Митфорд, «отвратительно хорошо» изображая Черчилля перед своими друзьями[205]. Впоследствии Эсмонд переехал в Канаду, стал летчиком-добровольцем и в 1941 г. погиб в бою за штурвалом бомбардировщика.
Что до Дианы Митфорд, она мудро отдалилась от Рэндольфа Черчилля и предпочла выйти замуж за наследника пивной империи Гиннессов. Ее следующая связь оказалась гораздо менее благоразумной: через несколько лет она бросила Гиннесса, увлекшись Освальдом Мосли, лидером Британского союза фашистов. Их свадьба состоялась в 1936 г. в доме лидера нацистской пропаганды Йозефа Геббельса и в присутствии Гитлера. Третья сестра Митфорд, Юнити, сдружилась с Гитлером в середине 1930-х гг. «Я думаю, она очень нравилась Гитлеру, он от нее глаз не отрывал»[206], – заметила еще одна из сестер Митфорд, Дебора. На ленче в декабре 1935 г. Юнити сообщила Диане: «Он много говорил о евреях, это было мило»[207].
Фашизмом увлекались не только молодые и глупые. Сводная сестра Невилла Чемберлена, жившая в Риме, заверила Муссолини, что британское правительство придет к сердечным отношениям с его страной, несмотря на военные авантюры Италии в Африке[208]. Честно говоря, и Черчилль в 1920-х гг. выражал восхищение итальянским лидером[209]. Арнольд Тойнби, сегодня почти забытый, но в свое время один из самых видных британских историков, познакомился с Гитлером в 1936 г. и сообщил в британский МИД, что немецкий лидер искренне жаждет мира. «Он убежден в искренности [Гитлера] в стремлении к миру в Европе и к тесной дружбе с Англией»[210], – записал Томас «Ти Джей» Джонс, функционер Консервативной партии после загородной прогулки с Тойнби. Уолдорф Астор, родившийся в США пэр, объяснил Джонсу, что американцев тошнит от нацистов «главным образом из-за интенсивной и повсеместной антигерманской пропаганды, проводимой евреями и коммунистами», поскольку «на газеты влияют фирмы, дающие много рекламы в прессе, а они часто принадлежат евреям»[211]. Гарольд Николсон, ужиная как-то в мае 1938 г. в одном из аристократических лондонских клубов «Прэтт», был поражен, услышав, как три молодых лорда согласились, что «охотнее увидят в Лондоне Гитлера, чем правительство социалистов»[212]. Через четыре дня к Николсону зашел Чарльз Линдберг, самый знаменитый в мире пилот, а также видный американский изоляционист. «Он говорит, что мы, вероятно, не сможем воевать, потому что точно будем разбиты, – записал Николсон. – Он считает, нам нужно просто уступить и затем заключить союз с Германией»[213].
В мае 1939 г. шотландец Арчибальд Рамзей, член парламента от Консервативной партии, сформировал прогерманскую антисемитскую группу «Правый клуб»[214]. На ее эмблеме были изображены орел, убивающий змею, и буквы PJ – «Perish Judah»[215].
Лондонская The Times в те годы принадлежала еще одному представителю клана Асторов, Джону Дж. Астору, и являлась ежедневным печатным органом британского истеблишмента. По словам лорда Галифакса, министра иностранных дел при Чемберлене, в предвоенной Британии «особый вес придавался мнениям, выраженным в ее передовицах [то есть в редакционных статьях], поскольку считалось, что они снискали своего рода разрешение, если не одобрение правительства»[216]. Газета рьяно поддерживала политику умиротворения агрессора на протяжении 1930-х гг., вплоть до того, что готова была терпеть и даже приветствовать тактику Гитлера. После «Ночи длинных ножей», серии шокирующих политических убийств, осуществленных гитлеровцами в середине 1934 г., газета успокаивала читателей: «Герр Гитлер, что бы ни думали о его методах, искренне старается преобразовать революционный пыл в умеренную и конструктивную работу и обязать официальных лиц национал-социализма следовать высоким стандартам государственной службы»[217].
В 1937 г. Джеффри Доусон, редактор The Times, делился со своим корреспондентом в Женеве: «Вечер за вечером я прилагаю все усилия, чтобы не допустить в газету ничего, что могло бы ранить их чувства»[218]. Согласно собственной официальной истории The Times, изданной в 1952 г., слишком многие противники умиротворения были «интеллектуалами, утопистами, сентименталистами и пацифистами, довольствующимися программой сопротивления без средств сопротивления». Авторы истории The Times с выдающимся нахальством обвиняют эти горячие головы в том, что катастрофическая политика умиротворения агрессора стала необходимой, утверждая, будто газета, «как и правительство, была беспомощна перед лицом очевидного изоляционизма стран Содружества и пацифизма Британии»[219]. При этом упускается из виду, что задача ведущей газеты не просто озвучивать мнение, но пытаться изменить его, особенно если важнейший элемент политики правительства опирается на ложные предпосылки. Безусловно также, что не дело редактора газеты замалчивать новости с мест, поскольку они могут встревожить публику или заставить государственных деятелей пересмотреть свою политику.
Сам король Эдуард VIII во время 11-месячного царствования в 1936 г. поддерживал политику умиротворения. Согласно одному свидетельству, когда Гитлер в марте 1936 г. направил войска в Рейнскую демилитаризованную зону, нарушив условия Версальского мира, король вызвал посла Германии в Лондоне и сообщил ему, что «высказал все, что думал»[220] премьер-министру Болдуину. Читай: «Я сказал этому старому хрычу, что отрекусь от престола, если он развяжет войну. Сцена была ужасная. Но не беспокойтесь. Войны не будет». Король действительно отрекся в тот же год, но по другой причине. Во время войны его крайне правые взгляды и контакты стали источником постоянной тревоги для Черчилля и британской интеллигенции.
Многие защитники умиротворения агрессора считали себя прагматиками. Им казалось очевидным, что усиливающейся Германии может противостоять только сильная европейская коалиция, готовая вести боевые действия. Однако, замечали они, подобный альянс не складывался, значит, в отсутствие альянса и с учетом медленного перевооружения Британии умиротворение агрессора – трезвая мера, курс, поддерживаемый куда более холодными головами, чем Уинстон Черчилль. В письме, датированном январем 1938 г., Невилл Чемберлен заявлял: «Как реалист я должен делать все возможное для безопасности нашей страны»[221].
Несмотря на аргументы The Times и премьер-министров, которых она ревностно поддерживала, – сначала Стэнли Болдуина, затем Чемберлена, – сегодня ясно, что идея умиротворения основывалась скорее на самообмане, чем на трезвом расчете, поскольку требовалось верить, что Гитлер адекватен и заслуживает доверия. Сам Чемберлен в личной беседе сказал своей сестре, что на Гитлера «можно было положиться, когда он давал слово»[222]. Бывший премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж после встречи с Гитлером объявил лидера Германии «замечательным человеком», голова которого «не закружилась от поклонения»[223].
На аргументы в пользу умиротворения Черчилль отвечал, что теперь, когда нацисты взяли власть в Берлине, эта политика в конце концов приведет к войне. «Достижение Германией какого бы то ни было равенства в военной области с Францией, Польшей или малыми государствами означает возобновление всеобщей европейской войны»[224], – утверждал он, выступая в палате общин в апреле 1933 г., примерно через три месяца после того, как Гитлер стал канцлером и начал предпринимать шаги по превращению Германии в однопартийное государство. В другой речи ближе к концу того же года он предположил: «Определяющий факт, факт огромного значения, что Германия перевооружается, уже начала перевооружаться»[225].
Через год Черчилль задавался вопросом перед парламентариями: «Какой важный новый факт обрушился на нас в последние восемнадцать месяцев?» И отвечал: «Германия перевооружается. Вот важнейший новый факт, приковывающий внимание любой страны Европы, да и всего мира, и оттесняющий на задний план практически все остальные темы»[226]. Особенно тревожила Черчилля растущая мощь немецкой авиации. «Германия уже обладает мощной хорошо оснащенной армией с превосходной артиллерией и колоссальным резервом вооруженных обученных людей. Германские оружейные заводы работают практически в военном режиме, обеспечивая приток вооружений, причем в последние 12 месяцев все более широкий приток. Многое из этого, без сомнения, противоречит подписанным договорам. Германия перевооружается на суше; она частично перевооружается на море; но, что беспокоит нас больше всего, это перевооружение Германии в воздухе»[227].
Однако британское правительство продолжало придерживаться противоположных взглядов: путь к миру, верили многие его лидеры, лежал через отказ от участия в гонке вооружений и даже через разоружение. Гитлер в конце 1930-х гг. считал, что Британия слишком слаба, чтобы воевать, и многие британские лидеры молча соглашались с ним. Когда Германия действительно начала наращивать боевую мощь, официальной реакцией Британии стала попытка заставить французское правительство пойти на уступки, чтобы задобрить немцев[228]. Клемент Эттли, в то время главная фигура в Лейбористской партии, выразил господствующее мнение, заявив в 1935 г., что, если они стремятся к миру, «этого едва ли можно добиться путем укрепления национальной обороны»: «Мы считаем, это возможно только путем перехода в новый мир – мир законности, через упразднение национальных армий и появление мировых вооруженных сил и мировой экономической системы»[229]. Однако к концу 1930-х гг. Эттли перейдет на сторону Черчилля и станет решительным противником политики Чемберлена по умиротворению Гитлера.
Другие упорно держались курса на умиротворение. Став в мае 1937 г. премьер-министром, Чемберлен решил примириться с Германией, предложив отдать ей в управление колонии[230]. В ноябре 1937 г. министр иностранных дел лорд Галифакс встретился с Гитлером и вернулся успокоенный, сообщив кабинету министров, что Германия «не планирует немедленных авантюр»[231]. В марте 1938 г. Эттли обвинит Чемберлена в том, что тот «проводит политику переговоров с людьми, продемонстрировавшими, что они верят в силу, и применяющими силу, даже когда он ведет с ними переговоры»[232].
Лидеры тори чувствовали, что для умиротворения Гитлера необходимо сместить Черчилля с позиции лидера. Томас Джонс, доверенное лицо премьер-министра Болдуина, посвятил целые годы тому, чтобы удерживать Черчилля на обочине большой политики. В 1934 г. Джонс откровенничал с другом: «Правы они или нет, но самые разные люди, встречавшиеся с Гитлером, убеждены, что он выступает за мир»[233]. Джонс, являвшийся одним из таких людей, написал два года спустя: «Мы располагаем многочисленными свидетельствами стремления немцев всех общественных слоев оставаться с нами в дружеских отношениях»[234]. Сам совершив паломничество и встретившись с вождем Германии, Джонс доложил Болдуину: «Гитлер верит в Вас и верит, что только Вы в нашей стране можете добиться переориентации Англии, Франции и Германии, которой он жаждет»[235]. Далее Джонс призвал «решительно выступить за союз с Германией», чем потряс даже некоторых соратников[236].
В результате этого политического раскола вплоть до 1939 года Черчилля будут считать, как подытожил историк Тони Джадт, «сверходаренным аутсайдером: он слишком хорош, чтобы его игнорировать, но слишком нетрадиционен и “ненадежен” для назначения на высший пост»[237]. Другие политики считали его сумасбродом, у которого больше энергии, чем разума, и который непоколебим во взглядах, но не способен быть верным партии. «Все мы знаем, что в нашей политике нет ничего более устаревшего, чем Уинстон Черчилль десятилетней давности»[238], – глумился звезда Либеральной партии Герберт Сэмюэл на парламентских дебатах в марте 1930 года. Через несколько лет Сэмюэл сравнит Черчилля, занимающегося оборонной политикой, с «несущимся в приступе амока малайцем»[239]. Когда Черчилль, выступая в Оксфордском университете в 1934 г., заявил, что опасается за безопасность Англии, то услышал, по словам его официального биографа Мартина Гилберта, «издевательский смех»[240]. В феврале 1935 г. сэр Сэмюэл Гор, видный тори, уверял редактора Manchester Guardian, что «едва ли найдется хоть один тори, готовый принять Черчилля в качестве лидера партии или премьер-министра»[241].
Пожалуй, самым болезненным оказался укол, нанесенный в мае 1935 г. Томасом Сесилом Муром, консервативным членом парламента: «При всем нежелании критиковать кого-либо на закате его карьеры ничто не может оправдать достопочтенного члена парламента от Эппинга [Черчилля], вся речь которого буквально пропитана убеждением, что Германия вооружается, готовясь к войне»[242]. Другой консерватор после обеда с Черчиллем записал в дневнике, что тот показался ему «очень неуравновешенным»[243]. С учетом этого вала критики неудивительно, что к концу 1936 г. Черчилль, пусть на мгновение, допустил мысль, что его политическая карьера «окончена»[244]. Черчилль не говорит, верил ли в это он сам, но отмечает в мемуарах: «Практически все сходились на том, что моя политическая жизнь наконец завершена»[245].
Невозможность назначения Черчилля на пост премьер-министра стала ключевой мыслью его оппонентов. «Какие бы опасности ни грозили нашей стране, перспектива правительства, сформированного мистером Черчиллем… и другими, не является тем, чего следует опасаться»[246], – со смешком сказал барон Понсонби Шёлбредский в палате лордов. Понсонби, отец которого был личным секретарем королевы Виктории, а дед сражался при Ватерлоо[247], продолжил рассуждать об этой опасности, заявив в палате лордов, что однажды, возможно, придется заключить Черчилля в тюрьму: «Я с величайшим восхищением отношусь к таланту мистера Черчилля в парламентской борьбе, к его литературным и художественным дарованиям, но всегда считал, что во время кризиса он должен быть изолирован одним из первых»[248]. Примерно в то же время лорд Моэм заявил, что Черчилля лучше всего «расстрелять или повесить»[249].
Изоляция Черчилля усугубилась в декабре 1936 г., когда он поддержал короля Эдуарда VIII во время кризиса, вызванного спорами о том, должен ли король отказаться от своего желания жениться на разведенной американке миссис Уоллис Симпсон. В этой поддержке кое-кто углядел выпад Черчилля против аристократии, пытавшейся обуздать короля, которого поддерживали народные массы. Черчилль, заняв сторону Эдуарда, также бросил вызов собственной партии и ее лидеру, премьер-министру Болдуину. Поддержка Черчиллем короля поставила в тупик историков, особенно в свете проявившихся впоследствии фашистских симпатий Эдуарда. Скорее всего, традиционализм Черчилля, его любовь к «королю и стране» повлияли на его суждение.
Когда Черчилль выступил против своей партии в палате общин, его яростно освистали. Багровый от ярости, он выкрикнул Болдуину: «Вы не успокоитесь, пока не сломаете его, верно?»[250] В тот день он сказал другу, что считает свою политическую карьеру законченной.
На короля действительно давили. На рождественских представлениях в том месяце английские школьники шокировали родителей и учителей, распевая:
Слышишь, ангелы поют:
Миссис Симпсон сцапала нашего короля[251].
«Для высших классов ее американское происхождение хуже ее развода»[252], – заметил убежденный сноб Гарольд Николсон.
Немцы, однако, совсем не были уверены, что с Черчиллем покончено, и продолжали его изучать. Однажды в 1937 г. Черчилль был приглашен на завтрак Иоахимом фон Риббентропом, тогда еще германским послом. Нацисты уже хорошо знали, что Черчилль главный, кто высказывается против них в Британии. Риббентроп сразу же сказал Черчиллю, что Германия стремится к дружбе с Англией, не желает разрушения Британской империи, и все, что им нужно, – развязать себе руки в Восточной Европе, чтобы получить Lebensraum, необходимое жизненное пространство. Для этого, указал он на карту на стене посольства, Германии придется поглотить Польшу, Украину и Белоруссию. Все, о чем просит Германия, – чтобы Британия не вмешивалась.
Стоя перед картой, Черчилль ответил, что Британия не согласится с подобным планом. Риббентроп «резко» отвернулся от карты и сказал: «Тогда война неизбежна. Выхода нет. Фюрер полон решимости. Ничто не остановит его, и ничто не остановит нас».
Они снова сели за стол. Черчилль призвал Риббентропа не недооценивать Британию: «Если вы втянете всех нас в новую мировую войну, она соберет против вас весь мир, как в прошлый раз».
Немец поднялся, заявив с некоторой «горячностью», что это не его личная оценка: «Англия, возможно, очень хитроумна, но на сей раз она не объединит мир против Германии»[253].
Черчилль продолжал свой крестовый поход против политики умиротворения Германии. В апреле 1937 г. он предостерегал палату общин: «Судя по всему, мы движемся, сползаем против собственной воли, против воли каждой расы, каждого народа и каждого класса, к ужасной катастрофе. Каждый хочет ее остановить, но никто не знает как»[254].
Его дурные предчувствия усиливались на протяжении 1938 г., когда проводимая Чемберленом политика умиротворения была на пике как реализации, так и популярности.
Свой персональный надир Черчилль прошел 20 февраля 1938 г., когда до рассвета пролежал в постели без сна. Он размышлял о том, что Энтони Иден, министр иностранных дел, только что покинул пост из-за решимости Чемберлена продолжать политику умиротворения. «Я смотрел, как дневной свет медленно заполняет комнату, – писал он, – и перед моим внутренним взором предстало видение Смерти»[255]. Через месяц он печально отметит в парламентской речи: «Пять лет я поднимал перед палатой общин этот вопрос без особого успеха. Я видел, как наш славный остров безудержно, бездумно скатывается на путь, ведущий в бездну»[256].
14 мая 1938 г., когда британская футбольная сборная встречалась с немецкой на Олимпийском стадионе в Берлине, ее игроки на глазах у ста тысяч зрителей при исполнении гимна Германии подняли руки в нацистском приветствии[257]. Они последовали распоряжению британского МИДа, главой которого теперь был лорд Галифакс. Той же весной Галифакс сказал на заседании кабинета министров, что в интересах мира Британии, возможно, придется надавить на Чехословакию, принудив пойти на большие уступки Гитлеру. «Это мутное дело, – признал он, – которое следует уладить как можно приличнее»[258]. Эта натужная фраза могла бы стать символом политики умиротворения – и ее эпитафией.
* * *
В конце сентября того же года премьер-министр Чемберлен, совершив за месяц три короткие поездки в Германию, пришел к Мюнхенскому соглашению с Гитлером. С этого пакта начнется возвращение Черчилля в политику.
Сначала казалось, что этого не произойдет. Осенью 1938 г. Чемберлен достиг пика популярности. Довольный своим дипломатическим искусством, после первой встречи с Гитлером он сообщал: «Я приобрел определенную уверенность, что и было моей целью, и, со своей стороны, несмотря на жесткость и суровость, которую, казалось, выражало его лицо, проникся впечатлением, что передо мной человек, на которого можно положиться, если он дает слово»[259]. На второй встрече с Гитлером в том же месяце Чемберлен уступил всем его требованиям. Правительства Франции и Британии велели Чехии отдать Германии значительно германизированную западную часть страны – Судетскую область. Таким образом, Чемберлен развязал Германии руки, и немцы приступили к расчленению Чехословакии, начав с трети ее населения и ее системы обороны границ. Черчилль вспоминал: «Вера в то, что можно получить безопасность, бросив этим волкам маленькую страну, – фатальное заблуждение»[260]. Чемберлен заверил кабинет министров в своей убежденности, что Гитлер ему доверяет.
29 сентября Чемберлен вылетел в Германию на третью за месяц встречу с Гитлером. Вернувшись в Лондон, он провозгласил, что обеспечил «мир для нашей эпохи». Толпы на улицах аплодировали ему.
На собрании палаты общин на следующей неделе Чемберлен начал свое выступление с радостного заявления: «Облако тревоги ушло из наших сердец». Он «заложил основы мира для нашего времени». Он заверил парламент, что ни о чем не жалеет, а на выкрики горстки оппонентов «позор» ответил: «Мне нечего стыдиться. Пусть стыдятся те, у кого есть на это причины».
Большинство членов палаты общин[261] поддержали Чемберлена. Джордж Лансбери, престарелый функционер Лейбористской партии, присоединился к консерватору премьер-министру, заявив: «Я постоянно слышу поклепы на герра Гитлера и синьора Муссолини. Я встречался с ними обоими и могу сказать, что они очень похожи на любого политика или дипломата». Сайрил Калверуэлл, консерватор, прославлял «бесстрашие, искренность и умелое руководство» Чемберлена. В любом случае, добавил он, «была лишь альтернатива: война или умиротворение». Большинство стояли за второе.
По мнению Генри Райкеса, еще одного консерватора, Чемберлен обеспечил себе почетное место в истории: «Мы, представители этой стороны палаты, имеем право гордиться ролью ведомых, поскольку нас ведет премьер-министр. Мы имеем право верить, что, вместо того чтобы улюлюкать над утверждением, что в нашу эпоху пришел мир, следует всемерно оценить тот факт, что наш лидер войдет в историю как величайший европейский государственный деятель нашего и любого другого времени».
Черчилль выжидал весь первый, а затем и второй день дебатов по поводу Мюнхена. В третий и последний день, вскоре после пяти пополудни в среду 5 октября, он, наконец, начал свою речь: «Прежде всего я скажу то, что все хотели бы проигнорировать или забыть, но что тем не менее следует сказать, а именно что мы потерпели полное и абсолютное поражение»[262].
Леди Астор, его заклятый политический враг на протяжении всей жизни, рьяная сторонница умиротворения, прервала его возгласом: «Нонсенс!»
Черчилль ответил: «Максимум того, что мой достопочтенный друг премьер-министр сумел обеспечить всеми своими колоссальными стараниями, всеми огромными усилиями и мобилизацией, произошедшими в нашей стране, всеми страданиями, всем напряжением, через которые нам пришлось пройти, самое большее его достижение…»
Его речь снова прервали крики парламентариев: «Это мир!»
Черчилль усилил голос: «Максимум того, что он сумел получить за Чехословакию… – теперь германский диктатор не таскает куски со стола, а уписывает блюдо за блюдом, которые ему подносят».
Он продолжил: «Мы – свидетели катастрофы первой величины». После очередного короткого вмешательства леди Астор, которое Черчилль вновь проигнорировал, он завершил выступление почти библейским предостережением: «Отсчет только начался. Это лишь первый глоток, первая капля из чаши горечи, которой нас будут потчевать год за годом, пока, полностью восстановив нравственное здоровье и воинский дух, мы не воспрянем и не выступим за свободу, как в старые времена».
В тот день Черчилль говорил для истории, а не для палаты общин. Взгляды парламентариев лучше всего выразил Томас Мэгни, либеральный член парламента от Гейтсхеда возле Тайна, задав риторический вопрос, очевидно, не интересуясь ответом: «Что такое Чехословакия?»[263]
Премьер-министр Чемберлен завершил трехдневные дебаты, подчеркнув личный характер своей заинтересованности:
Каждый, кто перенес все то, что мне пришлось переносить день за днем, под гнетом понимания, что в конечном счете именно я, один только я, должен буду произнести «да» или «нет», предопределив судьбы миллионов моих соотечественников, их жен, их семей, – кто через это прошел, этого не забудет[264].
Поэтому он намерен руководствоваться не критикой парламентариев, а собственной совестью: «Когда человек доживает до моих лет и занимает мою должность, он, я полагаю, склонен считать, что критика и даже поношение мало для него значат, если собственная совесть одобряет его действия». Палата общин поддержала его политику 366 голосами против 144.
В разгар дебатов вокруг Мюнхенского соглашения Черчилль столкнулся с противодействием собственных избирателей. «Это бесспорный факт, – пишет Рой Дженкинс. – На протяжении примерно шести недель осени 1938 г. и, все в меньшей мере, следующих четырех месяцев имелись сомнения, останется ли он членом парламента от консерваторов»[265]. 4 ноября 1938 г. союз консерваторов Эппинга собрался, чтобы решить, считать ли Черчилля своим представителем в парламенте. Черчилль победил с результатом 100 голосов против 44. Дженкинс отмечает, что, если бы всего 30 голосовавших изменили свое мнение, история могла бы пойти по другому пути: возможно, это заставило бы Черчилля сложить с себя полномочия, а затем участвовать в борьбе за место от Эппинга на довыборах, скорее всего, против сторонника Чемберлена.
Чемберлен тем временем переживал взлет популярности[266]. Мэр уэльского Кардиффа распорядился, чтобы в его честь был поднят флаг со свастикой. Перегрин Каст, 6-й барон Браунлоу, личный камергер короля Эдуарда VIII, подарил Чемберлену портсигар с гравированной картой Европы и сапфирами, отмечавшими три места в Германии, где проходили переговоры Чемберлена с Гитлером – Берхтесгаден, Годесбург и Мюнхен. Чемберлен еще раз объявил членам правительства в конце октября: «Наша внешняя политика – это политика умиротворения»[267]. Чарльз Линдберг, приехавший в Лондон, поделился с хозяевами дома, в котором гостил, убежденностью, что в случае войны «демократии будут полностью и окончательно разгромлены»[268].
Однако Гитлер, очевидно, понимал следствия позиции Чемберлена лучше самого британского лидера. Словами и действиями он начал демонстрировать истинное значение Мюнхена. В двух речах в начале ноября он предпринял личные нападки на Черчилля, назвав его «сумасшедшим» и заявив, что его деятельность ведет к войне[269]. Сразу после этого нацисты развернули общенациональную травлю германских и австрийских евреев, сожгли сотни синагог и уничтожили 7000 предприятий, принадлежавших евреям. Нападения 9 и 10 ноября, ныне известные как Kristallnacht («Хрустальная ночь») из-за множества разбитых погромщиками витрин, рассматриваются некоторыми современными историками как первый пример организованного государством массового насилия по отношению к евреям в Германии и Австрии.
Чемберлен отреагировал на «Хрустальную ночь» вяло, признавшись сестре, что «испытывает ужас», и пожаловавшись: «Полагаю, мне придется что-нибудь сказать на этот счет»[270]. Он, однако, почти ничего не сказал, ни прямо, ни хотя бы косвенно, когда в том же месяце в палате общин обсуждалась проблема еврейских беженцев[271]. Молчание было замечено. Невилл Ласки, президент Совета представителей британских евреев, заметил редактору Manchester Guardian, что Чемберлен «не произнес ни слова сочувствия в адрес евреев в Германии»[272], добавив, что премьер-министр был столь же неразговорчив при личной встрече с видными британскими евреями. Чемберлен все еще нежился в отсветах славы Мюнхена. На его рождественской открытке за тот год красуется его двухмоторный моноплан «Локхид Электра», летящий в Германию[273].
Черчилль был потрясен и в личных беседах грозился: «На следующих всеобщих выборах я буду с каждой социалистической трибуны в стране выступать против правительства»[274]. (По необъяснимым причинам он не упомянул Kristallnacht в своих многотомных воспоминаниях о Второй мировой войне. При этом он поминутно описывал шаги, приведшие к войне, например посвятил несколько страниц анализу последствий замены Максима Литвинова В. М. Молотовым на посту советского министра иностранных дел. Это один из самых странных пробелов в его мемуарах.)
В Британии имелись деньги на укрепление обороны, но Чемберлен выступил против таких мер. Хотя профицит бюджета достигал £20 млн, он объявил подобный шаг неблагоразумным. Ему как бывшему министру финансов, сказал он кабинету министров, финансовое положение кажется «чрезвычайно опасным»[275].
В целом Чемберлен был доволен своими достижениями. Он писал сестре: «Теперь потребуется некоторое время, чтобы ситуация успокоилась, но она развивается в том направлении, которого я желаю»[276]. Когда правительство Германии спросило британского посла в Берлине, как воспринимать речи Черчилля, тот заверил, что можно не волноваться.
В середине марта 1939 г. Гитлер приказал немецкой армии наступать на оставшуюся часть Чехословакии, которую шестью месяцами ранее Чемберлен публично охарактеризовал как «далекую страну», вовлеченную «в свару… между людьми, о которых мы ничего не знаем»[277].
Рыбку подсекли. С вторжением в Чехословакию стало ясно, что политика умиротворения агрессора провалилась и Чемберлен вместе с ней. В последние десятилетия набирает силу ревизионистский взгляд[278], будто Чемберлен выиграл для Британии время на подготовку к войне, но при этом игнорируются два ключевых факта. Во-первых, Гитлер в это время невероятно усилился, в частности, захватил австрийское золото и военную промышленность Чехословакии, а также людские резервы, которые мог использовать на фабриках и в армии. Во-вторых, Чемберлен ничем не показал, что его целью было выиграть время, и, скорее всего, он или один из его политических союзников, например лорд Галифакс, при наличии возможности запросил бы мира в 1940 г. Некоторые ревизионисты утверждают, что задержка была призвана дать Королевским военно-воздушным силам время на укрепление, но при этом отбрасывается тот факт, что Чемберлен финансировал строительство истребителей только потому, что это было дешевле строительства бомбардировщиков.
Теперь мы знаем, что 23 мая 1939 г. Гитлер собрал у себя высших военных чинов, чтобы раскрыть планы войны[279], которая, по его словам, была неизбежна. Прежде всего он намеревался «атаковать Польшу при первой возможности». В дальнейшем будет «борьба не на жизнь, а на смерть» с Англией. Он обрисовал условия, необходимые для победы. «Если удастся оккупировать и удержать Голландию и Бельгию, а также победить Францию, будут обеспечены базовые условия для успешной войны с Англией. Затем в ходе непосредственных боестолкновений можно будет блокировать Англию из Западной Франции силами авиации, тогда как флот с его подводными лодками увеличит масштабы блокады». Судя по переводу, используемому на послевоенном Нюрнбергском процессе, Гитлер не упоминал в этом документе Соединенные Штаты. Имеются свидетельства, что на тот момент он задумывался о войне с США, но только после покорения Европы и Советского Союза[280].
Британцы наблюдали, как Гитлер распространяет свою власть за границы Германии, и тон в отношении всеми осмеиваемого Черчилля начал меняться. «Достопочтенный джентльмен продолжает приходить в эту палату и изрекать предупреждения в адрес правительства, – сказал Реджинальд Флетчер в ходе дебатов в июне 1939 г. – Правительство неизменно отклоняет его предупреждения, но снова и снова он видит, как властям приходится их принимать, платя за это намного более высокую цену, чем если бы они прислушались к нему с первого раза»[281]. Чемберлен по-прежнему упорно не желал, чтобы Черчиллю предоставили лидирующие позиции. Премьер-министр проинформировал своего политического союзника Джеффри Доусона, редактора The Times, что «не намерен уступать давлению и возвращать Уинстона»[282].
Давление в пользу Черчилля росло. В августе 1939 г., в канун войны в Европе, Элеанора Рэбоун, независимый член парламента и защитница прав женщин, представлявшая английские университеты за вычетом Оксфордского, Кембриджского и Лондонского (в те времена они обладали привилегией выставлять в парламент собственных представителей), выступая в палате общин, заявила, что Черчилль «все время предсказывал, что это случится, но его советом пренебрегали»[283].
Глава 5 Оруэлл становится «Оруэллом» Испания, 1937 г.
Оруэлл отправил рукопись «Дороги на Уиган-Пирс» своему издателю 15 декабря 1936 г. и через неделю уехал в Испанию. Он задержался в Париже ради разговора с писателем Генри Миллером, которым восхищался. Оруэлл прибывал в Барселону накануне Рождества, и Миллер подарил ему вельветовый пиджак.
Так начинались семь месяцев, ставшие самыми важными в политической жизни Оруэлла. Увиденное на гражданской войне в Испании предопределило содержание всего, что он впоследствии напишет. Между барселонскими улицами 1937 г. и пыточными камерами «1984» – прямая связь.
Однако в конце 1936 г. дела обстояли совершенно иначе. Барселона, столица Каталонии на северо-востоке Испании, была главным центром сопротивления правым, объявившим войну Испанской республике. Оруэлл отправился туда, формально для того чтобы писать о гражданской войне, но почти сразу присоединился к противникам правых. Можно сказать, он впал в эйфорию, окунувшись в подлинно революционную атмосферу, где каждый человек видел в другом товарища. Впервые в жизни он наблюдал организацию рабочего класса. «Главное, там была вера в революцию и будущее, ощущение внезапного перехода в эпоху равенства и свободы»[284], – писал он.
Другие приезжие испытывали то же пьянящее чувство. Китти Боулер, молодая американка-антифашистка, писала матери: «Здесь складывается новый мир»[285]. Ее соотечественнице Лоис Орр понравилось, что анархисты выбрали в качестве талисмана морячка Попая[286] и, собирая деньги для своей партии, продавали значки и шарфы с изображением этого мультяшного персонажа, размахивающего красно-черным флагом, но отметила, что Микки-Мауса признали внепартийным. (В эссе о Диккенсе, написанном несколько лет спустя, Оруэлл, между делом, отметил, что и Попай, и Микки являются «вариациями Джека – покорителя великанов»[287]). Прибыв в Барселону, австрийский марксист Франц Боркенау словно бы «высадился на континент, отличающийся от всего виденного прежде»[288]. Здесь всем руководили рабочие, полиции почти не было видно, в каждом видели товарища. Боркенау не мог знать, что в следующем году будет замучен полицией коммунистической Испании за недостаточную веру в коммунизм. Лоис Орр тоже вскоре окажется в тюрьме под надзором коммунистов[289].
Изучая обстановку в городе, Оруэлл спросил одну англичанку, как попасть на фронт. Она отнеслась к незнакомцу с подозрением и потребовала показать документы. «Он расположил меня к себе, указав на армейские ботинки, висящие за плечом»[290], – вспоминала она. Это был убедительный штрих, свидетельствовавший, что человек знает, во что ввязывается, и, возможно, имеет определенный воинский опыт. Поступая на службу добровольцем, Оруэлл указал в документах в качестве рода занятий «бакалейщик»[291], что было, в общем, правдой в свете его недавнего экскурса в сферу деревенской торговли.
Оруэлл направился на фронт, находившийся примерно в 120 км от Барселоны. Там его встретил Боб Эдвардс, координатор британских добровольцев на этой территории. Он вспоминал момент появления Оруэлла так: «Он подошел ко мне размашистым шагом – 187 сантиметров роста – в своем гротескном облачении: вельветовые бриджи для верховой езды, портянки защитного цвета и громадные ботинки, заляпанные грязью, желтая куртка из свиной кожи, шоколадного цвета подшлемник и бесконечно длинный вязаный шарф цвета хаки, много раз обмотанный вокруг шеи и поднимающийся до ушей, а также с немецкой винтовкой старого образца за плечом и двумя ручными гранатами, свисавшими с пояса»[292].
Оруэлл остался верен себе: первое, что поразило его по прибытии в зону боевых действий, – всепроникающее зловоние: «Мы были возле линии фронта, достаточно близко, чтобы чувствовать запах – характерный запах войны: по моему опыту, это запах экскрементов и гниющей пищи»[293]. Пожалуй, в этом предложении весь Оруэлл: он прямым текстом описал мрачное наблюдение и умудрился трижды употребить слово «запах».
На фронте он не нашел никакой романтики. Это было тоскливо, утомительно и временами чудовищно.
Мы едва успели скинуть наши рюкзаки и вылезти из окопа, как раздался новый выстрел, и один из наших ребятишек отскочил от бруствера; кровь заливала ему лицо. Он выстрелил из винтовки и каким-то образом умудрился взорвать затвор; осколки разорвавшейся гильзы в клочья порвали ему кожу на голове. Это был наш первый раненый и ранил он себя сам[294].
Практически случайно, как он сам признавался, Оруэлл вступил в подразделение, сформированное ПОУМ, Partido Obrero de Unificación Marxista – Рабочей партией марксистского единства. Это была крайне левая фракция, разумеется, оппозиционная франкистскому фашизму, но в политическом отношении отличавшаяся прежде всего антисталинизмом. Она стояла на расплывчато троцкистских позициях в то время, когда Троцкий представлял смертельную угрозу для советской картины мира, притягивая к себе социалистов, не являвшихся сталинистами. По этой причине он стал парией для Испанской коммунистической партии, находившейся под контролем Советов. В Каталонии только газета ПОУМ критиковала показательные процессы[295], начавшиеся в Москве летом 1936 г., когда Сталин покончил с большинством бывших товарищей-большевиков.
Присоединяться к ПОУМ было опасно – намного опаснее, чем казалось Оруэллу, – зато он получил идеальную позицию для наблюдения, с высоты которой охватил взглядом великий идеологический кризис своей эпохи. Оруэлл не мог знать, что НКВД, советская разведслужба,[296] глубоко вовлеченная в ситуацию в Испании, уже обратила на ПОУМ безжалостный взгляд. Александр Орлов, глава советской разведки в Испании, тремя месяцами ранее заверил свое руководство, что, если и когда это понадобится, «троцкистская организация ПОУМ легко может быть ликвидирована»[297]. Весной 1937 г. фракция была разогнана, Оруэлл с товарищами получили клеймо предателей.
Оказавшись в окопах, он заметил, что за ним следует собака с написанными или выжженными на боку буквами ПОУМ[298]. Возможно, вид этого политизированного животного привел его к замыслу книги о свиньях-сталинистах, которую он напишет семь лет спустя. Более того, в более поздние годы он заведет черного пуделя, которому даст кличку Маркс[299] – в честь кинокомика Граучо или Карла, остается неясным.
Обжившись на фронте, Оруэлл жаловался, как всегда жалуются солдаты: «Ничего не происходит, никогда ничего не происходит»[300]. Его подразделение имело приказ сообщать о звоне церковных колоколов, потому что войска националистов служили католическую мессу, прежде чем пойти в серьезную атаку. Информации о том, действительно ли это предупреждало о планах врага, не сохранилось.
Солдатом он был «очень умелым»[301], вспоминал другой британский доброволец Стэффорд Коттман. Учитывая опыт полицейской службы в Бирме, Оруэлла почти сразу назначили командиром отделения из двенадцати человек. Он строго следил, чтобы винтовки его солдат всегда были вычищенными и смазанными, а также предпринимал вылазки на нейтральную полосу между линиями укреплений воюющих сторон – собирать картофель[302]. Лишь раз он нарушил дисциплину, застрелив крысу, из-за чего его товарищи решили, что их атакуют. Эдвардс, лидер британских добровольцев в этом краю, вспоминавший, что Оруэлл испытывал навязчивый страх перед грызунами, которые по ночам объедали их ботинки, с некоторым раздражением описывал один случай: «Все было тихо, как вдруг раздается ужасный грохот. Это был Оруэлл. Он застрелил крысу в своем блиндаже. Звук выстрела разнесся по всему участку фронта, и фашисты решили, что началась атака, знаете ли. В нас полетели снаряды, двинулись бомбардировщики. Они разнесли нашу столовую, наши автомобили, все разнесли. Очень дорогой получился выстрел в крысу»[303].
Бо́льшую часть времени на участке фронта, где находился Оруэлл, было затишье, даже застой, так что он подумывал отправиться на юг к Мадриду и вступить в Интернациональную бригаду. Эдвардс его отговорил, сказав, что политрук бригады казнит бойцов с «троцкистским уклоном»[304].
В феврале 1937 г. жена Оруэлла Эйлин приехала в Барселону и поступила на работу в группу Независимой рабочей партии (ILP), отколовшейся от лейбористов. Она нашла номер в отеле «Континенталь» на главной улице Рамбла, всего в нескольких шагах от канцелярии ПОУМ. В середине марта она поехала на фронт навестить мужа и в письме его литературному агенту сообщила: «Мне разрешили провести в окопах на линии фронта весь день. Фашисты стреляли из легких орудий и довольно много из пулеметов»[305]. В письме матери она умолчала об обстрелах, заметив только: «Я в полном восторге, что оказалась на фронте».
В карауле Оруэлл коротал время в мечтах о том, как получит увольнительную и съездит на море с Эйлин. «Как мы тогда отдохнем!»[306] – писал он ей. Он также питал надежды «скоро порыбачить» – это было одно из любимых его занятий. В конце апреля, через 115 дней пребывания на передовой, Оруэлл действительно получил возможность съездить в Барселону. Среди прочего, он мечтал о полной дезинсекции и горячей ванне.
Однако вожделенного отпуска на морском берегу не получилось. Оруэлл оказался совсем в другом городе, откуда «исчезла революционная атмосфера»[307]. Он также с удивлением заметил, что, пока сам он на фронте терпел плохое снабжение, республиканские офицеры фланировали по городу в отличной экипировке и с личным оружием: «Мы на фронте не могли раздобыть пистолеты, как ни старались»[308]. Велась официальная пропагандистская кампания против ополченцев, не состоящих в Коммунистической партии[309]. Русские, снабжавшие республиканцев, решили, что левые антисталинисты являются более насущной угрозой, чем франкисты, и НКВД начал кампанию против ПОУМ. В частности, под Барселоной был устроен тайный крематорий для уничтожения тел убитых. Ощущение смутной угрозы нависло над городом[310].
Буря разразилась 3 мая, недели через две после прибытия Оруэлла в Барселону с фронта[311]. В холле отеля «Континенталь» друг сказал ему: «Я слышал, на телефонной станции что-то случилось». Это была попытка полиции вернуть под свой контроль здание станции, захваченное анархистами. Оно находилось на другой стороны улицы наискось от отеля «Колон», где останавливался Черчилль, отдыхая в декабре 1935 г., и нашел тамошнюю кухню великолепной[312]. Руководители местного отделения Коммунистической партии Испании также любили этот отель. С началом гражданской войны они заняли его и превратили в региональную штаб-квартиру.
Через несколько часов, когда Оруэлл был на улице Рамбла, началась стрельба. Знакомый по фронту американец схватил его за руку и сказал, что люди из ПОУМ собираются в отеле «Фэлкон» в дальнем конце улицы. Там они увидели руководителей фракции, раздающих винтовки и патронташи. Оруэлл переночевал в кабаре, занятом ПОУМ, укрывшись сдернутым со сцены занавесом.
Утром улицы были перегорожены баррикадами из гравия и булыжников, вывороченных из мостовой. За одной из них развели огонь, бойцы жарили яичницу. На Плаза де Каталунья, как вспоминал Оруэлл[313], «в окне возле второго О в огромной вывеске «Колон» был установлен [коммунистами] пулемет, простреливающий всю площадь».
Опыт майских уличных боев, легший в основу книги, побудил Оруэлла к размышлениям о политике тех лет. Оруэлла потрясло, что его товарищей по ПОУМ объявили «троцкистами, фашистами, предателями, убийцами, трусами, шпионами и т. д.»[314]. Члены ПОУМ оказались особенно уязвимы, поскольку фракция была маленькой и плохо вооруженной, никто не предполагал, что придется переходить на подпольное положение, и не подготовился к этому.
Оруэлла поставили в караул на крыше театра «Полиорама», увенчанного двумя одинаковыми куполами. Оттуда просматривалась вся улица Рамбла. Напротив театра стоял отель «Континенталь», где они жили с Эйлин. На крыше разместили огневую точку для защиты лидеров ПОУМ, обосновавшихся на той же улице.
Пока Оруэлл был в карауле, прибыл один из его давних коллег по букинистической лавке в Хэмпстеде, Джон Кимчи. «Боевые действия шли по большей части в одной-двух милях оттуда», – вспоминал Кимчи. Оруэлл рассказал ему, как плохо обучены и экипированы ополченцы ПОУМ. Борясь со скукой, он прочел несколько книг в мягких обложках, купленных несколькими днями ранее.
7 мая во второй половине дня прибыло пополнение правительственных войск в количестве около 7000 человек, и бои закончились. Оруэлла снова впечатлило то, как хорошо были экипированы тыловики по сравнению с его фронтовой бригадой. При этом правительство обвинило в начале уличных боев ПОУМ, самую слабую из крайне левых фракций, и это вызвало у Оруэлла отвращение.
Оруэлл пришел к определенным выводам, противоречившим левым догмам того времени. В период, когда левая солидарность считалась обязательной и правильной позицией, Оруэлл начал проникаться подозрениями. Наблюдая бои в Барселоне между различными антифашистскими фракциями, он заметил: «Между тем возникало омерзительное чувство, что кто-то из твоих друзей, возможно, сдает тебя тайной полиции»[315].
Фактически события в Барселоне заставили его исследовать левое движение, как раньше империализм и капитализм. Он заключил: «Коммунистическая партия, вместе с Советской Россией, направила весь свой авторитет против революции»[316]. Она исполнилась решимости методично искоренить антикоммунистические элементы левого движения – сначала ПОУМ, затем анархистов, за ними социалистов.
Однако высказать это публично значило бы стать современным еретиком. Оруэлл был потрясен, поняв, что левые газеты неточно освещают ситуацию и не стремятся к точности, наоборот, сознательно верят лжи. «Одно из самых мрачных следствий этой войны – она научила меня, что левая пресса ровно такая же лживая и бесчестная, как правая»[317], – писал он. Поэтому целью его работы на протяжении всей жизни стало стремление установить точные факты, как бы это ни было трудно или непопулярно[318].
10 мая 1937 г. Оруэлл вернулся из Барселоны на фронт, где ПОУМ еще воевала, хотя в Барселоне ее деятельность уже подавляло правительство. 11 мая ПОУМ была названа в газете Daily Worker «пятой колонной Франко»[319]. На стенах барселонских домов появились плакаты «Маска сорвана»: лицо с отметиной «ПОУМ», из-под которого выглядывает лицо фашиста[320]. Это была классическая пропаганда в духе «большой лжи».
Бойцам ПОУМ на фронте не сказали, что в Барселоне фракция запрещена, а городские газеты умалчивали о чистках.
Оруэлл предполагал пробыть на фронте до конца лета, но на рассвете 20 мая, проходя по траншеям, чтобы проверить посты, он был ранен. Оруэлл знал, что подвергает себя опасности: его окоп был обращен на запад, и солнце восходило за его спиной, а голова, при его высоком росте, четко вырисовалась на фоне неба мишенью для вражеских снайперов. Момент ранения Оруэлл описал впоследствии так: «Я почувствовал себя в центре взрыва и увидел слепящую вспышку, почувствовал резкий толчок – не боль, а только сильный удар, напоминающий удар тока, когда вы вдруг коснетесь оголенных проводов; и одновременно меня охватила противная слабость, – казалось, что я растворился в пустоте. Мешки с песком, уложенные на бруствер, вдруг поплыли прочь и оказались где-то далеко-далеко»[321]. Пуля свалила его на землю. «Все это заняло меньше секунды… Все тело одеревенело, в глазах был туман, я знал, что ранение тяжелое, но боли, в обычном смысле слова, не чувствовал».
Часовой-американец, с которым он разговаривал, склонился над ним: «Эй! Да ты ранен!» Этот американец, Гарри Милтон, вспоминал: «Я думал, он не выживет. Он сильно закусил губу, и я подумал, что ранение, должно быть, серьезное. Но он дышал, глаза двигались»[322].
Оруэлл оставил одно из лучших описаний чувств человека, тяжело раненного пулей и считающего, что умирает. Он знал, что в него попали, но не знал, куда. Оказалось, это было ранение в горло: «Я понял, что моя песенка спета. Я никогда не слышал, чтобы человек или животное выжили, получив пулю в шею. Тонкой струйкой текла кровь из уголка рта»[323]. Оруэлл решил, что пробита артерия, значит, жить остается считаные минуты: «Прежде всего – вполне добропорядочно – я подумал о своей жене. Потом мне стало очень обидно покидать этот мир, который, несмотря на все его недостатки, вполне меня устраивал».
Однако минуты шли, а он не умирал. Оруэлл не мог знать, что ему невероятно повезло: пуля прошла сквозь крохотный, около сантиметра, промежуток между сонной артерией и гортанью и ушибла голосовые связки. Попади она чуть левее или правее, он, скорее всего, умер бы в тот же день. Но пуля вошла под углом и вышла из шеи, не повредив позвоночник, хотя, очевидно, зацепила нерв, поскольку вызвала временный паралич одной руки.
Раненого пронесли на носилках примерно 1,5 км до полевого госпиталя, где сделали укол морфина, а затем отправили в более крупный госпиталь в соседней деревне Сиетамо к востоку от Уэски, административного центра провинции. Его навестили боевые товарищи, порадовались, что он жив, и освободили от часов, пистолета, фонарика и ножа, поскольку знали, что в госпитале все это все равно украдут, а им на фронте снаряжение пригодится. Несколько недель Оруэлл хрипел, словно стершиеся тормозные колодки старого «форда», его голос не был слышен в паре шагов от него, как вспоминал батальонный командир писателя Джордж Копп[324].
Проблемы только начинались. После выписки Оруэлла демобилизовали из рядов испанской армии по ранению. А 15 июня арестовали Андреу Нина, главу ПОУМ, он исчез, вероятно, был убит НКВД[325]. 16 июня партию ПОУМ объявили вне закона.
Оруэлл вернулся в Барселону 20 июня[326], когда разгром Советами ПОУМ был в полном разгаре. По прибытии в город разыгралась сцена, достойная ранних фильмов Хичкока. Вечером Оруэлл пошел в отель «Континенталь» повидаться с женой. Эйлин, встретив его в холле, непринужденно улыбнулась и шепнула ему на ухо: «Уходи!.. Уходи отсюда сейчас же!»[327] Он двинулся к выходу. На длинной, состоящей из нескольких пролетов лестнице, ведущей из гостиничного холла на Рамбла, к нему подбежал друг и повторил предупреждение, велев убираться поскорее, пока служащие отеля не вызвали полицию. Третье предупреждение поступило от сочувствующего сотрудника отеля: «ПОУМ разгромлена. Все здания захвачены. Практически все в тюрьме. Говорят, людей уже расстреливают»[328]. Оруэлл сразу понял, что «сталинисты на коне, и, естественно, каждый “троцкист” в опасности»[329].
Оруэлл решил скрываться. Ночь он провел в руинах церкви, потом несколько дней бродил по улицам, пока они с женой не смогли получить документы и уехать из страны. Порой они встречали старых товарищей, но игнорировали друг друга, и «это было чудовищно»[330]. В неприятии Оруэллом того, как полицейское государство может вторгаться в дружбу, чувствуется будущий роман «1984».
Среди ночи в номер его жены Эйлин явились шесть сотрудников тайной полиции. В поисках уличающих документов они провели тщательный обыск, опустошая ящики и чемоданы, шаря под ванной и батареей, даже осматривая одежду на просвет. Не искали только в кровати, поскольку Эйлин не встала с постели. Оруэлл оставил эмоциональное описание этой сцены: «Следует помнить, что полиция была почти целиком под контролем коммунистов, и эти люди, скорее всего, сами были членами Коммунистической партии. Но они также были испанцами, и для них выгонять молодую женщину из кровати было немного слишком. Эту часть работы они молчаливо опустили»[331]. К счастью для Оруэлла, поскольку Эйлин спрятала в кровати его паспорт[332].
* * *
Эрнест Хемингуэй, также находившийся в Испании в это время, составлял выразительный контраст с Оруэллом. Он был настолько же политически наивен, насколько Оруэлл наблюдателен, отчасти потому, что усвоенная Хемингуэем поза мачо противоречила точному восприятию. Герой его романа о гражданской войне в Испании «По ком звонит колокол» размышляет о себе, как, по его собственному мнению, закаленный и умудренный жизнью человек: «Он теперь тоже постиг это. Если что-либо справедливо по существу, ложь не должна иметь значения… На войне всегда много лжи… Сначала он не трудился лгать. Он это ненавидел. Затем, позднее, ему это понравилось. Это означало, что ты относишься к посвященным»[333].
В той же главе «Карков» русский журналист, которого Хемингуэй рисует чрезвычайно интеллигентным человеком, подводит итог деятельности ПОУМ. Это было «…совершенно несерьезно, – сообщает он герою. – Бредовая затея всяких психов и сумасбродов, в сущности, просто ребячество. Было там несколько честных людей, которых сбили с толку. Была одна неглупая голова и немного фашистских денег. Очень мало, бедный ПОУМ. Дураки все-таки… Они так никого и не убили. Ни на фронте, ни в тылу. Разве только несколько человек в Барселоне»[334]. Хемингуэй обеспечивает русскому алиби в отношении казни Нина, лидера ПОУМ: «Мы взяли его, но он бежал от нас». Через восемь лет друг Оруэлла Малкольм Маггеридж встретится с Хемингуэем в освобожденном Париже, и тот не произведет на него впечатления: «Пьяница, погруженный в вымыслы вместо реальности»[335].
* * *
Оруэллы покинули страну 23 июня, считая, что им повезло выбраться живыми, поскольку многим их друзьям это не удалось. Оруэлл не знал, что через несколько недель, 13 июля, в Барселоне их с женой обвинили в шпионаже и государственной измене. Обвинительный акт начинался словами: «Их переписка свидетельствует, что они убежденные троцкисты»[336]. Далее говорится, что Оруэлл «принимал участие в майских событиях» – в уличных боях в Барселоне.
Оказавшись дома, он начал писать «Памяти Каталонии» – свою первую великую книгу. Как во всех лучших военных мемуарах, он всемерно избегает драматизации. Книга подтверждает факт, что все войны, в сущности, одинаковы: они состоят из долгих периодов отупляющей скуки, чередующихся с моментами страха и потрясения. В окопах более серьезными противниками, чем фашисты, оказались холод и голод, против которых винтовки республиканцев были бессильны.
Книга начинается как повествование о человеке, который идет на войну, но к последней трети текста, когда Оруэлл попадает под удар сталинистов по левым в Барселоне, книга превращается в мрачный политический триллер. Оруэлл вновь и вновь подчеркивает два момента. Во-первых, что другие левые не должны доверять коммунизму, в котором доминируют Советы. Во-вторых, что левые точно так же готовы принимать ложь, что и правые.
Оруэлл знал, что ни одна из этих тем не завоюет ему друзей среди британских левых. Порывая с традиционным просталинским левым движением, Оруэлл совершил шаг, аналогичный дистанцированию Черчилля от профашистских элементов британской аристократии. Оруэлл знал, что многие из его друзей в среде британских социалистов верят, будто ложь не только допустима, но и обязательна, если она служит делу Советов[337].
Книга заканчивается красиво и неожиданно: Оруэлл любуется райскими пейзажами Южной Англии по возвращении домой, а затем предупреждает обитателей этой прекрасной зеленой земли[338]:
За окном вагона мелькала Англия, которую я знал с детства: заросшие дикими цветами откосы железнодорожного полотна, заливные луга, на которых задумчиво пощипывают траву большие холеные лошади, неторопливые ручьи, окаймленные ивняком, зеленые груди вязов, кусты живокости в палисадниках коттеджей; а потом густые мирные джунгли лондонских окраин, баржи на грязной реке, плакаты, извещающие о крикетных матчах и королевской свадьбе, люди в котелках, голуби на Трафальгарской площади, красные автобусы, голубые полицейские. Англия спит глубоким, безмятежным сном. Иногда на меня находит страх – я боюсь, что пробуждение наступит внезапно, от взрыва бомб.
Этот прекрасный прозаический фрагмент заслуживает того, чтобы прочитать его вслух. Он полон точных наблюдений, пронизан любовью к Англии, но, главное, является до жути пророческим. Эти строки были написаны в середине 1937 г., когда правители Британии пытались умиротворить агрессора, а значительная часть населения поддерживала фашизм. Оруэлл придерживался совершенно иной позиции. В книжном обзоре, опубликованном в феврале 1938 г., он писал: «Если кто-то сбрасывает бомбу на вашу мать, идите и сбросьте две бомбы на его мать»[339].
Вернувшись домой, Оруэлл стал писателем, которого мы знаем сегодня по «Скотному двору» и «1984». Бирма сделала его антиимпериалистом, но именно время, проведенное в Испании, сформировало его политические взгляды, а вместе с ними решимость критиковать правых и левых с одинаковым жаром. До Испании он был весьма традиционным левым, утверждавшим, что фашизм и капитализм, в сущности, одно[340]. До этого момента Оруэлл продолжал цепляться за некоторые взгляды левых 1930-х гг.
Он покинет Испанию, полный решимости бороться против злоупотреблений властью на обоих полюсах политического спектра. После Испании, как заметил литературный критик Хью Кеннер, он станет «левым, находящимся в конфронтации с официальными левыми»[341]. «К несчастью, очень мало людей в Англии на данный момент осознали, что коммунизм теперь является антиреволюционной силой», – писал Оруэлл в сентябре 1937 г.[342]
После Испании, раненный физически и духовно, он последовал намного более самостоятельным курсом. «Война в Испании и другие события 1937 г. решили исход дела, и с тех пор я знал, на чем стою, – объяснил Оруэлл в прекрасном эссе «Почему я пишу», созданном между окончанием «Скотного двора» и началом работы над «1984». – Каждая строчка серьезной работы, написанной мной с 1936 г., была направлена, прямо или косвенно, против тоталитаризма и за демократический социализм, как я его понимаю»[343]. Оруэлл тщательно отделял социализм от коммунизма, который объединял с фашизмом как, в сущности, недемократичный строй. К концу жизни он уверует, что «коммунизм и фашизм в чем-то ближе друг к другу, чем любой из них к демократии»[344].
После Испании его миссией стало описывать факты, как он их видел, независимо от того, чем это могло для него обернуться, и скептически относиться ко всему прочитанному, особенно исходящему от власть имущих или успокаивающему их. Отныне это было его кредо. «В Испании я впервые увидел газетные репортажи, не имевшие никакого отношения к реальности»[345], – написал Оруэлл через несколько лет:
Я видел сообщения о великих битвах там, где не было боев, и полную тишину, когда были убиты сотни людей. Я видел, как храбро сражавшихся солдат клеймили как трусов и предателей, а тех, кто ни разу не слышал выстрела, прославляли как героев вымышленных побед; я также видел, как газеты в Лондоне пересказывают эту ложь и увлеченные интеллектуалы строят рассуждения на событиях, которые не происходили. Я видел, фактически, как пишется история, – не что происходило, а что должно было произойти согласно разным «партийным линиям».
Снова оказавшись в своем деревенском коттедже, Оруэлл писал и садовничал, но не стал открывать магазин. Викарий, вероятно, с подозрением относившийся к политическим взглядам семейной пары, только что вернувшейся из Испании, зашел к ним побеседовать. Священник «совершенно не одобряет, что мы были на стороне правительства» в Испании, написал Оруэлл одному из своих боевых товарищей: «Конечно, нам пришлось признать, что вести о сожжении церквей [республиканскими силами] правда, но для него стало большим утешением узнать, что это были всего лишь католические церкви»[346].
В марте 1938 г., за шесть недель до выхода в свет «Памяти Каталонии», у Оруэлла началось кровотечение в легких. Его ненадолго госпитализировали. В апреле вышла книга. В сентябре они с Эйлин уехали на зиму в Марокко, чтобы восстановить его здоровье. Эта поездка стала возможной только благодаря пожертвованным анонимом £300.
Сегодня «Памяти Каталонии» читается как тревожное предупреждение о будущем, как видение кошмарного столкновения фашизма и коммунизма, когда ни одна сторона не приемлет никакого другого выбора. В предисловии к первому американскому изданию книги, вышедшему в 1952 г., литературный критик Лайонел Триллинг назвал ее «одним из самых важных документов своего времени»[347]. В 1999 г. консервативный американский журнал National Review объявил ее третьей по значимости небеллетристической книгой столетия[348]. Первой стали мемуары Черчилля о Второй мировой войне, вторым, вполне закономерно, «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Оруэлл оказался единственным автором, дважды вошедшим в первую десятку; его «Избранные эссе» заняли пятую строчку.
Однако в 1938 г. книгу приняли гораздо прохладнее. Последовав за «Дорогой к Уиган-Пирсу», новая книга подтвердила, что ее автор – ренегат в английских литературных кругах. Прежние издатели книг и статей Оруэлла не были заинтересованы в обнародовании его взглядов на войну в Испании. Виктор Голланц против собственной воли издал годом раньше «Дорогу к Уиган-Пирсу», но прямые нападки на сталинизм – для него это было слишком. Честно говоря, Голланц неплохо чувствовал рынок. В апреле 1938 г. «Памяти Каталонии» вышла в другом издательстве. Она получила хорошие рецензии, но почти не раскупалась: на протяжении жизни Оруэлла было продано меньше 1500 экземпляров[349]. Книга как физический объект стала жертвой бомбардировок, которые Оруэлл предвидел в ее последнем абзаце: в 1941 г. печатные формы первого издания погибли при налете немецких бомбардировщиков на Плимут[350].
«Памяти Каталонии» – прекрасная книга, бесспорно, одна из лучших у Оруэлла. Тем не менее – и это, пожалуй, неизбежно – она оставляет без ответа нравственный вопрос. Автор заключает, что, несмотря на все, что произошло на его глазах в Барселоне, – исчезновение друзей, возможно, расстрелянных тайной полицией властей, поддерживаемых Советами, – он по-прежнему считает, что было бы лучше, если бы опиравшиеся на коммунистов республиканцы победили фашистов. Коммунисты могут быть врагами левых, не состоящих в Коммунистической партии, однако, «какими бы пороками ни отличалось послевоенное правительство, режим Франко, безусловно, был хуже»[351].
Оруэлл намекал на это противоречие. Призывая покончить с Франко, он в то же время считал генералиссимуса прежде всего «анахронизмом», приверженцем феодализма, представлявшим интересы военных, богатых и церкви[352]. Оруэлл даже писал в главе, входившей в первое издание, но исключенной из большинства последующих: «Франко, строго говоря, нельзя сравнивать с Гитлером или Муссолини»[353]. Кроме того, рассказ о рыцарственных сотрудниках тайной полиции, не осмелившихся поставить в неловкое положение его жену, свидетельствует, что он понимал: Испания, при всех ее проблемах, не была ни Германией, ни Советским Союзом. Бесспорно, в Испании после гражданской войны прошли широкомасштабные жестокие репрессии: десятки тысяч антифашистов были казнены и еще тысячи помещены в концентрационные лагеря. Достаточно посетить холодную усыпальницу Франко в Долине Павших, пещеру величиной со стадион, выдолбленную в скале с использованием труда левых политзаключенных, чтобы почувствовать бесчеловечную атмосферу Испании 1940-х гг. Это собор смерти.
Кроме того, когда Франко получил власть, оказалось, что у него нет ответа ни на один вопрос. У него не было программы. Он был негибок, типичный реакционер. Практически сразу же после его смерти в 1975 г. в Испании произошел переход к демократии. На национальных выборах 1982 г. левоцентристская Социалистическая рабочая партия, находившаяся под запретом с 1939 по 1977 гг., победила и правила 14 лет. Нельзя узнать наверняка, была бы лучшей для Испании победа опиравшегося на Советы правительства, но, ретроспективно, ответ неоднозначен.
Как бы то ни было, гадания бессмысленны. Столь же легко прийти к выводу, что, если бы республиканцы победили, то нацисты лишили бы их власти в самом начале Второй мировой войны. Германская оккупация Испании или хотя бы ее главных средиземноморских и атлантических портов значительно затруднила бы операции союзников в 1943 и 1944 гг.
Первоначальная позиция Черчилля по гражданской войне в Испании была такой: он предпочел бы, чтобы не выиграла ни одна сторона, но, если кто-то обязательно должен победить, то пусть это будет Франко. Однако когда Гитлер начал показывать силу, особенно с захватом Австрии в 1938 г., Черчилль передумал. Не в британских интересах было, чтобы фашизм и его союзники господствовали в Европе. Поэтому Черчилль заявил в декабре 1938 г.: «Сегодня представляется, что значительно меньший риск для Британской империи представляла бы победа испанского правительства, чем генерала Франко»[354].
* * *
Политическое образование Оруэлла еще не было окончено. Последним этапом станет подписание гитлеровской Германией пакта о ненападении со сталинской Россией 23 августа 1939 года. Этим соглашением тоталитарные правые заключили мир с тоталитарными левыми. Это оказало на Оруэлла такое же действие, как Мюнхенское соглашение на Черчилля 11 месяцами ранее, подтвердив его страхи и укрепив его решимость следовать своим диссидентским политическим курсом, не считаясь с товарищами из левого мейнстрима. «Ночью накануне объявления о советско-германском пакте мне приснилось, что началась война, – писал Оруэлл. – Я спустился на первый этаж и увидел газету с сообщением о прилете Риббентропа в Москву. Итак, война близилась, и правительство, даже правительство Чемберлена, было уверено в моей лояльности»[355].
Соглашение между нацистской Германией и Советским Союзом стало экстраординарным событием для левых на Западе. Многие годы самый веский аргумент западных сторонников Советов состоял в том, что, несмотря на все эксцессы, допускаемые Сталиным, коммунизм – единственная идеология, достаточно сильная, чтобы противостоять фашизму. Теперь два тоталитарных государства поддерживали друг друга, пусть хотя бы на расстоянии вытянутой руки.
Для Оруэлла это стало моментом окончательного прозрения[356]. Отныне его мишенью стало злоупотребление властью во всех формах, но особенно – тоталитарным государством, неважно, левым или правым. Его побочной темой станет высмеивание некоторых левых, веривших, что не только позволительно, но необходимо замалчивать факты, если это служит интересам Советов. Многие просто закроют глаза на череду катастроф: от голода на Украине до показательных процессов в Москве, а теперь и до нацистско-советского соглашения. Он не закроет.
* * *
Когда в конце десятилетия началась война, величие Оруэлла, очевидное сегодняшним читателям «Памяти Каталонии», не было оценено его современниками. Его считали второстепенным и несколько эксцентричным писателем. Сегодня репутация Оруэлла настолько прочна, что немногие понимают, что бóльшую часть жизни он был относительно малозаметной фигурой. Такие писатели, как Герберт Уэллс и Олдос Хаксли, ныне канувшие в прошлое, были намного более известны. Оруэлл ни разу не упоминается в мемуарах и дневниках знаменитостей того времени, таких фигур, как Энтони Иден, Хью Далтон, лорд Галифакс, Клемент Эттли, Генри Ченнон, Оливер Харви или сэр Александр Кадоган. Самым известным автором дневника той эпохи являлся Гарольд Николсон, ни разу не упомянувший Оруэлла на 500 страницах, хотя они слегка пересеклись в жизни – один из любовников Николсона, литературный критик и редактор Рэймонд Мортимер, однажды сцепился с Оруэллом по поводу политической составляющей гражданской войны в Испании[357].
Труды по истории культуры 1930-х гг., написанные вскоре после этого десятилетия, не включают имени Оруэлла. Ни одного упоминания о нем нет в книге поэта Роберта Грейвса и историка Алана Ходжа «Долгий уик-энд: социальная история Великобритании, 1918–1939», изданной в 1940 году[358]. Даже симпатизирующий ему Малкольм Маггеридж не счел нужным упомянуть Оруэлла в своем исследовании «Тридцатые годы», написанном в конце этого десятилетия. Только задним числом стало ясно, что между 1936 и 1939 гг. Оруэлл стал «Оруэллом», которого мы сегодня знаем.
Почти все лето 1939 г. Оруэлл провел в своем коттедже в Хартфордшире, ухаживая за садом, утками и цыплятами и делая записи о новостях, рассказывающих, как Европа катится к войне. Однажды он заметил другу, что неразумно давать цыплятам имена: «Потом ты не сможешь их есть»[359]. 24 августа он посадил 75 стеблей лука-порея и заметил, что «распускается» шпорник «пяти разных цветов». В тот же день записал в дневнике, что его жена съездила в Военное министерство, где работала в «отделе цензуры», и вернулась «с впечатлением, что война почти неизбежна»[360]. 30 августа он приводит слова друга о том, что «несколько недель назад У. Черчилль высказался по этому поводу очень пессимистически»[361]. На следующий день замечает: «Спеет ежевика… певчие птицы начинают собираться в стаи». 1 сентября сухо фиксирует: «Сегодня утром началось вторжение в Польшу. Варшаву бомбят. В Англии объявлена всеобщая мобилизация, то же во Франции плюс военное положение»[362].
Глава 6 Черчилль становится «Черчиллем» Весна 1940 г.
Черчилль провел бóльшую часть августа 1939 г. на отдыхе во Франции, где писал пейзажи и размышлял о близящейся войне. Он был полон дурных предчувствий. «Это последняя картина, которую мы пишем в мирное время, и это очень надолго»[363], – заметил он другому художнику. Вернувшись в Англию в конце месяца, он взглянул в окно автомобиля на мирные сельские просторы, зреющие поля и медленно проговорил: «Прежде чем будет собран урожай, к нам придет война»[364].
Утром в пятницу 1 сентября 1939 г., прежде чем была убрана пшеница, германская армия вторглась в Польшу.
Через два дня в 9 часов солнечного воскресного утра 3 сентября британское правительство обратилось к Берлину с последним предупреждением: если Германия не откажется от вторжения в Польшу, Британия и Франция будут вынуждены объявить ей войну. В 11 часов срок ультиматума истек. Через 15 минут премьер-министр Чемберлен выступил на Би-би-си с заявлением, что Британия и Германия находятся в состоянии войны. Когда он закончил речь, завыли сирены воздушной тревоги.
Чемберлен публично утратил душевное равновесие. «Это печальный день для всех нас, и, как ни для кого, печальный для меня, – сказал он. – Все то, ради чего я трудился, все, на что надеялся, все, во что верил на протяжении всей своей политической карьеры, полностью разрушено»[365]. Это было точно, но, пожалуй, слишком слабо сказано. Проблема была намного серьезнее личных переживаний или политического будущего Невилла Чемберлена. На карте стояли судьбы Европы и, возможно, всего мира.
Черчилль это понимал. Позднее он вспоминал, как, ожидая своего выступления в тот день в палате общин, «чувствовал ясность ума и осознавал своего рода возвышающую отстраненность от общечеловеческих и личных проблем»[366]. Он встал и в своей речи постарался передать это ощущение парламентариям.
Черчилль взял более верный, уверенный тон, чем премьер-министр. «Это не битва за Данциг или битва за Польшу. Мы воюем за спасение всего мира от ужасов нацистской тирании и за спасение всего самого священного для человека. Это война не за господство, возвеличивание империи или материальные приобретения; война не за то, чтобы лишить какую-либо страну места под солнцем или возможностей развития. По сути, это война за то, чтобы утвердить на нерушимом основании права личности, это война за то, чтобы утвердить и возродить достоинство человека»[367].
Джордж Оруэлл мог бы не поверить этим заявлениям, исходившим от Черчилля, но он бы, безусловно, согласился с принципами, изложенным в них, особенно последнему – о правах и месте индивида. Годы спустя он напишет: «Интеллектуальная свобода… без сомнения, является одним из отличительных признаков западной цивилизации»[368]. Он также заметил, что «если вообще можно за что-то воевать, то за свободу мысли»[369].
Через шесть дней после речи Черчилля Оруэлл послал письмо в правительство с просьбой позволить ему участвовать в военных действиях. Он долго будет бороться за это право, но так ничего и не добьется.
Люди по-разному реагировали на войну. Некоторые, ошеломленные событиями, впадали в прострацию или отрицание. Никто не мог бы обвинить в этом ни Черчилля, ни Оруэлла, оба были деятельны и рвались в бой на интеллектуальном поле.
К исходу того воскресенья, 3 сентября 1939 г., Черчилль был возвращен в правительство в качестве члена кабинета министров. Его сделали первым лордом Адмиралтейства, что в Британии соответствует должности военно-морского министра, – этот пост он уже занимал в начале Первой мировой войны. Потребовалась другая большая война, чтобы консерваторам пришлось открыть перед ним двери. (В то же воскресенье Юнити Митфорд вышла в парк и выстрелила себе в голову. Пуля застряла в мозге, она была серьезно ранена, но умерла только через девять лет.[370])
11 сентября Черчилль получил из ряда вон выходящее послание от американского президента. «Я буду неизменно признателен, если Вы будете держать меня лично в курсе всего, о чем мне, на Ваш взгляд, следует знать»[371], – писал Франклин Рузвельт. Черчилль ответил согласием[372]. Письмо Франклина Делано Рузвельта от 11 сентября было первым из примерно 800 писем[373], которые он отправит Черчиллю во время войны. Черчилль, со своей стороны, напишет еще больше, 950.
Это выглядело необычно, даже неуместно: президент Соединенных Штатов, формально нейтральной и находящейся в состоянии мира страны, поддерживал прямой контакт с членом кабинета министров участвующей в войне Британии. Возможно, дело было в том, что ни Рузвельт, ни Черчилль не доверяли Джозефу П. Кеннеди, тогдашнему американскому послу в Лондоне и, разумеется, отцу будущего президента Джона Ф. Кеннеди. Гарольд Икес, главный советник Рузвельта, записал в дневнике: «Президент считает, что Джо Кеннеди, имей он власть, устроил бы нам фашистскую форму правления»[374]. Однажды Кеннеди поделился с Рузвельтом своей убежденностью, что события потребуют от Соединенных Штатов реализовать, «возможно, от нашего имени, базовые признаки фашистского государства: чтобы сражаться с тоталитаризмом, мы вынуждены будем заимствовать тоталитарные методы»[375]. Примерно во время Мюнхенского соглашения Рузвельт сказал другому своему помощнику, что считает Кеннеди «нелояльным своей стране»[376].
Действительно, ранее в тот же день Кеннеди отправил Рузвельту и госсекретарю Корделлу Халлу послание о «тройном приоритете», где рекомендовал Соединенным Штатам вступить в мирные переговоры с Гитлером. Вполне вероятно, это и подтолкнуло Рузвельта обратиться к Черчиллю. Рузвельт уже пытался достучаться до британского правительства, написав письмо премьер-министру Чемберлену в январе 1938 г., но его отфутболили. Энтони Иден, глава МИД, нервничал: «Мы тогда слишком уж грубо осадили президента»[377]. В мемуарах о Второй мировой войне Черчилль выскажет «изумление» тем, что Чемберлен оказал Рузвельту холодный прием: «Полное отсутствие чувства меры и даже самосохранения, которое обнаружил этот случай в честном, компетентном, благонамеренном человеке, облеченном ответственностью за нашу страну и всех тех, кто от этого зависел, потрясает. Сегодня невозможно даже представить себе, о чем нужно думать, чтобы так поступить»[378].
Солнечным воскресеньем на исходе лета, 17 сентября, Черчилль был в Шотландии, он инспектировал британский флот в морском заливе Лох-Ю, в том числе противолодочные сети на входе в залив. Оттуда он направился на автомобиле через гористую местность к железнодорожной станции в Инвернессе. Был теплый сухой день, и он прервал путь, чтобы перекусить у горного ручья. Посреди этой идиллии его захватили мрачные воспоминания о Первой мировой войне, вызвав дрожь, несмотря на ослепительное солнце. «Каким-то образом свет исчез из пейзажа», когда он обдумывал, в каком положении оказались он сам и весь мир: «Польша в агонии; Франция лишь бледная тень прежнего боевого духа; русский колосс больше не союзник, он даже не нейтрален и может стать врагом. Италия не друг. Япония не союзник. Будет ли Америка когда-нибудь снова с нами? Британская империя оставалась нетронутой и блистала единством, но была плохо оснащена, не готова. Мы сохраняли господство на море. Противник имел удручающее численное превосходство над нами в новом смертоносном вооружении в воздухе»[379]. Тогда, погруженный в размышления, он настроился на войну.
Через две недели Черчилль произнесет свою первую важную речь после возвращения в кабинет министров[380], а затем с успехом выступит по национальному радио. В течение следующих шести лет его заставит притормозить только пневмония, вынудившая соблюдать постельный режим. Он развернул такую бурную деятельность в первые дни войны, что в середине сентября, после того как он написал меморандум с критикой состояния ВВС, Чемберлен решил «чрезвычайно доверительно побеседовать»[381] с ним, посоветовав Черчиллю поумерить пыл. Черчилля это не смутило, и к середине октября он прислал Чемберлену 13 аналитических документов[382]. «Неутомимое рвение Уинстона впечатляет»[383], – несколько месяцев спустя напишет в своем дневнике помощник премьер-министра Джон Колвилл, по-прежнему скептически относящийся к Черчиллю. Привычка Черчилля тщательно изучать документы и уточнять детали сообщила необходимый заряд энергии обширной военной бюрократической структуре, которую он возглавил. Его яростная решимость вызвала у Колвилла ощущение, что, если Англия падет, Черчилль уйдет в подполье и продолжит борьбу в качестве лидера партизан.
Многие заметили, как воспрянул Черчилль с войной. Малкольм Макдональд, сын прежнего премьер-министра и второстепенный политик, нашел, что Черчилль «не был в такой хорошей форме 20 лет»[384]. И это несмотря на продолжающийся ежедневный прием спиртного в больших объемах. Гарольд Николсон вспоминает, как его друг вернулся с ланча с Черчиллем, «потрясенный… огромным количеством портвейна и бренди, им выпитого»[385]. В обычный день, по воспоминаниям его помощника сэра Иэна Джейкоба, Черчилль пил шампанское и бренди за ланчем, два-три стакана виски с содовой после дневного сна, шампанское и бренди за ужином, а затем снова виски с содовой[386]. Джейкоб отмечал, что иногда он также дополнял завтрак белым вином.
* * *
Дела на фронте обстояли неважно как при правлении Чемберлена осенью 1939 г., так и зимой и в начале весны 1940 г. К маю стало ясно, что Чемберлен должен освободить кресло премьер-министра. Многие считали его преемником министра иностранных дел лорда Галифакса. Галифаксу, одному из создателей политики умиротворения, отдавали предпочтение Консервативная партия и король Георг VI. Если бы Галифакс захотел стать премьер-министром вместо Черчилля, то, скорее всего, вступил бы в мирные переговоры с Германией.
Однако Галифакс засомневался. Он заседал в палате лордов и рассудил, что это помешает ему стать лидером для депутатов нижней палаты. Вследствие его колебаний остался единственный кандидат – Черчилль.
10 мая 1940 г.
Утром 10 мая[387], получив информацию, что немецкие войска начали вторжение в Голландию и Бельгию, и зная, что сегодня он, вероятно, станет премьер-министром, Черчилль позавтракал яичницей с беконом и выкурил сигару. Это была обильная еда для 65-летнего человека в шатком положении. В этот период жизни многие уходят на покой. Он же, напротив, после нескольких десятилетий политической борьбы был близок к осуществлению цели всей жизни – стать премьер-министром Великобритании.
Это был особенный день. В шесть утра Черчилль встретился с военным министром и министром авиации. В семь часов – совещание с членами военно-координационного комитета. Правительство военного времени в полном составе собралось в 8:00 в резиденции премьер-министра, чтобы проанализировать отчаянную ситуацию – Германия бомбила Бельгию и север Франции, немецкие парашютисты десантировались в Бельгии, британские экспедиционные части переместились во Францию, корабль Королевского ВМФ «Келли» был торпедирован у бельгийских берегов.
С учетом всего этого первой мыслью премьер-министра Чемберлена было остаться в должности, пока кризис не пройдет. Позже утром в канцелярию Черчилля поступило сообщение: «Мистер Чемберлен склонен считать, что разразившаяся великая битва требует от него остаться на своем посту»[388]. Нет, пришел ответ от сторонников Черчилля, кризис делает еще более насущной необходимость, чтобы Чемберлен уступил место новому правительству страны.
Черчилль в то время принимал представителей голландского правительства. «Исхудавшие и изнуренные, с ужасом в глазах, они только что приплыли из Амстердама»[389].
В 11:30 прошло второе заседание военного кабинета, посвященное очередным новостям о немецких бомбардировках и парашютных десантах. Военно-координационный комитет собрался вторично в час дня. Черчилль пообедал с лордом Бивербруком, газетным магнатом, своим политическим союзником в некоторые периоды.
Военный кабинет опять собрался в 16:30. Пришли новости, что немецкие зажигательные бомбы сброшены в Кенте, на юго-востоке Англии. Немцы захватили роттердамский аэропорт. Шесть британских истребителей были отправлены на перехват десантных самолетов Германии над Голландией, вернулся только один. Пришло сообщение из военного министерства, что немецкие танки и пехота вступили в Бельгию. Чемберлен наконец принял решение – он уходит.
Чемберлен отправился к королю Георгу VI. Король высказал пожелание, чтобы его преемником на посту премьер-министра стал Галифакс. «Я полагал кандидатуру Г. очевидной», – записал он в дневнике. Чемберлен возразил, что Галифакс не лучший выбор на данный момент, и, как вспоминал король Георг VI: «Я попросил у Чемберлена совета, и он сказал, что следует послать за Уинстоном».
Георг VI вызвал Черчилля, и формальная процедура предложения возглавить правительство была исполнена. Выйдя из Букингемского дворца, Черчилль обернулся к своему телохранителю, который его поздравил, смахнул слезу и сказал: «Надеюсь, еще не поздно. Я очень этого боюсь. Остается делать все, что можно»[390].
Черчилль вернулся в свой кабинет в Адмиралтействе, чтобы начать формировать правительство. Он написал письмо Чемберлену с просьбой не оставлять его советом и помощью. Попросил Галифакса остаться на посту военного министра. Пригласил лидера Лейбористской партии Клемента Эттли зайти к нему вечером и при встрече предложил войти в правительство и назвать кандидатуры других потенциальных министров из рядов лейбористов.
Лейбористам действительно было проще работать с Черчиллем, чем консерваторам. Джон Колвилл записал в тот день в дневнике, что Черчилль был проклят уже четыре раза: как «величайший авантюрист в современной политической истории… по рождению полуамериканец, основную поддержку которому оказывали неэффективные, но говорливые люди того же типа»[391]. Он смотрел на возвышение Черчилля в «полном ужасе»[392], что, конечно, было несколько чересчур.
Ни в мемуарах Черчилля, ни в исчерпывающей биографии Мартина Гилберта это не упоминается, но у Черчилля состоялась еще одна встреча 10 мая. Вечером того дня он ужинал со старшим офицером разведки Уильямом Стивенсоном, которого решил отправить в Америку. Его миссия включала три цели: добиться военной помощи для Британии, нейтрализовать вражескую разведку в Западном полушарии и «со временем втянуть Соединенные Штаты в войну»[393]. Возможно, это был самый важный приказ, отданный Черчиллем за всю войну, и случилось это всего через несколько часов после его назначения премьер-министром.
Черчилль лег спать в 3 часа ночи, «испытывая громадное облегчение»: «Наконец у меня были полномочия, чтобы руководить всем происходящим»[394]. Впервые в жизни он засыпал премьер-министром. Закончились «десять лет политической опалы», как напишет он позднее.
Надолго ли? Вероятность того, что Черчилль станет всего лишь временно исполняющим обязанности лидера, казалась высокой, и были люди, убежденные именно в таком развитии событий.
* * *
Собственная партия Черчилля не сплотилась вокруг него даже после его назначения. По поводу нового премьер-министра Дж. К. К. Дэвидсон сообщил своему политическому союзнику, бывшему премьер-министру Стэнли Болдуину: «Тори не доверяют Уинстону»[395]. Это не пустое наблюдение, с учетом того факта, что Дэвидсон в прошлом был председателем Консервативной партии. Он надеялся, что Черчилль не задержится на посту премьера, и предсказывал: «Когда закончатся первые бои, вполне вероятно появление более адекватного правительства». Питер Экерсли, член парламента из тори, пророчил: «Уинстон не продержится и пяти месяцев»[396].
Черчилль иногда и сам отвечал уколами. В том году фабрика, принадлежавшая бывшему премьер-министру Болдуину, была разбомблена немцами, и Черчилль едко заметил: «Как невеликодушно с их стороны»[397].
13 мая 1940 г., впервые войдя в палату общин в качестве премьер-министра, он был встречен менее громкими аплодисментами, чем Чемберлен, сложивший свои полномочия. «В первые недели меня приветствовали, главным образом, со скамей лейбористов»[398], – будет он вспоминать впоследствии. Тронутый некоторыми приветственными речами[399], Черчилль вытер увлажнившиеся глаза.
В 14:45 он встал и начал произносить речь. Он представил свой кабинет военного времени – пятерых самых влиятельных членов нового правительства, – после чего заговорил как глашатай: «Мне нечего предложить, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота»[400], – перефразируя строки поэмы Байрона «Бронзовый век»[401], укоряющие британских баронов в том, что «чужая кровь и слезы – их доход»[402].
Он произнес мощную действенную речь, прежде всего благодаря простоте.
Вы спрашиваете, какая у нас политика? Я отвечу: воевать на море, на суше и в воздухе, со всей нашей энергией и всеми силами, которые сможет дать нам Бог; вести войну против чудовищной тирании, которую никакая другая не превосходит мрачным, скорбным перечнем преступлений против человечности. Вот наша политика.
Вы спрашиваете, какая у нас цель? Я могу ответить одним словом: победа, победа любой ценой, победа, несмотря на весь ужас, победа, каким бы долгим и тяжелым ни оказался путь к ней, потому что без победы нам не выжить.
Это нужно осознать; не выжить Британской империи, не выжить всему тому, за что стоит Британская империя, не выжить многовековым мечтам и стремлениям, что человечество двинется вперед к своим целям.
Эта речь не уступает лучшим статьям Оруэлла, конечно, с той оговоркой, что сохранение Британской империи едва ли было целью Оруэлла. Обращаясь не только к парламенту, но к британской нации и к миру, Черчилль очертил новый, более жесткий курс. Он пришел к креслу премьер-министра не как миротворец и не станет миротворцем. Его политика – политика войны в стремлении к победе. Не будет больше разговоров о поиске компромисса с Германией, например о том, чтобы отказаться от колоний в порядке урегулирования конфликта.
Оруэлл, что удивительно для левого, был воодушевлен приходом Черчилля во власть. «Впервые за несколько десятилетий у нас правительство, наделенное воображением», – написал он[403].
Черчилль не только объединял нацию. Ему нужно было упрочить и собственное положение. Многим другим политическим лидерам было не очевидно, что он пришел всерьез и надолго, что он не просто временная фигура, пока не рассосется кризис.
С середины мая до середины июня 1940 г. положение Черчилля оставалось неопределенным. Вопрос взаимодействия с американцами и обеспечения их участия в войне продолжал волновать его. Утром 18 мая, начиная девятый день на посту премьер-министра, он сказал своему сыну Рэндольфу, пока брился, что рассчитывает не только на выживание, но и на победу Британии в войне. «Я хочу сказать, что мы можем победить их», – пояснил он.
Удивленный Рэндольф ответил: «Я всей душой «за», но не представляю, как вы этого добьетесь».
Черчилль вытер лицо, обернулся к сыну и сказал с огромной страстью: «Втяну Соединенные Штаты»[404]. То же самое он заявил в разговоре с командованием Королевского ВМФ: «Первое, что нужно сделать, – втянуть в войну США. После этого можно решать, как мы будем побеждать»[405].
Посол Кеннеди по-прежнему недооценивал Черчилля и ждал скорой победы Германии. «Ситуация ужасная, – писал он жене 20 мая 1940 г. – Я думаю, все кончено… Англичане будут сражаться до конца, но я просто не верю, что они смогут бесконечно выдерживать бомбардировки»[406]. В начале июня Кеннеди написал своему сыну Джо-младшему: «Я не вижу впереди ничего, кроме бойни»[407]. Честно говоря, американский посол в Париже Уильям Буллит занимал ту же позицию и советовал Рузвельту в мае 1940 г. обдумать возможность того, что Британия сформирует фашистское правительство, которое будет стремиться к перемирию с Германией. «Это будет означать, что британский флот станет нашим противником», – предупреждал он[408].
Черчилль понимал, что 1940 год окажется тяжелым. На самом деле вопрос заключался в том, больше ли у него и у Британии выносливости, чем считали два американских посла. В середине мая, когда он шел через Даунинг-стрит к Адмиралтейству, толпа устроила ему овацию. «Когда мы вошли в здание, он заплакал», – написал его военный советник генерал Гастингс «Мопс» Исмей[409]. Черчилль объяснил ему свои эмоции: «Бедные люди, они верят мне, а я не могу дать им ничего, кроме бедствий на долгое время».
Дюнкерк
Насколько серьезным окажется бедствие, не мог знать даже Черчилль. Ключевым событием его первых недель в должности премьер-министра стало отступление британцев в прибрежный бельгийский город Дюнкерк в конце мая 1940 г. Несколько сот тысяч[410] британских и союзнических войск попали в немецкое окружение. Если бы немцы решительно атаковали, они взяли бы в плен четверть миллиона человек, лишив Британию армии. Это оказало бы колоссальное давление на Британию, принуждая ее к мирным переговорам, и могло бы заставить Черчилля отступить.
Однако немцы не сунулись в прибрежные районы. Вместо этого подавляющие силы из девяти немецких танковых дивизий остановились вблизи Дюнкерка. Британский генерал недоуменно записал в своем дневнике: «Неясно, по какой причине, но германские танковые колонны определенно остановились»[411].
Некоторые младшие офицеры противника также были удивлены. «Мы не могли понять, почему позволили многим англичанам уйти», – вспоминал Ганс фон Люк, в то время командир разведроты бронетанковых войск[412].
Это позволило британцам начать эвакуацию с берега. Даже сегодня вопрос о том, почему англичанам в Дюнкерке так повезло, остается открытым. Одна группа историков утверждает, что Гитлер, все еще надеясь на мирный договор с Британией, остановил свои танки, чтобы, как объясняет военный историк Стивен Банги, «избежать нанесения британцам унизительного поражения»[413], которое могло бы уменьшить их готовность к переговорам. Исторические свидетельства неоднородны, но согласно одному, весьма убедительному, приказ Гитлера наземным соединениям остановиться был передан незашифрованным, чтобы британцы могли его понять и принять за своеобразное предложение мира[414]. Далее в ходе войны Гитлер часто сожалел, что был слишком добр к британцам. Например, по словам генерала Вальтера Варлимонта, Гитлер заявлял: «Черчилль оказался не способен оценить спортивный дух, который я доказал на деле, воздержавшись от создания непоправимого разрыва между британцами и нами. Мы, однако, удержались от их полного уничтожения под Дюнкерком»[415]. Действительно, допрошенные после войны немецкие командиры подтвердили, что им было приказано остановиться примерно в 13 км от Дюнкерка. «Мои танки держали там три дня, – сказал фельдмаршал Герд фон Рундштедт. – Если бы я поступил по-своему, англичане так легко не отделались бы. Однако руки у меня были связаны прямыми приказами самого Гитлера»[416]. Когда один из генералов, подчиненных Рундштедту, при немногочисленных свидетелях признался Гитлеру, что не понимает причин этого приказа, тот ответил, что «его целью было заключить мир с Британией на такой основе, которую она могла бы принять, не уронив чести»[417].
Однако некоторые серьезные историки допускают, что разговоры об остановке в надежде на мир были выдуманы, чтобы оправдать неудачное решение Гитлера. Например, Ян Кершоу, автор двухтомной биографии Гитлера, делает вывод, что заявление фюрера, будто он намеренно позволил британцам спастись, было «не более чем рационализацией для сохранения лица»[418], а Герхард Вайнберг в своей всеобъемлющей истории войны просто отмахивается от этого объяснения, называя «фальшивкой».
Третье объяснение, поддерживаемое Алистером Хорном, ведущим военным историком, состоит в том, что Гитлер хотел предоставить возможность нанесения решающего удара под Дюнкерком люфтваффе, самому политически лояльному роду войск. Он цитирует слова командующего бронетанковыми войсками Хайнца Гудериана, написавшего, что один из приказов, требовавших от него остановиться, начинался словами: «Дюнкерк следует оставить люфтваффе»[419]..
Какой бы ни была тактическая обстановка под Дюнкерком, в итоге бо́льшая часть британских войск вернулась домой, хотя и потеряв почти все оружие, артиллерию и транспортные средства. Были вывезены около трехсот тысяч человек – две трети из них британцы, остальные французы. Одним из тех, кому не удалось спастись, оказался брат жены Оруэлла, майор медицинской службы, который был ранен в грудь шрапнелью и умер в Бельгии за несколько часов до эвакуации[420]. Эта утрата на 18 месяцев погрузила Эйлин в глубокую депрессию, вспоминал один из друзей: «Нечесаные волосы, исхудалые лицо и тело. Реальность оказалась для нее настолько ужасной, что она выпала из нее»[421]. Майкл Шелден, один из биографов Оруэлла, отмечает, что ее боль не отразилась в письмах или дневниках Оруэлла, не говоря уже о его журналистике и литературной критике. «Он не обсуждал такие вещи с другими»[422], – утверждает Шелден. Оруэлл предпочитал объяснять, что Эйлин измотана работой и должна «как следует отдохнуть».
Важный момент, часто упускаемый при обсуждении эвакуации из Дюнкерка, состоит в том, что надежды Гитлера на мирное урегулирование с Британией не были необоснованными. Теперь мы знаем, что даже во время дюнкеркской операции британское правительство размышляло, не обсудить ли условия заключения мира. 27 мая 1940 г., когда измученные британские войска высаживались с кораблей и лодок по всему юго-восточному побережью Англии, пять членов военного кабинета нового правительства Черчилля спорили о разумности вступления в переговоры о мире. Черчилль был категорически против любого подобного шага, утверждая: «Даже если мы будем разбиты [позднее], то будем не в худшем положении, чем сейчас в случае отказа от борьбы».
Галифакс, одобрявший идею мирных переговоров, тем вечером записал в дневнике: «Я подумал, что Уинстон порет отъявленную дичь»[423]. По мнению Галифакса, переговорная позиция Англии была сильнее, пока Франция воюет, – что должно было продлиться еще две недели, – и пока английские авиазаводы не разбомблены[424]. Он также считал, что цель Британии не сражаться с Германией и победить ее, а максимально сохранить независимость в рамках определенного мирного сосуществования. Шокирующее рассуждение в свете главного урока, полученного правительством Чемберлена: вести переговоры с Гитлером с позиции слабого – это просто безумие.
Тем не менее Черчиллю предстояло пройти по узкой тропинке. Два британских политика, писавшие о Черчилле, сделали разные, но взаимодополняющие замечания о его положении в этот решающий момент. Политик и писатель Борис Джонсон, ставший в середине 2016 г. британским министром иностранных дел[425], отмечает, что Черчилль «боролся за свою политическую жизнь и авторитет, а если бы он уступил Галифаксу, с ним было бы покончено»[426]. Столь же справедливо мнение Роя Дженкинса, что Черчиллю требовалось опровергнуть позицию Галифакса, не вынудив при этом его и Чемберлена покинуть правительство. Черчилль на тот момент еще не настолько завоевал лояльность Консервативной партии, чтобы пережить их уход. Если бы эти двое ушли, «его правительство стало бы несостоятельным»[427], замечает Дженкинс, сам на протяжении нескольких десятилетий являвшийся членом парламента от лейбористов и занимавший высшие правительственные посты в 1960-х и 1970-х гг.
На заседании военного кабинета 27 мая Галифакс жаловался сэру Александру Кадогану, что не может больше работать с Черчиллем[428]. Черчилль, возможно почувствовав угрозу разрыва, предложил Галифаксу прогуляться в саду и говорил с ним с нотами «извинения и восхищения» в голосе[429], – писал Галифакс в своем дневнике.
Покончив с этим умасливанием, Черчилль уже на следующий день показал зубы, прямо заявив на очередной встрече членов правительства, что капитуляции не будет и что, пока он у власти, он не станет вести переговоры с нацистами[430]. «Если долгая история нашего острова должна в конце концов завершиться, то пусть она завершится только тогда, когда каждый из нас, до последнего, будет лежать, испуская дух, на земле в луже собственной крови», – поклялся он[431]. Примерно в то же время он написал в записке подчиненному: «Англия не выйдет из войны, что бы ни случилось, пока Гитлер не будет разбит или пока мы не перестанем быть государством»[432]. Это было восхитительно сильное краткое заявление, тем более что оно исходило от человека, находившегося на своем посту меньше трех недель. Вплоть до этого момента, как пишет Джон Чармли в подробной биографии Черчилля, «мысль о том, чтобы хотя бы начать переговоры с целью узнать, какими могут быть гитлеровские условия мира, пользовалась большой поддержкой»[433]. После этого уже не стоял вопрос, будет ли Британия сражаться. Саймон Шама, пожалуй, преувеличивая, описывает разгром Черчиллем позиции Галифакса как «первое великое сражение Второй мировой»[434], однако трудно упрекнуть его за этот энтузиазм. Если бы Черчилль в тот день подчинился своему кабинету, вполне вероятно, это стало бы последним ключевым моментом Второй мировой войны.
Немцы, не посвященные во внутренние распри членов британского правительства, еще несколько месяцев надеялись на то, что «Черчилль и его банда»[435] будут изгнаны и это откроет дорогу к мирному соглашению. Более того, их разведка ввела их в заблуждение, сообщив, что тенденции в британской политике по-прежнему благоприятствуют этому результату. Йозеф Геббельс, глава нацистской пропаганды, в июне сказал своим сотрудникам: «Будет сформировано соглашательское правительство. Мы очень близки к окончанию войны»[436]. Шведский посол в Лондоне в том же месяце сообщил своему правительству, что, судя по всему, предстоят мирные переговоры и что «Галифакс может стать преемником Черчилля»[437]. Еще месяц Гитлер обдумывал возможность того, что Черчилля заменят некой комбинацией Галифакса, бывшего премьер-министра Дэвида Ллойда Джорджа и Чемберлена[438].
Великая ораторская кампания Черчилля 1940 г.
4 июня 1940 г., когда шла эвакуация из Дюнкерка, Черчиллю предстояло представить парламентариям подробности одного из худших дней в британской истории. Британские острова оказались близки к покорению, как никогда за 400 последних лет их истории.
Он выступил мастерски, сумев одновременно описать утрату Британией армии, как унизительный разгром, и спасение от него, как чудо. «Когда ровно неделю назад я просил палату назначить этот день для моего выступления, я боялся, что моей тягостной обязанностью будет извещение о величайшем военном поражении в нашей долгой истории»[439], – начал Черчилль. Можно было опасаться, что домой вернутся лишь 20–30 тысяч британских солдат, что означало бы гибель или пленение нескольких сотен тысяч человек. Однако «чудо избавления, достигнутое доблестью, стойкостью, идеальной дисциплиной, безупречной службой, силой духа, умением, непобедимой верностью, было явлено всем нам».
Он казался неподходящей фигурой на роль лидера военного времени: ростом около 157 см[440], с круглой головой, сидящей на грушевидном туловище. Однако именно вокруг него сплотился английский народ.
Это Черчилль в своем лучшем проявлении – и на пике мастерства манипулятора: «Мы должны очень внимательно следить за тем, чтобы не усмотреть в этом избавлении победы. Войны не выигрываются эвакуациями. Но в этой эвакуации была сокрыта победа, которую важно разглядеть. Она была одержана авиацией».
Черчилль мощно завершил 30-минутную речь выразительной картиной будущего.
Мы будем сражаться во Франции, будем сражаться на морях и в океанах, будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе, мы будем защищать свой остров, какой бы ни была цена.
Мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться в местах высадки, мы будем сражаться в полях и на улицах, мы будем сражаться на холмах; мы никогда не сдадимся, и если, во что я ни минуты не верю, этот остров или значительная его часть окажется захвачен и будет голодать, тогда наша империя за морями, вооруженная и руководимая британским флотом, продолжит борьбу, пока, в назначенный Богом момент, новый мир во всей своей мощи и силе не выступит на спасение и освобождение старого.
На первый взгляд это был странный способ успокаивать напуганную общественность. Как заметил Стивен Банги, фразы о местах будущих сражений следуют вероятной последовательности отступления с упорными боями: от побережий и аэродромов в города и поля, затем в дальние возвышенные области страны[441]. Черчилль также затронул не упоминаемую прежде возможность победы Германии и голода в Британии. Он говорил о немыслимом перед всей нацией.
Однако эта суровая речь не устрашила британский народ – наоборот, объединила его. Гарольд Николсон, поклонник Черчилля и ветеран парламента, написал жене: «Сегодня Уинстон произнес самую великолепную речь, какую я слышал. Парламентарии были глубоко тронуты»[442].
В военное время люди поверят в худшее, если не сказать им правду или что-то, близкое к правде, возможно, дополнив ее картиной будущего пути. Услышав правду, люди приободрились. Жительница Лондона Джоан Симан вспоминала: «Я помню, что очень испугалась, когда Франция пала, потому что подумала: мы следующие. По-настоящему испугалась. Пока не услышала речь Черчилля по радио о сражениях на пляжах. Я вдруг совершенно перестала бояться. Просто удивительно»[443].
Летом 1940 г. голос Черчилля стал «нашей надеждой», вспоминал физик и писатель Чарльз Перси Сноу: «Это был голос воплощенной воли и силы. Он говорил то, что мы хотели слышать (“мы никогда не сдадимся”) и во что хотели верить, иногда вопреки реализму и здравому смыслу»[444].
Сравните мощь речи Черчилля 4 июня с произнесенными примерно в то же время словами менее значительного человека Даффа Купера, на тот момент министра информации в правительстве Черчилля. «Нашу армию придется отвести с позиций, которые она сейчас занимает, но это будет не разбитая армия, – сказал Купер, умудряясь сочетать банальность с недостоверностью. – Это будет армия, дух которой все еще высок и уверенность не поколеблена, каждый офицер и солдат которой горит желанием встретиться с врагом в бою… С ростом опасности растет и наша бесстрашная готовность встретиться с ней»[445]. В этих словах нет ничего вдохновляющего. Если за клише о бойцах, которым не терпится вернуться в бой, вообще что-нибудь стоит, то разве что ощущение тихой паники. Политик, не предлагающий ничего, кроме пустой и лживой риторики, скрыто признает, что ситуация очень близка к поражению.
В действительности, для паники имелась веская причина. После Дюнкерка британская армия была в ужасном состоянии. «Британия была не только изгнана из Европы, но и частично разоружена», – подытожил военный историк Катал Нолан[446]. В дюнах бельгийского побережья остались 700 британских танков, 800 единиц тяжелой артиллерии, 11 000 пулеметов и около 64 000 транспортных средств, ставших трофеями вермахта[447]. Количество оружия и техники, которыми располагала британская армия по возвращении домой тем летом, потрясает даже сейчас. Британские сухопутные войска на британской земле располагали всего 200 современными танками[448], примерно столько же, сколько сегодня состоит на вооружении одной бронетанковой дивизии армии США. А тогда в небольшой 1-й Лондонской дивизии имелось только 23 артиллерийских орудия и ни одного бронеавтомобиля и пулемета[449]. Энтони Иден, отвечавший за армию в качестве военного министра, признался журналисту, что был период, когда Англия могла бы отправить в бой только одну обученную и экипированную бригаду, то есть несколько тысяч человек[450]. Тем не менее оружия было столько, что в том июне британские ополченцы на блокпостах, выставленных против армии агрессора, 16 раз убивали гражданских[451].
Пока Британия замерла в ожидании вторжения, майор Уильям Уотсон из Даремского легкого пехотного полка сообщал, что некоторые из его бойцов до сих пор одеты в форму, в которой эвакуировались из Дюнкерка[452]. Другой военнослужащий, Дуглас Годдард, был отправлен патрулировать юго-восточное побережье с несколькими стрелками, получив всего по пять патронов на каждого. Королевские ВВС всего за 10 дней в мае 1940 г. потеряли 250 современных истребителей и встретили июнь, имея лишь около 500 боевых машин[453].
Падение Франции
В это время Черчилль был повсюду. Он постоянно ездил во Францию, пытаясь подбодрить французских лидеров, дезорганизованных из-за стремительного продвижения немецких войск по их территории. Он разговаривал с кем-то во французском МИДе, а в министерских кабинетах тянуло дымом с заднего двора, куда рабочие тачками свозили и сжигали архивные документы[454]. Дым сигары клубился над его головой, придавая ему сходство с «курящимся вулканом»[455], по мнению французского военного министра. Французские официальные лица сказали ему, что их военные планы не предусматривают стратегического резерва солдат и им некого вводить в бой. Пораженный, он переспросил, верно ли понял. «Я был ошеломлен», – напишет он позже[456]. Возможно, он вспомнил собственное наблюдение после Первой мировой войны: «Во всех битвах от главнокомандующего обычно требуется две вещи: первое, разработать хороший план для своей армии и, второе, обеспечить надежный резерв»[457]. Высшие военные чины Франции провалили оба этих пункта.
Черчилль был полон решимости не повторять их ошибок. «Мы возьмем Германию измором, – поклялся он французам в тот день. – Мы уничтожим ее города. Мы сожжем ее поля и леса»[458].
В своих мемуарах он уделит больше 200 страниц описанию того, как французские лидеры сдали свою страну, поскольку были разделены, дезориентированы и дезорганизованы. Он заключил, что французы были «разрушены» своим «настроем исключительно на оборону». Поэтому он неустанно подстегивал собственных генералов и адмиралов во время войны. «Мы должны пытаться одолеть умственную и духовную покорность воле и инициативе врага, от которой страдаем», – объявил он[459].
Вечером 17 июня Черчилль организовал на Би-би-си радиотрансляцию своего заявления, начинавшегося со слов: «Новости из Франции очень плохи»[460]. Париж был сдан Германии. На следующий день французское правительство запросило переговоры о перемирии. Военный историк Уолтер Миллис изящно обобщил положение дел на фронте после Дюнкерка: «Великобритания осталась практически без наземной обороны в то время, как оккупация немцами практически всего атлантического побережья Европы открыла бесчисленные невидимые ворота для нападений немецких подводных лодок»[461]. Условия, которые Гитлер запланировал всего 13 месяцев назад, были достигнуты: Польша захвачена, Бельгия и Голландия оккупированы, Франция побеждена. Англия осталась одна в Западной Европе. Гитлер рассчитывал разбомбить ее и заморить голодом.
Черчилль предупредил своих соотечественников в драматичном финале еще одной своей речи.
Вся ярость и мощь врага будут очень скоро направлены на нас. Гитлер знает, что должен разбить нас на нашем острове или проиграть войну. Если мы сможем выстоять против него, вся Европа может быть свободна и жизнь всего мира может продолжаться в бескрайних, залитых солнцем высях; но если мы проиграем, то весь мир, включая Соединенные Штаты, и все, что нам знакомо и дорого, провалится в бездну новой темной эры, более мрачной и, вероятно, стараниями извращенной науки, более продолжительной. Поэтому приготовимся выполнить свой долг и укрепимся духом, чтобы, если Британское содружество и империя просуществуют тысячу лет, люди продолжали бы говорить: «Это был их звездный час»[462].
Рой Дженкинс сравнивает значение этой речи с речью Линкольна в Геттисберге[463].
Оруэлл высоко ценил роль, которую Черчилль играл тем летом. «Причина, по которой почти каждый противник нацизма поддерживал Черчилля с падения Франции и далее, – писал он, – заключалась в том, что не было никого другого – никого, уже хорошо известного способностью взять власть в свои руки и в то же время внушавшего твердую уверенность, что он не сдастся… Нужно было, главным образом, упрямство, которого у Черчилля было в избытке»[464]. Черчилль сам ценил в себе это свойство. Урок первой части войны, сказал он ученикам школы Хэрроу, был прост:
Никогда не сдавайтесь, никогда не сдавайтесь, никогда, никогда, никогда – ни в чем, ни в великом, ни в ничтожном, ни в большом, ни в малом, – не сдавайтесь ничему, кроме голоса чести и здравого смысла. Не отступайте перед силой; не отступайте перед кажущейся подавляющей мощью врага[465].
Черчилль поклялся перед членами кабинета, что не сдаст Англию. Оруэлл в своем дневнике сделал похожее признание: «Невозможно пока даже предполагать, что делать в случае, если Германия захватит Англию, – писал он в середине июня 1940 г. – Единственное, чего я не буду делать, это бежать, ни при каких условиях, – не дальше Ирландии, если это вообще будет возможно. Если флот уцелеет и войну можно будет продолжить из Америки и доминионов, тогда нужно, если удастся, остаться в живых, хотя бы и в концентрационном лагере. Если также США собирается покориться, тогда ничего не остается, кроме как умереть, сражаясь, но самое главное – сражаясь и имея удовольствие сначала убить кого-то еще»[466]. Он вернулся к этой теме через шесть дней. Жена и сводная сестра убеждали его лететь в Канаду, «если случится худшее»[467], записал он в дневнике, но он не собирался этого делать: «Уже слишком много удравших “антифашистов”. Лучше погибнуть, если придется».
Возникла необходимость принятия трудных решений. Вскоре после перемирия во Франции Черчилль, боясь, что французский флот в Алжире достанется Германии, приказал добиться его сдачи британцам или атаковать. Французские моряки приняли короткий бой и менее чем через час 1297 человек были убиты.
Вынужденное убийство недавних союзников потрясло некоторых адмиралов Черчилля, но продемонстрировало всему миру британскую решимость. Среди тех, кто приветствовал его, был Оруэлл, записавший в дневнике: «Пугающая вспышка германской ярости по радио (если верно сообщается, с призывом к англичанам повесить Черчилля на Трафальгарской площади) показывает, как он был прав, пойдя на этот шаг». Черчилль плакал, когда вынужден был объяснять Парламенту, почему отдал приказ атаковать флот французов-вишистов[468].
«Действовать сегодня»
Сплачивая нацию и пытаясь вдохновить французов на борьбу, Черчилль дни напролет бился над другой важнейшей задачей – будил сонную британскую бюрократию. Его работа в этой области, самая недооцененная, помогла стране воевать не меньше, что его публичные выступления. Одной из серьезнейших внутренних проблем Британии, когда он получил власть, была летаргия, в которой пребывало правительство первые девять месяцев войны. «Чемберлен эффективно руководил кабинетом, – вспоминал сэр Иэн Джейкоб. – Бизнесом управляли надлежащим порядком, но почти ничего не происходило»[469]. Поразительным проявлением этой инертности официальных инстанций стало то, что, хотя при подготовке к большой войне Британии пришлось активизировать работу своей промышленности, безработица в стране выросла с 1,2 млн человек на сентябрь 1939 г. до 1,5 млн человек на февраль 1940 г.[470].
Став премьер-министром, Черчилль отреагировал на «невозмутимое, честное, но шаблонное»[471] отношение правительства Чемберлена ежедневным беглым огнем персональных меморандумов, встряхнувших военное руководство и верхушку гражданской власти. Эти памятные записки часто имели ярко-красную этикетку, требующую «действовать сегодня»[472], – Черчилль впервые использовал этот инструмент 29 мая 1940 г., в разгар дюнкеркского кризиса. Его записки, как написал один советник, были «как луч прожектора, без устали совершающего обороты и проникающего в дальние закоулки администрации, так что каждый служащий, даже на самой незначительной должности или функции, чувствовал, что однажды этот луч может остановиться на нем и высветить, чем он занят. В Уайт-холле этот эффект сказался моментально и резко… Возникло ощущение необходимости и срочности благодаря осознанию, что всем заправляет твердая рука, руководимая сильной волей»[473]. Другой военный советник вспоминал: «В Уайт-холле все засиживались за работой допоздна и ничего не оставляли без внимания»[474]. Начали работать по ночам и выходным – как Черчилль.
Иногда новая администрация считает, что улучшить работу бюрократической машины можно, просто поставив острые вопросы. У Черчилля все было иначе. Намного более чем просто умный, привыкший во все совать свой нос, он много лет занимался самообразованием в военных вопросах. Даже когда отношение к нему было враждебным, он участвовал в заседаниях секретного правительственного комитета, занимавшегося вопросами противовоздушной обороны. Черчилль посетил только что построенную сеть радиолокационных станций на южном побережье, убеждал командование Королевского ВМФ рассмотреть вопрос, можно ли использовать радар для наведения торпед по ночам. Он изучил восстановление авиации Германии. Вот его слова, когда он принял руководство Британией в критический момент: «Мысленное игровое поле предстало передо мной, залитое ярким светом. Я знал фигуры и то, как они ходят, и мог понять все, что мне сообщали о ходе игры»[475]. Это знание позволило ему выносить суждения и оценивать риски в ситуациях, когда другие политики, скорее всего, постарались бы этого избежать. Он не только подталкивал к действиям своих людей, но и поддерживал их настрой информированными меморандумами и приказами, подстегивающими тех, кто привык действовать медленно и решать меньше вопросов.
Черчилль подгонял генералов и адмиралов, что бывало неприятно, но почти всегда необходимо. Больше всего на свете он боялся пассивности, навредившей, по его мнению, французам в мае и июне 1940 г. «Его главной идеей во всех отношениях и в любые времена было “атаковать, атаковать, атаковать”», – сказал сэр Десмонд Мортон[476]. Проведя на посту премьер-министра меньше месяца, Черчилль донес до генералов свою уверенность, что агрессивные действия британских войск заставят немцев меньше думать об атаках и больше о том, могут ли они сами быть атакованы и когда[477]. Он теребил не только военных командиров. В разгар войны он нашел время вникнуть в вопрос о производстве куриных яиц в Англии, донимая министра сельского хозяйства: «Хотел бы я убедить вас попытаться преодолеть трудности вместо того, чтобы прикрываться ими»[478].
На протяжении всей войны Черчилль неизменно стоял на том, что агрессивные действия командиров заслуживают понимания и снисхождения. Позднее в том же году он напишет, что «к любой ошибке при сближении с врагом и к любому свидетельству искреннего желания вступить в бой всегда следует отнестись с великодушием»[479].
Кроме того, Черчилль, в отличие от многих, понимал, что военные действия, не имеющие тактического смысла, могут быть выгодными по стратегическим или политическим причинам. Черчилль знал, что в военное время для армии почти всегда лучше быть чем-то занятой– например, атаковать немцев в Норвегии, как британцы той весной, – чем не делать ничего и уступить инициативу врагу. Он сознавал, что иногда это стремление к действию будет трудно оправдать в сугубо военном отношении. «Не нужно спорить об эффективности бомбежек Германии, – сказал он однажды авиационным командирам, – поскольку у меня есть собственное мнение на этот счет, а именно, что решающего значения они не имеют, но это лучше, чем ничего»[480].
Черчилль лучше большинства людей понимал «зашоренность» мышления военных, особенно опасную тенденцию рассматривать операции в отрыве от стратегической ситуации в целом. В начале войны он попросил Чемберлена иногда проводить совещания без генералов и адмиралов. «Многое из того, что мы взваливаем на командующих, выходит за рамки их профессиональной сферы, – писал он. – Я осмелюсь предложить иногда обсуждать общее положение без них. Я считаю, что по многим пунктам мы не доходим до сути дела»[481].
Опыт, полученный в годы Первой мировой и в еще большей степени в периоды пребывания на посту руководителя Королевского ВМФ, выработал у Черчилля тонкое чутье на уловки военной бюрократии. Он побуждал подчиненных сокращать число офицеров, занятых административными функциями, и переводить их на должности, в которых они могли воевать. В августе 1940 г., когда катастрофически не хватало летчиков, он провел потрясающую работу по выдавливанию способных офицеров Королевских ВВС из-за конторок в кабины самолетов. «Естественная склонность каждого командира авиабазы – иметь как можно больше подчиненных, – заявил он командованию ВВС. – Адмиралы ведут себя точно так же. Как тщательно ни перетряхивай состав, загляните через несколько недель и вы увидите, сколько опять наросло жира»[482].
Если генералы могли сослаться на реальную военную необходимость, он прислушивался. В первые недели его премьерства, в мае и июне 1940 г., когда французы сильно давили на него, убеждая отправить во Францию больше истребителей, а некоторые советники утверждали, что это решит исход войны, Черчилль принял во внимание точку зрения своего авиационного командования и отказался от этого шага. Оглядываясь назад, Стивен Банги писал: «Это решение, безусловно, было верным. Истребители не изменили бы ситуацию во Франции, но были чрезвычайно важны в Британии»[483]. Это докажет развернувшаяся летом того года битва за Британию – решающий период в жизни Черчилля.
Глава 7 Война с Германией, попытки достучаться до Америки 1940–1941 гг.
8 августа 1940 г. Герман Геринг, командующий люфтваффе, военно-воздушными силами Германии, инструктировал подчиненных перед началом операции «Адлер»: «Вскоре вы прогоните с неба британскую авиацию. Хайль Гитлер!»[484] Британская разведка перехватила этот приказ, информацию передали Черчиллю.
Вступая в бои, командиры люфтваффе полагали, что авиационная кампания успешно завершится через две – четыре недели[485]. Сегодня это кажется самонадеянным, но тогда вполне укладывалось в череду недавних легких побед Германии в Польше, Голландии, Бельгии и Франции. Многим казалось, что Германию не остановить. В отправленной в Вашингтон телеграмме посол Кеннеди писал, что, по его мнению, если у Германии столько самолетов, сколько она заявляет, с Королевскими ВВС будет покончено, после чего поражение Британии выглядит «неизбежным»[486].
Воздушные бои кипели в небе над южной Англией в течение всего лета и начала осени 1940 г. Истребители люфтваффе перелетали Ла-Манш за шесть минут и вступали в воздушные бои в небе Южной Англии[487].
В эти месяцы Черчилль стал символической фигурой, объединявшей Англию. Оруэлл с восхищением наблюдал эту трансформацию. «Кто бы поверил семь лет назад, что у Уинстона Черчилля есть какое бы то ни было политическое будущее?» – записал он в августе в своем дневнике[488]. Когда британцы оказались перед реальной перспективой вторжения, даже те, кто годами чернил Черчилля, перешли на его сторону. Мало кто сделал больше для того, чтобы не допустить Черчилля в правительство в середине 1930-х гг., чем «Ти Джей» Джонс, политический советник премьер-министра Болдуина. Теперь и он увидел человека, которого так долго принижал, в новом свете. «Восхождение Уинстона на вершину… привело к громадной перемене, – написал он. – Наконец страна очнулась и трудится»[489]. Чуть позже он добавил: «Уинстон сейчас единственный оратор в Уайт-холле, слова которого способны достичь и тронуть каждого»[490].
Однако раскаивались не все. Джеффри Доусон, поддерживавший политику умиротворения редактор The Times, в том же 1940 г. писал доживавшему последние дни Невиллу Чемберлену: «Я всегда буду неисправимым сторонником того, что называется “мюнхенской политикой”»[491]. В тот же период Оруэлл поспорил с молодым пацифистом[492] в «Кафе Роял», традиционном месте встреч писателей и художников. Война закончится к Рождеству, уверял юнец: «Очевидно, что все идет к компромиссному миру». Когда Оруэлл заметил, что нацисты станут казнить писателей, таких как он сам, его оппонент, вдохновенный художник, ответил: «Что ж, очень жаль!»
* * *
Речи Черчилля этого периода остаются прекрасным чтением и сейчас, через 75 лет после их написания. Знать их необходимо, чтобы понимать этого человека и его роль в истории.
Его обращение к палате общин 20 августа 1940 г. памятно прежде всего ярким и точным признанием заслуг летчиков-истребителей Королевских ВВС. «Никогда на полях сражений человечества, – заявил Черчилль, – столь многие не были настолько многим обязаны столь немногим»[493]. Пилот «Спитфайра» Хью Дандес позже сказал: «По-моему, мы не сознавали, что творим историю, пока мистер Черчилль не произнес речь о “немногих”. Мы все тогда почувствовали гордость и осознали, какую важную играем роль, но до этого, мне кажется, мы и не задумывались об этом»[494].
Значительно менее запоминающейся частью той же речи была сводка Черчилля о ходе войны, оруэлловская по стилю благодаря сдержанности и немногословной точности описания неудач, случившихся в эти первые месяцы его руководства.
Немногим более четверти года прошло с тех пор, как новое правительство пришло к власти в нашей стране. С тех пор на нас обрушился град бедствий. Доверчивые голландцы покорены; их любимый и почитаемый народом монарх был вынужден бежать из страны; мирный город Роттердам превращен в место чудовищной и жестокой бойни, каких не было и в Тридцатилетнюю войну. Бельгия захвачена и разбита; наши собственные великолепные экспедиционные войска, призванные королем Леопольдом на свое спасение, отрезаны и едва не взяты в плен, от которого они спаслись, кажется, чудом, потеряв все снаряжение; наш союзник, Франция, выбыл; Италия против нас; вся Франция во власти врага, все ее арсеналы и огромные запасы оружия и военного имущества используются или могут быть использованы врагом; в Виши создано марионеточное правительство, которое в любой момент может быть принуждено стать нашим врагом; все западное морское побережье Европы от Нордкапа до испанской границы находится в руках Германии; все порты, все аэродромы на этом громадном фронте могут быть использованы против нас как потенциальные плацдармы для вторжения[495].
Две ночи спустя центральный Лондон впервые подвергся бомбардировке. Каталог бедствий, составленный Черчиллем, подводит к очень болезненному моменту – возможности высадки немцев в Англии. Обсуждение этой возможности было не просто способом подхлестнуть людей. В это время Черчилль вполне серьезно размышлял об этой перспективе. Среди вопросов, которые ему пришлось решать, был вопрос о возможной роли британской полиции на территориях страны, оккупированных Германией. Должны ли полицейские вести борьбу с врагом или обеспечивать общественный порядок? Если второе, следует ли им заранее дать приказ сотрудничать с немцами с этой целью? Это был непростой вопрос. «Если они окажутся на территории, фактически оккупированной врагом, – распорядился Черчилль, – то должны сдаться и подчиниться вместе с остальными жителями, но не должны оказывать врагу никакой помощи ни в поддержании порядка и ни в чем другом»[496].
Страх перед вторжением достиг максимума, когда в конце лета британский самолет-разведчик засек, что немцы спешно накапливают десантные баржи в голландских, бельгийских и французских портах. 7 сентября 1940 г. в 20:07 британское верховное командование передало сигнал «Кромвель»[497], кодовое слово, означающее, что высадка немцев на английскую землю неизбежна. Романист Ивлин Во, служивший в то время в Королевском ВМФ в Африке, в письме жене советовал в случае высадки немцев дождаться благоприятного момента и уезжать в Квебек, где он впоследствии постарается найти ее. Джорджу Пеллету, члену подготовленной британской диверсионной группы, сказали, что после высадки захватчиков ожидаемая продолжительность его жизни составит семь дней[498].
Однако немцы выбрали другую тактику. Когда их попытка уничтожить противовоздушную оборону Британии не удалась, командование люфтваффе отдало приказ просто бомбить страну – главным образом Лондон, и особенно его восточную часть, где возле портовых доков и фабрик жили бедняки и рабочие. Геринг предполагал, что горящий Лондон лишит англичан воли к борьбе.
В ту же ночь, когда был передан сигнал «Кромвель», начался так называемый «Блиц»[499]: 438 бомбардировщиков[500] и 617 истребителей люфтваффе атаковали Лондон. Двигаясь в сторону Англии в тот день, они образовали в небе прямоугольник шириной 32 км и глубиной 64 км.
По мнению некоторых наблюдателей, новый подход должен был сработать. В первую ночь «Блица» Джозеф Кеннеди, идя с другом по Пикадилли, сказал ему: «Ставлю пять против одного на любую сумму, что Гитлер через две недели будет в Букингемском дворце»[501]. В Госдепартамент он передал, что Британии пора признать поражение[502].
Действительно, в сиренах воздушной тревоги, в вое падающих бомб, в дыму, пламени и смерти, которые они оставляли на земле, «возникало чувство неминуемого апокалипсиса»[503], подытожил британский историк и романист Питер Акройд. Поэтесса Эдит Ситуэлл передала ощущения от этого момента в стихотворении:
Падает Дождь – Темный, как этот мир, черный, как слепота, – Тысяча девятьсот сороковой Гвоздь для Креста[504].По сообщению лондонского пожарного, горело так сильно, что «от жара пузырилась автомобильная краска»: «Лица людей покрывались волдырями… Жжет глаза, жжет в носу. Подбородок у меня был сильно обожжен, весь в волдырях. Когда крыши рухнули, искры ударили из окон, словно вздутые гигантскими мехами»[505].
На следующий день, 8 сентября, Черчилль посетил больше всего пострадавшую часть города, бедный и перенаселенный лондонский Ист-Энд, где все еще горели разбомбленные здания. Он разрыдался у бомбоубежища, накрытого прямым попаданием. Глядя на него, старуха сказала: «Видите, ему, правда, не все равно, он плачет»[506].
15 сентября 1940 г.
После недели непрерывных ударов Черчилль отправился в штаб-квартиру 11-й истребительной авиационной группы, отвечавшей за безопасность неба над Лондоном и юго-восточной Англией. Это не было спонтанным решением – разведка, основываясь на радиоперехватах, доложила, что почти все немецкие бомбардировщики, базировавшиеся во Франции, должны были в тот день лететь на Лондон, Черчилль уже бывал здесь этим летом и знал, что командный пост 11-й группы – лучшая точка для наблюдения. Всего две недели назад над ним произошел воздушный бой.
В день визита Черчилля, 15 сентября[507], состоится одно из самых яростных авиационных сражений за всю кампанию. Впоследствии Черчилль будет вспоминать этот день как «кульминационный момент»[508] битвы за Британию. Было воскресное утро. В штаб-квартире 11-й группы, расположенной на западной окраине Лондона, он спустился в бункер глубиной около 15 м, где находился командный пункт, и увидел там, как вице-маршал авиации Кит Парк, расхаживая по помещению, отдавал приказы и отправлял эскадрильи в бой. На гигантском, во всю стену, табло отмечалось местоположение каждой из 35 эскадрилий. О состоянии каждого подразделения сообщали лампочки: одни в состоянии готовности, другие в воздухе, третьи заметили противника, наконец, выше всех, отмеченные красными лампочками, – те, что вступили в бой.
Одна красная лампочка загоралась за другой. Скоро Парк бросил в бой все имеющиеся у него самолеты. Это означало, что вскоре все эскадрильи начнут садиться для дозаправки. Это будет очень опасный момент, поскольку немцы могут разбомбить кучно стоящие на земле самолеты. Парк связался со своим командиром и попросил разрешения поднять в воздух три эскадрильи, остававшиеся в резерве. Почти две сотни немецких боевых самолетов находились в небе над юго-восточной Англией.
Черчилль, не в силах больше сдерживаться, спросил Парка: «Сколько еще истребителей у вас остается?» «Нисколько, – ответил Парк. – Я ввожу в бой последние». Позже Парк запишет, что при этих словах Черчилль выглядел «смертельно серьезным». Так оно и было, поскольку он понимал, как признался позже, что «неравенство сил был огромным, наши возможности малыми, ставки бесконечно высокими»[509]. В течение пятидесяти минут у Британии не было ни одного не участвовавшего в бою истребителя[510]. Всего за четыре месяца до этого Черчилль содрогнулся, услышав от лидеров Франции признание в отсутствии у них резервов. Их поражение не заставило себя ждать. Пока шла Битва за Британию, он размышлял: «На какой тонкой нити может висеть самое важное»[511]. Он наблюдал, как волосок, на котором висела Британия, натянулся, грозя в любой момент лопнуть.
Однако британцы, в отличие от французов, устояли. «Спитфайрам» и «Харрикейнам» нужно было дозаправиться, однако и самолетам немцев тоже, но тем для этого нужно было лететь гораздо дальше. Поэтому следующая волна налета не дошла до Англии, и британские истребители не были захвачены врасплох на земле. Тем не менее в тот день были сброшены тысячи немецких бомб[512], в том числе две, попавшие в Букингемский дворец, вероятно по ошибке. Королевские ВВС потеряли 28 самолетов за день боев[513], но сбили 56 немецких машин – два к одному, впечатляющее соотношение.
Когда Черчилль вышел из бункера, прозвучал сигнал отбоя. Он вернулся в официальную загородную резиденцию премьер-министра Чекерс, сразу пошел в свою комнату, лег и проспал около четырех часов. Эта долгая «отключка» была так необычна для него, что уведомили его врача Чарльза Уилсона. На следующее утро Уилсон спросил Черчилля, был ли он «без сил», когда покидал бункер. «Он не ответил, и тогда я спросил, как справился с таким давлением Парк, – вспоминал Уилсон. – Он озадаченно посмотрел на меня; он явно не думал об этом. Судьба отдельных людей больше не имела значения. Наверное, если несешь такой груз ответственности, как у него, то начинаешь так мыслить».
Одним из зданий, пострадавших при немецких бомбардировках в середине сентября, стал роскошный особняк симпатизирующего нацистам лорда Лондондерри на Парк-лейн. Полковник Рэймонд Ли, американский военный атташе, прошел несколько кварталов от американского посольства полюбоваться видом. Он записал в дневнике: «Бомба упала прямо напротив, снесла стену, зарылась в землю, проделав глубокую яму, и не оставила поблизости ни одного целого оконного стекла. Остается гадать, что этот чурбан Лондондерри теперь думает о своих друзьях Гитлере, Риббентропе и Геринге, с которыми еще недавно был так близок»[514]. Сегодня на этом месте стоит большое здание отеля «Хилтон».
* * *
После войны Черчилль скажет друзьям, что, если бы он мог вновь прожить один год своей жизни, это был бы 1940 год[515]. Даже при ретроспективной оценке поражает подъем его духа – и энергия. Когда страх вторжения немцев достиг максимума, «премьер-министр был очень приятным в общении и, как всегда, очень бодрил и веселил»[516], как отметил в своем дневнике генерал сэр Алан Брук, который станет главным военным советником премьер-министра. Отвечая за судьбу своей страны и даже всей западной цивилизации, Черчилль сумел сохранить немалую эксцентричность. В тяжелейшие моменты начала войны, когда Соединенные Штаты еще не вступили в нее и английские города ежедневно пылали от разрывов немецких бомб, а Германия распространила боевые действия на пшеничные поля Украины и нефтяные северного Ирака, Черчилль отвлекался сам и развлекал гостей, ставя пластинки («военные марши, вальсы и самого вульгарного пошиба песни под духовой оркестр»[517], прокомментировал его самодовольный советник Колвилл), выполняя строевые приемы с охотничьей винтовкой и возясь с домашними животными. «Размышляя над этими вопросами [неудачи на Ближнем Востоке и сомнительная компетентность британских генералов], он продолжал непрерывный разговор с кошкой, очищая ей глаза своей салфеткой, предлагая ей баранину и выражая сожаление, что в военное время она не может получить сливки». Он выходил в сад в пурпурном домашнем халате и серой фетровой шляпе, чтобы проведать золотую рыбку. Он играл с собакой своей дочери, «очень симпатичным пуделем». По пути на одно совещание в верхах читал роман о Горацио Хорнблоуэре[518], во время поездки на другое посвятил целый день «Финеасу Финну», великому роману Троллопа о парламентских амбициях. Выздоравливая после пневмонии, Черчилль наконец прочел (или ему прочли) «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.
* * *
Оглядываясь в прошлое, понимаешь, что немцы никогда не были так близки к вторжению в Англию, не говоря уже о ее покорении, как в 1940 г. Превосходство в воздухе было обязательным условием высадки армии вторжения, но британцы производили истребители быстрее, чем немцы их уничтожали. Кроме того, была выстроена тщательно продуманная и хорошо организованная оборона, а стремительные атаки люфтваффе были беспорядочными, с неясными целями. Если нет последовательной стратегии, любая тактика теряет смысл.
Военные историки давно признали, что технические новшества практически бесполезны, если они не поддерживаются продуманной организацией. Именно тщательная организация людей и техники дала британцам преимущество в битве с люфтваффе. Стивен Банги делает из своего исчерпывающего анализа Битвы за Британию вывод, что ключом к успеху в ней стала чрезвычайно эффективная британская система раннего оповещения[519]. Использование радаров, радио и телефонов и внимание и исполнительность командиров позволили Королевским ВВС перехватить инициативу. Они собирали информацию, быстро передавали ее готовым к вылету эскадрильям и отправляли их в бой[520]. Этот продуманный трехступенчатый подход, охватывающий разнородные задачи, хорошо описал лейтенант ВВС Чарльз Маклин, диспетчер воздушного сектора:
Была разработана целая теория обороны силами истребительной авиации с целью избежать так называемого «барражирования». Если охранять страну, постоянно держа в воздухе самолеты, вы выработаете ресурс двигателей и окажетесь на земле в момент атаки. Поэтому Королевские ВВС разработали систему оповещения о приближающихся налетах. В первую очередь мы с помощью радара устанавливали местоположение самолетов, приближавшихся к Британии, затем службы наблюдателей засекали их в момент пересечения береговой линии. Вся информация передавалась в шифровальную комнату, далее на командный пункт, где на столе оказывалась полная картина налета. Пусть она отставала на три или четыре минуты, этого было достаточно, чтобы поднять истребители в воздух, когда это действительно требовалось[521].
Типичная картинка, которая представляется нам, когда мы думаем о битве за Британию: молодые вихрастые пилоты, слоняющиеся возле своих самолетов, но готовые взлететь в любую минуту. Созданная в 1940 г. система противовоздушной обороны Британии – эквивалент компьютера на мускульной тяге, эта замечательная система обработки информации в реальном времени эффективно способствовала сохранению ресурсов британской авиации – самолетов, пилотов и внимания личного состава. Благодаря (в том числе) ей Королевские ВВС с течением времени становились все сильнее. Второй причиной стало то, что британские авиационные заводы наконец стали работать быстро.
Третьей причиной доминирования британцев оказалась некомпетентность немцев при проведении авиационных атак. Вопреки представлениям о тевтонском воинском мастерстве, подход люфтваффе был «невероятно любительским»[522], по заключению Банги, фактически сводясь к тому, чтобы «полетать над Англией, сбросить некоторое количество бомб на то и на это, чтобы досадить людям и сбить любой истребитель, который к ним приближался»[523]. Не было совпадением, продолжил Банги, что столь непоследовательно действующий род войск был единственным в армии Германии, которым руководил нацистский политик Геринг, успевший, прежде чем уйти в политику, послужить пилотом и принять участие в Первой мировой войне. Гитлер, будто бы, любил повторять, что у него консервативная армия[524], реакционный флот и нацистская авиация. Эта политизированная авиация проникала в воздушное пространство Англии, будучи не готовой к тому, с чем ей предстояло там столкнуться. Ганс-Эккехард Боб, пилот истребителя «Мессершмитт-109», вспоминал туманный день, когда «Внезапно позади меня вынырнули “Спитфайры”, идущие боевым порядком, четко выдерживая линию огня, и я изумился, как это возможно при полном отсутствии видимости сверху и снизу?»[525] Ответ, разумеется, заключался в прекрасно настроенном британском радаре и системе раннего оповещения. Немцы в дни своей славы постоянно переоценивали наносимый ими ущерб и в середине августа 1940 г. верили, что у Британии имеется всего 300 исправных истребителей. В действительности их было 1438[526] – вдвое больше, чем всего за шесть недель до этого. Соотношение потерь всегда было в пользу британцев, потерявших в общей сложности 1547 своих самолетов и уничтоживших 1887 немецких. Поскольку большинство воздушных боев происходило над Англией, британские пилоты могли совершить за день несколько боевых вылетов[527] – снаряжение боекомплектом занимало у них меньше четырех минут. Если они были подбиты, то часто могли десантироваться на собственную территорию и снова вылететь, а выжившие после парашютирования немецкие пилоты становились военнопленными, многие гибли в ледяных водах Ла-Манша. (По той же причине британцы потеряли в этот период больше членов экипажей бомбардировщиков, чем летчиков-истребителей – 801 против 544 человек.)[528]
Жители также привыкли к бомбардировкам. Например, в ходе опроса, проведенного в середине сентября 1940 г. по поручению правительства, 31 % лондонцев ответили, что «совсем не спали» прошлой ночью. В середине октября о полном отсутствии сна сообщили только 5 % опрошенных, а в середине ноября не пожаловался никто[529].
Даже если бы немцы высадилась на английскую землю[530], нужно было бы обеспечить снабжение плацдарма – осенью 1940 г., главным образом, по морю. Тогда кораблям немцев пришлось бы иметь дело с Королевскими ВВС в редкие моменты хорошей погоды и с ужасной погодой осеннего Северного моря – все остальное время. «Победа была достигнута вовсе не с ничтожным перевесом, – заключил Банги в своей авторитетной истории битвы за Британию. – Люфтваффе не имели шансов»[531].
Однако все это намного очевиднее сейчас, чем в 1940 г. До тех пор пока нападение японцев на Перл-Харбор не заставило американцев включиться в войну, они легко забывали, какой неимоверно трудной была война для Британии. Не случайно вступление американцев в войну описано лишь в третьем томе шеститомных мемуаров Черчилля о Второй мировой, а имя Дуайта Эйзенхауэра появляется примерно в середине четвертого тома. Оруэлл отметил отрезвляющий характер этого времени в дневниковой записи от 19 октября 1940 г.: «Невыразимая тоска – каждое утро, разжигая огонь с помощью прошлогодних газет, видеть промельки оптимистичных заголовков, обращающихся в дым»[532].
В том же месяце Черчилль жаловался в записке министру иностранных дел, что ошеломлен «проблемой с этим обманщиком Кеннеди»[533]. Через несколько недель произошло беспрецедентное событие – переизбрание Франклина Рузвельта на третий президентский срок. Это стало большим облегчением для Черчилля, поскольку означало, что Америка будет помогать Британии открыто, без особой оглядки на изоляционистскую реакцию американского Среднего Запада. На месте это означало долгожданную возможность избавиться от посла Кеннеди.
Но и отправленный домой, Кеннеди продолжил трепать языком. «С демократией в Англии покончено»[534], – уверял он газетчиков, когда вернулся в Соединенные Штаты. Более того, добавлял он, она может провалиться и в США, поэтому «нам нет смысла ввязываться».
Затем Кеннеди, подумывавший о борьбе за президентское кресло, поехал на встречу с Рузвельтом домой к президенту в Гайд-Парк (штат Нью-Йорк). Рузвельт собирался предложить ему остаться на уик-энд, но после десятиминутной беседы с глазу на глаз передумал. Он выкатился в своем кресле-коляске из комнаты и сказал жене: «Я не желаю видеть этого сукина сына до конца своих дней. Пусть у него примут отставку и выставят отсюда»[535]. Элеанора Рузвельт возразила, что Кеннеди был приглашен на ланч, и услышала в ответ распоряжение подать машину, дать ему сэндвич и посадить на поезд до Нью-Йорка. После она вспоминала этот день как «один из самых ужасных в жизни».
Вернувшись в Нью-Йорк, Кеннеди встретился с Чарльзом Линдбергом в отеле «Уолдорф-Астория». Линдберг записал в дневнике: «Он чувствует, как и мы, что положение Британии безнадежно и что лучше всего для нее было бы в ближайшем будущем начать мирные переговоры»[536]. Главным препятствием для договоренности, добавил Кеннеди, являются Черчилль и его надежда на вступление Америки в войну.
Появление Хопкинса
Даже после того, как Черчилль добился вступления Британии в войну, он уделял много времени обхаживанию американцев и особенно нейтрализации влияния Кеннеди и других правых изоляционистов.
Сначала он не мог найти верный тон. Его первые обращения к американцам временами звучат елейно, например в двух предложениях новогоднего поздравления, направленного Рузвельту в начале 1941 г.
Сейчас, когда в снежной круговерти начинается новый год, я считаю своим долгом от имени британского правительства и всей Британской империи сказать Вам, мистер Президент, с каким искренним чувством благодарности и восхищения мы восприняли памятное заявление, с которым Вы в минувшее воскресенье обратились к американскому народу и сторонникам свободы на всех континентах. Мы не знаем, что нас ожидает, но с этим призывом к действию мы должны шагать вперед, воодушевленные, укрепившиеся духом, с уверенностью, высказанной Вами, что в конце концов у англоязычных людей и всех, кто разделяет их идеалы, все будет хорошо[537].
Рузвельт хотел знать больше о том, кто такой Черчилль на самом деле, и в январе 1941 г. отправил в Лондон Гарри Хопкинса в качестве своего полномочного представителя[538]. Бывший социальный работник[539], самый доверенный советник Рузвельта, Хопкинс получил задание оценить Черчилля как потенциального союзника в войне. Хопкинс настолько «врос» в жизнь президента, что переехал в Белый дом и ночевал в бывшем кабинете Авраама Линкольна, где тот подписал Декларацию независимости. Хопкинс был любителем триктрака и карточных игр (покера, кункена, бриджа), а также, несмотря на болезнь, часто выбирался из дома на ипподром, где предпочитал ставить два доллара на лошадей со слабыми шансами.
Со стороны Рузвельта выбрать больного раком, страшно исхудалого Хопкинса (ему оставалось жить несколько лет), к тому же с глубоким скепсисом относившегося к аристократическим замашкам и неумолкающей риторике, означало поставить перед Черчиллем трудную задачу. Частью задания Хопкинса в январе 1941 г. было установить, действительно ли Черчилль «непостоянен»[540] и «половину времени пьян», как считал кое-кто в Вашингтоне.
Воспользовавшись услугами новой компании Pan American Clipper[541], Хопкинс перелетел на гидросамолете из Нью-Йорка на Бермуды, оттуда на Азорские острова и, наконец, приводнившись на р. Тежу в Лиссабоне, откуда вылетел рейсом British Overseas Airways в английский Пул. Его встретил Брендан Брекен[542], советник Черчилля, являвшийся для него тем же, что и Хопкинс для Рузвельта. Это сразу показало, что миссия Хопкинса понята. Несмотря на свои левые взгляды, он пересек океан не для того, чтобы изучать тонкости социал-демократии или усовершенствования столовых для нуждающихся. Он прибыл для участия в военном совете о том, как помочь Англии (и Черчиллю) выжить.
Хопкинсу не понадобилось много времени, чтобы восстановить силы после путешествия. На следующий день его препроводили на ланч с Черчиллем. «Появился круглый, улыбающийся, краснолицый господин, протягивая пухлую руку для твердого, однако, рукопожатия, и приветствовал меня в Англии, – сообщал Хопкинс президенту. Он писал свои послания, пользуясь писчими принадлежностями отеля «Кларидж» и отправляя их в Белый дом с курьером. – Общее впечатление: короткий черный пиджак, брюки в полоску, умный взгляд и вкрадчивый голос»[543].
За супом, холодной говядиной и салатом Хопкинс откровенно сказал премьер-министру, что в Соединенных Штатах не вполне доверяют британцам, включая Черчилля. «Я сказал ему, что в некоторых кругах полагают, что он, Черчилль, не любит Америку, американцев и Рузвельта, – отчитался Хопкинс президенту. – Это подвигло его на едкие, но довольно принужденные нападки на посла Кеннеди, которого он считает виноватым в таком впечатлении».
Черчилль ответил Хопкинсу тем, что, по его мнению, американцы хотели услышать, расписав прелести пасторальной Англии.
Мы не стремимся к богатству, не стремимся к территориальным приобретениям, мы стремимся лишь к праву человека быть свободным; мы стремимся к его праву почитать своего бога, жить так, как он хочет, не опасаясь гонений. Когда скромный труженик возвращается с работы, окончив дневные труды, и видит дымок над крышей своего коттеджа в чистом вечернем небе, мы хотим, чтобы он знал: «тук-тук-тук» [тут он постучал по столу] тайной полиции в его дверь не помешает его отдыху и не нарушит его покоя[544].
Это было классическое черчиллевское плетение словес.
Хопкинс, искушенный политический деятель, видел, когда ему скармливают наживку. Когда Черчилль спросил, как отнесся бы президент к его рассуждениям, Хопкинс процедил в духе Джона Уэйна из вестерна 1930-х гг.: «Ну, мистер премьер-министр, думаю, президент не дал бы и цента за всю эту туфту. Видите ли, для нас важно только, чтобы с этим сукиным сыном Гитлером было покончено». Черчилль громко рассмеялся. Это был самый подходящий ответ, отвечавший его собственным задушевным чувствам и надеждам.
Кончилось тем, что они проговорили несколько часов. Хопкинс доложил президенту, что ушел со встречи, убежденный в ложности сообщения о нелюбви Черчилля к американцам и Рузвельту. «Это просто чушь», – писал он[545]. Неизвестно, что он сказал Рузвельту о пристрастии Черчилля к выпивке, но характеристика «ясный взгляд» в его описании, возможно, косвенно отвечает на этот вопрос.
Британцы, за исключением Черчилля, относились к американцам, скорее, покровительственно. Типичный отзыв принадлежит сэру Александру Кадогану, дипломату высокого ранга в Министерстве иностранных дел, который после встречи с Хопкинсом записал в дневнике: «Выглядит простым и славным»[546]. В корне ошибочная характеристика, причем данная человеком, профессия которого требует умения оценивать официальных иностранных гостей!
Следующие два года Хопкинс будет оставаться главным связующим звеном между Черчиллем и Рузвельтом, фактически негласным министром иностранных дел при президенте. Во время первой поездки в Британию он пробыл там почти месяц, вдвое дольше, чем планировалось, и провел с Черчиллем двенадцать вечеров. Под конец визита Хопкинс обедал с Черчиллем и его ближайшим окружением в ресторане гостиницы Station Hotel в Глазго.
За обедом Хопкинс встал и сказал: «Я полагаю, вы хотите знать, что я собираюсь сообщить президенту Рузвельту по возвращении»[547]. Действительно, присутствующие очень этого хотели. Хопкинс сказал, что дальнейший курс англо-американских отношений он предложит президенту с помощью Библии, и почти шепотом процитировал «Книгу Руфи» (1:16): «…куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог – моим Богом» (опустив следующий стих, «и где ты умрешь, там и я умру»). Черчилль ответил слезами благодарности.
Примерно в это время американцы твердо решили держаться стратегии «сначала Европа»[548]: если Соединенные Штаты вступят в войну, то главным врагом будет Германия, а не Япония, и большинство ресурсов должно будет направляться через Атлантику. Для Черчилля это было, вероятно, самое важное решение американцев во Второй мировой войне.
Сойдя в Нью-Йорке с самолета компании Pan Am, Хопкинс заявил репортерам: «Могу сказать одно: я не думаю, что Гитлер сможет одолеть этих людей»[549]. Он во многом устранил ущерб, который нанес англо-американским отношениям посол Кеннеди.
Тем не менее манипулирование продолжалось. В феврале 1941 г. Черчилль заверил американцев, будто от них требуются лишь ресурсы: оружие, танки, самолеты, корабли, еда, топливо и деньги[550]. Его знаменитое обращение к американцам «Дайте нам инструменты, и мы сделаем дело» вызывало симпатии– в этих словах была готовность к труду, скромность и кажущаяся простота.
Однако эта искусная риторика была лукавством. «Как бравировал Черчилль во время выступления!» – записал в дневнике американский военный атташе Рэймонд Ли, к тому времени бригадный генерал[551] и один из самых пробритански настроенных сотрудников американского посольства на тот момент. Историк Ричард Той пришел к выводу, что Черчилль почти наверняка знал: чтобы закончить войну, потребуются не только богатства Америки, но и ее люди[552]. Британская объединенная группа планирования в июне 1941 г. пришла к заключению: «Активные военные действия Соединенных Штатов будут иметь принципиальное значение для успешного ведения и завершения войны»[553]. Иными словами, для достижения цели Черчиллю нужны были не только инструменты, ему был нужен весь человеческий и промышленный потенциал Соединенных Штатов, – и он это знал. Но не мог сказать.
Глава 8 Черчилль, Оруэлл и классовая борьба в Британии 1941 г.
Следя за битвой за Британию и последовавшим за ней «Блицем», Джордж Оруэлл не допускал мысли, что люфтваффе удастся вынудить Британию капитулировать. «Кажется невероятным, что воздушными налетами можно выиграть большую войну» – писал он[554]. Для самого Оруэлла война складывалась во многих отношениях не слишком удачно. «Меня не хотят брать в армию, по крайней мере, сейчас, из-за моих легких», – жаловался он другу[555]. Неудивительно: по результатам медосмотра 1938 г.,[556] при росте 187,5 см Оруэлл весил всего 72 кг, а рентгеновский снимок показал затемнения в легких. Несмотря на это и на ранение в шею, он по-прежнему много курил, причем крепкие самокрутки. Ему опять не повезло при попытке устроиться в отдел связей с общественностью министерства авиации[557]. Его жена между тем работала в правительственной службе цензуры.
Будь у Оруэлла более крепкое здоровье, он, вероятно, стал бы великим военным корреспондентом, «британским Эрни Пайлом»[558], но лучше чувствующим боевые действия и стремящимся рассказывать о войне голые факты, не смягчая их, как иногда делал Пайл.
Он считал, что может и должен больше помогать фронту, но не знал, как это сделать. «Ужасно чувствовать себя бесполезным и в то же время видеть недоумков и профашистов на важных должностях», – сетовал он другу[559]. Одним из свидетельств его разочарования является то, что однажды он ходил по Лондону и срывал просоветские плакаты. «В нормальные времена, – признался он своему дневнику, – не в моем характере писать на стенах или портить написанное другими»[560].
Существенно то, что война на несколько лет отбила у Оруэлла желание писать беллетристику. Последний слабый роман «Глотнуть воздуха» вышел в 1939 г., «Скотный двор», начатый в конце 1943 г., появился лишь с окончанием войны в Европе в 1945 г. Однако, как и в Черчилля, война вдохнула в Оруэлла новые силы. За один лишь 1940 г. он написал больше сотни статей, эссе и обзоров[561]. В одной статье он разнес У. Х. Одена за строчку из стихотворения «Испания», где говорилось о «сознательном принятии вины в необходимом убийстве». Его возмутили последние слова. «Безнравственность такого рода, как у мистера Одена, доступна лишь людям, которые в момент нажатия на спусковой крючок всегда оказываются где-нибудь в другом месте, – писал он. – Очень многие рассуждения левых напоминают игру с огнем людей, даже не подозревающих, что огонь жжет»[562]. Оруэлл почти наверняка знал, что в 1939 г. Оден отбыл в Америку.
17 апреля 1940 г. Оруэлл нашел время написать информативную и в то же время «теплую» автобиографию для американского издания «Писатели XX века».
Кроме работы, меня больше всего интересует садоводство, особенно выращивание овощей. Мне нравится английская кухня и английское пиво, французские красные вина, испанские белые вина, индийский чай, крепкий табак, угольные камины, свет свечей и удобные стулья. Я не люблю большие города, шум, автомобили, радио, консервированные продукты, центральное отопление и «современную мебель»… Мое здоровье подорвано, но это никогда не мешало мне делать все, что я хотел, кроме возможности сражаться в нынешней войне… Сейчас я не пишу романы, главным образом, из-за раздрая, вызванного войной[563].
Через несколько недель Оруэлл покинул коттедж и переехал в Лондон, чтобы быть рядом с женой. В июне вступил в отряд Территориальной самообороны – ополчение, призванное оборонять родную землю в случае немецкого вторжения. Он быстро стал сержантом роты С 5-го Лондонского батальона. Его обескуражили поучения офицера, что напирать на тактику им незачем, поскольку в случае вторжения «нашим делом, сказал он, будет погибнуть на посту»[564]. Оруэлл записал в дневнике, что не впечатлен командирами самообороны: «Эти мерзкие туши, столь очевидно тупые и маразматичные, растерявшие все, кроме чисто физической отваги, всего лишь убоги и не вызывали бы ничего, кроме жалости, если бы не висели у нас на шее мельничными жерновами». Лекции, которые он читал ополченцам, носили более практический характер. Ручные гранаты, сообщил он, «легче бросать в лестничный проем сверху вниз, чем снизу вверх»[565], а пули имеют обыкновение рикошетить от стен.
Как многие в середине 1940 г., Оруэлл считал «практически неизбежным вторжение в Англию в ближайшие дни или недели»[566]. В отличие от многих, он, как и Черчилль, наслаждался этим временем. Его друг Сайрил Коннолли заметил: «Он чувствует себя совершенно как дома в условиях во время «Блица», среди бомб, храбрости, развалин, дефицита, бездомности, признаков революционных настроений»[567]. То же самое испытывала его жена. Когда начинали выть сирены воздушной тревоги, она гасила свет в их квартире и шла к окну наблюдать за происходящим[568]. Оруэлл всегда обожал наблюдать, а теперь можно было увидеть и осмыслить много нового и непривычного. Он записал в дневнике, что не видел воронок от бомб глубже 3,6 м[569], что навело его на мысль, что немецкие бомбы довольно маленькие, вероятно, вроде 15-сантиметровых снарядов, которыми они пользовались в Испании. В бомбоубежище он слышал брюзжание на тему «сиденья жесткие, а ночь такая долгая, но никаких пораженческих разговоров»[570].
Его заинтересовало, что собаки быстро научились прерывать свои прогулки в парке, услышав рев сирен[571]. Единственное, на что он жаловался: «По ночам во время сильных налетов оглушительный грохот орудий мешает работать. В такое время трудно сосредоточиться на чем угодно, и даже глупая газетная статья отнимает в два раза больше времени, чем обычно»[572].
Его самый сильный текст раннего периода войны – «Лев и Единорог», эссе, звучащее как песня о битве за Британию[573]. Он работал над ним с августа по октябрь 1940 г. в разгар этой военной кампании и отразил в нем войну с точки зрения патриота с левыми взглядами, удрученного поведением британской аристократии и считающего возможным, что война вызовет социальный взрыв.
Его замечания о Чемберлене вполне могли бы принадлежать Черчиллю. Оруэлл писал:
Оппоненты рисовали его опасным и коварным интриганом, задумавшим продать Англию Гитлеру, но гораздо вероятнее, что он был просто глупый старик, делавший все возможное согласно своему очень хилому разумению. Иначе трудно объяснить противоречия его политики, его неспособность заметить любой из путей, открытых перед ним. Как основная масса людей, он не хотел платить ни цену мира, ни цену войны[574].
На начальном этапе войны Оруэлл был полон удивительного для него оптимизма. «Эта война, если мы не потерпим поражение, покончит с большей частью существующих классовых привилегий», – надеялся он[575]. По сути, он окажется прав – многие классовые привилегии после войны исчезнут, однако не вследствие революционного слома, а путем законного перехода власти в руки послевоенного лейбористского правительства.
Похоже, Черчилль был единственным консерватором, которым Оруэлл восхищался.
В очерке о социалисте и писателе-утописте Г. Д. Уэллсе[576] он отметил, что Черчилль лучше понимал большевиков, чем Уэллс. Уэллс ответил Оруэллу гневной запиской: «Прочти мои ранние работы, ты, дерьмо!»[577] Стареющий романист стал презрительно называть Оруэлла «этим троцкистом с большими ступнями»[578].
«Речи Черчилля по-настоящему хороши, на традиционный лад, хотя мне не нравится его подача», – записал Оруэлл в дневнике 1941 г. после выступления Черчилля на Би-би-си[579]. Что касается прочего, Оруэлл сохранял давнее недоверие к правым. Он с одобрением писал о словах друга, что «за отдельными исключениями, такими как Черчилль, вся британская аристократия полностью разложена и лишена самого обыкновенного патриотизма»[580].
* * *
События битвы за Британию и последующего «Блица» имели классовые последствия, которые ощутили как Оруэлл, так и Черчилль. Бедняки непропорционально больше страдали от авианалетов 1940 г. Правительство Черчилля медленно реагировало на последствия бомбардировок для простых людей. Станции лондонского метрополитена не сразу были открыты для использования в качестве бомбоубежищ, отчасти из страха, что ищущие спасения люди будут мешать движению поездов и, возможно, откажутся выходить наружу[581]. Фил Пиратин, коммунистический деятель из района Степни[582], сильно пострадавшего от налетов, привел группу обитателей Ист-Энда к роскошному отелю «Савой» и потребовал впустить их в убежище в подвале. Прочитав об этом в газете, Черчилль спросил членов кабинета, почему не обеспечено укрытие на станциях подземки. «Меня стали уверять, что это крайне нежелательно», – вспоминал он[583]. Черчилль с этим не согласился, и скоро на станциях метро были открыты бомбоубежища.
Бомбардировки, длившиеся с осени 1940 г. до весны 1941 г., облагородили бедноту в восприятии британцев. «Сегодня рабочий класс на сто процентов состоит из героев, – писал Том Харриссон, антрополог, оценивавший литературу о «Блице» в разгар кампании. – В потоках безудержного восхищения забыты скромность, достоинство или верность истине»[584].
Напротив, богачи оказались под подозрением, тем более что многие удрали из Лондона в свои загородные дома. «Дама в “роллс-ройсе” наносит моральному духу больший урон, чем армада бомбардировщиков Геринга», – утверждал Оруэлл[585]. Бэзил Степлтон, летчик-ас, вспоминал, как «роллс-ройс», наехав на пожарный рукав, сорвал работу пожарных. Степлтон и его друзья остановили машину и «с помощью других людей отодвинули “роллс-ройс”»[586].
Не только некоторые британцы с подозрением относились к аристократии. В Вашингтоне генерал Джордж К. Маршалл, начальник штаба Сухопутных войск США, в 1941 г. открыто признался американскому журналисту в своих опасениях, что соглашатели из высшего класса могут подорвать усилия военных, и американские войска, которые он пошлет в Британию для подготовки к вторжению в Европу, окажутся в ловушке. «Как сообщили мне в Госдепартаменте, есть вероятность, что британцы могут заключить перемирие с нацистами»[587], – цитируются слова Маршалла в письменном отчете главы военной разведки.
Что тогда будет с моими наступательными боевыми силами? Я очень обеспокоен некоторыми рекомендациями, полученными из Государственного департамента. Судя по всему, проблема в том, что часть британского общественного мнения ставит мир выше обороны. Это люди, которым больше всех есть, что терять, традиционная правящая каста.
Черчилль старался убедить визитеров из Америки, что не потерпит примиренческих шагов в угоду Германии. Позже в том году он сказал конгрессмену, представлявшему угольщиков Пенсильвании, что «нация не проявляет ни единого признака слабости, и рабочий народ ни на миг не допустит ни малейшей слабости или нерешительности со стороны правящего класса»[588].
Более того, не армия – вотчина джентльменов, не могущественный британский флот, а Королевские ВВС сыграли в 1940 г. главную роль. Авиация однозначно была родом войск для выходцев из среднего класса, пропахших авиакеросином и моторным маслом.
И Оруэлл, и Черчилль обратили внимание на простонародный характер британских ВВС и высказались по этому поводу. Оруэлл прокомментировал, что авиация «вряд ли вообще [входила]… в сферу влияния правящего класса»[589].
Действительно, как отметил один историк, в то время боевых летчиков пренебрежительно воспринимали как «мотористов в форме»[590], кем-то вроде безымянных людей, служивших шоферами у богачей. У Ивлина Во, всегда чуткого к классовым различиям, персонаж одного из романов, действие которого происходит во время Второй мировой войны, сетует, что высокопоставленному офицеру Королевских ВВС позволили вступить в элитный обеденный клуб[591]. Этот промах был совершен, объясняет персонаж, потому, что шла битва за Британию, «когда авиация какое-то время была почти уважаема… Дорогой мой, это кошмар для всех». Определенные аспекты классовой системы, однако, сохранялись и в Королевских ВВС. Как вспоминал пилот Хью Дандес, в некоторых «вспомогательных» подразделениях, сформированных из богатых и титулованных лондонцев, военных летчиков между собой называли «цветными войсками»[592]. Классовые различия проникали даже в кабины самолетов – офицеры пользовались привилегией летать на одной и той же машине, а пилоты-сержанты на той, что была свободна в данный момент[593].
Тем не менее Оруэлл был поражен тем, какими последствиями для британской классовой системы обернулась роль ВВС в предупреждении вторжения нацистов. «По причине, наряду с прочим, потребности в мощной авиации основы классовой системы были грубо нарушены», – писал он[594]. Сразу по окончании битвы за Британию он писал в эссе «Лев и Единорог»: «Наследники Нельсона и Кромвеля не заседают в палате лордов. Они в полях и на улицах, на фабриках и в вооруженных силах, в пивной и в садике за пригородным коттеджем, и их до сих пор держит в подчинении поколение призраков»[595].
Глядя на тот же вопрос с другой точки зрения, Черчилль делился с подчиненными озабоченностью, что аристократия сыграла незначительную роль в битве за Британию. Он обращал внимание на то, что Итон, Хэрроу и Уинчестер, где элита государства обучает своих сыновей, «потерпели практически полный провал»[596] в обеспечении боевой авиации пилотами. Из трех тысяч летчиков[597], сражавшихся в битве за Британию, лишь около двухсот посещали Итон, Хэрроу и другие элитные школы – ничтожное число по сравнению с Первой мировой войной[598], на фронты которой один лишь Итон выставил 5768 военных, 1160 из которых были убиты и 1467 ранены. Черчилль писал: «Они уступили нижнему среднему классу»[599], то есть сыновьям учителей, банковских клерков, лавочников и мелких служащих.
Говоря об этих «блистательных сыновьях» нижнего среднего класса, Черчилль заявил: «Они спасли нашу страну, они имеют право управлять ею»[600]. В этом смысле показательна фигура Маргарет Тэтчер, дочери бакалейщика из маленького городка, проучившегося в школе только до 13 лет. Будучи перспективным молодым политиком, она носила на лацкане серебряный значок с профилем Черчилля[601]. Впервые пройдя в парламент в 1959 г., она на пять лет пересеклась там с доживающим свой век Черчиллем, подавшим в 1964 г. в отставку. Тэтчер стала премьер-министром в 1979 г., через 39 лет после битвы за Британию.
Тэтчер хорошо помнила Черчилля. Под ее руководством бункер Черчилля времен войны был отреставрирован и открыт для публики. Она разделяла и взгляды Черчилля на историю XX в. Во время визита в Чехословакию в качестве премьер-министра она извинилась за действия Невилла Чемберлена. «Мы подвели вас в 1938 г., когда разрушительная политика умиротворения позволила Гитлеру покончить с вашей независимостью, – обратилась она к федеральному собранию в Праге. – Черчилль поспешил разорвать Мюнхенское соглашение, но мы до сих пор вспоминаем это со стыдом»[602].
Черчилль, чуткий к классовым отношениям в вооруженных силах, инструктировал генералов и адмиралов быть осмотрительными. Он сразу же призвал флотских командиров «особенно внимательно следить за тем, чтобы классовые предубеждения не примешивались к решениям»[603] об отборе кадетов для обучения в Военно-морском колледже в Дартмуте, и пригрозил расследованием, «если не будут предоставлены убедительные основания выбора». Однако флотские чины противились этому распоряжению, поэтому Черчилль выполнил свое обещание и лично вмешивался в ситуацию, даже встречался с некоторыми кандидатами, успешно сдавшими вступительные экзамены, однако не принятыми в колледж. «Я видел трех кандидатов, – проинформировал он адмиралов. – Действительно, у А. легкий акцент кокни, а двое других – сыновья главного старшины и инженера торгового флота. Но само предназначение вступительных экзаменов заключается в том, чтобы открыть путь к службе способным людям, независимо от их классовой принадлежности или богатства». Придя к выводу, что была допущена несправедливость, он приказал зачислить трех кандидатов на офицерские курсы. Серьезные хлопоты для человека, пытающегося вести войну и предотвратить вторжение!
Он и поступал в соответствии со своей риторикой. На борту боевого корабля «Боадицея» Черчилль исчез с мостика, где собрались высшие офицерские чины и гражданские шишки. «На какое-то время мы совершенно его потеряли, – написал отцу служивший там лейтенант, – и наконец нашли на жилой палубе, где он сидел за общим столом, болтая с кочегарами»[604].
На другом фронте классовой войны он месяцами препирался с британским военным истеблишментом из-за форменных знаков различия. Казалось бы, ерунда, но Черчилль чувствовал – и был прав, – что и этот вопрос коренится в классовой розни. Генералы заявили ему, что только именитые подразделения, где служила аристократия, получат особые наплечные знаки. Перед премьер-министром этот шаг обосновали экономическими соображениями – нехваткой шерсти для изготовления знаков или портных для того, чтобы их пришивать. Черчилль, проникшийся подозрениями и всегда стремящийся выяснить все детали, получил от министерства торговли информацию, что количество шерсти для изготовления значков для всех подразделений, включая «новые», где офицерами служили выходцы из среднего класса, относительно невелико – всего 76 500 из 7,2 млн метров ткани, расходовавшихся еженедельно. Генерал Брук, часто демонстрировавший косность ума, жаловался в дневнике: «Он ведет себя как ребенок и уже потратил много нашего времени»[605].
Однако, как отметил специалист по вопросам стратегии Элиот Коэн, подобное вмешательство в мелочи отражало тонкое понимание Черчиллем особенностей военной специфики руководства. Речь шла о подъеме боевого духа армии, которая раз за разом терпела поражения, так что «вопрос об отличительных знаках и нашивках не был пустым»[606]. В военное время, как заметил Наполеон, люди готовы сражаться и порой умирать за кусок цветной ленты. «Я буду рад, – написал Черчилль гражданскому инспектору армии, – если вы также объясните мне, почему гвардейцы [элитное подразделение] должны в этом отношении находиться в особом положении. Было ли им дано особое разрешение и, если да, на каком основании? Мне представлялось, что армейские пехотные полки, особенно национальные, например валлийские или шотландские, были еще больше озабочены поддержкой боевого духа и проявлением индивидуальности, которые поддерживает обладание отличительными знаками»[607]. Это было не просто очередное проявление любви Черчилля к пышности и ярким цветам. Он понимал, что к офицерам из среднего класса и солдатам из класса рабочего, сражающимся на этой войне, нужно относиться с бо́льшим уважением, чем раньше.
* * *
«Англия – самая одержимая в классовом отношении страна на белом свете, – пишет Оруэлл в «Льве и Единороге». – Это край снобизма и привилегий, где правят, по большей части, старые и глупые»[608]. Однако, осуждая правящий класс, далее в этом эссе он делает исключение для нового премьер-министра: «Пока правительство Черчилля в какой-то степени не положило этому конец, они с безошибочным чутьем постоянно ошибались с 1931 г.»[609].
С учетом своих социалистических симпатий сам Оруэлл удивлялся, что одобрительно относился к Черчиллю на протяжении почти всей войны. «Существенно, что в минуты бедствий человеком, наиболее способным объединить нацию, оказался Черчилль, консерватор с аристократическими корнями», – писал он позднее в военные годы[610].
Опять-таки удивительно, что Черчилль разделял его взгляды на классовые проблемы. Оруэлл как-то назвал себя «тори-анархистом»[611], тогда как Черчилль являлся анархичным тори, в 1904 г. отколовшимся от партии. И хотя он вернулся в нее в 1924 г., консерваторам по-прежнему было с ним некомфортно. Для них он никогда не был достаточно правым.
Классовые вопросы всегда, казалось, таились на заднем плане войны, выскакивая на поверхность в неожиданные моменты. Некоторых британцев не оставляли подозрения, что аристократии, в среде которой были широко распространены симпатии к фашизму, нельзя полностью доверять[612]. Уильяма Джойса, пропагандиста на вещавшем на английском языке нацистском радио, в народе прозвали «лордом Хо-Хо»[613], хотя он не относился к аристократии, более того, родился в нью-йоркском Бруклине.
Черчилль и Оруэлл с опаской относились к классам, к которым каждый из них принадлежал, видя в них часть проблемы. Оруэлл совершил этот разворот молодым офицером колониальной полиции в Бирме. Несмотря на учебу в Итоне, бóльшую часть сознательной жизни он ел, пил и одевался, как рабочий. Однажды, во время Второй мировой войны, он вернулся вечером домой и машинально съел миску вареных угрей, которых его жена приготовила для кошки, а кошку накормил картофельной запеканкой с мясом, оставленной для него[614]. Его друзья и коллеги привыкли видеть его в мешковатых вельветовых штанах, заношенном твидовом пиджаке поверх темной фланелевой рубашки и в нечищеной обуви. «Я ни разу не видел его в костюме или, в любую погоду, в шляпе», – вспоминал один из них[615].
Черчилль проникся подозрениями к собственной среде несколько позже, разочарованный поведением правящего класса при восхождении Гитлера, а впоследствии тем, как проявили себя аристократы на военных постах, например многие генералы армии и особенно флотские командиры.
Насколько понимал Оруэлл, выходки Черчилля, отчуждавшие от него аристократов-тори, упрочивали его репутацию у других классов. «Для популярного лидера в Англии серьезный недостаток быть джентльменом, которым Черчилль… не является», – написал он в 1943 г.[616]. Черчилль считался выскочкой, сумасбродом, ренегатом, предавшим две партии, и, что, возможно, было хуже всего, наполовину американцем. Один критик Черчилля объявил его «наполовину чужим и полностью неприемлемым»[617].
Когда в 1940 г. Галифакс и другие «старые умиротворители», как назвал их историк сэр Макс Гастингс, убеждали Черчилля задуматься о переговорах с Германией, премьер-министра поддержали члены кабинета от лейбористов Клемент Эттли и Артур Гринвуд[618]. Черчилль помнил об этой поддержке, по крайней мере, до тех пор, пока не закончилась война в Европе и он снова, в ущерб себе, не свалился в узкопартийное интриганство.
Решительное неприятие Черчиллем любых мирных переговоров с Гитлером также могло содержать в себе классовый элемент. Все знали, что некоторые видные представители аристократии проявляли в отношении Гитлера мягкотелость, и абсолютистская риторика Черчилля, вероятно, содержала имплицитное обещание среднему и низшему классам и даже бедноте, что он предательства не допустит. Чарльз Перси Сноу, сын церковного органиста, вспоминал, как подбодрили его речи Черчилля в 1940 г.: «Он был аристократом, но готов был пустить по миру свое сословие и друзей и всех остальных тоже, если это цена спасения страны. Мы доверились ему в этом. Бедняки верили ему, когда его голос отчетливо звучал в трущобных районах летними вечерами 1940 г.»[619].
* * *
Оба они, Оруэлл и Черчилль, могли быть удивительно прагматичными, даже безжалостными в своих суждениях в военной сфере. Этого следовало ожидать от Черчилля, но довольно неожиданно читать запись Оруэлла в дневнике за март 1941 г., что Англия по политическим причинам должна допустить голод в оккупированной Франции. «Верным способом действий было бы дождаться, пока Франция не окажется на грани голода и правительство Петена из-за этого не зашатается, и тогда поставить по-настоящему крупную партию продовольствия в обмен на существенную уступку, например передачу важных единиц французского флота. Любая такая политика сейчас, конечно, немыслима»[620], – рассуждал он, делая вывод: «Люди не мучаются угрызениями совести, когда сражаются за то, во что верят»[621].
Оруэлл надеялся, что дома богачей, бежавших из благополучных западных районов Лондона в загородные резиденции, будут реквизированы властями и отданы жителям Ист-Энда, оставшимся без крова из-за немецких бомбардировок, но с горечью признавал, что «богатые скоты все еще имеют достаточно влияния, чтобы это предотвратить»[622]. Это заставило его вернуться к мнению, что когда-нибудь бедняки восстанут против подобного отношения: «Когда видишь, как продолжают поступать богачи, когда ситуация явно переходит в революционную войну, невольно думаешь о Санкт-Петербурге 1916 г.»[623]. К весне 1941 г., однако, он стал пересматривать свои взгляды на перспективы революции в Англии. «Перечитывая начало этого дневника, – написал он 13 апреля, – я вижу, как опровергались мои политические прогнозы, тем не менее революционные изменения, которых я ждал, происходят, но очень медленно»[624].
Опыт службы Оруэлла полицейским в Бирме и командиром отделения на гражданской войне в Испании сделал его проницательным аналитиком боевых действий, по крайней мере, на тактическом уровне, просматривавшемся сквозь пропагандистские сводки. В дневниковой записи от 22 апреля 1941 г. он скептически отозвался об оптимистических сообщениях о военном успехе британцев в Греции: «Больше всего меня беспокоит повторяющееся утверждение, что мы наносим противнику громадный урон, что немцы наступают сомкнутым строем и мы косим их пачками, и прочее, и прочее. То же самое говорилось во время битвы за Францию»[625]. Как и следовало ожидать, через два дня возглавляемые британцами силы союзников начали уходить из Греции, потеряв 12 тысяч человек, частью убитыми, но главным образом пленными, а также много танков и другой тяжелой техники.
В августе того же года Оруэлл верно предсказал: «Мы ведем долгую, смертельно изматывающую войну, на всем протяжении которой все будут становиться беднее»[626]. На этом он без объяснений прервал ведение дневника почти на шесть месяцев.
* * *
Некоторые военные советники Черчилля жаловались, что никто и ничто не изнуряет их так, как Черчилль. Однако Черчилль часто знал лучше их, как использовать возможности британской военной машины. В апреле 1941 г. он приказал командующему ВМФ на Средиземном море адмиралу Эндрю Б. Каннингему помешать снабжению немецких войск через Триполи. Черчилль предложил затопить один или два корабля, перекрыв вход в гавань города. «Эй Би Си», как называли Каннингема, отверг эту идею. Тогда Черчилль сказал, что необходим обстрел с кораблей, указав начальникам Каннингема, что если моряки не будут действовать, то «всех подведут»[627]. Каннингем возразил, что рейд может привести к огромным потерям среди британских моряков, после чего бесславно отошел в Ливию. К его удивлению, однажды на рассвете ему удалось 42 минуты обстреливать порт, не потеряв ни одного британского корабля или бойца от вражеского огня.
По итогам этой миссии без собственных потерь Каннингем написал Черчиллю раздраженное сообщение: «Когда-то нам пришлось уйти, но только потому, что повсюду действовала немецкая авиация. Мы нанесли неожиданный удар. Всему средиземноморскому флоту потребовалось целых пять дней на то, с чем эскадрилья тяжелых бомбардировщиков, базирующаяся в Египте, вероятно, справилась бы за несколько часов. К тому же флот в ходе этой операции подвергался существенным и, на мой взгляд, неоправданным рискам»[628].
Это был дерзкий и, пожалуй, опрометчивый поступок для адмирала, желающего просветить премьер-министра о возможностях авиации наземного базирования. Черчилль собрал факты и открыл ответный огонь.
Вам следовало бы получить точную информацию, поскольку без нее невозможно ни о чем судить. Начальник штаба ВВС говорит, что 530 т бомб, а именно таков суммарный вес снарядов, которыми вы в течение 42 минут обстреливали Триполи, эскадрилья Веллингтона с Мальты могла бы сбросить за 10,5 недель, а эскадрилья Стирлинга из Египта – примерно за 30 недель[629].
Этот обмен ударами не повредил Каннингему в глазах Черчилля. Он восхищался крутым нравом адмирала и, предпочитая военачальников, которые любят наступать, два года спустя поставил его во главе британского флота.
Работавший в постоянном контакте с Черчиллем начальник Имперского Генерального штаба генерал Алан Брук принимал на себя основную тяжесть поведения премьер-министра. Практичный уроженец Ольстера Брук по случаю Второй мировой войны перескочил, отчасти в силу собственных заслуг и немалого военного таланта, через половину всех воинских званий. В своих дневниках он изображает Черчилля не благородным спасителем нации, а пьяным болтуном, ночные суесловия которого в военные годы, скорее, подрывали усилия военных, чем способствовали им.
В 1941 г. он записал в дневнике, что на совещании поздним вечером Черчилль продемонстрировал «ужаснейшую вспышку дурного нрава; нам было сказано, что мы ничего другого не делаем, кроме как губим его планы, не имеем собственных идей, а стоит ему высказать идею, не отвечаем ничем, кроме возражений… Бог знает, где бы мы были без него, но и где мы окажемся с ним, знает только Бог»[630].
Страстный орнитолог, генерал написал в феврале 1942 г., что совещание с Черчиллем «в точности напоминало клетку с попугаями»[631]. Черчилль критически относился к своему военному командованию. Брук жаловался на его вздорные заявления вроде: «Если у вас нет ни одного генерала, способного выиграть битву, и ни у одного из них нет никаких идей, мы обречены постоянно терпеть поражения»[632].
Доставалось и адмиралам. Черчилль, разочарованный их предложением в начале войны уйти из Средиземного моря, назойливо напоминал им: «Боевые корабли предназначены для того, чтобы оказываться под огнем»[633].
На профессиональный взгляд Брука, против Черчилля можно было выдвинуть столько разных упреков, что вывод напрашивался сам: «Разработка стратегии не была сильной стороной Уинстона». Этот вывод был сделан не сгоряча, а спустя годы, уже после войны, так что это обдуманное суждение. Черчилль, как писал Брук в дневниках, опубликованных много лет спустя, «предпочитал действовать интуитивно и импульсивно… Его военные планы и идеи разнились от самых блестящих замыслов, с одной стороны, до самых опасных – с другой. Чтобы заставить его отказаться от диких задумок, требовались сверхчеловеческие усилия, которые никогда не были полностью успешными, поскольку он был склонен снова и снова возвращаться к ним»[634].
Однако все эти обвинения, пусть справедливые, оказываются непринципиальными при взвешенной оценке. Черчиллю во время войны нравилось словосочетание «уровень событий»[635], которым он иногда пользовался, чтобы выяснить, действительно ли официальное лицо понимает контекст, в котором работает. Брук в своих суждениях постоянно упускает из виду, что на высшем уровне войны Черчилль был первоклассным стратегом. Премьер-министр, в отличие от своих генералов, мастерски собирал отдельные фрагменты войны, словно части глобальной головоломки, соединяя разные театры военных действий и народы. Черчилль умел взвешивать тактические и политические препятствия, и не единовременно, а многократно на протяжении нескольких лет. Черчилль понимал, в отличие от Брука, что «на большой войне невозможно отделить военные вопросы от политических»[636]. Он писал: «На высшем уровне они едины… Значительная часть литературы нашего трагического столетия грешит идеей, что на войне идут в расчет только военные соображения и что ясному, профессиональному восприятию солдата мешает вмешательство политиков».
Наилучшее объяснение собственного подхода к большой стратегии Черчилль дал в своем, во всех отношениях, очаровательном очерке об увлечении любительской живописью: «Написать картину все равно, что выиграть битву. Принцип один и тот же. Это задача того же рода, что и построение длинного, убедительного, внутренне связного аргумента. Это предложение, которое, включает ли оно мало или сколь угодно много частей, управляется единством замысла»[637].
Черчилль лучше своих генералов чувствовал единство замысла в военной сфере, то есть умел связать воедино авиацию, флот и наземные войска так, чтобы в совокупности они были сильнее и действеннее, чем по отдельности. Например, он был убежден, что его генералы в Египте неспособны так задействовать флот, чтобы поддержать пехоту огнем и обеспечить снабжение вдоль побережья Северной Африки, и ругался в меморандуме 1940 г.: «Преступно иметь морские силы и оставлять их неиспользованными»[638].
Германия нападает на Россию
Нападение Германии на Россию 22 июня 1941 г., нарушившее германо-советский пакт о ненападении, заключенный в августе 1939 г., навело Оруэлла на пространные размышления в дневнике. Согласно традиционным представлениям и официальным оценкам британских военных, Россия, как и предыдущие цели нацистов, недолго продержится против победоносной германской военной машины. «Людям видится Сталин в маленькой лавчонке в Патни[639], торгующий самоварами и исполняющий кавказские танцы», – писал Оруэлл[640]. Он, однако, верил в стойкость Советов: «Более трезвая оценка такова: “Если к октябрю русская армия еще будет существовать и сражаться с Гитлером, с ним будет покончено, возможно, этой зимой”».
В тот вечер Черчилль приветствовал Россию в антинацистском альянсе, сказав в транслировавшейся по радио речи:
Мы будем сражаться с ним на земле, мы будем сражаться с ним на море, мы будем сражаться с ним в воздухе, пока, с Божьей помощью, не избавим землю от его тени и не освободим народы от его ярма. Любой человек и любая страна, воюющие с нацизмом, получат нашу помощь. Любой человек и любая страна, марширующие вместе с Гитлером, – наш враг… Следовательно, мы должны оказать любую доступную нам помощь России и русским людям[641].
Оруэлл в дневнике отметил речь Черчилля как «очень хорошую»[642].
Оруэлл будет потрясен и тем, как быстро верные официальной позиции партии коммунисты постараются стереть память о соглашении Сталина с Гитлером[643], которое не будет упоминаться в официальной советской историографии. Они стали требовать, чтобы Соединенные Штаты и Англия открыли «второй фронт сейчас же», чтобы ослабить давление Германии на Советский Союз. Идеологический контроль над основополагающими фактами, помещающий прошедшие события в «дыру в памяти», как это назовет Оруэлл, станет его главной темой через семь лет, когда он будет писать «1984».
Оруэлл: пропагандист
Оруэлл наконец нашел способ поддержать военные усилия своей страны, поступив в августе 1941 г. в службу иностранного вещания Би-би-си. Более двух лет, вещая на Индию, он участвовал в пропаганде того рода, которую осуждал бóльшую часть своей творческой жизни. Вновь, как и в молодости, когда он принял решение служить в колониальной полиции, Оруэлл посвятил себя занятию, противоречившему его натуре.
Неудивительно, что ему было, по большей части, неуютно на этой службе, тем более что в его обязанности входило преподносить действия военных в лучшем виде – нелегкая задача в 1941–1942 гг. В январе 1942 г. в его программе утверждалось: «Сомнительно, чтобы такую мощную крепость, как Сингапур, можно было взять штурмом»[644]. Понятно, что Оруэлл пытался обеспечить поддержку усилий Британии в Азии, где Индии угрожала Япония, и многие согласились с его анализом. Однако он ошибся – стремительный захват островной крепости Сингапура всего через несколько недель станет одним из самых тяжелых поражений в войне. Впоследствии у него были все основания воздать должное Черчиллю, который сообщал плохие новости лично, не перекладывая это на других[645].
После провала рейда на Дьепп в августе 1942 г., еще одной катастрофической неудачи той войны, Оруэлл изо всех сил старался изобразить результаты этой операции как ничью, с «тяжелыми потерями с обеих сторон»[646]. Это было неправдой. Дьепп был разгромом, и Оруэлл почти наверняка знал это или, по крайней мере, подозревал.
В качестве радиоведущего он выступал с переменным успехом и по причине повреждения голосовых связок, и потому, что все в его душе делало его неподходящей кандидатурой на роль голоса правительства. Джон Моррис, глава японского отделения Би-би-си, работавший рядом с Оруэллом, вспоминал, что «он прекрасно писал, но был слабым и запинающимся оратором; даже в личной беседе он плохо выражал свои мысли и часто не мог подобрать нужного слова. Его еженедельные эфиры были замечательно написаны, но он читал их скучно и монотонно»[647].
Действительно, оруэлловская проза была, как всегда, мощной. Вот, например, фрагмент малозначительного, почти забытого отзыва о «Макбете», написанного в 1943 г.
«Гамлет» – это трагедия человека, не знающего, как совершить убийство. «Макбет» – трагедия человека, знающего это… «Макбет» – единственная пьеса Шекспира, в которой злодей и герой являются одним и тем же персонажем[648].
Би-би-си любила Оруэлла больше, чем он ее. «Хорошая, тонкая, благонамеренная работа, – говорилось в его первой годичной аттестации. – Имея прочные убеждения, он не считает зазорным прислушаться к советам»[649]. Его рекомендовали к продвижению и повышению.
Тем не менее в Би-би-си Оруэлл никогда не был на своем месте. Примерно в то же самое время он записал в дневнике: «Атмосфера здесь представляет собой нечто среднее между школой для девочек и домом умалишенных, и все, что мы сейчас делаем, бесполезно, а то и немного хуже»[650].
В его дневнике нет жалоб на серьезное редактирование или цензуру. Скорее, его удручали некомпетентность корпорации и открытие, что у нее гораздо меньше иностранных слушателей, чем принято было считать. Это натолкнуло его на мысль, что в его работе нет никакого смысла. «В Би-би-си поражает… не столько нравственное убожество и полная бесплодность того, что мы делаем, сколько чувство разочарования, невозможности добиться осуществления чего бы то ни было, – добавил он три месяца спустя. – Ничего не происходит, кроме вечной суеты»[651].
Ему нравилось находиться в здании Би-би-си только рано утром, когда уборщицы подметали коридоры, распевая в унисон: «Огромная их армия прибывала одновременно, они сидели в приемной, ожидая, когда им выдадут метлы, и поднимали шум, как в вольере с попугаями, а потом звучал чудесный хор, когда все они пели, подметая проходы. Тогда в этом месте была несколько иная атмосфера, чем в течение дня»[652].
Единственным перерывом в его работе на Би-би-си стал отпуск в Уорчестершире[653], где он рыбачил на Северне. В раннем романе Оруэлла «Глотнуть воздуха» рассказчик произносит слова, которые могли бы войти в его автобиографию: «Оглядываясь на свою жизнь, я не могу искренне сказать, что какое-нибудь занятие так меня заводило, как рыбалка. Все остальное в сравнении с ней проигрывало, даже женщины»[654]. Оруэлл был увлеченным, но, возможно, не слишком хорошим рыбаком – из двух недель на Северне он целых пять дней ничего не мог поймать, а если и ловил, то почти одну только плотву, мелкую рыбешку[655].
Пожалуй, самым важным следствием работы Оруэлла на радио стало усиление его недоверия к государственному контролю информации. «Любая пропаганда лжет, даже когда говорит правду»[656], – написал он в 1942 г., сформулировав парадокс, который станет центральной темой «1984». В порядке злой насмешки он назовет камеру пыток из этого романа «комнатой 101», это был номер зала совещаний в здании Би-би-си по адресу Портленд-плейс, 55, где он претерпевал смертельную скуку.
Он также, видимо, догадывался, что его рассуждения о Шекспире и Джерарде Мэнли Хопкинсе, даже самые тонкие, не вносили существенного вклада в военные усилия.
Оруэлл начал размышлять о том, каким будет послевоенный мир – разумеется, исходя из того, что он ожидал от Гитлера и Сталина, а также из собственного опыта в Испании. В начале войны, задолго до вступления в нее Соединенных Штатов, он беспокоился о том, какой мир вырастет из этого военного конфликта. Весной 1941 г. предположил, что тоталитаризм может распространиться по миру.
Важно понимать, что этот контроль мысли носит не только отрицательный, но и утвердительный характер. Он не просто запрещает вам выражать определенные мысли – и даже иметь их, – но и диктует, что вы должны думать, он создает для вас идеологию, он пытается управлять вашей эмоциональной жизнью…[657]
Из этих пугающих размышлений выйдут две его самые сильные книги.
Обдумывая уход из Би-би-си, Оруэлл познакомился с Дэвидом Астором, третьим ребенком Нэнси и Уолдорфа Асторов. Дэвид был далек от своей властной матери, заявившей однажды, что ее пятеро детей от Уолдорфа были «зачаты без удовольствия и рождены без боли»[658]. Один из ее сыновей вспоминал, что ей нравилось доводить детей до слез. Она была очень независима и стала первой женщиной – членом парламента. Когда Дэвид учился в Оксфорде, его мать отказалась как от веры в христианскую науку[659], так и от поддержки политики умиротворения.
Более либеральный, чем большинство родственников, Дэвид Астор работал в принадлежавшей его отцу газете The Observer[660] и искал хороших писателей, чтобы вдохнуть в нее новую жизнь[661]. Предыдущий редактор уволился из-за несогласия с Асторами по поводу того, как Черчилль ведет войну. Астору удалось реанимировать газету, удвоив ее тираж в первое десятилетие руководства ею.
«Когда я с ним познакомился, он невероятно мне понравился, – вспоминал Астор об Оруэлле. – Мне нравилось все, что я у него читал, но он вовсе не был именитым. Он был, скорее, эссеист и чем-то занимался на Би-би-си, но не был маститым писателем»[662]. Астор подумывал сделать Оруэлла военным корреспондентом, но медицинское обследование показало, что его здоровье «не позволяет работать за границей из-за состояния органов грудной клетки»[663]. Вместо этого Оруэлл, покинув наконец Би-би-си, стал регулярно писать книжные обзоры для The Observer и много лет этим занимался. Дружба с аристократом Астором, необычная для Оруэлла, продлится всю его жизнь и будет способствовать созданию его главного произведения. Астор поможет ему найти место для работы над романом «1984». Через несколько лет он закрепит за ним участок на кладбище.
Глава 9 Вступление американцев в войну 1941–1942 гг.
Налет японцев на Перл-Харбор 7 декабря 1941 г. вызвал у Черчилля почти экстатическую реакцию – Вторая мировая война выиграна!
Характерно, что его главный военный советник в реакции на эту новость проявил некоторую узколобость. Генерал сетовал в своем дневнике, что, следовательно, предшествующие 48 часов работы его подчиненных «прошли впустую»!
«В этом состояла разница между прекрасным штабным офицером и государственным деятелем мирового уровня», – написал Рой Дженкинс[664].
Для Черчилля бомбардировка Перл-Харбора стала радостью, которую он с трудом скрывал, даже когда писал об этом с временной дистанцией в восемь лет. Фрагмент мемуаров, выражающий его ликование, звучит как осанна:
Англия будет жить; Британия будет жить; Содружество и империя будут жить… Нас не уничтожат. Наша история не подойдет к концу. Нам даже не придется умирать, каждому из нас. Судьба Гитлера предрешена. Судьба Муссолини предрешена. Что касается японцев, их сотрут в порошок. Все остальное сводилось к должному применению превосходящей силы[665].
Действительно, на этом этапе войны Черчилль решил две главные стратегические задачи: продолжение участия Британии в войне и вовлечение в нее Соединенных Штатов. Миссия, которую он во время бритья описывал своему сыну 18 месяцев назад, была выполнена.
Тем не менее в следующие четыре года его ждало много тяжелой работы в отношениях с американцами. Ему предстояло гарантировать, что правительство Соединенных Штатов будет придерживаться стратегии «сначала Европа», согласно которой разгром Гитлера являлся первостепенной задачей в войне. Нужно было добиться этого, не становясь навязчивым.
Речь Черчилля на совместном заседании Конгресса США 26 декабря 1941 г. была блестящей во многих отношениях. Одно то, что он явился выступать на Капитолийский холм, было хитрым ходом. Невилл Чемберлен, оставаясь премьер-министром, едва ли сделал бы это, а если и сделал бы, то, вероятно, показался бы американским законодателям чем-то средним между напыщенным камердинером и несмешной версией Чарли Чаплина.
Обращение Черчилля к конгрессу после Перл-Харбора было работой политического гения. Оно было мастерски выстроено и состояло из четырех частей, которые можно озаглавить:
Я
Мы
Они
Мы против них
Сначала Черчилль потратил несколько сот слов на то, чтобы представиться Конгрессу – и американцам. Первые три абзаца его речи начинаются словом «я». Он изобразил себя практически одним из них, ссылаясь на свое полуамериканское происхождение: «Я не могу не думать, что, если бы мой отец был американцем, а мать британкой… я мог бы попасть сюда собственными усилиями»[666], – то есть по результатам голосования, а не по приглашению.
Затем он опосредованно коснулся нелюбви американцев к аристократам: «Я дитя палаты общин. В отцовском доме мне привили веру в демократию», – после чего высказался более определенно, процитировав Линкольна: «Я всегда неуклонно ориентировался на идеал “правления народа, для народа и во имя народа” из Геттисбергского послания».
Завершив вводную часть, он переключил внимание на новый военный альянс, о котором заговорил почти поэтически. Здесь он перешел от «я» к «мы». Он приветствовал вступление Соединенных Штатов в войну и воздал должное атмосфере уверенности, которую ощутил в Вашингтоне. «Мы в Британии испытывали то же чувство в наши самые мрачные дни, – сказал он, тонко намекнув, что британцы воюют уже 16 месяцев. – Мы также были убеждены, что все закончится хорошо»[667].
Это первое «мы», конечно, относится к британцам. Через два предложения следующее собирательное местоимение обозначает уже британцев и американцев вместе: «Силы, обрушившиеся на нас, громадны. Они жестоки и безжалостны»[668]. С этого момента, когда Черчилль говорит «наша сторона», он имеет в виду обе нации. Они оказываются взаимосвязанными в его речи: «Нам нужно многому научиться в жестоком искусстве войны… Мы действительно должны быть благодарны за то, что нам было дано так много времени… Мы делаем благороднейшее дело на свете… Мы хозяева своей судьбы… Пока у нас есть вера в свои идеалы и несокрушимая сила воли, спасение нас не минует».
Далее следует краткий обзор военной ситуации на земле и на море, в ходе которого Черчиллю удалось при помощи небольшой манипуляции связать будущее Британской империи с будущим свободы – многие американцы не ощущали этой связи. «Это факт, что Британская империя, которая восемнадцать месяцев назад многим казалась разрушенной и уничтоженной, сейчас несравненно сильнее и становится сильнее с каждым месяцем. Наконец, да позволено мне будет это сказать, для меня самым лучшим в случившемся является то, что Соединенные Штаты, единые, как никогда, подняли меч на защиту свободы»[669].
Черчилль завершил этот раздел арией на тему глупости Японии, решившей воевать одновременно с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами. «Кем они нас считают?»[670] – вопросил он. Это было очень по-американски – они хоть представляют, с кем связались? Здесь он снова сделал американский и британский народы единым целым: «Могут ли они не понимать, что мы никогда не перестанем противостоять им, пока не преподадим им урок, который они и весь мир никогда не забудут?» Тут слушатели встали и устроили овацию. В мемуарах Черчилль с удовольствием отметит, что эти риторические вопросы вызвали «самый шумный отклик»[671]. В общем, это было больше, чем речь, это был дипломатический аналог предложения руки и сердца.
Той ночью Черчилль встал с постели, чтобы открыть окно в своей комнате, выходящее на Белый дом. Внезапно он начал задыхаться и пожаловался врачу, ездившему вместе с ним, на «ноющую боль над сердцем», которая «отдается в левую руку». Врач понял, что премьер-министр перенес нечто вроде небольшого сердечного приступа, но на словах преуменьшил значение случившегося, поскольку у Черчилля и без того хватало забот[672].
Так и было. В течение недели Черчилль действовал так, словно его предложение американцам было принято и следовало узаконить отношения. В записке своему кабинету он сообщил, что в какой-то момент счел необходимым уступить пожеланию американцев, и объяснил: «Мы уже не одиночки, мы состоим в браке»[673]. Человек, никогда никому не прислуживавший, лично катил инвалидное кресло Рузвельта, когда они отправились пить вечерние коктейли – их смешивал президент. Это было намного больше, чем обычная встреча в верхах. Черчилль провел в Белом доме полных две недели. Он обедал с Рузвельтом и Гарри Хопкинсом в течение тринадцати из этих четырнадцати вечеров[674].
Обхаживать американского президента не было для него столь естественным делом, как Черчилль сумел это представить и в тот момент, и позднее в мемуарах. На более раннем этапе карьеры он иногда допускал антиамериканские высказывания, по крайней мере, в личных беседах. В 1928 г. после речи президента Джона Калвина Кулиджа о том, что европейцы должны выплатить Соединенным Штатам военные долги, Черчилль в кругу друзей дал выход своему недовольству американцами. «В тот вечер Уинстон очень свободно высказывался о США, – записал в своем дневнике приехавший погостить Генри Джеймс Скримджор-Уэддерберн, будущий граф Данди. – Он считает, что они бесцеремонны, изначально враждебны к нам и стремятся доминировать в мировой политике»[675].
Черчилль писал жене: «Моя кровь тоже закипела при заявлении Кулиджа. Почему бы им не отстать от нас? Они выжали из Европы все до пенни; они говорят, что не собираются помогать; бесспорно, они могли бы предоставить нам самим решать свои проблемы». В тот же день Клементина, жившая в загородном доме, в ответном письме предупредила его о слухах, будто его могут передвинуть с поста канцлера казначейства в кресло министра иностранных дел, и прозорливо заметила: «Думаю, было бы хорошо, если бы Вы перешли в министерство иностранных дел, но, я боюсь, Ваша всем известная враждебность к Америке может этому воспрепятствовать. Вам стоило бы попытаться понять Америку, приручить ее и заставить ее полюбить Вас»[676].
В 1940-х гг. он займется именно тем, что советовала его мудрая жена. Возможно, самая искренняя запись в его мемуарах посвящена работе с Рузвельтом: «Я самым тщательным образом культивирую свои личные отношения с ним»[677].
Стремление подлизываться не было свойственно Черчиллю, но он делал это, потому что был вынужден. Это была военная необходимость, но на родине его коллеги все замечали и содрогались от отвращения. «Мы слишком пресмыкаемся перед американцами, – сердился свояк короля. – Недавние телеграммы П [ремьер-] М [инистра] Ф [ранклину] Д [елано] Р [узвельту] почти тошнотворны своей сентиментальной и раболепной льстивостью»[678].
Реакция Оруэлла на Перл-Харбор выглядит заметно более скептической по отношению к американцам. Если среди лондонцев усилились пророссийские настроения, то, заметил он, «соответствующего усиления проамериканских чувств нет, наоборот»[679]. Причину этого он видел в том, что «наш новый альянс попросту сделал очевидным сильнейший антиамериканизм нашего узколобого среднего класса».
Как бы то ни было, в том, что касается Америки, Оруэлл поменялся ролями с Черчиллем: он стал пренебрегающим фактами романтиком, а Черчилль – прагматичным реалистом.
«Цивилизация Америки XIX в. была капиталистической цивилизацией в ее лучших проявлениях», – заявил однажды Оруэлл[680]. В его представлении, Америка начала 1800-х гг. оказалась чем-то вроде либертарианского рая для трудящихся: «Государства практически не было, церкви были слабыми и стояли на разных позициях, и было вдоволь свободной земли. Если вам не нравилась ваша работа, вы просто давали боссу в глаз и двигались дальше на запад»[681]. Конечно, оруэлловское восхищение временами необузданной свободы в американской истории в огромной мере было выражением взглядов белого мужчины. Свобода и возможности, которыми располагали чернокожие американцы, индейцы и женщины, значительно уступали тем, что он воспевал.
В начале творческого пути, в середине 1930-х гг., Оруэлл подумывал написать биографию Марка Твена[682], но не смог заинтересовать никого из издателей. Черчилль также в молодости замыслил книгу об Америке – историю американской Гражданской войны. В молодости, когда он отправился в свое первое лекционное турне по Америке, аудитории его представил Марк Твен[683].
Среди любимых писателей Оруэлла было три американца: Твен, Уолт Уитмен и Джек Лондон[684]. Уничижительное изображение Соединенных Штатов XIX в. еще одним его любимым автором, Чарльзом Диккенсом, заметного влияния на Оруэлла не оказало. «Мартин Чезлвит», роман, основанный на материале турне Диккенса по США в 1842 г.,[685] рисовал Америку как страну «долларов, демагогов и баров», жестокой и насквозь фальшивой, разглагольствующей о чести, свободе и вольности и держащей в рабстве миллионы людей.
Как представляется, Оруэлл не слишком интересовался современными ему Соединенными Штатами. «У него имелось занятное белое пятно»[686] касательно Америки, как отмечал писатель Кристофер Хитченс, в общем, преклонявшийся перед Оруэллом: «Он ни разу не был в Соединенных Штатах и практически не интересовался ими… Иначе говоря, Америка – это масштабное исключение из оруэлловских пророчеств о столетии, в котором он жил».
Антиамериканизм британцев лишь усилился, когда в страну хлынули потоки солдат армии США. В 1943 г. 66 конвоев доставили на остров 681 тысячу военнослужащих. «Все больше американцев становилось на улицах, – вспоминала жительница Лондона. – Они окликали друг друга странными боевыми кличами краснокожих и устраивали в Грин-парке[687] бейсбольные матчи»[688]. В мае 1944 г., в преддверии высадки десанта союзников в Нормандии, американское военное присутствие в Британии достигло ошеломляющего числа в 1,6 млн человек.
* * *
Временами Оруэлл чувствовал британскую политику лучше Черчилля, и в начале 1942 г. сложилась именно такая ситуация. Вернувшись из успешной поездки в Америку, премьер-министр обнаружил волнения в палате общин, члены которой вслух задавались вопросами, не требуются ли изменения в военном командовании. Это был сложный момент для Черчилля, поскольку с фронтов поступали в основном дурные вести и худшее, как он подозревал, было еще впереди. После более чем двух лет войны британцы перенесли череду болезненных поражений. Британские экспедиционные войска (British Expeditionary Forces, BEF) были изгнаны с Европейского континента на западе (Франция и Бельгия), на севере (Норвегия), на юго-востоке (Греция), а также потеряли африканский Дакар. В Лондоне ходила грустная шутка, что BEF надо расшифровывать как «Back Every Fortnight» («отступаем каждые две недели»)[689]. Британские силы дрогнули и под ударами японцев в Восточной Азии.
Черчилль рискнул устроить в палате общин дебаты о ходе войны и поставить на голосование вопрос о доверии к нему как к лидеру. «В последнее время мы получили с Дальнего Востока очень много плохих новостей, и я считаю чрезвычайно вероятным по причинам, которые сейчас назову, что получим не меньше, – начал он свое выступление. – За этими плохими новостями обнаружится множество грубых промахов и слабых мест как в прогнозировании, так и в исполнении. Нельзя и мысли допустить, что такие бедствия не имеют под собой ошибок и недостатков»[690]. Он предложил своим оппонентам сполна воспользоваться моментом, причем прибег к самому что ни на есть обиходному языку: «Никто не должен юлить при обсуждении и трусить при голосовании».
Три дня прошло в дебатах, порой весьма резких. «Какой смысл в том, что премьер-министр встает и говорит, что доволен своей командой, а если допущены какие-то ошибки, винить в них нужно только его, – иронизировал в первый день консерватор Герберт Уильямс. – Он единственный человек в стране, довольный своей командой».
Ему вторил Томас Секстон, лейборист: «Народ нашей страны обескуражен. Бесполезно закрывать на это глаза. Народ обескуражен из-за надежд, которые ему постоянно подавали в ходе этой войны, – надежд на Норвегию, надежд на Грецию, надежд на Крит и надежд на Малайю».
Другой член парламента обвинил Черчилля в «диктатуре», которая правит страной, «сочетая то, что можно назвать деспотизмом и патернализмом».
К концу дебатов Эдвард Тёрнуор, старый сторонник Чемберлена, заявил, что голосование, в сущности, бессмысленно: «В настоящее время в палате слишком взвинченная обстановка, и ничто, что может быть осуществлено в форме голосования, не изменит эту атмосферу. Лишь одно может это обеспечить – факты и результаты, более благоприятствующие нашей цели, чем те, что были получены в последние несколько месяцев».
Когда все закончилось, Черчилль поднялся и снова обратился к парламенту.
Я ни за что не извиняюсь, я ничем не оправдываюсь, я ничего не обещаю.
Я ничем не могу уменьшить чувство опасности и приближающихся невзгод, как малозначительных, так и первостепенного значения, все еще грозящих нам, но в то же время я выражаю уверенность, твердую, как никогда, что мы положим конец этому конфликту способом, отвечающим интересам нашей страны, а также способствующим будущему мира.
Я закончил.
В этот момент он опустил руки, развернутые ладонями вперед, «чтобы принять стигматы»[691], как прокомментировал Гарольд Николсон, после чего сказал парламентариям: «Пусть каждый человек сейчас поступит в соответствии с тем, что считает своим долгом, в согласии со своим сердцем и совестью»[692]. Он выиграл это голосование с результатом 464 против 1.
Действительно, в середине февраля 1942 г. пал Сингапур. Крах был быстрым и пугающим. Сингапур являлся символом, оплотом британской имперской силы в Юго-Восточной Азии, но командующий британскими войсками проиграл уступающим силам японцев всего лишь после недели боев. Около 85 000 солдат альянса попали в плен. Впоследствии Черчилль отзывался об этом как о «худшем бедствии и крупнейшей капитуляции в истории Британии»[693].
Оруэлл восхищался Черчиллем, но этот разгром был таким серьезным, что заставил его усомниться, сможет ли Черчилль остаться премьер-министром. «До падения Сингапура можно было сказать, что народные массы любят Черчилля, не любя остальное его правительство, но в последние месяцы его популярность сильно просела. Кроме того, против него правое крыло тори (тори в целом всегда ненавидели Черчилля, хотя вынуждены были надолго притихнуть)», – написал он и сделал вывод: «Я бы не рассчитывал, что Черчилль еще на много месяцев сохранит власть»[694].
Оруэлл, давно чувствовавший, что закис в Би-би-си, решил уволиться. Здесь он был занят, но не продуктивен.
Я теперь делаю записи в дневнике намного реже, чем раньше, потому что у меня буквально нет свободного времени. Тем не менее я не делаю ничего, что не было бы бесплодным, и могу продемонстрировать все меньше и меньше результата за время, которое теряю. Похоже, так у всех – ужасающее чувство разочарования, ощущение, что просто болтаешь чепуху, занимаясь тупейшими вещами… которые в действительности не помогают военным усилиям и никак на них не влияют, но объявлены необходимыми огромной бюрократической машиной, в которую все мы угодили[695].
Провалились даже попытки Оруэлла выращивать картофель – он думал, что эта простая еда будет в дефиците. Однако британский урожай картофеля в 1942 г., как отметил он в той же мрачной дневниковой записи, оказался «колоссальным». В его огородничестве не было смысла.
Оруэлл знал, что должен заняться чем-то вместо работы на Би-би-си, но не представлял, чем именно. В то же время его жизнь не была совсем уж унылой. Его племянник Генри, три месяца гостивший у них с Эйлин, вспоминал, как Оруэлл взял его посмотреть «Золотую лихорадку» Чарли Чаплина в перемонтированной и озвученной версии: «Он покатывался со смеху, как никто в зале».
Распорядок жизни в доме заключался в том, что оба, Оруэлл и Эйлин, завтракали и уходили на работу. По вечерам он обычно шел в свою комнату и писал. «Эйлин выглядела довольно неухоженной, но была невероятно хорошенькой и очень приятной, – вспоминал Дэйкин. – Они чудесно жили вместе и были всегда добры друг к другу и очень добры ко мне»[696].
Дэйкин отметил, что Эйлин всегда носила черный жакет, даже за готовкой и едой. Вероятно, в этот период она была глубоко угнетена. По воспоминаниям Леттис Купер, знавшей ее по работе, после гибели брата Эйлин под Дюнкерком «она часто говорила, что ей все равно, жить или умереть; она все время это повторяла»[697].
Во время войны Оруэллы перестали жить в своем сельском коттедже. Оба работали в Лондоне и пережили сотни налетов люфтваффе. Они переезжали с одной съемной квартиры на другую, как из-за разрушения некоторых домов при бомбардировке, так и потому, что с отъездом все большего числа богатых людей в сельскую местность становилось доступным лучшее жилье. Однажды, после их переезда на Эбби-роуд в Сент-Джонс-Вуд[698], несколько друзей устроили для них торжественный ужин с хорошей курицей и даже с бутылкой кларета. Когда они сели за стол, рядом взорвалась бомба. «Нас снесло со стульев ударной волной»[699], – вспоминал хозяин Марк Бенни, с радостью увидевший, что бутылка цела, как и все гости. Оруэлл быстро выдал классовую интерпретацию их спасения: «Если бы мы находились в одной из трущоб рабочего класса за углом, то были бы сейчас мертвее мертвых!»
* * *
Выполняя должностные обязанности на родине, Черчилль также должен был поддерживать альянс с американцами в ходе войны. Некоторые великие достижения недооцениваются, потому что их автор создает впечатление, будто они дались ему проще, чем это было в действительности. Примером может служить работа Черчилля по взаимодействию с Америкой во время Второй мировой войны. Задним числом англо-американский союз легко счесть само собой разумеющимся, но он был реализован на огромном и смертельно опасном минном поле проблем, которые нужно было найти и обезвредить. Американцам не нравилось стремление Черчилля «обкусывать» силы Германии по краям, на Средиземном море и в Северной Африке, – Черчилль справедливо отстаивал необходимость этой стратегии, по крайней мере, в 1942 и 1943 гг., для того чтобы оттянуть немецкие войска с русского фронта. Черчилль, со своей стороны, презирал американский антиколониализм и видел часть своей задачи в том, чтобы «непосредственно познакомить американцев с политическими вопросами, по которым у них твердое мнение и мало опыта»[700], – таким, как будущее Британской империи и особенно будущее Индии. Черчилль принял де Голля; Рузвельт сохранил подозрительное отношение к нему. Черчилль был ошарашен тем, что многие американцы считают Китай столь же важной страной, что и Британию. После первого визита к Рузвельту он написал: «Если можно выразить одним словом урок, который я усвоил в Соединенных Штатах, то это слово “Китай”»[701].
Взгляды западных союзников на роль России в войне оказались особенно острым вопросом. Ф. Д. Р. считал, что может управлять Сталиным, в отличие от британцев, и заявил Черчиллю: «Я знаю, Вы простите мне полнейшую откровенность, но я полагаю, что лично я могу лучше справляться со Сталиным, чем ваше Министерство иностранных дел или мой Государственный департамент. Сталин до глубины души ненавидит всех вас, больших шишек»[702]. В этом отношении Рузвельт очень сильно переоценивал свои способности. Сталин был непревзойденным мастером контроля не только в ведении войны, но и в устройстве послевоенного мира. Когда американцев и англичан оттолкнуло холодное, подозрительное отношение Сталина, Черчилль объяснил Рузвельту: «Советская машина исходит из убеждения, что сможет куда угодно пробиться грубой силой»[703]. Это замечание могло бы исходить от Оруэлла.
Черчилль часто придерживал язык. В апреле 1942 г. Ф. Д. Р. обратился к нему с советами, как следует поступить с Индией. Черчилль набросал раздраженный ответ, начинавшийся со слов «я чрезвычайно озабочен Вашим письмом»[704] и переходящий к угрозам уйти с поста премьер-министра из-за этого вопроса. Затем он отложил в сторону этот злой ответ и написал новое послание, с другим началом: «Я с искренним интересом прочел Ваш взвешенный документ». В этом изменении ощущается мощный, почти электризующий психологический заряд.
Хотя Оруэлл был убежденным антиимпериалистом, он разделял отношение Черчилля к советам американцев по поводу Индии и записал в дневнике: «Проблемой сейчас являются бестактные предложения американцев, которые годами болтали о “свободе для индийцев” и британском империализме, как вдруг у них открылись глаза и они заметили, что индийская интеллигенция не хочет независимости, то есть ответственности»[705].
Отношения президента и премьер-министра окончательно укрепились во время второго визита Черчилля в Вашингтон в военное время, который состоялся через шесть месяцев после первого, когда он обращался к Конгрессу. Воскресным утром 21 июня 1942 г. Черчилль, остановившийся в Белом доме, проснулся в своей спальне, находившейся через коридор от комнаты Гарри Хопкинса. Премьер-министр почитал газеты в постели, позавтракал там же и спустился встретиться с Рузвельтом в его кабинете.
Когда Черчилль и Рузвельт начали разговаривать, принесли телеграмму на розовом бланке. Рузвельт молча пробежал ее глазами и передал Черчиллю. В ней говорилось: «Тобрук сдан, двадцать пять тысяч человек взяты в плен»[706]. Для Черчилля это оказалось почти физическим ударом. Сначала он не поверил. Не далее чем прошлым вечером он получил телеграмму из Каира с заверениями, что с защитниками крепости, столкнувшимися с немцами у границы Ливии и Египта, все в порядке. Крепость была хорошо обеспечена, имела все необходимое на три месяца, включая огромный запас топлива. Казалось, у командира не было убедительной причины так быстро ее сдать.
Черчилль запросил подтверждение. Когда оно пришло, он заплакал. Как и в Сингапуре пятью месяцами раньше, осажденные капитулировали перед уступающими силами врага.
Черчилль страдал и, вероятно, плакал, хотя в воспоминаниях не говорит об этом прямо, замечая только: «Я не пытался скрыть от президента потрясение, которое испытал. Это был горький момент. Поражение – это одно, бесчестье – совсем другое».
Американцы заметили, что он не ищет оправданий. «Он сказал, дело было в банально плохом руководстве, – записал в дневнике военный министр Генри Стимсон. – Роммель обыграл их тактически, разбил их в бою и лучше вооружил свои войска»[707].
«Чем мы можем помочь?»[708] – спросил Ф. Д. Р., сидящий за своим столом.
Черчилль поразмыслил. «Дайте нам столько танков, сколько можете выделить, и отправьте их на Средний Восток как можно быстрее».
Был вызван генерал Джордж К. Маршалл, начальник штаба армии США. Он заметил, что дать танки англичанам означает отнять их у его 1-й бронетанковой дивизии, которая только что получила боевые машины. «Это ужасно, забрать оружие у солдата из рук», – сказал Маршалл, по воспоминаниям Черчилля. Однако, продолжил он, «если британцам настолько нужны танки, они должны их получить». Маршалл вызвался лично найти и отправить сто 105-миллиметровых самоходных артиллерийских установок – нечто вроде облегченных танков. Около трехсот танков и орудия скоро были отправлены союзникам. Еще более важно, что Черчилль в эмоциональном отношении стал хозяином положения при обсуждении вопроса о том, возглавят ли американские военные вторжение в Северную Африку в 1942 г. Как Маршалл, так и Дуайт Эйзенхауэр категорически возражали против этого шага, считая его помехой высадке где-нибудь во Франции.
Тем вечером Черчилль вызвал к себе в комнату врача. «Тобрук пал, – сказал он. – Мне стыдно. Я не могу понять, почему Тобрук сдался. Больше тридцати тысяч наших людей подняли руки. Если они не будут сражаться…»[709] Он замолчал и упал в кресло.
Вечная признательность Черчилля американцам за оказанную в тот момент помощь очевидна в его мемуарах. Он обращается к ней не один, а два раза в одном томе. Однако столь же сильной была боль из-за второго поражения в 1942 г.
* * *
Растущее внимание Черчилля к американцам не вполне разделяли в Британии другие представители его класса, как левые, так и правые. Группа просоветских шпионов в составе Энтони Бланта, Кима Филби, Дональда Маклина и Гая Берджесса отчасти руководствовалась отвращением к Соединенным Штатам и их культуре. Филби в своих мемуарах рассказывает, что Берджесс обожал публично отпускать «оскорбительные замечания об американском образе жизни в целом»[710].
Если уж на то пошло, еще сильнее был антиамериканизм английских правых. «Всегда лучше и надежнее всего ничего не ждать от американцев, кроме слов», – заявил в декабре 1937 г. Невилл Чемберлен[711]. Когда Черчилль отправил лорда Галифакса в Вашингтон в качестве британского посла, лорд Линлитгоу, вице-король Индии, прислал тому письмо поддержки в «тягостной обязанности – угодничать перед кучкой самодовольных выскочек»[712].
Есть хорошее определение сноба – тот, кто в неловкой ситуации исходит из того, что ошибся другой. Воплощением этого качества был Николсон. Во время поездки в Америку перед войной он нашел ее обитателей благонамеренными, но жалкими: «Большинство из них добросердечны, но настолько невежественны и тупы, что не понимают мою точку зрения»[713]. Не доверял он их любви к открытости: «Угодничество американцев, вот что приводит меня в ярость… вечная поверхностность американской нации»[714]. Эти сомнения сохранились и в военное время. В ноябре 1943 г. он написал жене: «Мы намного более развиты. Иногда американцы приводят меня в отчаяние»[715].
Имелось также подозрение, что американцы, при всей своей внешней приветливости, не разделяют главную цель Британии в войне – сохранение Британской империи. «Президент не является другом Британской империи, – отмечал Гарольд Макмиллан, который станет премьер-министром в 1957 г. – Антиколониализм составлял яркую черту личности Рузвельта, который, судя по всему, имел крайне незрелые представления о возможности постепенного внедрения независимости на территории великих колониальных империй без потрясений»[716]. В частности, британцам казалось незрелым убеждение Рузвельта в том, что Вьетнам должен получить независимость. Послевоенная история мира могла бы измениться, если бы эту идею не встретили в штыки британцы и французы.
Из-за покровительственного отношения многие британские официальные лица недооценивали растущую силу Соединенных Штатов и были потрясены и взбешены в 1944 г., когда американцы начали действовать как доминирующий партнер в отношениях.
Из-за подобных предубеждений первые англо-американские встречи своей гремучей смесью энтузиазма, невежества и неловкости напоминали первые свидания. «В ближайшем окружении президента полно евреев», – отмечал дипломат Оливер Харви[717]. Американское общество поразило его отсталостью – «на сотню лет позади нас в социальной эволюции»[718].
Харви, советник Энтони Идена, британского министра иностранных дел на протяжении большей части Второй мировой войны, не был банальным снобом. Его шокировал расизм американцев и упорное стремление американских военных соблюдать законы сегрегации во время пребывания в Англии: «Просто безобразие, что американцы пытаются экспортировать свои внутренние проблемы. Мы не хотим, чтобы в Англии началось линчевание. Я не переношу типичного отношения южан к неграм. Это огромная язва американской цивилизации, обессмысливающая половину их заявлений»[719]. Эта тема занимала британских тори больше столетия, восходя к острому вопросу писателя Сэмюэла Джонсона об американских революционерах: «Как это возможно, что громче всех визжат о свободе надсмотрщики за неграми?»[720]
Отправленный в 1941 г. в Вашингтон лорд Галифакс демонстрировал ту же реакцию. Он полагал, что непопулярен среди американцев не потому, что ассоциировался с провальной политикой умиротворения, а из-за того, что общественным мнением управляла «определенная часть прессы, находящаяся под еврейским влиянием»[721]. Скоро он стал относиться к американцам как к «толпе маленьких детей – чуточку неотесанных, очень добросердечных и управляемых, главным образом, эмоциями».
Кое-что в британском характере – прежде всего, непоколебимая невозмутимость аристократии, – также доводило американцев до белого каления. Энтони Иден однажды заметил, что в ходе Битвы за Британию над его сельским домом часто вспыхивали яростные воздушные бои, «временами как раз когда мы играли в теннис»[722]. Однажды в деревья за домом рухнул мессершмитт. Он не записал в дневнике, был ли прерван матч из-за этого инцидента. Через 16 лет глубокое непонимание Иденом американцев способствует Суэцкому кризису, который положит конец его премьерству и еще больше ослабит положение Британии в мире.
Глава 10 Мрачные перспективы послевоенного мира 1943 г.
Это была пора, когда Оруэлл, малозаметная пока фигура в британской жизни, стоял на пороге величия. Черчилль тем временем начал падать с вершины власти, сталкиваясь с мрачными реалиями послевоенного мира.
Оба они наблюдали возвышение американцев, которые поначалу слабо проявили и заставили недооценивать себя в войне. Недисциплинированность американских военных беспокоила лучше обученных британских коллег. «Там, где мы каждую ночь выставляли почетный караул, они стояли, опершись на винтовки, жевали свою жвачку, курили и в целом выглядели совершенно не по-военному», – вспоминал британский военнослужащий[723].
Оруэлла тоже коробил вид американцев. В конце 1942 г. он писал об американских солдатах, которых встречал на улицах Лондона: «На их лицах постоянно недовольное выражение»[724]. Это ему не нравилось.
Американские военные самого высокого ранга также не впечатлили британцев. Генерал Джордж К. Маршалл и его люди в январе 1943 г. приехали плохо подготовленными на конференцию в Касабланке, где должны были приниматься важнейшие решения о ходе следующего года войны, например, о вторжении в Сицилию, а впоследствии, возможно, и на материковую часть Италии. Рузвельт дал Маршаллу указание взять с собой только пять советников. В результате, как признавался Маршалл своему биографу, «подготовка нашей делегации была совершенно недостаточной»[725]. Британцы – этот контраст особенно бросался в глаза под ярким марокканским солнцем с сопутствующими ему почти забытыми радостями вроде изобилия куриных яиц и апельсинов, – под завязку заполнили корабль «Булоло» водоизмещением в 6000 т прекрасно образованными и сообразительными офицерами[726]. Те вооружились набросками различных вариантов планов ведения войны и разражались меморандумами по любым вопросам военного характера, возникающим в ходе дискуссий между лидерами. Американцы обнаружили, что «каждый раз, как они касались какой-то темы, у британцев была заранее составленная бумага»[727], жаловался адмирал Эрнест Кинг, суровый начальник штаба ВМФ США, начавший служить еще на испано-американской войне. Часто американцы были не способны дать обдуманный ответ. Например, они не привезли эксперта по трансатлантическим перевозкам и сообщили британцам, что, по их прикидкам, для снабжения Британии всем необходимым придется поставлять 3,6 млн т грузов в год. Британцы тут же выдали точную цифру – 7 млн т[728].
Черчилль, в противоположность американцам, как обычно, вникал в детали. Когда его стратеги настаивали, что вторжение в Сицилию невозможно подготовить ранее 30 августа 1943 г.[729], он предельно внимательно проанализировал их допущения и сделал вывод, что наступление может состояться на несколько недель раньше, в конце июня или в начале июля. Время покажет, что он был прав – британские и американские солдаты высадятся на южном побережье Сицилии 10 июля 1943 г.
Британцев не впечатлили идеи американцев. «У Маршалла практически отсутствует стратегическое видение, его мысли вертятся вокруг формирования войск, а не их использования, – записал в дневнике после встреч в Касабланке военный советник Черчилля генерал Брук. – Он прибыл сюда, не имея ни одного настоящего стратегического замысла, ничего не предложил в плане политики дальнейшего ведения войны. Его роль свелась к довольно топорной критике планов, предложенных нами»[730].
Американцы ехали в Касабланку, чтобы обсудить временные рамки и план подготовки к вторжению в Северную Европу через Ла-Манш, которое, как они надеялись, состоится в 1943 г. Вместо этого совещание закончилось тем, что Америка согласилась на средиземноморский план действий, по крайней мере, на тот год. Возможно, этот более осторожный подход отвечал тайным желаниям Ф. Д. Р., почему он и препятствовал Маршаллу взять с собой достаточное число советников и специалистов по планированию. Черчилль говорил своим советникам, что он убежден, что Рузвельт поддержит средиземноморский план[731]. Рузвельт с меньшим энтузиазмом, чем Маршалл, относился к идее переброски войск через Ла-Манш в 1943 г.[732], считая, что это слишком рискованно, что американским войскам нужен больший боевой опыт и что годичная задержка ослабит сухопутные силы Германии и в еще большей степени ее авиацию. Маршалл, хотя и выступал за высадку во Франции в 1943 г., сказал Рузвельту, что генерал Марк Кларк, имеющий опыт боевых действий в Африке, согласен с британцами: «Придется долго готовить солдат, прежде чем можно будет предпринять попытку высадки десанта при отчаянном сопротивлении противника»[733]. Рузвельт также одобрял перенос части ресурсов на тихоокеанский театр военных действий, что становилось возможным, поскольку вторжение в Европу откладывалось.
Американцы быстро учились на своих ошибках. Маршалл, вернувшись из Касабланки в Вашингтон, приказал реорганизовать свой штаб[734]. «Мы остались ни с чем», – удрученно сообщил своему непосредственному начальнику в Вашингтоне бригадный генерал Альберт Ведемейер:
Мы приехали, мы слушали, и мы были побеждены… Они налетели на нас как саранча со множеством специалистов по планированию и всевозможных ассистентов, с готовыми планами, гарантирующими, что они не просто достигнут своих целей, но сделают это играючи, честно заявляя, что и дальше будут управлять стратегией всего хода этой войны[735].
Из-за несообразностей этого первого масштабного совещания по военному планированию британцы еще несколько лет смотрели на американцев сверху вниз. «Подходы американцев остаются любительскими, – писал в августе 1943 г. британский дипломат Оливер Харви. – Чтобы война на западе была быстро выиграна, руководить должны наша стратегия и наши люди»[736].
Поразительно, как мало внимания уделял американцам генерал Брук в 1942 и 1943 гг. В дневнике он перечислил имена всех британских официальных лиц, с которыми встречался, а также большинство французов. Однако, кроме Эйзенхауэра и Уолтера Беделла Смита, его хороших знакомых, об остальных коллегах он отозвался просто как о «ряде американских офицеров»[737], причем так, словно речь шла о детях, которых должно быть видно, но не слышно. Это не было случайностью. Брук «не ладил с американцами»[738], по наблюдению врача Черчилля.
Когда Брук все-таки уделял внимание американским военным в своих дневниках, то обычно с оттенком пренебрежения. «Боюсь, американским войскам нужно намного больше подготовки, чтобы от них была какая-то польза», – записал он в феврале 1943 г.[739]. Примерно в это время американские солдаты впервые встретились с немцами в сражении за перевал Кассерин в Тунисе и были показательно разгромлены. «Мы говорим, что американцы бегут, едва раздается выстрел», – иронизировал в своем дневнике Гарольд Николсон[740]. Даже Черчилля заставили призадуматься разброд и шатания, продемонстрированные американцами на Кассерине. «Второй корпус армии США потерпел тяжелое поражение и, очевидно, лишился примерно половины вооружений, не причинив сколько-нибудь серьезного урона врагу»[741], – сообщил он королю, но закончил оптимистически: «Это храбрые, но не испытанные в боях войска быстро извлекут уроки из своих поражений и будут терпеливо переносить тяготы и совершенствоваться, пока не проявятся их лучшие боевые качества». Брук же даже в мае 1943 г. будет убеждать американцев, что высадка союзников во Франции не может быть предпринята «ранее 1945 или 1946 г.»[742].
Не всегда понимал Брук и жизненную необходимость дальнейшего участия России в войне. В дневнике он сетовал на отправку Сталину нескольких сотен танков и истребителей. «Лично я считаю это полным безумием», – писал он о поставках в Россию[743]. Он не сознавал, что любое снаряжение, помогающее России продолжать сражаться, было бесценно. Критиканствующие подчиненные Черчилля массово страдали недальновидностью. Они не понимали войну так, как он. Так, в октябре 1942 г., в разгар решающей Сталинградской битвы, когда поддержка России имела принципиальное значение, министр иностранных дел сэр Александр Кадоган злорадствовал в дневнике: «В черновом варианте ответа удалось отстоять порядочное кровопускание этим русским»[744].
Из Касабланки Черчилль отправился в Египет. Он по-прежнему прекрасно чувствовал себя в гуще военных событий. Однажды в 7:30 во время завтрака в британском посольстве в Каире, готовясь к очередному раунду военного планирования, он отказался от предложенной чашки чая и попросил стакан белого вина, который осушил одним глотком[745]. Когда хозяйка дипломатично выразила удивление, он сообщил, что это его третья порция спиртного за день – утром он уже выпил два стакана виски с содовой. Сибаритство Черчилля, которое никуда не делось даже в стрессовых условиях военного времени, было само по себе произведением искусства. Взять его привычку к нижнему белью из розового шелка[746].
Он был привередлив в еде – слуги знали, что ни в коем случае не следует подавать ему блюда, весьма многочисленные, которые он не выносил, в том числе сосиски, капусту, солонину и рисовый пудинг[747]. Один подчиненный военных лет подсчитал, что он выкуривает около шестнадцати сигар в день[748]. «Меня потрясло, что человек может столько курить и столько пить, оставаясь в прекрасной форме», – вспоминала Элеанора Рузвельт[749].
Новый мир рождается в Тегеране
Примерно через десять месяцев после саммита в Касабланке, в ноябре 1943 г. впервые встретились три военных лидера главных стран-союзниц – Черчилль, Рузвельт и Сталин. (Еще одна, последняя их встреча состоится в Ялте, когда война будет близка к завершению.) Хотя сегодня американцы почти не помнят о Тегеранской конференции, ее результаты будут иметь огромные последствия как для Черчилля, так и для Оруэлла. Премьер-министра она вгонит в долгий период мрачного настроения, писателя и журналиста заставит написать его великий роман.
Для Черчилля тегеранские встречи стали пугающим опытом. Он уделит им почти столько же места в своих мемуарах, что и последующей конференции в Ялте. Тегеранская конференция – подготовка, переговоры, обеды и ее последствия – главенствует в пятом томе его воспоминаний о Второй мировой войне, в котором он заявил, что считал встречу в Тегеране потрясающим успехом, по крайней мере, в военном отношении. Он написал: «Когда мы расстались в атмосфере дружбы и общности непосредственной задачи, лично я, оглядывая театр военных действий в целом, был вполне удовлетворен»[750]. Это оруэлловское предложение в современном смысле использования языка скорее для сокрытия, чем для прояснения смысла.
В действительности встреча в Тегеране крайне обеспокоила Черчилля. Он приехал туда с сильной болью в горле. Дальше все катилось по наклонной плоскости. После первого заседания его врач спросил, что случилось. «Случилось чертовски много всего», – буркнул Черчилль[751]. Рузвельт впервые начал вести себя так, как будто в их партнерстве ему принадлежит ведущая роль[752]. Именно в Иране Черчилль понял, что его мечте о доминировании в долгосрочном англо-американском союзе не суждено сбыться.
В мемуарах Черчилль раскрыл два момента, особенно его угнетавших. Во-первых, президент Рузвельт перестал встречаться с ним один на один[753], хотя со Сталиным виделся. Манерой держаться Сталин представлял полную противоположность Черчиллю. На официальных встречах тройки он выглядел совершенно спокойным, курил и удовлетворенно поигрывал толстым красным карандашом.
Во-вторых, на маленьком торжественном обеде[754] для троих переговорщиков и лишь семи других официальных лиц Сталин позволил себе макабрический юмор, подкинув мысль, что 50 тысяч немецких офицеров придется казнить по окончании войны. Черчилль с возмущением ответил: «Британский парламент и общественность никогда не потерпят массовой казни… Советам не следует заблуждаться на этот счет».
Сталин продолжил развивать тему массовой ликвидации немецкого генерального штаба. Черчилль снова возразил, что скорее застрелится, чем «запятнает честь, собственную и своей страны, подобным позором». Рузвельт, возможно, желая разрядить обстановку шуткой, пусть неудачной, предположил, в порядке компромисса, что казнить придется только 45 тысяч немецких офицеров.
В этот момент его сын Элиот Рузвельт, присоединившийся к обедающим без официального приглашения, поднялся со своего места за столом. Говорить ему было не по статусу, но он высказал мнение, причем ошеломляющее. Он отверг аргумент Черчилля и поддержал кровожадный план Сталина. По воспоминаниям Черчилля, испорченный, погрязший в скандалах молодой американец – во многом похожий на его собственного проблемного сына Рэндольфа – выразил убеждение, что американская армия поддержит эту идею. Молодой Рузвельт дважды был гостем Черчилля в Англии и, очевидно, к 1943 г. решил, что достаточно с ним сблизился, чтобы высказываться за столом великих.
Черчилль не мог больше этого терпеть. «Я встал и вышел из-за стола, пройдя в соседнюю комнату, где стояла полутьма», – вспоминал он. Элиот Рузвельт в своих посредственных мемуарах добавляет, что Черчилль, проходя мимо, сказал ему: «Понимаете ли вы, что говорите? Как вы осмеливаетесь говорить такое?»
В полутьме смежной комнаты кто-то подошел к Черчиллю сзади и взял его за плечи. Это Сталин, хозяин на этом ужине, пришел заверить премьер-министра, что «просто шутил»[755]. Черчилль, конечно, хорошо понимал, что для советского лидера массовые убийства не просто шутка. Шестью месяцами ранее премьер-министру сообщили, что весной 1940 г. Сталин почти наверняка приказал казнить 20 тысяч польских офицеров в Катынском лесу[756] под Смоленском[757]. Сознавать это было тем более мучительно, что ни Черчилль, ни Рузвельт не имели возможности обвинить Сталина в этом злодеянии – фактически оба во время войны подавляли попытки расследовать эту массовую бойню.
Черчиллю в тот вечер добавил переживаний факт, что днем он преподнес Сталину церемониальный меч во славу стойкости, проявленной русскими в прошлом году в Сталинграде, – по всей видимости, эта битва стала поворотным моментом войны. Этот подарок заставил романиста Ивлина Во, потрясенного союзом Запада с таким чудовищем, как Сталин, издевательски назвать свой цикл романов о Второй мировой трилогией «Меч почета» (Sword of Honour). В кратком содержании романа «Безоговорочная капитуляция» (Unconditional Surrender) он пишет о своем герое: «Он верит, что сама причина идти на войну была попрана союзом с русскими»[758].
В Тегеране Черчилль увидел упадок Британии. Он сознавал, что в мировой истории происходит поворот. Не все из его ближайших советников были столь проницательны. Сэр Александр Кадоган, находясь в Тегеране, записал в дневнике, что на него «эта конференция наводит скуку – делать нечего, теряю время»[759].
Черчилль покидал Тегеран в мрачном настроении, мучительно переживая утрату Британией мирового господства. После этой конференции в нем что-то изменилось. «Динамо-машина» образца 1940 г. превратился в 1944-м в увальня– все более забывчивого, менее красноречивого и часто смертельно усталого, чаще нуждающегося в дневном сне, а по утрам подолгу залеживающегося в постели. Однажды вечером, сидя у камина в своем загородном доме, он признался генералу Бруку, что и он, и Рузвельт уже не те, что прежде. «Он говорил, что по-прежнему всегда хорошо спит, хорошо ест и особенно хорошо пьет! Но уже не вскакивает с кровати, как раньше, и чувствует, что с большим удовольствием провел бы день в постели. Я никогда еще не слышал от него признаний, что он начинает сдавать»[760].
Черчилль представлял Тегеранскую конференцию в образах животных. Своей давней приятельнице Вайолет Бонэм Картер он сказал, что на встречах со Сталиным и Рузвельтом в иранской столице осознал, насколько незначительна его страна по сравнению с их странами: «С одной стороны, огромный русский медведь, протягивающий лапы, с другой – огромный американский слон, а между ними бедный маленький британский ослик – единственный, кто знает дорогу домой»[761].
Нередко и самого Черчилля воспринимали в образе животного. В начале войны его секретарь Колвилл отметил, что по утрам, принося Черчиллю донесения, он застает премьер-министра, розового, гладкого и дебелого, «в постели, точь-в-точь похожим на славную свинью, облаченную в шелковую пижаму»[762]. Леди Диана Купер полагала, что в комбинезонах на «молнии», которые Черчилль часто носил во время войны, «он выглядит как тот благонравный поросенок, что построил свой домик из камней»[763]. Его врач, наблюдавший, как он купается во Флориде в январе 1942 г., записал: «Уинстон, погрузившись до пояса, плескался в воде, как бегемот в болоте»[764].
* * *
Оруэлл следовал тем же путем. Тегеранская конференция станет основополагающей для понимания им своего времени, повлияв на оба его великих романа – «Скотный двор» и «1984». Первый является аллегорией настоящего, второй – изображением антиутопического будущего. Оба имеют определенные корни в том, что случилось в Тегеране: расчленение мира лидерами складывающихся сверхдержав[765]. Поэтому в «1984» мир состоит из трех тоталитарных сверхдержав: Океании, Остазии и Евразии. Англия в этом романе усохла до «Взлетной полосы I».
Когда конференция в Тегеране завершилась, Оруэлл наконец начал предпринимать шаги, которые сделают его великим писателем. В ноябре он ушел из отряда Территориальной самообороны – под предлогом плохого самочувствия, но и момент был для этого подходящий, поскольку стало ясно, что немецкое вторжении Британии уже не угрожает. Военная обстановка менялась, силы союзников готовились к высадке во Франции в следующем году. В то же время, Оруэлл уходит с Би-би-си[766], написав в вежливом заявлении об увольнении по собственному желанию: «Я чувствую, что если вернусь к своей обычной работе писателя и журналиста, то принесу больше пользы, чем сейчас». Это мнение окажется совершенно правильным. В следующие шесть лет он напишет два своих великих романа и некоторые из лучших статей на политические и культурные темы.
В это время он начнет вести рубрику «Как мне нравится» в Tribune, второстепенной еженедельной газете, социалистическая политика которой была ближе его взглядам, чем позиция The Observer Дэвида Астора. В первом материале для этой рубрики, опубликованном в декабре 1943 г., он решил иронически взглянуть на американских солдат: «Даже если держаться подальше от Пикадилли с ее агрессивными толпами пьяниц и проституток, трудно куда-либо пойти в Лондоне, не испытывая ощущения, что Британия теперь – оккупированная территория. Все сходятся на том, что единственные американские солдаты с приличными манерами – это негры»[767]. Что самое важное, он начал писать «Скотный двор».
Глава 11 «Скотный двор» 1943–1945 гг.
Мы не знаем, читал ли Черчилль «Скотный двор», великую сказку Оруэлла о том, как животные на ферме взбунтовались против своих хозяев-людей и были порабощены свиньями. Очень может быть, что и читал, тем более что вышедший несколькими годами позже роман «1984» ему понравился. Однако он легко мог бы и сам прийти к тем же выводам о лидерах России. Разговаривая с Малкольмом Маггериджем о Сталине в 1950 г., Черчилль сетовал: «Какая жалость, что он оказался такой скотиной!»[768]
Черчилль также обнаружил бы, что новая книга Оруэлла точно соответствует его культурному миру. Жанр басни с участием говорящих животных имеет древние традиции, идущие, по меньшей мере, от Эзопа, но его расцвет пришелся на период высшего взлета Британской империи, конец XIX и начало XX в., на годы отрочества и молодости Черчилля.
В 1890-х гг. Редьярд Киплинг продолжил эту традицию своей двухтомной «Книгой джунглей». Черчилль, естественно, обожал Киплинга и его сочинения. «Он оказал на меня огромное влияние», – отметил он в 1944 г.[769]. Несколько более неожиданным кажется то, что Оруэлл, который в своем романе «Дни в Бирме» яростно осуждал последствия британского империализма, также ценил этого главного певца империи. «Редьярд Киплинг был единственным популярным писателем этого века, не являвшимся в то же время донельзя плохим писателем, – написал он в 1936 г. вскоре после смерти Киплинга. – В те времена еще было можно оставаться империалистом и джентльменом, и в личной добропорядочности Киплинга не возникало никаких сомнений»[770].
В этом занятном жанре британской литературы будет сделано еще немало достижений. «Повесть о кролике Питере» была написана в 1902 г., в год между смертью королевы Виктории и рождением Оруэлла, и пользовалась огромной популярностью, продаваясь миллионами экземпляров и породив череду продолжений. Макабрическую шутку оттуда оценил бы Оруэлл: «Теперь, мои дорогие, – сказал старый мистер Кролик как-то утром, – вы можете ходить в поля и вниз по тропинке, но не ходите в сад мистера Макгрегора: с вашим отцом там произошел несчастный случай; мистер Макгрегор запек его в пирог»[771]. Возможно, не совсем случайно главу местного сообщества британцев в «Днях в Бирме» он назвал «мистер Макгрегор».
Трогательные сказки А. А. Милна о Винни Пухе и его друзьях появились в 1920-х гг. и также были невероятно популярны. Однако среди всей этой антропоморфной беллетристики мало найдется книг, настолько погруженных в эдвардианский мир верхнего среднего класса, как «Ветер в ивах» Кеннета Грэма, изданная в 1908 г. Это классическое произведение детской литературы начинается с того, что мистер Крот прилежно занимается весенней уборкой в «своем маленьком доме», украшенном портретами Гарибальди и королевы Виктории и репродукцией картины «Младенец Самуил», написанной сэром Джошуа Рейнолдсом в 1776 г. и тиражировавшейся в Британии XIX в. в огромных количествах[772]. Однако даже терпение эдвардианского Крота не бесконечно. Устав от уборки и поддавшись соблазнам теплого денька, он швыряет швабру на пол и восклицает: «Скучища!» Крот устремляется из дома исследовать мир и скоро заводит дружбу с водяным крысом дядюшкой Рэтом, который говорит ему: «Мне ужасно нравится ваш наряд, старина… Я сам собираюсь однажды обзавестись черным бархатным смокингом, как только смогу себе это позволить»[773]. История заканчивается тем, что Крот и дядюшка Рэт со своими друзьями мистером Барсуком и жабой мистером Джабсом атакуют и освобождают дом Джабса, захваченный ласками, горностаями и хорьками.
Эта книга с ее упоминаниями о радостях «прогулок на лодках» в верхней Темз-Вэлли, должна была напоминать Оруэллу о юности, проведенной в той же местности, сначала, в раннем детстве, в Хенли-он-Темз, затем стоящем на берегу реки Итоне, где он учился и провел много времени в школьные годы. Всю жизнь он любил живую природу, был ее внимательным наблюдателем и радовался возможности работать в саду, фермерствовать, охотиться и рыбачить. «У жабы почти что самые красивые глаза из всех живых существ, – написал он в первую весну по окончании Второй мировой войны. – Они похожи на золото или, точнее, на полудрагоценный камень золотого цвета, как в перстнях-печатках»[774]. Зорко подмеченные образы природы вдохновляли его, даже когда он писал о политике: лейборист Клемент Эттли был для Оруэлла не просто бесчувственной рыбой, он был «недавно сдохшей рыбой, которая еще не успела окоченеть»[775].
Далее, разумеется, следует упомянуть «Историю доктора Дулиттла». Ее автор Хью Лофтинг в Первую мировую войну был военным инженером Ирландского гвардейского полка, безуспешно искавшим на фронте искры человечности. «Доктор Дулиттл» родился из его писем домой детям. Там, где люди жили, как звери, в траншеях или подземных блиндажах, где их окружали крысы и одолевали вши, там, где их истребляли тысячами, не были ли они просто говорящими животными? Эта история для детей была опубликована всего через два года после окончания Великой войны.
Все эти авторы составляли культурную атмосферу, в которой у Оруэлла возник замысел одной из самых знаменательных книг о говорящих животных.
Назидательная сказка Оруэлла
Оруэлл дал «Скотному двору» подзаголовок «сказка-притча». Так и есть, но в его версии это взрослая сказка о разочарованиях, политическом насилии и преданных идеалах. В этой сказке утопия попадает, как отец Кролика Питера, в переделку, выйдя прогуляться по садовой дорожке. Место действия – ферма Мэнор в Уиллингдоне в Восточном Суссексе между Гастингсом и Брайтоном, на юго-восточном побережье Англии. Владеет фермой мистер Джонс, старый пьяница, не заботящийся о своих животных и отправляющийся выпить в «Красный лев» – вероятно, название не случайно: именно так называлась гостиница, куда в книге Кеннета Грэма сбегает мистер Джабс[776].
Недовольные тем, что у них отбирают плоды их труда, да еще и дурно с ними обращаются, животные начинают роптать. Оставленные без корма на все выходные, они прогоняют мистера Джонса и его работников. Первое, что делают животные после этого, – почтительно погребают окорока, висящие в кухне. Ими руководит похожая на Сталина фигура, хряк Наполеон, который сначала объединяется со своим конкурентом Снежком[777], напоминающим Троцкого. Затем в сцене, напоминающей кульминацию событий «Ветра в ивах», люди предпринимают попытку вернуть себе ферму, но животные объединяются и обращают их в бегство.
Доверчивые тугодумы-работяги, животные в большинстве своем не замечают, как быстро новая свинократия начинает эксплуатировать их. «Сами свиньи в поле не работали, они взяли на себя общее руководство и надзор»[778], посылая других животных заготавливать сено и выпивая все надоенное этим утром молоко. Снежок учит животных максиме: «Четыре ноги хорошо, две – плохо!»[779] Овцам так нравится эта фраза, что они блеют ее часами, и «им это никогда не надоедает». Скоро свиньи присваивают право есть яблоки, говоря остальным, что им это необходимо, чтобы справляться с обязанностями руководителей. Оруэлл записал в дневнике, что считает эту сцену «поворотным пунктом сюжета»[780]. Он объяснил другу, что «если бы животные дали отпор свиньям, когда они забрали себе яблоки, то все было бы хорошо»[781].
Снежок и Наполеон расходятся по вопросу о том, где строить мельницу, что заставляет Наполеона ввести в систему новый элемент – девять огромных собак, работающих только на него. Собаки изгоняют Снежка с фермы и возвращаются к Наполеону. «Было замечено, – зловеще говорит безымянный рассказчик, – что они пресмыкаются перед ним, точь-в-точь как в прежние дни перед мистером Джонсом пресмыкались его псы»[782]. Скоро Наполеон объявляет конец общественных дебатов. Когда «четыре подсвинка»[783] неодобрительно визжат, псы Наполеона отвечают грозным рычанием.
Свиньи переселяются из свинарника в дом мистера Джонса. Они начинают продавать людям яйца, из-за чего три молодые несушки поднимают короткий бунт. Куриц и их сторонников принуждают к покорности голодом, девять из них погибают. Затем четырех протестовавших подсвинков обвиняют в тайном сотрудничестве с беглым Снежком и диверсиях на ферме. Как только они признаются в преступлениях, собаки разрывают им горло. «Признания чередовались с казнями. Вскоре у ног Наполеона громоздилась гора трупов, а в воздухе сгустился запах крови»[784].
В погребе фермерского дома свиньи находят ящик виски, напиваются и ночью горланят песни. Затем они начинают варить пиво, в то же время урезая рацион других животных, кроме сторожевых псов.
Проходят годы, и свиньи начинают ходить на задних ногах. Тогда овцы меняют лозунг на «Четыре ноги хорошо, две – лучше!»[785]. Наполеон начинает носить хлыст. К концу книги жителям фермы внушается фраза, ставшая самой знаменитой: «Все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие»[786]. Фактически это эпитафия революции скота.
Свиньи совершают действие, отражающие самые глубокие опасения Оруэлла по поводу современного государства, – начинают пересматривать историю. Изгнанник Снежок обвиняется в том, что он вообще никакой не герой, а трус и инструмент людей. Оруэлл много лет размышлял об этой тенденции. «Характерная особенность тоталитарного государства заключается в том, что оно контролирует мысль, а не фиксирует ее, – в смысле, не делает ее неизменной, – писал он в 1941 г. – Оно устанавливает безусловные догмы и меняет их день за днем»[787].
При такой власти реальность такова, какой считает ее государство в конкретный день. Принятые факты меняются и становятся просто функцией власти. Так, в «Скотном дворе» свиньи неуклонно пересматривают правила фермы к собственной выгоде, а попутно и историю фермы. Для Оруэлла контроль прошлого, так же как настоящего и будущего, был принципиальной особенностью тотального контроля государства. Позднее он придет к выводу: «Тоталитаризм требует, по сути, постоянного изменения прошлого, а в долгосрочной перспективе, вероятно, и неверия в само существование объективной истины»[788]. Эта мысль станет одной из главных тем его последней книги. Всесильному принадлежит не только будущее, но и прошлое.
В последней сцене книги свиньи в доме играют в карты и пьют вместе с людьми, с которыми ведут бизнес. Наполеон и один из людей жульничают в игре. Остальные животные стоят снаружи, глядя в окно. «Они переводили глаза со свиньи на человека, с человека на свинью и снова со свиньи на человека, но угадать, кто из них кто, было невозможно»[789].
Это сказка-предостережение, отражение сталинизма в кривом зеркале. «Конечно, моим главным намерением была сатира на русскую революцию, – сказал Оруэлл своему другу Дуайту Макдональду. – Но я хотел придать ей более широкое звучание, имея в виду, что революция определенного типа (жестокая революция-заговор, возглавляемая людьми, безотчетно жаждущими власти) может привести только к смене хозяев»[790].
Работая над «Скотным двором», Оруэлл читал написанное жене по вечерам в постели[791]. Возможно, поэтому сюжет развивается так свободно. Книга хороша и как образец басенного жанра: умные свиньи, посвящающие бо́льшую часть времени чтению, собаки, умеющие читать, но не считающие нужным, эгоистичная кошка, двулично поддерживающая обе стороны в голосовании по вопросу о том, являются ли двуногие существа врагами, затрагивающему птиц фермы. Перечитывая эту книгу, задаешься вопросом, насколько она повлияла на Э. Б. Уайта[792], который в 1949 г., через четыре года после того, как «Скотный двор» был издан и стал мировым бестселлером, начал писать «Паутину Шарлотты» – историю доброго, мягкосердечного поросенка Уилбура и его дружбы с мудрой паучихой Шарлоттой.
Эти две сказки о говорящих свиньях входят в число бестселлеров всех времен наряду с «Доктором Дулиттлом» Лофтинга.
* * *
В годы, предшествующие написанию «Скотного двора», Оруэлл не раз видел, какой беспощадной может быть советская власть. Троцкого убил в Мексике в августе 1940 г. испанский коммунист, подготовленный НКВД[793]. Это нападение, совершенное с помощью ледоруба со спиленной, чтобы сделать его компактным, рукояткой, последовало за неудачным покушением на Троцкого с применением винтовок и бомбы, предпринятым тремя месяцами ранее другой группой ветеранов гражданской войны в Испании, имевших русских кураторов.
Советский перебежчик Вальтер Кривицкий умер при загадочных обстоятельствах в феврале 1941 г. в номере отеля в Вашингтоне, где передавал американским официальным лицам информацию, в том числе о британском журналисте, работавшем в Испании на НКВД и получившем заказ на убийство Франко[794]. Он не знал имени этого журналиста, но после распада Советского Союза архивы тайной полиции были открыты, и выяснилось, что это был Ким Филби. Прежде чем стать сотрудником британской разведки, Филби являлся военным корреспондентом лондонской The Times в Испании во время гражданской войны, а затем во Франции в 1940 г., когда на нее напала Германия.
В Испании Филби действовал два года под личиной сторонника фашистов[795]. К моменту его встречи с Франко интересы НКВД изменились – Советы сосредоточились на подавлении испанских левых антикоммунистов, в том числе ПОУМ и ее членов, таких как Джордж Оруэлл.
Кривицкий, погибший советский невозвращенец, решил бежать после того, как советские агенты убили в Швейцарии одного из его близких друзей Игнатия Рейсса. Годами НКВД проводил кампанию похищений и убийств деятелей Белого движения, эмигрировавших во Францию[796]. Даже сегодня, как утверждает историк Кристофер Эндрю, люди склонны упускать из виду «приоритетность заказных убийств» в советской международной политике конца 1930-х гг.
Оруэллу оказалось на удивление трудно добиться публикации «Скотного двора», отчасти из-за вмешательства советских «кротов». Он предупредил Виктора Голланца, издателя с левыми убеждениями, публиковавшего книги Оруэлла с 1933 по 1939 г., от «Фунтов лиха в Париже и Лондоне» до «Глотнуть воздуха», что книга тому не понравится и он не станет ее издавать. «Чепуха», – ответил Голланц, отказавший Оруэллу лишь однажды, в случае «Памяти Каталонии». Однако, прочитав новую рукопись, он быстро вернул ее с примечанием, что Оруэлл был прав. Он написал литературному агенту Оруэлла: «Я не могу напечатать… подобный выпад против всех»[797].
По меньшей мере, еще четыре издателя отвергли книгу[798], в том числе Т. С. Элиот, тогда редактор в издательстве Faber, которому сказка показалась слишком троцкистской. Он также заметил, что свиньи «намного умнее других животных и, следовательно, лучше всего подходят для управления фермой». Издательский дом Jonathan Cape намеревался выпустить книгу, но передумал, получив предупреждение Питера Смоллетта, на тот момент главы русского отдела министерства информации Британии, выразившего опасение, что книга может повредить англо-советским отношениям[799]. Много лет спустя открылось, что Смоллетт был советским агентом, завербованным Кимом Филби.
Череда отказов потрясла Оруэлла. «Оказалось чертовски трудно найти издателя, хотя обычно я без проблем публиковал свои вещи, да и сейчас все издатели жадно требуют рукописей», – писал он другу в мае 1944 г.[800]. Американские редакторы оказались настроенными столь же критически, пятеро из них отвергли книгу, прежде чем издательский дом Harcourt Brace в декабре 1945 г. купил права на американское издание за £250, и то лишь после того, как книга оказалась успешной в Англии.
Оруэлл закончил писать «Скотный двор» в феврале 1944 г., но опубликовал лишь в августе 1945 г. Часть высвободившегося времени он посвятил текстам для своей рубрики в Tribune. Кроме того, они с женой в июне 1944 г. усыновили мальчика Ричарда. Младенцу, родившемуся в мае в Ньюкасле, было всего три недели, и у него не было даже одежды. Жена Оруэлла беспокоилась, что не полюбит ребенка, вспоминал их друг, но «в конце концов Эйлин была очень счастлива, что он у нее есть, что она может любить его, и очень гордилась им»[801]. Позднее, когда ей нужно было прийти в суд, чтобы оформить разрешение на усыновление, она тщательно оделась и даже купила по такому случаю желтую шляпку.
Вскоре после усыновления квартира, где они жили, стала непригодной для обитания из-за того, что неподалеку взорвалась «планирующая авиабомба» V-1, ранняя версия нацистской крылатой ракеты. Они снова переехали, на этот раз в Ислингтон. Ныне это фешенебельная часть города, где разворачивается действие романов Зои Хеллер «Скандальный дневник» и Ника Хорнби «Мой мальчик», а в 1944 г. Ислингтон был, по замечанию одного биографа, весьма запущенным районом, «периферией как раз в духе Оруэлла… анклавом нижнего среднего класса на территории рабочих»[802].
В феврале 1945 г. Оруэлл поехал на континент освещать завершающий этап Второй мировой войны для The Observer. Дэвид Астор вспоминал: «Он хотел войти в Германию с первыми войсками, которые вступят в нее, понимая, что хотя он много написал о диктатурах, но никогда не был в стране, находящейся под властью диктатора»[803].
Это было неблагоразумно, здоровье Оруэлла по-прежнему было слабым. В конце марта он попал в больницу в Кельне, где занимал себя написанием «Примечаний для распорядителя моего литературного наследия», в которых отрекся от двух своих ранних романов как «глупой халтуры»[804]. Во время госпитализации он получил известие, что его жене нужна операция по удалению опухоли матки. 29 марта 1945 г., перед тем как ее перевезли в операционную, она написала ему записку, где сообщила, что у нее прекрасная палата с окном в сад. На следующий день он получил телеграмму, что Эйлин умерла под наркозом. Ее похоронили 3 апреля[805]. Возможно, поэтому действие романа Оруэлла «1984» начинается 4 апреля 1984 г. – с такой даты началась его мрачная одинокая жизнь.
После похорон он оставил их сына на попечение подруги и вернулся к журналистике в Европе. Он почти ничего не писал в это время, что неудивительно. «Думаю, он считал, что не видит ничего сколько-нибудь полезного», – сказал Астор[806]. Оруэлл написал романисту Энтони Пауэллу из Парижа 13 апреля: «Эйлин мертва. Она умерла совершенно внезапно и неожиданно 29 марта во время операции, не считавшейся особенно серьезной. Я был в отъезде и не ожидал ничего плохого… Я не видел окончательных результатов расследования, да и не хочу их видеть, потому что это ее не вернет»[807]. Его молчание в это время, вероятно, свидетельствует об испытываемой Оруэллом боли. Джордж Вудкок, канадский анархист и поэт, сдружившийся с Оруэллом в 1940-х гг., написал: «Он лишь однажды упомянул при мне о своей первой жене Эйлин»[808].
* * *
Книга «Скотный двор» появилась в британских книжных магазинах через пять месяцев после смерти Эйлин и всего через три дня после окончания Второй мировой войны. Ее опубликовал Фредрик Варбург. Реакция была совсем не такой, как на более ранние книги Оруэлла. «Мы напечатали столько экземпляров, на сколько хватило бумаги, а именно, 5000 штук, и все они были распроданы за месяц или два, – сказал Варбург. – Тогда мы нашли еще бумагу и печатали, печатали, печатали. С тех пор она не переставала расходиться»[809].
Впервые в жизни Оруэлл стал литературно и финансово успешным. Он сумел, при посредничестве друга, расплатиться с анонимным жертвователем, приславшим ему в 1938 г. 300 фунтов, благодаря которым смог провести зиму в Марокко, дав отдых легким. В записке, сопровождающей первую выплату, он извиняется: «Прошло ужасно много времени, чтобы начать возвращать долг, но до этого года я действительно не мог этого сделать. Лишь недавно я стал хорошо зарабатывать»[810].
Едва ли, однако, он был счастлив. Вскоре после выхода в свет «Скотного двора» Оруэлл купил у друга пистолет, сказав ему, что боится, как бы коммунисты не попытались его убить[811]. Два специалиста по Оруэллу, Джон Родден и Джон Росси, пишут, что его страх был более реален, чем он мог знать. Изучение советских архивов после холодной войны показало, что в Испании Оруэлл был включен в списки приговоренных к казни на случай, если его удастся схватить[812]. С другой стороны, большинство убитых советской тайной полицией за пределами Испании были советскими перебежчиками или русскими антикоммунистами, так что страхи Оруэлла, пожалуй, отдавали паранойей.
Овдовев, Оруэлл стал отдаляться от мира, стараясь проводить как можно больше времени на малонаселенной, почти не имеющей дорог северной оконечности острова Джура у западного побережья Шотландии. Однако он чувствовал себя одиноким и во время приездов в Лондон делал предложение самым разным молодым женщинам, многие из которых едва были с ним знакомы. Он знал, что болен, и хотел быть уверенным, что после его смерти будет, кому заботиться о его сыне Ричарде. Одна его подруга, Силия Кирван, мягко отвергла его искательства, но продолжала видеться с ним[813]. В другом случае он пригласил на чай Анну Пофам, соседку, которую почти не знал. Она вспоминала, что он попросил ее сесть на кровать, обнял и сказал: «Вы очень привлекательны… Как думаете, вы могли бы позаботиться обо мне?» Она сочла это неуклюжее предложение «смущающим» и ушла, как только смогла высвободиться[814].
«Политика и английский язык»
Оруэлл размышлял и о разрушении языка, это станет одной из главных тем его следующей (и последней) книги, «1984». Примерно в декабре 1945 г., после публикации «Скотного двора», обдумывая роман «1984», он завершил свое, возможно, самое знаменитое эссе «Политика и английский язык».
Оруэлл обычно писал как наблюдатель, но здесь выступает в регламентирующей роли, формулируя правила и давая советы. Внимательный писатель, поучает он, должен задать себе ряд вопросов о каждом сочиненном им предложении, например, что он хочет сказать, и какие слова лучше всего выразят эту мысль. Он должен особенно осторожно подходить к использованию затасканной, шаблонной образности, в действительности не вызывающей яркого представления у читателя.
Он кратко подытоживает свои рассуждения в шести «базовых» правилах[815].
1. Не используйте метафору, сравнение или другую фигуру речи, которую привыкли видеть в печати.
2. Не используйте длинное слово, если его можно заменить коротким.
3. Если слово можно выбросить, выбросьте.
4. Не используйте пассивный залог, если можно использовать активный.
5. Не используйте иностранную фразу, научное или жаргонное слово, если можете подобрать аналог в повседневном английском языке.
6. Лучше нарушьте любое из этих правил, чем напишите откровенно дикую фразу.
Любому писателю полезно почаще вспоминать эти правила.
Менее очевидно, что этот очерк не только направлен против плохой писанины, но и высказывает подозрение в отношении мотивов создания подобной прозы. Оруэлл утверждает, что, если написанное туманно, скучно и перегружено латинизмами, это сделано намеренно – обычно чтобы замаскировать то, что произошло на самом деле. «Политический язык[816]… предназначен для того, чтобы ложь выглядела правдой, убийство – достойным делом, а пустословие звучало солидно»[817]. Поэтому он пишет:
Беззащитные деревни бомбят, жителей выгоняют в чистое поле, скот расстреливают из пулеметов, дома сжигают: это называется миротворчеством. Крестьян миллионами сгоняют с земли и гонят по дорогам только с тем скарбом, какой они могут унести на себе: это называется перемещением населения или уточнением границ. Людей без суда годами держат в тюрьме, убивают пулей в затылок или отправляют умирать от цинги в арктических лагерях: это называется устранением ненадежных элементов[818].
Эти строки можно считать кратким описанием эпохи, в которой жил писатель. Это Оруэлл на пике своих возможностей.
* * *
Черчилль чувствовал себя во многом так же. Он тоже зарабатывал на жизнь с помощью слов и остро реагировал на их неправильное использование. «Человек, не способный сказать то, что должен сказать, на хорошем английском языке, вряд ли имеет за душой многое, что стоило бы слушать», – заметил он однажды[819].
Как и Оруэлл, Черчилль всю жизнь боролся с плохой прозой. «Он вел непрерывную войну с пустозвонством в официальных документах, особенно в телеграммах министерства иностранных дел», – вспоминал его помощник времен войны сэр Джон Мартин[820]. Однажды он подарил на Рождество «Словарь современного использования английского языка» Фоулера одному из членов британской королевской фамилии[821], вероятно, принцессе Елизавете, которой скоро предстояло стать королевой. Он жаловался своему министру иностранных дел на то, что британские дипломаты часто неправильно пишут слово «неприемлемый»[822]. Когда в начале войны Энтони Иден предложил назвать участников отрядов милиции «добровольными участниками Местной самообороны»[823], Черчилль изменил название на более простое и основательное – «Территориальная самооборона»[824]. Аналогично он был против плана министра продовольствия по созданию на время войны «центров общественного питания», поскольку ему не понравились как название, так и налет социализма. Центры были переименованы в «Британские рестораны».
Даже руководя разворачивающейся войной на выживание, Черчилль не перестал учить подчиненных правильно писать. 19 августа 1940 г., в разгар битвы за Британию, он нашел время издать директиву о краткости. Она начинается так: «Целью должны стать отчеты, излагающие основные мысли в последовательности коротких четких абзацев». Затем в абзаце, который мог бы быть позаимствован из эссе Оруэлла, он привел несколько примеров преступного многословия[825].
Давайте покончим с такими фразами, как «также представляется важным иметь в виду следующие соображения» или «следует уделить внимание вопросу о возможности претворения в жизнь». Бóльшая часть таких расплывчатых фраз – просто вода, от которой можно отказаться совсем или заменить одним словом. Не будем избегать простой выразительной фразы, даже разговорной…
Он даже Рузвельту решил дать совет, сказав ему в феврале 1944 г., что «почти всегда лучше выбрасывать деепричастия, да и прилагательные»[826]. Неприятие неуклюжих выражений видно в мемуарах Черчилля. Однажды, цитируя меморандум военного времени о боевых действиях в Сахаре, он извиняется перед читателем за слово «depotable». «Это было дрянное слово, использовавшееся в то время вместо “непригодный для питья”», – пишет он. И добавляет: «Прошу прощения»[827].
Глава 12 Черчилль (и британия) в моменты упадка и триумфа 1944–1945 гг.
В финальной фазе войны и Черчилль, и Оруэлл теряют силы.
Черчилль на протяжении ланча, на который был приглашен автором песен и шоуменом Ирвингом Берлином, был уверен, что разговаривает с историком и философом Исайей Берлином, который в то время работал в британском посольстве в Вашингтоне. Ирвинг Берлин прибыл в Лондон ставить свое шоу «Это армия»[828]. Премьер-министр обсуждал ход войны и перспективы Рузвельта на переизбрание с автором хитов «Белое Рождество», «Одеваться богато» (Puttin’ On the Ritz) и «Боже, благослови Америку». Когда премьер-министр назвал его «профессором», Ирвинг Берлин заподозрил, что его с кем-то путают, и начал отмалчиваться. Когда он ушел, Черчилль пренебрежительно заметил: «Берлин – точно такой же, как большинство бюрократов. Прекрасен на бумаге, но разочаровывает при личной встрече»[829].
Примерно в это время Оруэлл заметил, как ослабел Черчилль[830]. «Черчилль, судя по голосу, быстро стареет», – записал он в апреле 1944 г. незадолго до высадки десанта союзников.
В ораторском искусстве Черчилля наступает перерыв. В сборнике его «великих речей», составленном Дэвидом Кэннадайном, после февраля 1942 г. и вплоть до его реплик по поводу смертей Ллойда Джорджа и Ф. Д. Р. весной 1945 г. – ничего нет за период, пауза длительностью в три года. Первое появление Черчилля перед Конгрессом США в декабре 1941 г. было потрясающим; его вторая речь через 17 месяцев оказалась добротной, тщательно выстроенной и незапоминающейся.
В 1944–1945 гг. англо-американский союз не имел другого направления развития, кроме снижения. Черчилль понял это в Тегеране, и это предопределило его восприятие последних двух лет войны.
Три напряженных момента осложняли его отношения с союзниками. Американцев раздражало нежелание Черчилля открывать второй фронт в Европе. Создавалось впечатление, что Рузвельт в 1944 г. порой отделывается от Черчилля, не спеша отвечать на послания премьер-министра. Отчасти, разумеется, это объяснялось болезнью президента. Дафф Купер, бывший министр информации, в дальнейшем британский посол в Париже, жаловался в письме жене в апреле 1944 г., что британская политика «скована упрямым старой калекой»[831] – президентом Рузвельтом. Однако и дистанция между ними росла. Американцы попросту больше не нуждались в британцах. Они собирались выиграть войну и в результате завладеть миром.
Черчилль также сознавал упадок Британии. Он прибегал к риторическим подтасовкам, когда торжественно заявлял: «Я стал первым министром короля не для того, чтобы председательствовать при ликвидации Британской империи»[832]. Он почти наверняка осознавал, что Великобритания выйдет из войны лишь тенью себя прежней.
Выходки Черчилля также принимают сомнительный характер. К 1944 г. генерал Брук был по горло сыт премьер-министром. В январе того года он написал: «Боже, как я устал работать с ним»[833]. Через месяц: «Я часто не могу понять, сам ли я схожу с ума, или он действительно ненормален»[834]. В марте: «Он утратил всякое равновесие и находится в очень опасном настроении»[835]. В том же месяце: «Мне кажется, что я прикован к колеснице буйнопомешанного!»[836]
В июне 1944 г. после высадки десанта союзников в Нормандии Брук записал: «Мы вытерпели долгий мучительный вечер, слушая бредни Уинстона о стратегии»[837]. В своем дневнике он заклеймил Черчилля «совершенно несведущим в стратегии, тонущим в деталях, на которые не стоило обращать внимания, в результате даже не видящим стратегическую проблему в ее истинном свете»[838]. Вот его окончательный вывод о Черчилле: «Я ни к кому не испытывал такого восхищения и вместе с тем презрения»[839].
Пожалуй, Брук был сильнее всего взбешен после заседания 6 июля 1944 г., когда Лондон подвергся обстрелу германскими крылатыми ракетами Фау-1 (V-1). Одна из них, как уже упоминалось, разрушила квартиру Оруэлла.
Он был очень утомлен своим выступлением в парламенте по поводу летающих авиабомб и пытался взбодриться выпивкой. В результате он пришел в дурное, пьяное расположение духа, стал плаксивым, склонным во всем видеть оскорбление, подозрительным и настроенным мстительно по отношению к американцам. Настолько мстительно, что это извратило все его представление о стратегии. Я сразу же серьезно поссорился с ним. Он начал поносить Монти за то, что операции не осуществляются быстрее, по всей видимости, Эйзенхауэр сказал ему, что Монти слишком осторожен. Я вспылил и спросил его, не может ли он на пять минут довериться своим генералам, вместо того чтобы постоянно оскорблять и унижать их. Он ответил, что никогда ничего подобного не делал… Затем он выдвинул ряд инфантильных предложений…[840]
Значительная часть того, о чем Брук писал в дневнике и что многие поставят Черчиллю в вину после войны, реагируя на его эгоцентричные мемуары о Второй мировой, было правдой. Как военный лидер Черчилль продемонстрировал много недостатков[841]. Он пренебрегал логистикой. Он не оценил значение морской авиации и ряда других важнейших аспектов войны. Как многие британцы, он продолжал считать авианосцы «глазами флота», сторожевым охранением, помогающим направлять усилия крейсеров и линкоров, а не новой мощной силой, приходящей на смену линкорам[842]. Он недооценил роль, которую сыграли в войне немецкие подводные лодки[843]. Как его генералы, он занижал военные возможности Японии и в то же время переоценивал способность вооруженных сил Британии удержаться в Азии, особенно в Сингапуре. В общем, как писал один из его исследователей, «не будет несправедливым сказать, что Черчилль грешил рядом ложных представлений, если не иллюзий, о Дальнем Востоке, которые повлияли на его решения как государственного деятеля и на его сочинения как историка»[844].
В начале войны Черчилль упорно верил, что победы можно будет достичь, главным образом, бомбардировками Германии, а не вторжением в нее, возможно, потому, что не мог придумать убедительной теории, объясняющей, как Британия до вступления американцев в войну могла бы добиться преимущества. «Когда я оглядываюсь вокруг, размышляя, как мы можем победить в войне, то вижу лишь один верный путь, – писал он в июле 1940 г., – и это должны быть разрушительные, уничтожающие все налеты тяжелых бомбардировщиков нашей страны на родину нацистов. Мы должны суметь одолеть их таким образом, иного выхода я не вижу»[845].
Черчилль увлекался рейдами и непрямыми атаками, часто в ущерб главной цели. «Уинстон обожал смешные операции», – прокомментировал его умный советник сэр Десмонд Мортон[846]. Черчилль переоценивал выгоду, которую дал бы захват Италии. Он был главной движущей силой высадки в Анцио к юго-западу от Рима[847], обернувшейся одним из самых тяжелых кризисов для союзников. Слишком полагаясь на свой опыт Первой мировой войны, Черчилль не понял, что моторизация войск снизила роль пехоты и увеличила значение артиллерии и танков во Второй мировой[848]. Это «слепое пятно», вероятно, мешало ему оценить боевую мощь американцев в 1944–1945 гг. и заставляло затягивать высадку во Франции, в то же время усиливая атаки на периферии гитлеровской коалиции.
И все же по большому счету он чаще бывал прав, чем неправ. Он, безусловно, был более прав, чем большинство его подчиненных, поэтому его постоянное сомнение в них оказалось очень ценным. Осмысливая стратегические проблемы войны, Черчилль следовал правилу: «Всегда полезно все выяснить»[849]. И нисколько не ошибался на этот счет. Он постоянно проверял подчиненных, что складывалось в «непрерывный аудит мнений по поводу ведения войны»[850], как писал Элиот Коэн, американский стратег и историк. Другим лидерам военного времени не помешало бы перенять этот подход и искать не консенсуса мнений, а расхождения взглядов своих советников, после чего требовать у них объяснить причины этих расхождений. Это позволяет выявить предположения, которые подчиненные делают, возможно, неосознанно. Если совещания проходят без споров, они, скорее всего, непродуктивны, особенно когда обсуждается планирование. Споры неприятны, особенно для советников, но это лучший способ выработать стратегию и выявить свои слабые места прежде, чем это сделает враг. Суть стратегии заключается в том, чтобы сделать трудный выбор между, как говорил Дуайт Эйзенхауэр, необходимым и важным. Черчилль справлялся с этим мастерски.
Говоря о стратегическом мышлении Черчилля, Коэн приходит к следующему выводу: «Он видел военную политику в форме больших строительных блоков, которые вместе создают структуру победы. Очень немногие могут мыслить или мыслят подобным образом». Еще сильнее поражает, добавляет Коэн, стратегическое чувство времени Черчилля, сначала выигравшего время для укрепления британских вооруженных сил, затем дожидавшегося вступления американцев в войну и, наконец, согласившегося вторгнуться в Европу в 1944 г.
К чести Черчилля, он понимал, что ему нужен человек вроде генерала Брука, который будет спорить с ним. В конце концов именно Черчилль заметил Брука, возвысил его, поставив во главе вооруженных сил, и держал на этом посту немало лет. Когда критические дневники Брука были опубликованы, врач Черчилля спросил его, не думал ли он когда-нибудь уволить генерала. «Никогда», – ответил Черчилль, задумался и повторил ответ «с полной убежденностью»[851].
Во время войны Черчилль однажды сказал генералу Исмею, своему военному советнику, что пришел к мысли, что Брук его ненавидит: «Я знаю, это правда. Я вижу это в его глазах»[852].
Исмей ответил: «Начальник штаба империи не питает к вам ненависти! Он любит вас! Но он никогда не скажет, что согласен с вами, если он не согласен». Это, конечно, было совершенно необходимо для того, чтобы выполнять свои обязанности.
Черчилль, услышав это, прослезился: «Дорогой Брук!»
* * *
С усилением Америки росло и недовольство Британии приезжими. Эноха Пауэлла сегодня помнят как реакционного политика 1960-х гг., противника иммиграции, но этому предшествовали две его блестящие карьеры в разных областях. До Второй мировой он был одним из самых блестящих филологов-классиков своего времени, прославившимся работой о Фукидиде. Во время войны Пауэлл стал чрезвычайно успешным офицером военной разведки, дослужившись до звания бригадира. В это время он стал убежденным антиамериканистом. В феврале 1943 г. он писал родителям: «Я вижу, как растет на горизонте еще бо́льшая угроза, чем Германия или Япония… наш страшный враг, Америка»[853]. В начале войны Пауэлл проходил подготовку[854] под руководством Малкольма Маггериджа, который служил тогда сержантом-инструктором, а впоследствии стал другом Оруэлла и часто навещал его в последние месяцы, когда умирающий Оруэлл не вставал с постели.
Оруэлл писал о растущем антиамериканизме, который он наблюдал в Англии. «Рост враждебности в отношении Америки очевиден, и теперь ее разделяют люди, которые прежде были настроены проамерикански, например литературная интеллигенция»[855], – писал он, добавляя, что левые начинают понимать: «США являются потенциальным империалистом и политически очень отстают от Британии. Сегодня популярно присловье, что Черчилль умиротворяет Америку, как Чемберлен умиротворял Германию».
В конце 1944 г. журнал The Economist подхватил эту фразу, обвинив Черчилля в «политике умиротворения»[856] по отношению к Соединенным Штатам. В марте 1945 г., когда близилась победа в Европе, секретарь Черчилля Джон Колвилл записал в дневнике: «Американцы стали очень непопулярны в Англии»[857].
Американцев, в свою очередь, бесило, что Черчилль не спешит вторгаться во Францию и вступать в сражение с немцами. По словам Ральфа Ингерсолла, в то время бывшего журналистом с левыми взглядами: «Циники видели, что с 1942 г. Британия расходовала русские жизни и американские доллары, делая на том и на другом прибыльный банковский процент. Так зачем было торопиться?»[858]
Америка обходит Британию
Британцы сами себя обманули, уверовав в отставание американцев, это не позволяло им увидеть ошеломляющий темп развития Америки. К концу 1943 г. британские военные сражались уже четыре года. Они были утомлены. Солдат стало не хватать. Американские же войска только начинали показывать свои возможности.
В начале 1943 г. Черчилль сказал генералу Бруку, что тот возглавит командование вторжением союзников в Европу. Однако к августу того же года Черчиллю пришлось признать, что силы, атакующие немцев на западном фронте, будут преимущественно американскими, и согласиться с Ф. Д. Р., что командовать вторжением должен американец[859]. «Мы сможем уравновесить американские экспедиционные силы практически равными силами британских подразделений, но после высадки первого эшелона усиление должно быть полностью американским, поскольку мои людские ресурсы совершенно исчерпаны», – писал он через несколько недель[860].
В начале 1944 г. произошла катастрофа в Анцио – вдохновленная Черчиллем, но осуществленная целиком под американским командованием высадка десанта на средиземноморском побережье к юго-западу от Рима. Наступление быстро захлебнулось, позволив союзникам втянуться в очередной раунд взаимных обвинений. Американцы отмечали слабость британских войск (справедливо). Британцы, в свою очередь, указывали на нерешительность и некомпетентность американских командующих Джона Лукаса и Марка Кларка (опять-таки справедливо) и на трусость американских солдат (совершенно несправедливо). В действительности, если кого и следовало винить, то Черчилля, задумавшего «выскочить» на побережье Италии и застать немцев врасплох. Только благодаря способностям, энергии и терпению Эйзенхауэра провал в Анцио еще больше не ухудшил отношения союзников.
Из Америки через Атлантику шел мощный поток людей, техники и энергии. К середине 1944 г. американцы превосходили британцев в боевой эффективности. Их части были высоко моторизованы, что делало их намного более мобильными, чем британскую пехоту. Во Франции в 1944 г. британский фельдмаршал Бернард Монтгомери не согласился с предложенным американским генералом Лоутоном Коллинзом планом логистики, заявив, что корпус (группа обычно из трех дивизий общей численностью около 50 тысяч человек) невозможно снабжать по единственной дороге. Коллинз дерзко ответил: «Что ж, Монти, может, для британцев это и невозможно, а мы можем»[861].
Британцы уступили американцам, потому что переоценили свой технологический уровень и недооценили американскую прыть. Британская промышленность была в упадке, одной из причин которого являлось пренебрежение британской аристократией прикладными науками. Британией долгое время, как заметил Оруэлл, «правили ограниченные, чудовищно нелюбопытные люди», считавшие естественно-научные дисциплины «сомнительным занятием» и даже «презиравшие» их[862].
Черчилль сознавал этот просчет. В декабре 1944 г. он писал министру промышленности о новом на тот момент чудо-лекарстве пенициллине: «Печально узнать, что, несмотря на то что это британское открытие, американцы настолько нас опередили не только в объемах выпуска, но и в технологии производства»[863]. Однако даже высоко оценивая радары, ядерное оружие и другие чудеса техники своего времени, Черчилль пренебрегал британской наукой в своих исторических сочинениях. В его текстах, заметил историк Рональд Левин: «Промышленной революции словно и не было. Не удостаиваются ученые и похвального отзыва, в отличие от воинов и государственных деятелей. Ньютона, Фарадея, Резерфорда и их коллег он обходит молчанием или ограничивается несколькими случайными словами в их адрес»[864].
В этом отношении Черчилль не был одинок среди историков. Ученые, вышедшие из среды аристократии, часто отражают предубеждения своей узкой группы. Британские историки в течение долгих лет возмущались социальными сдвигами, вызванными промышленной революцией. Один из самых влиятельных из них, Джордж Тревельян, который родился на два года позже Черчилля и тоже был сыном видного британского политика, почти дошел до обличения науки и технологии как антибританских явлений, что странно для представителя нации, которая всего несколько десятилетий назад проложила путь промышленной революции. «Уже в середине XIX в. перемены в промышленности порождали вульгарность масс, которой наряду с появлением новой журналистики, упадком провинции и механизацией жизни было суждено в скором времени погубить высокие стандарты литературной культуры, – писал он в «Социальной истории Англии». – Научное образование, когда оно, наконец, появилось, с неизбежностью вытеснило гуманизм»[865].
Историк Коррелли Барнетт обнаружил, что в результате такого отношения элиты отставание с практическим применением научных достижений в ХХ в. стало постоянной проблемой Британии. Изучив производство британских танков во время Второй мировой войны, он пришел к выводу, что недостатки их механики были «по большей части, виной коммерческих фирм, некомпетентных в проектировании, разработке и производстве», что танки стали жертвой «поспешного, неумелого конструирования по отдельным элементам вместо тщательного технического проектирования и испытания; точно та же пагубная модель, что и в случае новых моделей британских автомобилей после войны»[866]. Это, как отмечает он, одна из причин того, что Соединенные Штаты с 1939 по 1944 г. произвели для Британии больше танков, чем сама Британия. Эта удручающая схема повторялась в отношении множества других продуктов: грузовых автомобилей, радаров, радио – практически в каждой технологической сфере, за исключением реактивных двигателей, где Британия продолжала демонстрировать совершенство. Однако и здесь пришлось обратиться к Америке, где производились лопатки турбин и импеллеры, не разрушающиеся при высоком давлении.
Некоторые ученые оспорили аргументы Барнетта, но не слишком убедительно. Например, историк Дэвид Эдгертон в работе 1991 г. отрицал выводы Барнетта, но так и не опроверг его главного аргумента, а именно, что упадок Британии в аэрокосмической, автомобилестроительной и информационной технологиях, ставший неоспоримым в 1950-е гг., впервые проявился десятилетием раньше, во время войны[867].
Американцы вырвались вперед не только в технологии, но и в людских ресурсах. Боеспособность американского солдата за время войны выросла значительно сильнее, чем его британского коллеги. Бернард Льюис, впоследствии видный специалист по истории Среднего Востока, а в годы Второй мировой офицер британской военной разведки, описывал два главных свои впечатления от американских вооруженных сил[868]. Первое – они самонадеянно отказывались изучать британский боевой опыт, соответственно, отстаивая право совершать собственные ошибки. Второе, более значимое, по его мнению: «Скорость, с которой они осознавали эти ошибки, разрабатывали и внедряли способы их исправления. Это выходило за рамки всего нашего опыта». Одной из причин убеждения, что британцы почти ничему не могут научить, отметил американский военный атташе Рэймонд Ли, была надменная уверенность американцев, что, если к началу 1942 г. «британцы не преуспели в войне, с чего они лезут к нам с советами?»[869]. Что касается их технических возможностей, Ли высказался с презрением: «Британцы действительно не имеют национальной склонности к механике и воспользуются любым предлогом, лишь бы не иметь дела ни с чем новым. Это, конечно, относится не только к танкам и самолетам, но и к любому другому техническому оснащению, которое мы им предоставляем».
Британские генералы были вынуждены уделять больше внимания американцам в месяцы, последовавшие за высадкой союзнического десанта в Нормандии, когда они остались без людских резервов, а боевые силы американцев на фронте достигли трехкратного превосходства[870] по сравнению с британцами. Американцы стали требовать большего права в принятии решений о ведении боевых действий, а порой просто принимали их самостоятельно, не посоветовавшись с британцами.
Черчилль уступает «Драгуну»
В 1944 г., когда война близилась к концу, Оруэлл заново пересмотрел свою публицистику последних лет. «Первое, что я должен признать, – что по меньшей мере вплоть до конца 1942 г. я сильно ошибался в анализе ситуации, – писал он. – Я абсолютизировал антифашистский характер войны, преувеличивал действительные социальные изменения и недооценивал огромную силу реакции»[871]. Он не мог знать, когда писал это признание, что всего через семь месяцев к власти придет лейбористское правительство и начнет осуществлять некоторые из масштабных социальных изменений, которые он поддерживал.
Черчилль уже не был способен на такую интеллектуальную гибкость, отчасти потому, что устал, но также из-за ощущения, что его со всех сторон блокировали американцы. К концу лета 1944 г., когда армии союзников продвигались к Германии, янки стали пользоваться новой тактикой, вежливо принимая к сведению советы британских союзников и игнорируя их. «До июля 1944 г. слово Англии имело значительный вес, – отметит Черчилль через десять лет. – После этого я видел, что важные решения принимает Америка»[872].
Черчилль узнал это на горьком опыте в то лето, когда американцы снова и снова отмахивались от его протестов против разработанной ими операции «Драгун». Ее план предполагал вторжение в южную Францию и продвижение на северо-восток для воссоединения с войсками, высадившимися в Нормандии. Ранее Черчилль был прав, предпочитая атаковать нацистов по периферии, поскольку это давало русским причину продолжать участвовать в войне. Однако к середине 1944 г. союзники были уже достаточно сильны, чтобы наступать в сердце Европы. Время ударов по периферии прошло.
Черчилль давно уже предпочитал ориентироваться на фактическую ситуацию, потому что она поддерживала его стратегическое видение. Теперь факты были против него, и он, очевидно, не знал, что делать.
В своих мемуарах он преподносит эту проблему, утверждая, что вопрос об операции в южной Франции «ознаменовал первое серьезное расхождение в большой стратегии между нами и нашими американскими друзьями»[873]. План не понравился ему, в частности, тем, что требовал перебросить войска союзников из северной Италии. С его стороны это было нерационально, поскольку на итальянском фронте сложилась патовая ситуация. Даже если бы оборону немцев удалось прорвать, союзники, двинувшись на север, столкнулись бы с другими немецкими войсками, надежно укрепившимися в альпийских ущельях. Кстати, Сталин привел этот аргумент восемью месяцами ранее: на Тегеранской конференции едва ли не первым его высказыванием стал настоятельный совет отказаться от этого плана. С советской точки зрения, сказал он, Италия не «подходящее место для попытки развить наступление на Германию; этому мешают Альпы, которые служат почти непреодолимым барьером»[874]. Разумеется, не исключено также, что Сталин не хотел, чтобы войска союзников продвигались к тем частям Восточной Европы, на которые он положил глаз, а вскоре занял и подчинил себе.
Черчилль долго и упорно противился операции на юге Франции, отправляя многочисленные письма Рузвельту и его советникам. «Нет сомнений, – утверждал он, – что наступление вверх по долине Роны, начавшееся в конце августа, легко может быть блокировано и остановлено»[875]. Через несколько недель он вновь отправил телеграмму Ф. Д. Р., «умоляя» его отменить приказ о наступлении. Он обрабатывал Эйзенхауэра, предсказывая, что операция «Драгун» потерпит фиаско, подобно высадке в Анцио, где войска союзников увязли на долгие месяцы. «Айк сказал “нет” и повторял “нет” весь вечер, в конце концов сказав “нет” во всех формах, существующих в английском языке», – записал в дневнике офицер-порученец Эйзенхауэра[876]. Тогда Черчилль стал обвинять американцев в «давлении», грозя подать в отставку из-за несогласия с операцией «Драгун».
Ни тогда, ни позже он так и не признал, что операция на юге Франции была успешной. Она осложнила положение немцев и во Франции, и в Италии. При высадке войск в середине августа 1944 г. в Нормандии американцы встретили на удивление слабое сопротивление прежде всего именно потому, что немцы были вынуждены обороняться на разных фронтах. В течение месяца американцы преследовали отступающего противника от Французской Ривьеры почти до того места, где сходятся границы Франции, Швейцарии и Германии. Там наступающие части соединились с армией Паттона. Возможно, Черчиллю, как и Монтгомери, еще предстояло осознать, как быстро может продвигаться моторизованная армия США.
Если в начале войны он отличался гибкостью ума, то теперь был вздорным и придирчивым. «До сих пор это производило эффект, противоположный тому, что было задумано», – продолжал он настаивать после высадки войск[877].
Даже в мемуарах, написанных несколько лет спустя, Черчилль отказывался признать факты. Он утверждал, что, даже если бы операция «Драгун» освободила средиземноморские порты, например Марсель, «это не помогло бы, потому что произошло бы слишком поздно. Именно так и получилось, и уже в 1944 году было понятно, что так будет»[878].
На самом деле, как отмечают историки Уильямсон Мюррей и Алан Миллетт в своей великолепной истории Второй мировой войны, «американцы были правы»[879]. С точки зрения логистики захват южных портов Марселя и Тулона «стал поистине даром небес для снабжения войск США, сражавшихся на границе Германии осенью и зимой 1944–1945 гг., тем более что союзники не могли использовать порт Антверпена вплоть до декабря». Марсельский порт почти не пострадал, как и железнодорожные пути к нему – в отличие от железных дорог северной Франции, разбомбленных при подготовке к высадке десанта в Нормандии. В 1944–1945 гг. четверть объема всего снабжения союзников в Западной Европе поступало морем в порты юга Франции[880], откуда грузы быстро доставлялись на фронт по железным дорогам. К декабрю 1944 г. союзники ежемесячно получали 501 тысячу английских тонн[881] грузов через Марсель и соседние порты[882], в два раза больше, чем через все порты севера Франции. Черчилль был слаб в логистике, возможно, это одна из причин, по которой Антверпен так долго оставался в руках немцев.
Не исключено, что раздражение Черчилля из-за операции «Драгун» заставило его упустить ряд возможностей. Летом 1944 г. его выдающийся ум мог переключиться на более крупные проблемы послевоенного мира. Например, как противодействовать вероятному захвату Россией Восточной Европы? В частности, можно ли было помочь Польше? Эти вопросы были достойны его интеллектуальных возможностей. Но может быть, они были настолько масштабными или трудноразрешимыми, что он предпочел направить свои силы на второстепенный вопрос о высадке десанта на юге Европе.
По мере того как все отчетливее проступали контуры послевоенного мира, Черчилль становился все мрачнее, впадая в хандру, которую принято называть «тоска зеленая»[883]. За ланчем в августе 1944 г. он сказал Вайолет Бонэм Картер: «Мир, который открывается нам, ужасен»[884]. В тот вечер она записала в дневнике: «У. произвел на меня впечатление очень усталого человека… Главное, я не почувствовала восторга близящейся победы, который ожидала увидеть».
Через несколько недель он мрачно сказал своему врачу: «Я не верю в этот дивный новый мир»[885].
Когда-то этот человек глубоко вникал во все подробности, связанные с войной, теперь порой казалось, что эта тема ему наскучила. В сентябре 1944 г. во время встречи в верхах в Квебеке один из секретарей пытался ознакомить его с планами зон оккупации Германии в момент, когда Черчилль принимал ванну. Он с удивлением наблюдал, как премьер-министр время от времени с головой уходил под воду, становясь «глухим к некоторым фрагментам текста»[886].
Британцы склонны дуться, если их отодвигают на второй план. Уныние генерала Брука осенью 1944 г. выразилось в утверждении, что усилия союзников тормозили «два главных фактора… a) американская стратегия и б) американская организация»[887]. Это было не просто брюзжание, а неверная оценка реалий войны. Видящиеся ему проблемы Брук предлагал решать следующим образом: «Мы должны забрать руководство у Эйзенхауэра»[888]. Сама вера в возможность этого свидетельствовала об элементарном непонимании соотношения сил двух стран. Как плохо Брук понимал американцев, показывает запись об Эйзенхауэре, сделанная им в это время для себя. Успех наступления союзников на Германию, считал он, «полностью зависит от того, насколько Монти сумеет справиться с ним»[889]. Похоже, Брук не подозревал, что Эйзенхауэр терпеть на мог Монтгомери, не доверял его суждениям в отношении военных действий, возмущался его неспособностью освободить критически важный бельгийский порт Антверпен, видел его непонимание того, как действуют на фронте американцы, а вскоре и всерьез задумался о его отстранении, – это было во власти Эйзенхауэра. Это Айк справлялся с Монти, а не наоборот.
Подобные проявления язвительности не были редкостью в первые недели и месяцы после высадки десанта в Нормандии. В октябре 1944 г. генерал-лейтенант сэр Генри Поунелл, старший британский офицер в Азии, записал в дневнике, что американцы являются «очень сырой, незрелой и необразованной нацией, не имеющей никакого представления о том, как себя вести»[890]. Что любопытно, Поунелл позднее помогал Черчиллю написать шесть томов воспоминаний о войне, но, похоже, никак не повлиял на описание англо-американских отношений.
В начале 1945 г. Брук, высший военный советник Черчилля, находил, что тот «выглядит очень старым, очень непоследователен в мыслях, и глаза у него вечно на мокром месте»[891]. Действительно, Черчилль был изнурен умственно и физически.
Старому мировому порядку приходил конец. В феврале Черчилль в последний раз увиделся с Рузвельтом на борту корабля ВМФ США «Куинси» в гавани Александрии в Египте после Ялтинской конференции. «Я чувствовал, что его связь с жизнью совсем ослабла», – писал Черчилль[892]. Через два месяца Ф. Д. Р. умер.
По непонятной причине Черчилль, часто и легко пускавшийся в путь во время войны, решил не присутствовать на похоронах Рузвельта, ссылаясь на загруженность делами в правительстве. Это объяснение не внушает доверия, если вспомнить, как он носился по всему свету в годы войны. Похоже, Черчилль решил, что после пяти лет заискиваний перед американцами настало время им прийти к нему. «Я думаю, было бы хорошо, если бы президент Трумэн приехал сюда», – написал он в записке королю, в которой объяснял, почему принял решение воздержаться от поездки в Америку[893]. Затем, несмотря на заявления о неотложных государственных делах, он отправился на уик-энд за город и так увлеченно танцевал со своей дочерью венский вальс, что у него закружилась голова, он сказал «стоп» и упал на стул[894]. Один член парламента, видевший Черчилля примерно в это время, сказал, что тот кажется «поразительно безразличным»[895] к смерти Ф. Д. Р.
Врач Черчилля Чарльз Уилсон подозревал, что Черчилль подустал от Ф. Д. Р. «Умонастроение Рузвельта – я имею в виду его погруженность в социальные проблемы и в права обывателя – не вызывало отклика у Уинстона. Война – единственное, что было между ними общего»[896]. Уилсон считал, что Черчилля больше занимал Сталин, «типаж, который Уинстон прежде не встречал; он интересовал его, несмотря на его намеренную грубость и резкую речь… Этот человек поразил его воображение». В 1947 г. Черчилль в разговоре с Уилсоном назвал Рузвельта «человеком, не имевшим вообще никаких идей»[897].
Рой Дженкинс в биографии Черчилля пришел к тому же выводу. «Вероятно, эмоциональная связь между Черчиллем и Рузвельтом никогда не была такой тесной, как было принято считать, – заметил он. – Это было, скорее, ситуативное партнерство и выгода, а не дружба двух личностей»[898].
Возможно, поэтому их отношения подлежат некоторой переоценке. Это нельзя назвать дружбой в привычном понимании. Скорее, это было удивительно тесное взаимодействие двух мировых лидеров в пору кризиса. Они, очевидно, почувствовали друг в друге что-то родственное. Что происходит, когда встречаются два выдающихся оратора? Возможно, они замолкают и обращают внимание друг на друга. По словам Роберта Шервуда, биографа Гарри Хопкинса: «Черчилль был одним из немногих людей, к которым Рузвельт давал себе труд прислушиваться, и наоборот»[899].
Некоторые из людей, близких Черчиллю, пришли к заключению, что премьер-министр недооценивал президента, и в результате тот его переиграл. Сэр Десмонд Мортон, долгое время работавший советником Черчилля, был убежден, что полуамериканское происхождение Черчилля могло «заслонить от него тот факт, что цель Рузвельта – сокрушить Британскую империю, в чем он и преуспел»[900].
Однако такой взгляд не основан на исторических фактах. Упадок Британской империи начался за много десятилетий до появления на политической сцене Рузвельта. Британия перестала доминировать в промышленной сфере к концу XIX в., лишилась огромных людских ресурсов в сражениях Первой мировой и истратила оставшиеся деньги в ходе Второй мировой войны.
Более того, ее промышленность занималась медленным самоудушением. Управляемые наследниками, более заинтересованными в выжимании прибылей, чем в инвестициях в развитие, «британские фирмы были не способны перенять передовые технологии»[901], – заключает историк бизнеса Альфред Д. Чендлер – младший. Результаты блестящих исследований британских университетских ученых не доходили до фабрик. Британия возглавила Первую промышленную революцию угля и пара, но, можно сказать, пропустила Вторую промышленную революцию конца XIX – начала XX вв., основанную на нефти, химии, металлах, электричестве, электронике и легком машиностроении, например автомобилестроении. К концу 1940-х гг. Англия не имела ни империи, ни экономики, способной конкурировать с экономиками других ведущих мировых игроков. По словам Коррелли Барнетта, к окончанию Второй мировой войны британцы «уже написали всеобъемлющий сценарий послевоенного отката Британии на пятое место в свободном мире в качестве индустриальной державы, выпуск промышленной продукции которой составлял лишь две пятых от западногерманского»[902]. Отметим, что с 1977 по 1995 г. Барнетт был хранителем архива Черчилля в Кембриджском университете.
Единственное, что вселяло в Черчилля энергию на этом этапе войны – это поездки на фронт. В марте 1945 г. он испытал восторг, стоя на мосту через Рейн в Германии. Генерал Уильям Симпсон, скромный техасец, несправедливо забытый член высшего военного командования Америки в войне, запаниковал: «Премьер-министр, впереди снайперы, они обстреливают обе стороны моста, а теперь принялись и за дорогу позади вас. Я не могу взять на себя ответственность за ваше пребывание здесь и вынужден попросить вас уйти»[903]. Черчилль в раздражении вцепился в сломанную балку моста и сердито оглянулся на Симпсона; однако, позволив себе эту выходку, уступил и без возражений покинул опасное место. Этот эпизод показывает живущего в Черчилле «внутреннего ребенка»[904], по замечанию Вайолет Бонэм Картер. Нельзя также отделаться от мысли, не чувствовал ли Черчилль, что у него осталось мало дел на земле и что быть застреленным на передовой означало бы красивый уход со сцены.
Конец войны: Черчилль сбивается с ритма
Насколько сдал Черчилль? К тому времени, когда его пришлось уводить с моста через Рейн, довольно сильно. Это подтвердила его последняя важная речь о европейской войне, произнесенная 13 мая 1945 г. Он был в наихудшей форме. Прошло ровно пять лет с тех пор, как он произнес великолепную речь о «крови, тяжелом труде, слезах и поте», и он был уже не способен на ораторские высоты, которых тогда достиг.
В мае 1945 г. он начал выступление словами: «После различных эпизодов, случившихся на прошлой неделе, стало ясно, что на данный момент ситуация развивается замечательно». Казалось, он думает о чем-то другом.
Затем, выступая по важнейшему в истории поводу, он отвлекся на ненужный выпад в адрес нейтрального ирландского правительства президента Имона де Валеры: «Со сдержанностью и уравновешенностью, которым, замечу, в истории найдется мало аналогий, правительство Его Величества ни разу не применило силу по отношению к ним [ирландцам], хотя временами это было бы весьма легко и естественно, поскольку мы позволили правительству де Валеры заигрывать в свое удовольствие с немцами, а позднее с японскими представителями»[905].
На протяжении всей войны одной из сильных сторон Черчилля было умение нравственно и эмоционально оказываться на высоте положения, но в этот эпохальный момент он не справился с этой задачей. Злость по отношению к маленькому нейтральному соседу, жестоко подавляемому Англией, едва ли была подходящей темой для речи выдающегося английского лидера по поводу победы, которая предопределит будущее мира. Бессвязность его выступления наводит на мысль об импровизации. Честно говоря, у Черчилля была причина с глазу на глаз поблагодарить де Валеру. В начале войны Британия хотела разместить в Ирландии противолодочные самолеты и корабли. Некоторые историки полагают, что, если бы ирландское правительство лучше разыграло эту карту, то убедило бы Черчилля предоставить Ирландии контроль над Северной Ирландией в обмен на разрешение создать базы, с последующим вступлением в войну на стороне Британии. Черчилль, вероятно, разозлился из-за того, что де Валера, следуя дипломатическим условностям, двумя неделями раньше выразил от имени ирландского правительства соболезнование Германии в связи со смертью Гитлера.
Приближаясь к концу этой странной речи и заглядывая в будущее, Черчилль несколько выровнялся. В одном пассаже, звучащем по-оруэлловски, он предупредил: «Нам, жителям Европейского континента, предстоит проследить, чтобы простые и достойные цели, ради которых мы вступили в войну, не были отброшены или упущены из виду в месяцы, которые последуют за нашим успехом, и чтобы слова “свобода”, “демократия” и “равноправие” не утратили свое истинное значение, в котором мы их понимаем»[906]. Скоро он вернется к этой теме в речах в Лондоне и Миссури, предупреждающих о том, что Европа отныне разделена «железным занавесом», за которым люди вынуждены бояться «стука полицейского в дверь»[907].
Отвлечение на Ирландию показало, как изменился образ мыслей Черчилля с приближением конца войны. Он почувствовал, что снова может дать волю своим сепаратистским устремлениям. Месяц спустя, предупреждая об опасностях прихода к власти Лейбористской партии, он пустился в совсем уж экстравагантные рассуждения: «Никакое социалистическое правительство, руководящее всей жизнью и промышленностью страны, не может позволить себе допустить свободного, резкого или непримиримо сформулированного выражения общественного недовольства. Им придется вернуться к той или иной форме гестапо»[908]. Это был неожиданный и глупый поступок – обсуждать в подобном тоне лидеров Лейбористской партии, с которыми он проработал всю войну в коалиционном правительстве и которые фактически помогли ему стать премьер-министром в 1940 г., отказавшись поддерживать Невилла Чемберлена. Тогда они отнеслись к нему лучше многих тори. В ходе этих выборов, записал Маггеридж, Черчилль «променял роль национального лидера, которую он безусловно заслужил, на партийное лидерство, для которого плохо подходил и которое ему вредило»[909].
Тем не менее Оруэлл считал, что Черчилль выиграет выборы. «Я все время предсказывал, что консерваторы выиграют с небольшим перевесом, – писал он за несколько недель до голосования, – и до сих пор так думаю, хотя и с меньшей уверенностью, чем раньше, поскольку очевидно, что ситуация очень сильно склоняется в другом направлении. Вероятно даже, что лейбористы победят на выборах вопреки воле своих лидеров»[910].
Слезы Уинстона Черчилля
Для Черчилля война закончится, как и началась, слезами. В мае 1945 г., когда Гитлер уже был мертв, а Германия побеждена, Черчилль обменялся рукопожатиями с членами своего военного кабинета. «Он всех нас поблагодарил очень тепло и со слезами на глазах за все, что мы сделали во время войны, за бесконечную работу, проделанную нами “от Эль-Аламейна[911] до нашего нынешнего положения”», – писал Брук.
В мае 1940 г. Черчилль предложил соотечественникам кровь, тяжелый труд, слезы и пот и честно внес свою долю по последним трем позициям. Пожалуй, ни один мировой лидер не плакал на публике так часто, как Черчилль в бытность премьер-министром. Это особенно примечательно, поскольку происходило, как отметил Саймон Шама, «в культуре, считавшей подобное проявление эмоций свидетельством невероятно дурных манер»[912]. Он часто плакал не только на мрачных церемониях или в моменты личной скорби, но и во время бесед и публичных выступлений. Это был, пожалуй, существенный элемент его стиля руководства, показательно небританский и тем более неожиданный в британском лидере. Здесь отразилось и свойственное ему поразительное отсутствие границы между публичной и частной жизнью.
Однажды, вернувшись из Марокко, где он поправлялся после пневмонии, Черчилль едва успел усесться на свое место в обожаемой палате общин, как «две крупные слезы покатились по его щекам»[913]. Он мог довести себя до слез, даже диктуя текст речи. «Несколько минут он мог расхаживать туда-сюда, составляя предложения, – вспоминал один из его секретарей. – Иногда его голос переполнялся эмоциями, порой по щеке бежала слеза»[914]. Однажды, объясняя генералу Бруку, как тяжело быть премьер-министром военного времени, Черчилль расплакался. «Слезы катились по его лицу», – запомнил Брук[915].
Склонность плакать на людях могла быть следствием напряжения, в котором он находился, но и тогда это была не слабость, а сила Черчилля-политика. Народ Англии страдал от войны. Около 67 тысяч гражданских лиц были убиты бомбами и снарядами, погибли из-за пожаров и обрушений, вызванных обстрелами фактически в глубоком тылу[916]. Глядя на Черчилля, британцы видели, что их лидер способен чувствовать и сострадать. Это не было данностью для такой страны, как Британия, с гигантской дистанцией и недоверием между классами.
Нередко слезы Черчилля, возможно, проливались в его собственных интересах или ради его целей. Черчилль понимал, что если он не будет тронут, то и окружающие ничего не почувствуют. «Оратор является воплощением страстей масс, – рассуждал он в эссе «Подмостки риторики», написанном в 1897 г. – Прежде чем он вызовет у них слезы, должны пролиться его собственные. Чтобы убедить их в чем-то, он сам должен в это верить»[917].
Что означали его слезы? Сэр Десмонд Мортон, который был близок к Черчиллю во время войны, но позже стал его суровым критиком, пришел к убеждению, что этот человек любил власть намного больше, чем людей, и в действительности был практически совершенно лишен эмпатии. «Уинстон просто не имел ни малейшего представления, сколько проблем другие испытывают из-за него, – писал он. – Уинстон всегда был просто не способен понять любого другого человека»[918]. Другой бывший союзник и помощник Роберт Бутби пришел к тому же выводу: «“Пусть не будет у тебя других богов, кроме меня” всегда было для него первой и самой важной заповедью»[919]. Однако, добавил он, эта черта Черчилля не была безусловно отрицательной. «Человек, не отличающийся некоторой бессердечностью, не смог бы дать отпор Гитлеру».
Парадоксально, но факт: эгоистичность, составляющая суть Черчилля, была необходимой для военного лидера. Более сострадательный человек мог быть раздавлен эмоциями и тяжестью задачи год за годом вести мировую войну.
Два ви́дения смерти в Потсдаме
В июле 1945 г. Черчилль отправился в германский Потсдам для участия в последней военной встрече в верхах. Там американцы сообщили британцам, что только что успешно испытали атомную бомбу. Черчилль в благоговейном страхе стал вслух рассуждать о том, как новое оружие могло бы изменить конец войны и даже помочь сдержать русских. Брук, что характерно, отмахнулся от этой новости – очередного «преувеличения американцев»[920]. В своем дневнике он выражал опасения, что Черчилля увлекут перспективы новой ядерной эры: «Я содрогался при мысли, что он позволит скороспелым результатам одного эксперимента исказить все его дипломатическое ви́дение!» Это был взгляд традиционалиста, неспособного оценить долгосрочное значение неожиданных изменений. Талант Черчилля состоял в том, что ему это было по силам.
16 июля, в тот же день, когда американцы произвели ядерный взрыв, Черчилль поехал в Берлин осмотреть бункер Гитлера, в том числе помещение, где тот умер[921]. Через восемь дней ему приснилось, что он сам лежит в морге. Он сказал своему врачу: «Я видел – это было очень яркое видение – свое мертвое тело под белой простыней на столе в пустой комнате. Я разглядел свою голую ступню, высунувшуюся из-под простыни»[922].
Сон оказался вещим. На следующий день Черчилль пережил политическую смерть – он и его партия вчистую проиграли национальные выборы. Это был ошеломляющий удар – лишиться поста еще до завершения Второй мировой войны на Тихом океане. «Черчилль стоял за Британскую империю, за независимость Британии и за “антисоциалистическое” ви́дение Британии, – заключил историк Джон Чармли. – К июлю 1945 г. первая была на краю пропасти, вторая всецело зависела от Америки, а третье только что испарилось с победой лейбористов на выборах»[923].
Впервые за шесть лет Черчиллю пришлось искать место жительства в Лондоне. Это был катастрофический поворот судьбы для человека, только что приведшего свою страну к великой победе: Британия осталась непобежденной и все еще являлась демократией. Даже сейчас это воспринимается как незабываемый двойной триумф. Как заключил историк Уильямсон Мюррей: «Под предводительством Черчилля Британия уцелела, практически в целости сохранив свои ценности, – масштабное достижение, если вспомнить, в каком положении она находилась в июне 1940 г.»[924].
Глава 13 Месть Черчилля Военные мемуары
Уязвленный и взбешенный результатом выборов 1945 г., Черчилль, как и Оруэлл, удалился в деревню. Он, однако, не отправился на Внутренние Гебридские острова, а укрылся в своем загородном доме среди покатых зеленых холмов к югу от Лондона и сел писать воспоминания о войне. В следующие восемь лет он вместе с командой исследователей и писателей создаст колоссальные 1,9 млн слов, напечатанных на 4823 страницах шести томов, претендуя в них на главную роль в величайшем конфликте мировой истории. В отличие от множества политиков-мемуаристов, он даст полную свободу своим ярким эмоциям, и это одна из причин, по которой книгу стали читать – и читают до сих пор.
Это не значит, что воспоминания Черчилля точны[925]. Целые тома посвящены разбору его ошибок, преувеличений и умолчаний. Тем не менее мемуары остаются интересными по ряду причин. Прежде всего это единственное описание Второй мировой войны, сделанное одним из главных мировых лидеров[926]. В них Черчилль берет тон древнегреческого царя, повествующего о своем главенстве в Троянской войне. «Теперь я был вполне удовлетворен основными решениями, которые принимало Адмиралтейство»[927], – пишет он, избегая обвинений в уподоблении себя монарху только потому, что использует первое лицо единственного, а не множественного числа. Он иногда прибегал к этому царственному тону во время войны, например, однажды написал флотскому командованию по поводу потерь Британии из-за атак подводных лодок: «Я весьма обеспокоен этими фактами»[928]. Временами его проза достигает гомеровского звучания, скажем, при описании генерала Беделла Смита, начальника штаба при Эйзенхауэре, явившегося «на быстрых крылах из штаб-квартиры Эйзенхауэра»[929].
Его рассказы о событиях войны в значительной степени расходятся с самими событиями. Черчилль во время войны достигал триумфальных результатов и оказался в конечном счете победителем. Тем не менее за мемуары он принимался с растущим осознанием того, что Британия больше не империя и даже, пожалуй, не великая держава. Она была усталой, относительно бедной и проигрывала в экономической конкуренции. В лучшем случае ей оставалось занять незавидное положение в тени зарвавшихся выскочек, неотесанных политиков и обнаглевших генералов Соединенных Штатов и пытаться направить эту страну-нувориша на путь мудрости.
«Том I: Надвигающаяся буря»
Историки могут оспаривать точность мемуаров Черчилля, и небезосновательно. Достаточно упомянуть, например, что Черчилль не запомнил, как встречался с Франклином Рузвельтом на обеде в Лондоне в 1918 г., но в «Надвигающейся буре» он заявляет, что на этой встрече «был поражен его блистательной личностью»[930]. (У Ф. Д. Р. остались несколько другие воспоминания. Однажды он, чтобы умаслить Джо Кеннеди, сказал ему: «Я не любил его [Черчилля] с тех пор, как побывал в Англии в 1918 году. Он мерзко вел себя на обеде, который я посетил, и пытался всеми командовать»[931]).
Возможно, мемуары Черчилля не являются историческим трудом в традиционном смысле, но это запоминающееся чтение, особенно первые тома, где узнаваемый голос Черчилля прорезается сквозь туман войны. Он умеет уложить образ в одну короткую фразу, как, например, в упоминании о «чешуйчатых крыльях»[932] поражения, простершихся над Германией в межвоенный период. Он пишет с большим чувством ритма, порой его проза звучит как мерный голос взрослого, вслух читающего любимому ребенку: «…Рейн, широкий, глубокий и быстро текущий Рейн, укрепленный и находящийся в руках французской армии, явится барьером и щитом, под прикрытием которого многие поколения французов смогут жить спокойно. Совершенно иными, однако, были настроения и взгляды стран английского языка, без помощи которых Франция была бы побеждена»[933][934]. Стилистические ошибки Черчилля – это ошибки избыточности. Он цветисто пишет, что на протяжении 1930-х гг. британцы были довольны «пеной благочестивых банальностей, пока враг сковывал им руки»[935]. Он никогда не использует одно слово, если два создадут сладкозвучную аллитерацию, например, пишет, что предвоенная эпоха давала «картину британской благоглупости и безалаберности»[936].
Чаще всего рука Черчилля-писателя уверенна и тверда, особенно в первом, самом личностном из шести томов. Возвышению Гитлера способствовала «варварская фигура внезапно возвысившегося торгового магната [Альфреда] Гугенберга»[937]. Германией 1930-х гг. «руководила горстка торжествующих головорезов»[938].
Он не жалеет времени на то, чтобы неспешно разворачивать свиток своей саги. Где профессиональный историк просто заметил бы, что промышленность Германии в 1936 г. перешла на режим военного времени, Черчилль пишет картину: «Германские военные заводы работали с большой нагрузкой. В Германии день и ночь крутились колеса и били молоты. Вся промышленность Германии превращалась в арсенал, и все население сплачивалось в одну дисциплинированную военную машину».
Он прекрасно обрисовывает главных действующих лиц. В качестве премьер-министра Невилл Чемберлен был «человек очень деловитый и целеустремленный… больше всего он надеялся войти в историю как “великий миротворец”. Во имя этого он всегда был готов оспаривать очевидные факты и идти на огромный риск для себя лично и страны»[939]. Адольф Гитлер, покончивший с этими надеждами, описан как «злой дух, поднявшийся из нищеты, пламенеющий при мысли о поражении, сжигаемый ненавистью и обуреваемый жаждой мщения, преисполненный намерения сделать германскую расу хозяином Европы, а может быть, и всего мира»[940].
Имея дар к описаниям, он насыщал их убедительной осязаемостью. Он не просто сообщает, что впервые со времен Вильгельма Завоевателя Англия столкнулась с угрозой вторжения. Нет, он пишет: «Почти тысячу лет Британия не видала огней чужеземного лагеря на английской земле»[941].
Он рассказывает, что бойцов из отрядов по обезвреживанию неразорвавшихся бомб, делом которых было забираться в воронки и взрывать немецкие боеприпасы, можно было опознать по лицу: «Исхудалые, изможденные, с синевой на лицах, с ярко блестящими глазами и необычайно плотно сжатыми губами… Описывая наши трудные времена, мы злоупотребляем словом “мрачный”. Его следует приберечь для описания отрядов по обезвреживанию»[942].
Как писатель Черчилль имел преимущество, которым обладают немногие историки. Он лично пережил все эти события и мог погрузить в них читателя. Возьмем, например, его отчет об уже упоминавшемся в главе 4 завтраке с фон Риббентропом, в тот момент послом Германии в Лондоне. Он завершает свои воспоминания о дипломате упоминанием, что впоследствии еще раз завтракал с ним, и сухо замечает: «Это был последний раз, когда я видел Риббентропа – вплоть до того момента, как его повесили»[943].
В отличие от историков он часто пишет эмоционально, особенно в первых двух томах воспоминаний, лучших из шести. Участие Польши в расчленении нацистами Чехословакии в 1939 г. – постыдный, сегодня почти забытый шаг – он назвал поступком «гиены»[944].
«Том II. Их звездный час»
Семь месяцев 1940 г., когда он был премьер-министром, стали вершиной жизни Уинстона Черчилля. Первый том его мемуаров, пожалуй, лучше написан, но содержание второго столь же увлекательно и еще более насыщенно. Можно сказать, что в 1940 г. Черчилль спас Британию. Бесспорно, именно он возглавил противодействие господству нацистов в Европе. Это было время, когда Германия заключила союз с Италией и Японией и мирный договор с Россией. «Ничто не превосходит 1940 год»[945], – пишет Черчилль в этом томе, который он назвал «Их звездный час». Но это, конечно, был и его звездный час.
Хотя он говорит об этом крайне скупо, чувствуется, что Черчилль потрясен почти до немоты падением Франции и шокирован поведением ее лидеров. Однако худшее было впереди. «Битва за Францию была проиграна, – пишет он в конце второго тома. – Битва за Британию – выиграна. Теперь предстояло вести битву за Атлантику»[946][947]. Одним из самых запоминающихся проявлений чувств в его мемуарах стало признание: «Единственное, что за все время войны действительно серьезно пугало меня, это угроза подводных лодок»[948]. Черчилль опасался, что немецкие субмарины прервут судоходство через Атлантику, оставив Британию без пищи, топлива и военного снаряжения, поставят британцев на колени. Этот страх достиг максимума, когда в конце 1940 г. из тридцати четырех кораблей конвоя, идущего из Канады, двадцать были потоплены[949].
«Том III: Великий союз», «Том IV: Поворот судьбы»
В третьем и четвертом томах повествование становится менее личным и более официальным. Над мемуарами работала команда, которую направлял Черчилль. Помощники собирали документы, писали под его диктовку и набрасывали черновики. Так появился труд, в котором Черчилль выступал одновременно автором, темой, инструктором и редактором. Дэвид Рейнолдс, историк из Кембриджа, написавший прекрасную книгу о том, как создавались эти мемуары, пришел к выводу, что Черчилль «руководил большой, прекрасно финансируемой группой исследователей, не уступающих по своему уровню мэтрам современной науки. Он не делал лично всю работу, но задавал параметры и направление и контролировал ее ход»[950].
Итогом обязательных включений и коллективного редактирования стало то, что мемуары Черчилля постепенно приобретали полуофициальный характер. Вот типичный пример: «К югу от британского сектора 19-й французский корпус занял Джебель-Фкирин, в то время как на севере американский 2-й корпус, предприняв атаку 23 апреля, неуклонно продвигался к Матёру»[951]. Этого, разумеется, следует ожидать, когда труд разрастается до четырех с лишним тысяч страниц.
Иногда команда авторов допускает мелкие небрежности. Глава о первых победах американцев на Тихом океане завершается выражением признательности ВМФ и ВВС США, однако американская авиация в этой главе ни разу не упоминается[952]. На одной странице вторая речь Черчилля в Конгрессе датируется 19 мая 1943 г., шестью абзацами ниже – уже 20 мая[953].
Некоторые неточности были неизбежны. Психологическую мощь его повествования о первых годах войны было невозможно сохранить. В 1940 г. Черчилль оказался в западне. Он бился за сохранение Британии и собственное выживание. Он обуздал пораженцев и заставил британскую военную машину работать на полную катушку. Начиная с 1942 г. ему оставалось поддерживать эту машину на ходу, а также пытаться ориентировать американцев наилучшим, на его взгляд, образом.
К слову сказать, некоторые ошибки возглавляемой Черчиллем фабрики по написанию мемуаров были ужасны. Особенно выделяется в этом отношении краткий отчет о важнейших «американских морских победах» из главы 14 тома IV. Это славная история, но к Черчиллю она не имеет отношения, поэтому в названии главы имеется занятный знак пунктуации: «Глава 14. Американские победы на море*». Звездочка относится не к характеру побед на Тихом океане в 1943 г., а к источнику сведений, которые сообщает Черчилль. Он написал «лишь малую часть “Американских побед на море”, – отмечает Рейнолдс. – Он переписал начало и заострил несколько фраз, а в остальном положился на Гордона Аллена, который, в свою очередь, по большей части переписал четвертый том написанной Сэмюэлем Элиотом Морисоном истории военно-морских операций США во Второй мировой войне»[954]. Это породило проблемы, поскольку история Морисона, хотя и написанная при участии официальных лиц, не была правительственной публикацией и защищалась авторскими правами, в отличие от истории войны, составленной под эгидой армии США, официальной публикации, не обремененной авторскими правами.
Морисон сам обнаружил это заимствование[955]. Прежде чем эта часть воспоминаний Черчилля вышла книгой, фрагменты из нее печатались в The New York Times. Читая газету в октябре 1950 г., Морисон с изумлением увидел собственные мысли и выводы, опубликованные от имени Черчилля. Например, Морисон писал: «Битва в Коралловом море навсегда запомнится как первая морская битва с участием исключительно авианосцев, в которой все потери были причинены действиями с воздуха и ни один корабль с обеих сторон не взял на прицел ни одного надводного корабля врага»[956]. Вот что говорится у Черчилля о битве в Коралловом море: «Ничего подобного прежде не происходило. Это была первая битва на море, в которой надводные корабли не обменялись ни одним выстрелом»[957].
Морисон позвонил своему адвокату, тот связался с американскими издателями Черчилля. Результатом их переговоров и стала странная звездочка в названии этой главы, поспешно добавленная как замаскированное признание заимствования. Внизу страницы значилось: «См.: С. Э. Морисон. “Коралловое море, Средний Восток и действия субмарин”». Было также добавлено предложение в раздел благодарностей, в котором Черчилль отметил: «Я хотел бы признать свой долг перед капитаном Сэмюэлем Элиотом Морисоном, резервистом ВМФ США, чьи книги о морских операциях дают четкую картину действий флотов Соединенных Штатов». Это указание на книгу другого историка, по словам Рейнолдса, «уникально для книг Черчилля, но тогда было принципиально важно избежать неприятного обвинения в плагиате». Морисон великодушно счел вопрос исчерпанным и никогда не обсуждал его публично.
В качестве последнего победного «ура» Черчилль в конце третьего тома вспоминает о своем триумфальном обращении к трем тысячам британских и американских солдат в огромном римском амфитеатре в Карфагене возле Туниса: «Аудитория рукоплескала и ликовала так же самозабвенно, как их предшественники две тысячи лет назад, наблюдавшие за поединком гладиаторов»[958].
«Том V: Кольцо смыкается», «Том VI: Триумф и трагедия»
Не все военные лидеры способны проницательно проанализировать свои войны. Они знают, что сделали, но не всегда понимают, почему произошли те или иные события и как сложились воедино фрагменты войны. Черчилль, наоборот, прекрасно решал эту задачу на самом высоком уровне. Он был заворожен работой механизма войны и, пожалуй, глубже любого лидера в истории XX в. понимал таинственное искусство создания того, что в пятом томе назвал «общей гармонией военных усилий, обеспечиваемой подгонкой всех элементов»[959].
Эта особенность оживляет рассказ Черчилля о масштабной сложной подготовке к высадке десанта в Нормандии, ставшей кульминацией войны на западе Европы, а также и его мемуаров. Это последний эпизод, когда его душа ощущается в повествовании, но и тогда накал эмоций достигает лишь малой доли пережитого им в 1939–1941 гг., еще раз свидетельствуя, что к моменту десантирования в Нормандии американцы доминировали.
В начале 1944 г. его занимают самые разные вопросы – от стратегических (как обращаться с де Голлем?) до тактических (как помешать немецким подводным лодкам топить военные конвои, пересекающие Ла-Манш?) и личных (должны ли Черчилль и король Георг лично наблюдать за высадкой десанта союзников?) Как он сказал, выступая в палате общин в день высадки: «Эта масштабная операция, безусловно, является самой сложной из всех, что когда-либо осуществлялись. В ней сходятся течения, ветер, волны, видимость как с воздуха, так и с моря и объединенное участие сухопутных, воздушных и морских сил при теснейшем взаимодействии и в условиях, которые не были и не могли быть полностью спрогнозированы»[960].
С этого момента воздействие воспоминаний на читателей заметно ослабевает. В середине 1950-х гг. Малкольм Маггеридж, руководивший выпуском пятого тома мемуаров в виде цикла публикаций в The Daily Telegraph, поехал в загородный дом Черчилля, Чартуэлл, обсудить ряд мелких проблем. Он заметил, что великому человеку некомфортно, и, как он записал в своем дневнике, быстро понял, что эта неловкость имеет намного более серьезную, чем кажется, скрытую причину.
Проблема с его мемуарами и причина столь сильного его напряжения состояла в том, что в действительности он потерял к ним интерес и просто соединил массу документов, которые написал во время войны. Американцы, заплатившие огромные деньги за права на цикл статей и книги, выразили протест. В ходе переговоров всплыло, что некоторые главы вообще были написаны не им, и я подозреваю, что его вклад чрезвычайно мал[961].
В шестом томе, охватывающем конец войны в Европе, но не на Тихом океане, происходит необычный сдвиг: Черчилль становится в меньшей степени автором и в большей степени темой. Значительная часть этого последнего тома была вчерне написана командой, которая несколько лет помогала ему работать над мемуарами. К моменту их окончания Черчилль снова оказался занят, поскольку в октябре 1951 г. начался его ничем не выдающийся второй срок в должности премьер-министра. Вдобавок ко всему, в феврале 1952 г. он перенес малый инсульт и еще один, весьма серьезный, в июне 1953 г.
То, что стало в результате шестым томом, «все еще было книгой Черчилля», заключает Рейнолдс, изучавший его мемуары: «Пусть он не написал бо́льшую часть слов, он однозначно определял общую атмосферу и решал, когда они будут опубликованы – и даже будут ли вообще»[962].
Особенную осторожность Черчиллю пришлось проявить в отношении острой критики, которой он подвергал действия генерала Эйзенхауэра в период окончания войны в Европе, поскольку к моменту выхода книги Айк стал президентом США. Черчилль признался секретарю, что был вынужден выбросить часть написанного: «Он уже не мог без купюр рассказывать, как Соединенные Штаты, в угоду русским, отдали обширные территории, которые оккупировали, и с каким подозрением относились к его призывам проявлять осторожность»[963]. Книга вышла неплохая, но отличающаяся от пяти предшествующих. Она больше опирается на документы того времени, связывая их с помощью кратких пояснений. Часто официальные письма разделяет всего одно предложение, например «в тот же день я протелеграфировал Сталину» или «в тот день произошло следующее»[964].
За исключением восхищения высадкой десанта союзников, тон повествования становится все более безрадостным. Больше всего в этой заключительной книге воспоминаний удивляет ее заразительная печаль. Как ни странно, приближение победы было для Черчилля «самым несчастливым временем»[965]. Черчилль видел будущее и боялся его.
Истина заключается в том, что в конце войны и после нее Черчилль был не в форме. Все труднее было игнорировать очевидные признаки упадка Британии. Публичные речи Черчилля в этот период «грозили выродиться в пустую трескотню»[966], как пишет Саймон Шама.
Тем не менее в целом шеститомные мемуары имели потрясающий успех. Тома выходили примерно раз в год с 1948 по 1953–1954 г., последний был опубликован в США за пять месяцев до выхода в свет британского издания в апреле 1954 г. Ко времени публикации последнего тома Черчиллю удалось привлечь всеобщее внимание к своему ви́дению войны, а себя самого поставить в центр этого ви́дения. Сегодня невозможно рассматривать историю Второй мировой войны без отсылок к мемуарам Черчилля.
Глава 14 Триумф и упадок Оруэлла 1945–1950 гг.
Как и Черчилль, Оруэлл встретил окончание войны надломленным. Его упадок оказался более очевидным и более катастрофическим, чем закат Черчилля. Во время работы над последней книгой, в наибольшей степени имеющей вневременную ценность, здоровье писателя становилось все хуже.
Больной туберкулезом социалист стал даже больше пессимистом, чем дряхлеющий бывший премьер-министр. Черчилль провел послевоенные годы, триумфально озирая прошлое. Оруэлл в это время с ужасом вглядывался в будущее.
«Всюду весна, даже в Лондоне № 1[967], и никто не может помешать радоваться ей, – писал он в апреле 1946 г. – На заводах копятся атомные бомбы, в городах рыскает полиция, из репродукторов льется ложь, но Земля все еще обращается вокруг Солнца, и ни диктаторы, ни бюрократы, как бы они ни злились, не могут этому помешать»[968]. Ему нравилась «неофициальность» природы.
Оруэлл задумал свою последнюю книгу, когда Вторая мировая война близилась к завершению. В 1946 г., когда он начал работать над текстом, Лондон был «раздолбанным, серым и потасканным»[969], как писал его друг Тоско Файвел. Во время войны в Британии не вводили хлебные карточки, но ввели в 1946 г., чтобы помочь предотвратить голод в Европе, особенно в Германии[970]. В мае того года Оруэлл записал:
Для всех, кроме военнослужащих, жизнь после прекращения военных действий была физически столь же неприятна, что и во время войны, и даже более того, поскольку эффекты нехватки некоторых вещей накапливаются. Например, все труднее мириться с нехваткой одежды по мере того, как наша все более приходит в негодность, а ситуация с топливом в последнюю зиму была хуже, чем когда-либо в ходе войны[971].
«Скотный двор» был политической сатирой в форме сказки. Следующая беллетристическая книга Оруэлла станет политической модификацией другого жанра – романа ужасов. Его монстр порожден не наукой XIX в., как творение Франкенштейна, или не оружием XX в., как впоследствии Годзилла, а политикой XX в., создавшей всепроникающее государство, иногда жестокое, но почти всегда, скорее, неповоротливое, чем хитроумное.
В период, непосредственно последовавший за Второй мировой войной, Оруэлл, как и Черчилль, предупреждает об огромных опасностях, сохранявшихся в мире, несмотря на разгром нацизма. Черчилль в речи о железном занавесе в марте 1946 г. говорил о мире, где «власть государства осуществляется без ограничений диктаторами или сплоченными олигархическими группами, действующими посредством привилегированной партии и политической полиции». Он верил, что «тень упала на землю, еще недавно озаренную победой союзников… От балтийского Штеттина до адриатического Триеста железный занавес упал поперек континента»[972].
Оруэлл тоже видел тень этого занавеса, протянувшуюся на запад. Он предвидел будущее и хотел предупредить, что оно не подходит, по крайней мере, таким людям, как он, высоко ценящим неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Он несколько лет размышлял о проблеме злоупотребления властью в послевоенной Европе и уже в 1941 г. предупреждал: «Настала эпоха тоталитарного государства, которое отныне не позволяет и, вероятно, не способно позволить индивиду никакой свободы. При упоминании о тоталитаризме сразу вспоминаются Германия, Россия, Италия, но я считаю необходимым признать опасность того, что это явление распространится на весь мир»[973]. Оруэлла страшило, что всемогущее государство не только запретит людям выражать определенные мысли, но и сделает следующий шаг и станет указывать им, что думать.
Не желая, чтобы его отвлекали, и, пожалуй, становясь все большим интровертом, Оруэлл старался проводить как можно больше времени на острове Джура, стремясь закончить книгу. Это было «просто самое отдаленное место, которое можно найти на Британских островах, – объяснил его друг Дэвиду Астору, который отыскал дом для писателя. – Мне и в голову не приходило, что он там останется. Я лишь посоветовал ему поехать туда ненадолго отдохнуть, поскольку было очевидно, что ему нужен отдых»[974]. Астор добавил, что «для человека с хрупким здоровьем было безумием отправиться в подобное место»[975].
На холодном, атакуемом штормами острове, где укрылся Оруэлл, до ближайшего телефона надо было ехать 43 км на юг по плохой дороге, которая местами была не более чем колеей, проходившей по вересковой пустоши[976]. 21 июля 1946 г., в самый разгар лета, на острове было «так холодно, что хотелось разжечь камины во всех комнатах»[977]. А полгода спустя, в январе, ветер был «таким бешеным, что трудно было удержаться на ногах»[978].
Оруэлл переехал туда не для того, чтобы позабавить людей, как подумал один из визитеров. «Он находился в особом саморазрушительном настроении и привык ворчать. Эта рана в горле [после того как его подстрелили в Испании], она свистела, и вот он расхаживал туда-сюда с мрачным свистом, да еще эти обвисшие усы! И вот вместо живого и жизнерадостного ума перед нами был тоскливый озлобленный старый хрыч, которого просто приходилось терпеть»[979]. Жизнь была скудная не потому, что денег не хватало, а из-за карточной системы. Друга, ехавшего к нему в гости из Лондона, Оруэлл попросил привезти муки и объяснил: «Нам тут почти всегда не хватает хлеба и муки из-за этих карточек»[980].
Временами еще проявлялась свойственная Оруэллу авантюрная жилка. В августе 1947 г. он решил, несмотря на постоянное плохое самочувствие, провести еще одну зиму на Джуре. «Часть зимы может быть весьма суровой, и можно оказаться отрезанным от большой земли на неделю или две, но это неважно, если есть мука, чтобы печь лепешки», – уверял он друга[981].
В том же месяце с сыном и несколькими гостями, включая своего племянника Генри Дэйкина, он отправился на морскую экскурсию на моторной лодке, маршрут которой пролегал через знаменитые водовороты Корриврекан в северной оконечности острова. Оруэлл беспечно сообщил своим гостям, что читал об опасностях этой воронки, одной из самых больших в европейских водах, но катастрофически недооценил мощь моря. «Нас швыряло взад и вперед, – вспоминал Дэйкин. – Раздался громкий треск, и двигатель сорвался с креплений и исчез в море»[982]. На веслах они подошли к утесу, но, когда Дэйкин потянулся к нему, лодка перевернулась. Кучка людей высадилась на островок, все мокрые насквозь и безутешные, кроме Оруэлла, который отправился рассматривать колонию тупиков. Через два часа их подобрало проходящее мимо судно, ловившее омаров. На следующий день Оруэлл отправился рыбачить в двух озерах поблизости и поймал двенадцать форелей[983].
Бо́льшую часть пребывания на Джуре Оруэлл был смертельно болен. Он сказал домовладельцу, своему другу, что надеется закончить книгу, прежде чем умрет[984]. В мае 1947 г. он написал издателю: «Я очень неплохо начал книгу и думаю, что написал почти треть чернового текста. Я продвинулся не так далеко, как надеялся, потому что в этом году чувствую себя совсем скверно примерно с января (как обычно, боль в груди) и никак не могут поправиться»[985]. Он так и не поправился, о чем свидетельствуют некоторые его дневниковые записи следующих двух лет.
5 сентября 1947 г.: «чувствую себя неважно (боль в груди), едва смог выйти на улицу»[986].
13 октября 1947 г.: «чувствую себя неважно, не выходил»[987].
16 сентября 1948 г.: «чувствую себя очень плохо, температура около 38 каждый вечер»[988].
13 октября 1948 г.: «боль в боку, очень сильная. На море штиль»[989].
19 декабря 1948 г., вскоре после того, как он закончил редактировать книгу, после 12-дневного перерыва он записал: «недостаточно хорошо себя чувствовал, чтобы вести дневник»[990].
Через две недели его положили в туберкулезный санаторий, а затем перевели в лондонскую больницу, где его лечащим врачом стал Эндрю Морланд, лечивший также Д. Г. Лоуренса[991]. Оруэлл лежал там, медленно умирая, когда роман «1984» был отправлен в типографию. Последняя книга Оруэлла увидит свет в июне 1949 г., в том же месяце, когда в Британии выйдет «Их звездный час», второй том мемуаров Черчилля. Время Оруэлла заканчивалось, ему оставалось жить меньше семи месяцев.
«1984»
Герой романа «1984» – несчастный англичанин среднего возраста по имени Уинстон Смит. Он живет в многоквартирном доме «Победа», похожем на здание рядом с Эбби-роуд, где Оруэлл жил во время Второй мировой войны. Кварталах в трех к юго-западу от высотки Оруэлла находилась маленькая двухэтажная студия звукозаписи, которую прославят в 1960-е гг. «Битлз», записывавшиеся на ней с 1963 г. и даже назвавшие в честь этого места один из своих альбомов[992].
Роман начинается фразой, обыденной по форме, но вызывающей тревожное чувство: «Был холодный ясный апрельский день, и часы пробили тринадцать»[993][994]. Конец этого предложения переносит читателя в мир, отличающийся от обычного и, по всей видимости, глубоко неблагополучный. Второй абзац верный себе Оруэлл начинает так: «В подъезде пахло вареной капустой и старыми половиками». Зловещее ощущение подтверждается в конце абзаца, когда главный герой – названный дважды, оба раза по имени, «Уинстон», – проходит мимо плакатов с набранной в книге заглавными буквами надписью «СТАРШИЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ».
К концу первой страницы становится ясно, что автор знает, что и как он хочет сказать. Нас знакомят с миром, где объективная реальность не существует или, по крайней мере, объявляется неправомочной всевидящим государством. Это мир тотальной слежки[995], осуществляемой «полицией мысли» при помощи мониторов, одновременно приемников и передатчиков, способных улавливать даже учащенное сердцебиение. «Не исключено, что следили за каждым – и круглые сутки», – пишет Оруэлл, предвосхищая электронное всеведение современного государства. Уинстон смотрит из окна своей квартиры и видит в километре от дома на огромном здании министерства правды три партийных лозунга[996]:
ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ – СИЛА
Далее автор описывает другие правительственные учреждения: министерство мира, «ведавшее войной», министерство изобилия и министерство любви, выполняющее полицейские функции. Последнее «внушало страх. В здании отсутствовали окна»[997]. Таковы лапы чудовища в современной истории ужаса, написанной Оруэллом.
Несмотря на имя, по характеру Уинстон намного ближе к своему создателю, чем к Черчиллю[998]. Подобно Оруэллу, Уинстон курит сигареты с дешевым вонючим табаком и в возрасте под сорок надсадно дышит, если приходится наклоняться. Как и Оруэлл, он «смутно» помнит своего отца. Разумеется, при таком авторе, как Оруэлл, отвратительность мира, описанного в книге, часто передается через запахи. Кафетерий на работе Уинстона смердит «кисловатым смешанным запахом скверного джина, скверного кофе, подливки с медью и заношенной одежды»[999].
Для Уинстона, как и для автора, самое важное действие в жизни – не высказываться и быть опубликованным, а точно наблюдать окружающий мир. Собирать факты – революционный акт. Настаивать на этом праве – возможно, самая радикальная подрывная деятельность, доступная человеку. Подчеркивая эту связь, Уинстон страстно требует в своем дневнике: «ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА!»[1000] Его особенно провоцирует то, что партия настаивает, что лишь она может определять, что реально и что нереально. «Партия велела тебе не верить своим глазам и ушам, – размышляет он. – И это ее окончательный, самый важный приказ». Но Уинстон, подвергая себя риску, начинает думать самостоятельно, записывая в дневнике: «Свобода – это возможность сказать, что дважды два четыре. Если дозволено это, все остальное отсюда следует»[1001].
Уинстон не знает этого, а Оруэлл не говорит, что его размышления ложатся в русло самой британской из философских традиций – традиции эмпиризма Джона Локка и Дэвида Юма. А именно тоталитарное государство заставляет его начать мыслить как Джон Стюарт Милль, интеллектуальный наследник Локка и Юма.
Одна из самых известных работ Милля, «О свободе» (On Liberty), опубликованная в 1859 г., представляет собой размышления о том, как сохранить личную свободу с ростом власти государства. Пророческий текст начинается с заявления Милля, что его предметом является «природа и пределы власти, которые общество правомочно наложить на индивида»[1002]. Это, продолжает он, «вопрос, редко поднимаемый и едва ли когда-либо обсуждавшийся, в общем и целом, но который… скоро, вероятно, будет признан жизненно важным вопросом будущего». В самом сердце свободы находится область индивидуального, «внутренняя сфера осознанности, свободы сознания, свободы мысли и чувства»[1003].
В романе «1984» вопрос Милля становится жизненно важным. Внутренняя сфера подвергается атаке государства. Далее по ходу действия Оруэлл открыто демонстрирует философскую параллель, когда пишет, что общество Старшего Брата не смогло добиться роста производительности труда, потому что «научный и технический прогресс зависят от неуправляемого эмпирического мышления, которое не в состоянии выжить в строго регламентированном обществе»[1004]. Общество, в котором технологический прогресс сосуществовал бы с государством тотальной слежки, Оруэлл представить не мог.
Уинстон понимает, что становится диссидентом, что государство, скорее всего, обнаружит и затравит его. «Он почувствовал себя одиноким призраком, говорящим правду, которую никто никогда не услышит, – пишет Оруэлл. – Но пока он говорил свою правду, связь времен странным образом не прерывается. Не потому, что кто-то может услышать тебя, а потому, что ты остаешься в здравом уме и наследуешь все, что создали люди до тебя»[1005]. В этой фразе Оруэлл предвещает появление таких диссидентов, как Солженицын, Сахаров и Амальрик, которые своими публичными высказываниями о событиях, свидетелями которых они являлись, внесли лепту в крушение Советского Союза всего несколькими годами позже 1984 года. В обоих мирах, воображаемом, из романа «1984», и реальном Советском Союзе, было нравственной победой просто оспаривать официальную трактовку правды и предлагать альтернативу, документируя наблюдаемую реальность. В обоих случаях государство знало это и считало такую деятельность подрывной.
В романе работа Уинстона заключается в переписывании истории. Он ненавидит это, и к бунту его подталкивает отвращение. В начале книги он размышляет: «Если партия может запустить руку в прошлое и сказать о том или ином событии, что его никогда не было, – это пострашнее, чем пытка и смерть»[1006]. Уинстон работает в стеклянной кабине, женщина в соседней занимается тем, что «выискивает в прессе и убирает фамилии распыленных, следовательно, никогда не существовавших людей»[1007]. Название прибора, на котором он работает, «речепис»[1008], наводит на мысль о текстовом процессоре 1980-х гг. WordPerfect. Сбоку от его стола находится «гнездо памяти», куда нужно бросать документы, содержащие отвергнутые факты.
Тень надежды Оруэлл видит в пролетариях. Уинстон пишет в дневнике: «Если есть надежда, то она в пролах»[1009]. Это главная тема книги, особенно ее первой половины. Уинстон снова и снова проговаривает про себя эту фразу, не вполне ее понимая, скорее, воспринимая ее на веру. Оруэлл так по-настоящему и не объясняет эту мысль в романе, но он сделал это в своем эссе 1942 г., где рисовал «картины тоталитарного будущего»[1010]. В нем он объяснил, почему считает, что рабочий класс проявит наивысшую сопротивляемость всепроникающему государству правого толка.
Чтобы навсегда победить рабочий класс, фашистам пришлось бы поднять уровень жизни, чего они не хотят и, скорее всего, не могут. Борьба рабочего класса похожа на рост растения. Растение слепо и тупо, но знает достаточно, чтобы упорно пробиваться вверх, к свету, и будет делать это, несмотря на бесчисленные препятствия.
Оруэлл описывает пролетариев как принципиально неконтролируемых людей. Государство и не пытается делать это, достаточно того, что оно их отвлекает. «Тяжелый физический труд, заботы о доме и детях, мелкие свары с соседями, фильмы, футбол, пиво и, главное, азартные игры – вот и все, что вмещается в их кругозор, – размышляет Уинстон. – Пролы ниже подозрений»[1011]. Они сохранили человеческие чувства, преданы не партии и не стране, а «друг другу»[1012]. Видимо, именно поэтому на них надеются Уинстон и его создатель. Ни тот ни другой, однако, не знают, как это может привести их к спасению из кошмарного мира «1984». Томас Пинчон, современный романист, солидарный с Оруэллом, заметил: «Уинстон Смит, очевидно, лично не знает ни одного прола»[1013].
* * *
Бо́льшую часть второй половины книги занимает рассказ о неуклюжей любовной связи Уинстона с молодой женщиной по имени Джулия. Оруэлл никогда особенно не умел писать о женщинах вообще и о сексе в частности. Временами кажется, что он считает половой контакт действием, которое выполняет мужчина и которому женщина просто подчиняется. Уинстон и Джулия впервые занимаются любовью в уединенной роще во время загородной прогулки. «Он потянул ее на землю, и она покорилась ему, он мог делать с ней что угодно», – пишет он[1014]. Смит колеблется, но оживает, когда Джулия говорит, что обожает секс.
Для обреченных любовников соитие становится крайней формой бунта против государства: «Их любовные объятия были боем, а завершение – победой. Это был удар по партии. Это был политический акт»[1015]. Казалось бы, это раннее проявление идеологии хиппи, но здесь чувствуется нечто большее. Оруэлл верно отметил свойственное тоталитарному государству целомудрие, воздержанность. Вспомним суровый публичный имидж жены Мао Цзэдуна или более свежий пример, сексуальный бунт российской панк-рок-группы Pussy Riot против олигархического государства Владимира Путина. Тем не менее Оруэлл умудряется сделать это нелепым. Впоследствии Уинстон говорит Джулии, очевидно, делая комплимент: «Ты бунтовщица только ниже пояса»[1016].
Разумеется, полиция наблюдает за ними. Их арестовывают и заключают в тюрьму без предъявления формального обвинения или суда присяжных.
Так случилось, что Оруэлл и Черчилль придерживались одного и того же взгляда на исключительную важность того, чтобы людей не подвергали заключению, не предъявляя обвинения. Черчилль даже сформулировал это в официальном меморандуме в ноябре 1942 г.
Право исполнительной власти бросить человека в тюрьму без предъявления какого бы то ни было обвинения и в особенности неопределенно долго отказывать ему в суде присяжных в высшей степени отвратительно и является основой всех тоталитарных правительств, будь то нацистское или коммунистическое… Ничто не противоречит демократии больше, чем заключение человека в тюрьму или удержание его в заключении за то, что он вызывает неприятие. Это подлинная проверка на цивилизованность[1017].
Черчилль включил эту емкую формулировку в требование к своим подчиненным освободить лидера британских фашистов Освальда Мосли, содержавшегося в заключении с 1940 г., когда возникла опасность, что он возглавит коллаборационистов в случае немецкого вторжения. Оруэлл поддержал Черчилля в обоих случаях. «В 1940-м было совершенно правильным делом изолировать Мосли, и, по моему мнению, было бы совершенно правильно застрелить его, если бы немцы ступили на землю Британии. Когда встает вопрос выживания нации, никакое правительство не может цепляться за букву закона»[1018]. Однако, добавил Оруэлл, к 1943 г. Мосли уже не представлял опасности, став всего лишь «нелепым политиком-неудачником, больным варикозом. Держать его в тюрьме без суда было посягательством на все принципы, за которые, как предполагается, мы сражаемся».
В тюрьме и Уинстона, и Джулию под пытками заставляют донести друг на друга. Главного палача Уинстона зовут О’Брайен. Если это значимое имя, то его смысл не проясняется. Едва ли Оруэлл знал о том, что Нью О’Доннел, представитель британской компартии в Испании – Оруэлл был там с ним знаком, – работал на советских функционеров под кодовым именем О’Брайен[1019]. С некоторым презрением О’Брайен говорит Уинстону: «Действительность вам представляется чем-то объективным, внешним, существующим независимо от вас. Характер действительности представляется вам самоочевидным… Но говорю вам, Уинстон, действительность не есть нечто внешнее… То, что партия считает правдой, и есть правда. Невозможно видеть действительность иначе, как глядя на нее глазами партии»[1020].
История заканчивается встречей двух сломленных, одинаково опустошенных любовников. Они признаются друг другу во взаимном предательстве и расстаются навсегда. Надеяться не на что.
* * *
Книга была опубликована в июне 1949 г. и стала успешной в Англии, но наибольшее влияние оказала за ее пределами. Роман стал «сенсацией» в Европе, как вспоминал его издатель Фредрик Варбург. По его словам, в тогдашней Европе «он стал политической акцией колоссального значения[1021]. Вы, конечно, помните, что после войны Россия, сделавшая так много для победы в ней, была невероятно сильна и в каком-то смысле почитаема, и он [роман], как и “Скотный двор”, но совершенно по-другому, стал самым действенным памфлетом против советского коммунизма, который вообще можно было найти. Европейцы именно так его и восприняли». «1984» был продан в миллионах экземпляров и признан «вероятно, самым влиятельным романом XX века»[1022].
Пока книга штурмовала вершины, Оруэлл угасал. Конец был близок, и он это знал. «Я чувствовал себя очень скверно, выкашливая огромное количество крови», – сообщил он своему другу Ричарду Риису в начале 1949 г.[1023]. Через несколько недель в другой записке к Риису Оруэлл добавил: «Я до сих пор ничем не могу заниматься. В иные дни я беру ручку и бумагу и пытаюсь написать несколько строк, но это невозможно»[1024].
Он таял на глазах. Как и у Черчилля в последних двух томах мемуаров, писательское мастерство после «1984» начинает ему изменять. Проза Оруэлла лишается энергии, аргументы становятся менее сильными. Вот как размышляет он о будущем социализма в середине 1948 г.:
Даже если мы покончим с богатыми, народные массы должны будут или меньше потреблять, или больше производить. Или я преувеличиваю бедствие, в котором мы оказались? Я могу ошибаться и был бы рад в этом убедиться. Однако я хочу подчеркнуть, что серьезное обсуждение этого вопроса среди людей, верных левой идеологии, невозможно[1025].
Эта фраза не вышла бы из-под пера здорового Оруэлла, человека, всего за два года до этого написавшего «Политику и английский язык».
Бóльшую часть последних двух лет своей жизни Оруэлл провел в больницах, соскальзывая в смерть. Лежа в постели, он слышал голоса невидимых посетителей-аристократов (он называл их «верхушкой общества»), которые описал с уничтожающей точностью:
И какие голоса! Пресыщенность, тупой апломб, постоянные бессмысленные смешки ни о чем, а главное, этакая величавость и богатство в сочетании с определяющей все неприязнью – даже не видя их, инстинктивно чувствуешь, что эти люди враждебны всему разумному, отзывчивому и прекрасному[1026].
Следует, однако, помнить, что этот тон проскальзывал и в речи самого Оруэлла, выпускника Итона, и он, писатель слишком честный, чтобы закрыть на это глаза, закончил дневниковую запись включением себя в число виновных: «Неудивительно, что все нас так ненавидят».
Его дневники оканчиваются этой записью, сделанной 17 апреля 1949 года.
В сентябре того же года Малкольм Маггеридж, сам рассорившийся с британскими левыми, после того как он честно написал о голоде на Украине в 1933 г. (в отличие, как хорошо известно, от The New York Times), навестил Оруэлла в лондонской больнице. В тот же вечер он записал в дневнике, что Оруэлл «выглядит немыслимо опустошенным и, я бы сказал, похож на человека, которому недолго осталось жить, – какая-то странная ясность в его заострившемся лице»[1027].
Последней статьей, написанной и опубликованной Оруэллом, станет рецензия на второй том военных мемуаров Черчилля «Их звездный час». Он высоко ценил этого деятеля, несмотря на серьезные расхождения в их политических взглядах.
Политические воспоминания, которые он время от времени публикует, всегда значительно выше среднего уровня – и по искренности, и в литературном отношении. Черчилль – помимо всего прочего, журналист, обладающий подлинным, пусть и не самым тонким, литературным чутьем, кроме того, его отличает неутомимый пытливый ум, интересующийся и точными фактами, и анализом мотивов – в том числе, временами, собственных мотивов. В общем, Черчилль пишет, скорее, как нормальный человек, а не как публичная фигура[1028].
Из уст Оруэлла это была высокая оценка.
Далее Оруэлл рассмотрел результаты деятельности Черчилля в 1940 г. Достижением Черчилля стало осознание примерно во время Дюнкерка, что из разгрома Франции вовсе не следует, что и Британия должна быть разгромлена. Однако Оруэлл вменяет Черчиллю в вину непонимание того, что Советы «ненавидят социалистов больше, чем консерваторов», а также того факта, что фашизм Муссолини «должен быть по своей природе враждебен Британии».
Едва ли не последними опубликованными словами Оруэлла стали следующие:
Можно сколько угодно не соглашаться с ним [Черчиллем], сколько угодно радоваться, что он и его партия не победили на выборах 1945 г., но нельзя не восхищаться не только его отвагой, но и определенным величием и гениальностью, которые проявляются даже в официальных мемуарах подобного рода…
После этой рецензии и нескольких писем он ничего уже не писал.
13 октября 1949 г. Оруэлл женился на Соне Браунелл, жизнерадостной представительнице лондонских литературных кругов, как и он, уроженке Британской Индии. Когда он в первый раз сделал ей предложение, она отказала, но затем согласилась. «Никто не питал иллюзии, будто она любила Джорджа», – прокомментировал один из его биографов[1029]. Друг Оруэлла, знавший обеих его жен, вспоминал: «Соня была умной, крепко пьющей, легкой, опасной, вспыльчивой – она отличалась всем тем, чего была лишена Эйлин»[1030]. Другому знакомому Соня запомнилась «в сущности, немыслимо несчастной»[1031].
В дневнике Оруэлла нет записей о Соне, поскольку он перестал его вести месяцев за шесть до этого. Во время бракосочетания Оруэлл не смог встать и сидел в постели[1032]. Шафером на этой мрачной свадьбе у одра смерти был Дэвид Астор[1033]. На церемонию Оруэлл надел поверх больничной пижамы бархатную куртку цвета мальвы.
Почти всю осень он провел в постели, читая «Божественную комедию» Данте[1034]. 14 ноября Маггеридж заметил, что Оруэлл «снова стал худеть и выглядел совершенной руиной»[1035]. Его удочки стояли в углу комнаты, больше он ими не воспользовался[1036].
Оруэлл и Америка
Во время одного из визитов Маггериджа в больницу Оруэлл сказал ему, что он задумал пять книг, которые хотел бы написать[1037]. Одним из них, возможно, было исследование антибританских чувств американцев. Взгляды Оруэлла почти наверняка изменились бы, если бы он съездил в Соединенные Штаты, но в какую сторону, утверждать невозможно. Он уже начал пересматривать свое неприятие Америки XX в. «Быть антиамериканистом сегодня означает уподобляться толпе», – написал он года через два после войны в эссе, оставшемся тогда неопубликованным[1038]. «Однако, – продолжил он, – если бы людям из толпы пришлось выбирать между Россией и Америкой, несмотря на общепринятое ныне злословие, каждый в глубине души понимает, что мы бы выбрали Америку».
Если бы Оруэллу удалось увидеть Соединенные Штаты, то, вероятно, очень многое в них его бы оттолкнуло: громадные размеры, потребление, которое он бы счел демонстративным, чванство и самодовольство. Наибольшее отторжение у него вызвал бы осознанный эгоистичный индивидуализм Америки. В Англии ему больше всего нравилось сильное чувство частного сообщества. В «Льве и Единороге» он писал об англичанах: «Вся самая подлинная национальная культура строится вокруг вещей, остающихся неофициальными, даже будучи общественными, – паба, футбольного матча, садика позади дома, камина и “старой доброй чашки чая”»[1039].
У Америки гораздо менее коллективистский образ самой себя. Он строится, скорее, вокруг фигуры одинокого индивидуалиста, которая появляется в «Зверобое» и «Виргинце»[1040] и превращается в вариации на тему ковбоя-стрелка, как, например, в «Одиноком рейнджере». Кажется, любой вестерн категории «В» 1940–1950-х гг. начинается или заканчивается тем, как одиночка въезжает в город или покидает его. Этот образ продолжает жить в героях современных рекламных роликов – одиноком мотоциклисте, мчащемся по пустому шоссе, или скалолазе, в одиночку штурмующем Скалистые горы. Американцы намного больше, чем англичане, идентифицируют себя с бунтом и одиночеством, воплощенном, например, в вестерне «Всадник с высоких равнин» Клинта Иствуда. Хит, записанный в 1961 г. поп-певцом Дионом[1041], свел эту идею к ее простейшей юношеской сути: «Да, я бродяга, да, бродяга, скитаюсь, где хочу». В Америке это был образец для подражания, а не злая судьба.
Если бы Оруэлл посетил Америку, он имел бы шанс увидеть капитализм в другой, более жизнеспособной и гибкой форме.
* * *
Этому, однако, не суждено было случиться. Оруэлл погибал. 21 декабря Маггеридж записал в дневнике: «Он совсем усох и выглядит восковым. С грустью сказал, что ему колют пенициллин и с трудом могут найти плоть, чтобы воткнуть иглу»[1042].
На Рождество Маггеридж проведал его и записал: «Его лицо выглядит почти мертвым… Запах смерти стоял там, словно осень в саду»[1043]. 19 января 1950 г. после очередного посещения он написал в своем дневнике, что боится больше не увидеть Оруэлла живым. Он оказался прав. Оруэлл умер около 2:30 утра 21 января 1950 г. Ему было 46 лет.
Оруэлл ушел, когда рождалась эпоха, которой он помог дать имя, – «холодная война»[1044]. Впервые он использовал это название в книжном обзоре в декабре 1943 г., затем в 1945 г., через два месяца после окончания Второй мировой войны, и в третий раз в 1946 г. Маггеридж организовал похороны. Прощание состоялось 26 января и представляло собой, как записал он, «весьма унылое и зябкое мероприятие»[1045] в неотапливаемой церкви. Другой друг Оруэлла, Энтони Пауэлл, выбрал для чтения на церемонии погребения последнюю главу Книги Екклезиаста[1046]. Она как нельзя лучше подходит для прощания с писателем, организованного писателем и в присутствии множества других писателей, – в ней есть слова «берегись составлять много книг – конца не будет»[1047].
Последняя воля Оруэлла стала проявлением его неистребимого пасторализма. Он пожелал быть похороненным на английском церковном погосте. Узнав об этом, его друг Дэвид Астор купил два могильных участка[1048]. На одном похоронили Оруэлла. Сам Астор, когда в 2001 г. пробил его час, был погребен на втором. Рядом лежит Герберт Асквит, отец близкой подруги Черчилля Вайолет (Асквит) Бонэм Картер.
В февраля 1953 г., во второй раз читая «1984», Черчилль сказал своему врачу: «Это просто замечательная книга».[1049]
Глава 15 Преждевременная «посмертная жизнь» Черчилля 1950–1965 гг.
Через год после смерти Оруэлла Черчилль совершил одну из самых серьезных и досадных ошибок в своей жизни – во второй раз стал премьер-министром. Можно лишь предположить, что ему хотелось поквитаться за унизительный провал на выборах в июле 1945 г. Тогда он впервые выставил свою кандидатуру на пост премьер-министра (в 1940 г. его на эту должность назначили) – и был отвергнут, шумно и публично.
Историки предпочитают не вспоминать об этом втором сроке на вершине власти, начавшемся в октябре 1951 г. Черчилль был слишком стар, ослаблен инсультами и инфарктом. Не был он и особенно заинтересован или способен решать две главные задачи, стоявшие перед ним, – восстановление экономики Британии и сворачивание ее внешней политики в соответствии с понизившимся послевоенным статусом страны. 1930-е были его самыми бурными годами, 1950-е стали годами конфуза.
Как премьер-министру мирного времени ему будет не хватать и простоты его миссии в годы Второй мировой, когда нужно было просто выжить, а затем одержать верх над Германией. Теперь не было больше врага – Гитлера. Черчилль, как и его отец, был прирожденным оппозиционером[1050]. «Невозможно перечитывать подробности жизни Черчилля как премьер-министра его второго правительства без чувства, что он ошеломляюще не соответствует должности», – замечает Рой Дженкинс, в целом понимающий политические шаги Черчилля[1051]. В апреле 1955 г. здоровье Черчилля еще более ухудшилось после серии легких инсультов, и даже он вынужден был признать, что пора уйти.
Расставшись с должностью, Черчилль предался потворству своим желаниям. Через два года после его ухода с поста премьер-министра Ивлин Во заметил в ресторане в Монте-Карло Черчилля, «поглощавшего огромное количество жирной пищи»[1052]. Романист недоброжелательно описал лицо старика в письме жене Яна Флеминга – «серое как кожа слона и без всякого выражения». Во время той же поездки в Монте-Карло к Черчиллю, ожидавшему автомобиль возле казино, подлетел Фрэнк Синатра, американский певец, и стал трясти его руку со словами: «Я мечтал об этом двадцать лет». После ухода певца озадаченный Черчилль спросил у помощника: «Кто, черт возьми, это был?»[1053]
Жил он по-прежнему, не ограничивая себя. Для одного перелета через Атлантику в 1961 г. его компании потребовалось, сверх обычных благ первого класса, семь бутылок вина, две бутылки коньяка и почти килограмм сыра «Стилтон»[1054].
Как бы то ни было, хотя этот человек и его ум угасали, его репутация укреплялась, отчасти поддерживаемая мировой популярностью его военных мемуаров, последний том который вышел в Соединенных Штатах в том же 1953 г., когда их автор удостоился Нобелевской премии по литературе.
Вслед за этим многотомником он окончил и издал «Историю англоязычных народов»[1055], которую начал писать в 1930-х гг. и отложил, став премьер-министром. Эта история, иногда романтическая, часто написанная небрежно, – литературный эквивалент его второго премьерского срока. Рональд Левин, симпатизирующий Черчиллю британский историк, называет ее «сказкой» и добавляет: «Ни один профессиональный историк не обратится [к ней] в качестве источника»[1056]. Другой благожелательный критик нашел часть этой работы «безнадежно любительской»[1057]. Эти четыре тома были плодом коллективного труда даже в большей степени, чем воспоминания о Второй мировой, но сейчас командой авторов руководил человек, переживший собственные возможности.
В конце 1950-х гг., когда Черчилль умственно и физически сдавал, начался и личностный распад некоторых его детей. Двое умерли раньше его. Мэриголд, четвертый ребенок, скончалась еще в 1921 г. от септической инфекции. Старшая, Диана, покончила с собой в 1963 г., приняв смертельную дозу барбитуратов. Рэндольф, второй сын, унаследовавший все пороки отца и лишь немногие из его достоинств, шесть раз баллотировался в парламент, проигрывая всякий раз, когда у него был оппонент. (Он посидел в парламенте с 1940-го по 1945 г., пройдя туда безальтернативно вследствие межпартийного соглашения военного времени.) После краха второго брака он в свойственной ему манере назвал жену «жалкой сучкой из мещан, вечно суетящейся из желания понравиться, но не способной на это по причине ужасных манер»[1058]. Однажды Рэндольф здорово перепугался, решив, что у него рак, однако опухоль оказалась доброкачественной, и, после того как ее удалили, Ивлин Во, некоторое время друживший с ним, заметил, как это характерно для современной медицины, найти единственное, что не было в нем злокачественным, и вырезать. Будучи алкоголиком бóльшую часть сознательной жизни, Рэндольф умрет лишь через три года после Уинстона. (Во, к тому времени тяжелый наркоман, опередит его, скончавшись в апреле 1966 г., всего на 15 месяцев пережив Черчилля.)
Третий ребенок, Сара, неудачливая актриса, трижды несчастливо выходила замуж и вслед за братом спилась. Пятый и последний, Мэри, единственная, кто прожил вроде бы счастливую жизнь. Судя по этой хронике, Черчилль как отец грешил серьезными недостатками. С другой стороны, в собственной жизни он не имел достойного примера.
В публичной сфере репутации Черчилля был нанесен тяжелый удар в конце 1950-х гг., когда начался ответный огонь в виде критических книг о нем, отчасти спровоцированный его же мемуарами. Самой заметной стала публикация в 1957 г. отредактированных воспоминаний фельдмаршала Алана Брука. Следом дали о себе знать упертые империалисты, заявившие, что Черчилль продал Британию. «Трагедией Черчилля стало его смешанное происхождение, – обличал Р. У. Томпсон, журналист и историк, объединившийся с военным теоретиком Бэзилом Лидделом Хартом. – Его английский отец и американская мать были повинны в опасной расщепленности его привязанностей»[1059].
Сравнительно недавно появилась группа ученых, выступивших с ревизионистскими трудами о Черчилле под сенсационными названиями вроде «Черчилль: маски сорваны». Однако они почти не влияют ни на широкую публику, ни даже на широко мыслящих авторов, например Элиота Коэна. В сущности, эти книги сводятся к предложению читателям забыть о лесе – жизни Черчилля во всей полноте – и сосредоточиться на нескольких деревьях, заслуживающих, по мнению данного автора, большего внимания.
* * *
Сегодня Черчилль предстает, своего рода, героем фольклора, кладезем премудрости, неким аналогом Йоги Берры, бейсболиста из «Нью-Йорк Янкиз», почти столь же прославившегося фразами, ошибочно ему приписываемыми (например, «Никто туда больше не ходит, там слишком людно»), как и реально сказанными. Ложных цитат развелось столько, что Центр архивов Черчилля создал на своем сайте раздел якобы его фраз, которые он не произносил[1060]. Например, широко известна история, будто леди Астор сказала ему, что если бы она вышла за него замуж, то подлила бы яд ему в кофе, на что он ответил, что, женись он на ней, выпил бы яд. Было установлено, что этот обмен колкостями восходит к шутке, напечатанной в американской газете в 1900 г.
Одну фразу упорно приписывают и Черчиллю, и Оруэллу: «Мы крепко спим в своих постелях лишь потому, что где-то есть решительные люди, готовые совершать насилие, защищая нас»[1061]. На самом деле ни тот ни другой этого не говорил. Впервые эти слова появились в 1991 г. в консервативной газете The Washington Times. Автор статьи, кинокритик Ричард Греньер, дал понять, что перефразирует Оруэлла. По-видимому, имеется в виду замечание Оруэлла из эссе о Киплинге: «Он ясно видит, что люди могут быть высоко цивилизованными, только если есть другие люди, неизбежно менее цивилизованные, готовые охранять и кормить их»[1062]. Греньер не использовал кавычки, чтобы выделить цитату, но через несколько лет два других консервативных американских автора, Кейт О’Бирни из National Review и обозреватель Джордж Уилл, повторили эту фразу уже в кавычках. Затем ее подхватил консервативный британский историк Эндрю Робертс. Наконец, в 2006 г. издание National Review замкнуло круг, безосновательно приписав высказывание Черчиллю[1063].
В других случаях, порой неожиданных, на Черчилля ссылаются верно. В 1964 г. Фидель Кастро признался, что читает воспоминания Черчилля о Второй мировой войне. «Если бы Черчилль не сделал того, что сделал для победы над нацистами, вас бы не было, никого из нас не было бы, – сказал он толпе, собравшейся увидеть нового кубинского лидера, когда тот посетил книжный магазин в Гаване. – Более того, мы должны относиться к нему с особым интересом, потому что он тоже возглавлял маленький остров в борьбе с могущественным врагом»[1064].
Еще одно неожиданное выражение восхищения принадлежит Киту Ричардсу, гитаристу «Роллинг Стоунз», который оправдывал свой разгульный образ жизни, верно цитируя Черчилля: «Я получил от алкоголя намного больше, чем алкоголь от меня»[1065]. Ричардс, родившийся в 1943 г., во время первого премьерства Черчилля, добавил: «Я чувствую нечто подобное в отношении наркоты и прочего. Я что-то от них получал». Иногда подлинные высказывания Черчилля содержат парадоксальный элемент и звучат так, словно принадлежат Йоги Берре, например: «О мире говорится ужасно много лжи, и хуже всего, что половина этого правда»[1066].
У мифологизации Черчилля есть и оборотная сторона. Прежде всего он превратил «особые отношения» Британии и Соединенных Штатов в легенду, и некоторые его последователи держатся ее, очевидно, не понимая, что она была изобретена, чтобы придать ощущение тепла сугубо прагматичному и порой мучительно сложному военному союзу. Как заметил историк Макс Гастингс: «Британские правительства до одержимости пекутся о Соединенных Штатах и о том, как руководство этой страны относится к нам»[1067].
Низшую точку в этой погоне за особыми отношениями с США Британия прошла, способствовав в 2003 г. безрассудному вторжению в Ирак под руководством американцев. «Я поддержал Америку, когда она нуждалась в поддержке», – заявляет в своих мемуарах Тони Блэр, премьер-министр с 1997 по 2007 г.[1068] Было бы вернее сказать, что, когда Соединенным Штатам был нужен мудрый совет настоящего друга, Блэр повел себя как танцовщица из группы поддержки. Пытаясь говорить, как Черчилль, он сразу после террористической атаки 11 сентября 2001 г. заявил: «Мы… здесь в Британии стоим плечом к плечу с нашими американскими друзьями в этот трагический час, и мы, как и они, не успокоимся, пока не изгоним это зло из нашего мира». Он впал в ностальгическую риторику во время посещения Нью-Йорка в том же месяце, когда сказал, вопреки реальности, что в начале Второй мировой войны «была одна страна и один народ, поддержавшие нас». Остается гадать, как отнеслись сведущие в истории граждане Канады, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки – стран, присоединившихся к Британии во время «Блица», – к его точке зрения на то, кто помог Британии в 1939 и 1940 гг., когда американский посол в Лондоне вслух предсказывал победу Германии. По словам австралийского историка Робина Приора, «либеральную демократию в 1940–1941 гг. защищали не Британия с Соединенными Штатами, а Британия и доминионы. Они воевали за свободу, пока крупнейшая демократия в мире подкидывала им какие-то крохи»[1069].
В июле 2002 г. Блэр послал Бушу меморандум с заявлением на случай конфронтации с Ираком: «Я буду с вами, что бы ни случилось»[1070]. Этот меморандум был обнаружен в ходе официального расследования руководящих решений Блэра во время подготовки к войне в Ираке. Поскольку заявление Блэра развязало американцам руки, «Великобритании впоследствии было очень трудно отказать в поддержке» вторжению в Ирак в марте 2003 г., как установило расследование.
Если бы Блэр был таким же талантливым стратегом, как Черчилль, он мог бы выступить против американского вторжения в Ирак, и тогда правительству Соединенных Штатов было бы очень трудно развязать войну. И хотя открытое несогласие Британии по этому поводу на некоторое время осложнило бы отношения между двумя атлантическими державами, в долгосрочной перспективе отказ поддерживать американцев в Ираке оказался бы жестом настоящей дружбы, а также проявлением стратегического ви́дения.
Вместо этого Блэр выступил перед Конгрессом США летом 2003 г., когда начали копиться вопросы, что Америка делает в Ираке, и призвал американцев поднажать. «Не беспокойтесь об уроках истории, – безответственно советовал он. – Никогда не было времени, когда… кроме как в самом общем смысле, изучение истории так мало способствовало бы пониманию нашего сегодняшнего дня»[1071]. Упирая на идею особых отношений, очевидно, без понимания их сложности, и отмахиваясь от истории, когда к ней следовало бы прислушаться, Блэр, как ни странно, причинил огромный ущерб англо-американским отношениям.
* * *
Черчилль сохранил публичную приверженность Соединенным Штатам вплоть до своей смерти в январе 1965 г. и даже далее. На его похоронах, церемонию которых он заранее продумал сам, рядом с флагами Британии были вывешены флаги Америки, а под белыми с золотом арками и сводами собора Св. Павла прозвучал «Боевой гимн Республики»[1072]. Тем не менее американский президент Линдон Джонсон, возможно, памятуя о том, что Черчилль пренебрег прощанием с Рузвельтом двадцатью годами ранее, не счел нужным приехать проститься с ним или хотя бы прислать вице-президента.
Глава 16 Оруэлл: Невероятный взлет 1950–2016 гг.
«Был холодный ясный апрельский день, и часы пробили тринадцать». Так начиналась статья Захры Салахаддин, написанная в апреле 2015 г. для пакистанской газеты Dawn[1073]. Она сетовала на то, что Пакистан присвоил себе право контролировать интернет. Старший Брат, заключила она, существует, что и заставило ее вспомнить первую фразу романа «1984».
Благодаря подобным отсылкам, аллюзиям и посвящениям, ежедневно появляющимся в СМИ всего мира, Джордж Оруэлл остается актуальной фигурой в нашей культуре. В последние годы он, возможно, даже обогнал Черчилля, если не по исторической значимости, то по влиянию, которое оказывает сейчас. Это один из самых выдающихся примеров посмертного воздействия в истории британской литературы.
Его нынешний статус потряс бы его современников. Бо́льшую часть жизни он оставался ничем не прославившейся фигурой даже на лондонской литературной сцене. Вскоре после издания «Скотного двора» Логан Пирсолл Смит, сам в полном смысле второразрядный англо-американский писатель, прочел книгу и позвонил своему старому другу Сайрилу Коннолли, влиятельному редактору, чтобы больше узнать о ее авторе. Оруэлл, как заметил Пирсолл Смит, казалось, возник из ниоткуда, чтобы «заткнуть вас всех за пояс»[1074].
Возможно, Пирсолл Смит пережил приступ пророческого дара, поскольку умер через день после этого телефонного разговора. Он верно охарактеризовал траекторию взлета Оруэлла, практически неизвестного в 1930-х гг. и, в лучше случае, второстепенного писателя вплоть до середины 1940-х гг. С момента его смерти в начале 1950 г. его значение неуклонно, даже неудержимо, росло. «Его влияние и пример сияют все ярче с каждым годом», – написал один из авторов Financial Times в 2014 г.[1075]
Прижизненные тиражи его книг измерялись сотнями и тысячами. После смерти было продано около 50 млн экземпляров[1076]. Целые научные исследования были посвящены исключительно подробностям посмертного возвышения Оруэлла, например «Политика литературной репутации: Джордж Оруэлл» (George Orwell: The Politics of Literary Reputation) Джона Роддена. Сомнительно, чтобы сам Оруэлл одобрил бы эти книги, тем более, содержащие такие туманные рассуждения, как: «Обычно главное жизненное кредо является отправным пунктом для эволюции вариантов, но варианты также могут служить фундаментом для утверждения главного жизненного кредо. Выделяет определенное кредо в качестве “главного” не сиюминутная приоритетность, а центральное положение и частота упоминания в истории восприятия»[1077]. Остается гадать, как можно написать подобное предложение, если ты читал «Политику и английский язык». Стиль этих писаний, однако, отражает тот более общий факт, что Оруэлл недополучил внимания ученых, склонных ковыряться в текстах третьеразрядных авторов. Социолог Нил Маклафлин утверждает, то Оруэлл «в общем, игнорировался» университетскими профессорами именно потому, что так высоко ценился в «популярной культуре», а также, возможно, потому, что его долго считали своим консерваторы[1078]. Напротив, последние семь десятилетий его продвигают и тщательно изучают первоклассные публичные интеллектуалы, работающие, по большей части, вне университетских стен, например Ирвинг Хауи, Норман Подгорец и Кристофер Хитченс.
Немногие писатели уделили существенное внимание Оруэллу при его жизни, прежде всего Маггеридж и Артур Кёстлер, ездивший в Испанию в качестве шпиона коммунистов и профессионального журналиста и заключенный там националистами в тюрьму. Как и в случае Оруэлла, опыт гражданской войны в Испании принес Кёстлеру громадное разочарование и в левых, и в правых. Его публичный разрыв с Коммунистической партией произошел, когда он вернулся в Англию, чтобы выступать с речами об Испании, но отказался поносить ПОУМ, которую, по его воспоминаниям, «коммунисты в то время считали врагом номер один»[1079]. Он говорил о том, во что верил, – что лидеры ПОУМ действовали из лучших побуждений и что было глупостью и безобразием называть их предателями.
Кёстлер и Маггеридж были, однако, исключениями, обратившими внимание на Оруэлла, поскольку шли той же трудной дорогой, что и он. Все трое переходили в оппозицию коммунизму, в котором возобладал сталинизм.
При жизни Оруэлл не был включен в британское издание «Кто есть кто»[1080]. Лишь одна его фраза попала в «Знакомые цитаты Бартлетта» издания 1955 г., первого после его смерти[1081]. В 1956 г. Виктор Голланц, издававший ранние сочинения Оруэлла, но порвавший с ним из-за критики писателем сталинизма, написал в письме дочери: «Я считаю, что Оруэлл чудовищно переоценен»[1082].
Еще в 1963 г. поэт и признанный интеллектуал Стивен Спендер считал возможным пренебрежительно отозваться об Оруэлле как о пусть прекрасном стилисте, но, безусловно, малозначительном писателе, не оказавшем сколько-нибудь долговременного влияния[1083]. Что любопытно, он заявил это в книге о вдове Оруэлла Соне. На вопрос об Оруэлле в интервью Спендер ответил самым неуклюжим из своих комплиментов: «Если внимательно читать его произведения, часто думаешь, что он приходит к правильным выводам по совершенно неверным причинам»[1084]. В своей отталкивающей автобиографии Спендер вообще не упоминает Оруэлла, хотя о себе самом во время пребывания в Испании времен гражданской войны разливается, как бледная копия Хемингуэя: «Постоянное ощущение… что живешь текущим моментом, было настолько острым, что все прочее было забыто, и ты замирал с чувством чего-то неповторимо испанского»[1085]. Он также с иронией утверждал: «Мои стихи [присылаемые] из Испании были стихами пацифиста, который тем не менее поддерживает военные действия»[1086]. Неудивительно, что Кёстлер, поспорив однажды со Спендером о политике в лондонском «Кафе Роял» (где, как уже упоминалось, постоянно бывал Оруэлл), с презрением сказал: «Ничего больше не говорите, ничего, потому что я могу предсказать все, что вы собираетесь сказать в следующие двадцать минут»[1087].
Несколько последующих критиков ценили Оруэлла столь же низко, что и Спендер, но в 1960-е гг., примерно в то время, когда Спендер сбрасывал его со счетов, начался неуклонный подъем репутации Оруэлла, занявший несколько десятилетий[1088]. Впервые были изданы сборники его эссе.
С тех пор его репутация выросла неимоверно. Сегодня Оруэлл считается крупнейшей фигурой своего времени, а иногда оценивается и как самый значительный писатель столетия. Вокруг него выстроено несколько ретроспективных историй интеллектуализма XX в.
В книге Питера Уотсона «Современный ум», впервые изданной в 2000 г., Оруэлл возвышается до положения центральной фигуры, ориентира[1089]. Первая из четырех частей книги озаглавлена «От Фрейда к Витгенштейну», а вторая «От Шпенглера к “Скотному двору”». Выделяет, хотя и не возносит столь высоко Оруэлла, и последняя работа историка Тони Джадта «Осмысление XX века». История послевоенной Британии, изданная в 2015 г., получила название «Захиревший оруэлловский Лев». Как уже отмечалось, когда консервативный американский журнал National Review составлял список самых значительных небеллетристических книг XX в., Оруэлл, единственный из писателей, дважды оказался в первой десятке с «Памяти Каталонии» и «Избранными эссе»[1090]. Этот список возглавили мемуары Черчилля о Второй мировой войне. Роберт Маккрам, литературный редактор лондонской The Observer, назвал Оруэлла «одним из самых влиятельных английских писателей XX века», а критик Филип Френч в The Guardian пошел еще дальше, объявив Оруэлла, «возможно, величайшим писателем XX века»[1091] без уточнения национальной принадлежности. Не так давно в той же газете «1984» был охарактеризован как, «вероятно, самый знаменитый английский роман XX века»[1092]. В мотивировках судебных решений нынешних членов Верховного суда США Оруэлл является третьим по цитируемости автором после Шекспира и Льюиса Кэрролла[1093].
В своем восхождении Оруэлл не раз становился жертвой на редкость плохого анализа и комментирования, но, возможно, даже это уместно, поскольку немногие выдающиеся писатели создали так много плохих произведений, как он.
Оруэлл в странах социалистического лагеря
Одним из факторов возвышения Оруэлла стало его влияние на интеллектуалов Восточной Европы и России, стремящихся понять и описать своих новых коммунистических правителей. «Даже те, кто знает Оруэлла только понаслышке, поражаются, что писатель, никогда не живший в России, сумел так глубоко понять ее жизнь», – восхищался польский поэт и дипломат Чеслав Милош в эссе 1953 г. «Порабощенный разум». Местами эта книга читается как пояснение к «1984». «Партия борется с любой тенденцией погрузиться в глубины человеческого существа, особенно в литературе и изобразительном искусстве, – замечает Милош. – Невыраженное не существует. Поэтому тот, кто запрещает людям исследовать глубины человеческой природы, разрушает в них стремление к этим изысканиям, и сами глубины понемногу становятся нереальными»[1094]. В результате, предупреждает он, «на Востоке отсутствует граница между человеком и обществом».
Намекая читателям на книгу Оруэлла, советский диссидент Андрей Амальрик озаглавил свою критику советской власти, изданную в 1970 г., «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?». В ней он верно предсказал, что «любое государство, вынужденное тратить так много энергии на физический и психологический контроль миллионов своих граждан, не может существовать вечно»[1095].
В 1980-х гг. звезда Оруэлла взошла так высоко, что в кругах интеллектуалов стали разгораться споры по вопросу о том, какой идеологический лагерь привлек бы его, если бы он дожил до старости. «Я уверен, что он был бы неоконсерватором, если бы жил сейчас», – предположил в 1983 г. крестный отец этого движения и один из столпов литературной критики Норман Подгорец[1096].
Он основывался на твердом убеждении, что главной темой Оруэлла был крах идей левой интеллигенции. Однако Подгорец приписывает объекту своего исследования собственные взгляды. Возможно, критика левых с новообретенных правых позиций была путеводной звездой Подгореца, но не Оруэлла. Тема, мощно звучащая во всем, что написал Оруэлл, от раннего романа «Дни в Бирме» до конца 1930-х гг. и дальше, через выдающиеся эссе, вплоть до «Скотного двора» и «1984», – это злоупотребление властью в современном мире, как левыми, так и правыми. В одних случаях раскрытие этой темы принимает форму исследования отношений господина и слуги в колониальной Бирме, в других – официантов и посудомоек в Париже времен Великой депрессии, но чаще всего, в его эссе и книгах после 1937 г., это отношения государства и индивидуума. Поэтому, например, польское профсоюзное движение в 1980-х гг. воспользовалось образом Оруэлла, выпустив почтовые марки с его изображением для своей негосударственной почтовой службы[1097]. (Вызывает удивление, что Подгорец закрыл глаза на оппозицию Оруэлла по вопросу создания Израиля. Сионист Тоско Файвел, друг Оруэлла, вспоминал, что для Оруэлла «евреи были белыми колонистами, как британцы в Индии или в Бирме, а арабы аналогом коренных бирманцев… Он был против еврейского национализма – против любого национализма»[1098]. Файвел, в свою очередь, не обращает внимания на очевидное противоречие: в своем творчестве Оруэлл был убежденным поборником английской сельской жизни, что доводило его до регионализма, если не национализма.)
Самым устойчивым элементом, на котором строится приятие Оруэлла консерваторами, является то, что современным левым никогда не было вполне комфортно с послевоенным Оруэллом. Это достойно сожаления. Те, кто верит в свободу слова, но в то же время скептически относится к нерегулируемому капитализму, должны отвести для него место в своих сердцах и умах и не позволять консерваторам заявлять на него единоличные права. Если группировка или некое крыло политических писателей цитирует какого-то автора, это еще не значит, что он с ним согласен. Интересующемуся политическими взглядами Оруэлла следовало бы помнить, что в ноябре 1945 г. он написал: «Я принадлежу к левым и должен работать в их рядах, несмотря на всю свою ненависть к русскому тоталитаризму»[1099]. Он был не из тех, кто, как он заметил по поводу другого писателя, позволил бы себе «пуститься в извращенный торизм из-за безумств прогрессивной, на данный момент, партии»[1100].
К слову, в конце 1960-х гг. Оруэлла, вероятно, шокировал бы некоторый нарциссизм хиппи и многие аспекты движения новых левых, насколько можно судить по его произведениям. «Гедонистические общества долго не живут», – написал он однажды[1101]. Вероятно, он критиковал бы 1960-е гг. не как консерватор, а с позиций своего аграрного сельского социализма. Он вполне мог бы одобрить некоторые другие аспекты 1960-х и 1970-х гг., скажем, движение «назад к земле» и другие формы неприятия корпоративного сельского хозяйства и поддержки производства органических продуктов питания мелкими фермерами. Он ведь сам отчасти практиковал возвращение к земле, пытаясь рыбачить и выращивать урожай в Шотландии, несмотря на слабое здоровье. С учетом его любви к природе и подозрительного отношения к крупным корпорациям, он, вероятно, озаботился бы проблемой глобального потепления.
* * *
Второй мощный импульс популярность Оруэлла получила через 34 года после его смерти, когда действительно наступил 1984 год. «1984» снова стал бестселлером: каждый день продавалось 50 тысяч экземпляров романа[1102]. Стив Джобс и Apple способствовали дальнейшему восхождению Оруэлла, показав в том же году во время трансляции матча за Суперкубок по американскому футболу резонансный рекламный ролик. Реклама компьютера Macintosh[1103] использовала образы из «1984»: фигура в духе Старшего Брата на огромном сером экране, разбиваемом молотом, который бросает молодая женщина в развевающихся одеждах. Показанный лишь один раз, ролик стал одним из самых знаменитых в истории рекламы.
Если бы Оруэллу удалось заставить свою разрушенную дыхательную систему дотянуть до 1984 г., когда ему исполнился бы 81 год, он, вероятно, продолжил бы свое путешествие в чуть самодовольный английский нонконформизм в форме замкнутой «жизни на земле», которую он пытался вести на острове Джура. Стивен Спендер, на сей раз в порядке исключения, понявший Оруэлла правильно, заметил: «Что он ценил, так это старое представление об Англии, опирающееся на английскую провинцию, где быть консерватором означает быть против происходящих изменений, особенно направленных в сторону неравенства. Он выступал против всего бездушного промышленного среднего класса, возвысившегося в XIX веке»[1104].
Имей Оруэлл возможность увидеть сегодняшний мир, он почти наверняка поддержал бы критику растущего имущественного неравенства в Соединенных Штатах, Британии, России и Китае. Судя по направлению мысли в «Скотном дворе», он, вероятно, не был бы удивлен тем, какой путь проделал современный Китай от образования КНР через «культурную революцию» к нынешнему нечестивому союзу Коммунистической партии и новых миллиардеров-олигархов. Остается лишь гадать, что написал бы Оруэлл, если бы смог провести год или два в сегодняшнем Китае.
* * *
Единственным серьезным ударом по растущей репутации Оруэлла стало раскрытие в два этапа, в 1998 и в 2003 гг., информации о том, что в конце жизни он составил для британского правительства список лиц, которых подозревал в принадлежности к коммунизму[1105]. Этот акт доносительства, совершенный с больничной койки в мае 1949 г., становится более понятным, если рассматривать его в контексте того времени[1106]. Оруэлл видел, как Советы сажают в тюрьму и казнят его друзей без суда в Испании, и имел некоторые основания бояться за собственную безопасность после публикации «Скотного двора», столкнувшейся, как я уже говорил, с некоторыми препятствиями стараниями Питера Смоллетта, британского чиновника, тайно работавшего на Советский Союз. Смоллетта завербовал Ким Филби, на тот момент еще не выявленный агент, активно участвующий в жизни Британии, уважаемый человек, как и другие советские агенты, например Гай Берджесс и сэр Энтони Блант. В сентябре 1949 г., когда Оруэлл лежал при смерти, Филби получил очень важный пост главы британской разведки в посольстве Британии в Вашингтоне.
Тем не менее факт остается фактом: ключевым моментом, по которому сходятся современные мыслители, как правые, так и левые, является то, что труды Оруэлла стали основой нашего понимания минувшего века, а также нас самих. Правые неоконсерваторы душат его в медвежьих объятиях, осыпая определениями вроде «называемый некоторыми самым значительным писателем XX века»[1107]. Левак Хитченс пошел еще дальше, заявив: «Двадцатый век принадлежит ему, писавшему о фашизме, коммунизме и империализме, и никакой другой писатель, творивший на английском языке, не может претендовать на ту же роль». В 2013 г. в The New Republic Оруэлла сравнили одновременно с Монтенем и Шекспиром и объявили «святым нашего века»[1108].
Воскрешение Оруэлла после трагедии 11 сентября
Это подводит нас к третьему и, пожалуй, наименее ожидаемому всплеску посмертной славы Оруэлла. Некоторые критики писали, что об Оруэлле забудут по прошествии 1984 г. или, во всяком случае, после распада Советского Союза. Гарольд Блум в 1987 г. предсказывал, что «1984» будет восприниматься как «книга, оставшаяся в своей эпохе, как “Хижина дяди Тома”»[1109]. Даже литературный критик Ирвинг Хауи, давний пропагандист Оруэлла, считал возможным, что после окончания холодной войны «роман “1984”, возможно, будет представлять лишь “исторический интерес”»[1110].
Однако его слова отозвались в сердцах нового поколения, сформировавшегося в эпоху после холодной войны. Имя Оруэлла не забыто, а пережило новый всплеск популярности. Когда миновал исторический контекст «1984», это словно освободило роман и позволило понять, что основной его посыл посвящен универсальной проблеме современного человечества.
Об этом свидетельствует то, что в последние года читатели и писатели по всему миру остро реагируют на созданное Оруэллом описание вездесущего государства. «Мы живем в новую эру слежки, когда идея Джорджа Оруэлла о жизни в обществе, каждый гражданин которого находится под постоянным наблюдением, становится настолько распространенной, что это вызывает панику», – буднично отметил один блоггер в июле 2015 г.[1111]. Иракский писатель Хассан Абдулраззак сказал в 2015 г.: «Я уверен, что Джордж Оруэлл не думал, что должен написать поучительную сказку для мальчика из Ирака, когда писал “1984”, но эта книга лучше объяснила для меня Ирак при Саддаме, чем что бы то ни было до или после нее»[1112]. В 2015 г. «1984» вошел в первую десятку книжных бестселлеров года в России[1113].
В 2014 г. «1984» стал настолько популярным символом для участников антиправительственных выступлений в Таиланде, что «Филиппинские авиалинии» сочли нужным предупредить пассажиров, что наличие у них этой книги может создать проблемы на таможне и со стороны других представителей властей[1114]. «Эмма Ларкин» (псевдоним американской журналистки, работающей в Юго-Восточной Азии) написала: «В Бирме шутят, что Оруэлл написал об этой стране не один роман, а целую трилогию: “Дни в Бирме”, “Скотный двор” и “1984”»[1115].
Судя по всему, особый резонанс Оруэлл вызывает в современном Китае. С 1984 г. было опубликовано примерно тринадцать переводов «1984» на китайский язык. Этот роман и «Скотный двор» также переведены на тибетский. Объясняя актуальность Оруэлла для Китая, один из переводчиков, Дун Лэшань, написал: «Двадцатый век скоро кончится, но политический террор продолжается, поэтому “Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый” остается значимым и сегодня»[1116].
Более ранние размышления Оруэлла о злоупотреблении политической властью также находят новую аудиторию. Исламский радикал, читая «Скотный двор» в египетской тюрьме, почувствовал, что Оруэлл апеллирует к его личным сомнениям. «Я начал соединять отдельные точки и думать, что если бы парни, с которыми я тут сижу, когда-нибудь пришли к власти, то, господи, это был бы исламский эквивалент “Скотного двора”», – сказал Мааджид Наваз[1117]. В Зимбабве оппозиционная газета публиковала «Скотный двор» в многих номерах с продолжением; на иллюстрациях хряк Наполеон был изображен в таких же массивных солнцезащитных очках, как у пожизненного президента Зимбабве Роберта Мугабе[1118]. В отместку кто-то взорвал типографию газеты противотанковой миной. Кубинский художник был посажен в тюрьму без суда за планы поставить в 2014 г. пьесу по «Скотному двору». Чтобы власти наверняка поняли его замысел, он написал на двух свиньях имена «Фидель» и «Рауль»[1119].
В эпоху после трагедии 11 сентября особенно актуальным вновь стал роман «1984», завоевавший новое поколение западных читателей благодаря трем взаимосвязанным аспектам.
Для сегодняшних американцев фон действия романа, постоянная война, служит пугающим предостережением. В книге, как и в нынешней жизни Америки, конфликт происходит где-то там, за кадром, временами напоминая о себе далекими разрывами бомб. «Уинстон не мог уверенно вспомнить время, когда его страна не воевала бы», – писал Оруэлл в «1984»[1120]. (Это можно сказать обо всех американцах в возрасте до двадцати с небольшим лет. В романе некоторые персонажи даже подозревают, что правительство выдумывает войну, утверждая, что она продолжается, чтобы удержать власть.)
В эпоху, когда американцы ведут войны с помощью дронов и высокоточных управляемых ракет, силами немногочисленных «морских котиков» и других сил специального назначения в дальних уголках Ближнего Востока, а вражеские бомбы время от времени взрываются в таких городах, как Лондон, Париж, Мадрид и Нью-Йорк, этот фрагмент романа звучит как пугающее пророчество:
Это военные действия с ограниченными целями, причем противники не в состоянии уничтожить друг друга, материально в войне не заинтересованы… физически войной занята малая часть населения – в основном хорошо обученные профессионалы, и людские потери сравнительно невелики. Бои – когда бои идут – развертываются на отдаленных границах, о местоположении которых рядовой гражданин может только гадать… В центрах цивилизации война дает о себе знать лишь… от случая к случаю – взрывом ракеты, уносящим порой несколько десятков жизней[1121].
Второй движущей силой нынешнего бума вокруг Оруэлла является развитие после 11 сентября 2011 г. феномена «шпионского государства» (intelligence state). Мы живем во времена всепроникающего, зарвавшегося государства как на Востоке, так и на Западе. В начале 2000-х гг. правительство Соединенных Штатов как ни в чем не бывало убивало людей в странах, с которыми не находилось в состоянии объявленной войны, например в Пакистане и Йемене, с помощью дистанционно управляемых летательных аппаратов. Многие из убитых даже не были опознаны, решение принималось лишь по так называемым поведенческим паттернам, показавшимся властям США угрожающими. Убийство этих людей получило название «удар по предполагаемому террористу»[1122] – скажем, по мужчине боеспособного возраста, совершающему поступок, ассоциирующийся с террористами, скажем, разговор с установленными террористами по телефону или посещение собрания вместе с ними. Сотни таких ударов с беспилотных летательных аппаратов были нанесены в Пакистане, Йемене и Сомали. (Американцы, ссылаясь на букву закона, отмечали, что цели были вооружены, но это чистый софизм в отношении мужчин из таких мест, как афгано-пакистанская граница, этот современный Дикий Запад, где все взрослые мужчины носят оружие.) «Метаданные» – манипулирование миллиардами бит информации с целью выявления прежде незамеченных паттернов поведения – позволяет правительствам втихую составлять поведенческие досье на миллионы людей.
Допустим, Америка пошла на убийства и вмешательство в частную жизнь в ответ на террористические атаки 11 сентября. Вероятно, Оруэлл решительно осудил бы и атаки, и паническую реакцию правительства США. Его путеводной звездой была свобода совести – свобода как от контроля правительства, так и от экстремистов, религиозных или идеологических. Вспомним его наблюдение, которое цитировалось в конце вводной главы этой книги: «Если свобода вообще что-нибудь значит, то она значит право говорить людям то, чего они не хотят слышать»[1123]. В этой связи существенно, что главной угрозой свободе герой романа Оруэлла «1984» Уинстон считает не заморского врага, а правительство собственной страны.
Третьим и, пожалуй, самым шокирующим обстоятельством стало то, что описание пыток в «1984» предвосхитило их применение сегодняшним государством при ведении бесконечной «войны с терроризмом». После 11 сентября 2001 г. впервые в истории Америки пытки стали официальной политикой. (До этого они иногда применялись, но всегда в нарушение закона, и в некоторых случаях преследовались в судебном порядке.) Представители ЦРУ признали, что прибегали к пыткам, практически нарываясь на предъявление обвинения, но это так и не было сделано.
Иногда между учеными мужами вспыхивали споры о том, какой писатель-пророк середины XX в. более точно предсказал будущее: Олдос Хаксли и его «О, дивный новый мир», где государство контролирует людей через удовольствие, или Оруэлл с его более мрачным восприятием государства, опирающегося на боль. (Хаксли, кстати, недолгое время учил Оруэлла французскому в Итоне.) В действительности, это ложное противопоставление – оба автора правы. Огромное большинство людей согласны подвергаться насилию и не оспаривают право государства на это. Однако часто возникает инакомыслящее меньшинство, и, чтобы его подавить, обычно требуются более жесткие методы. Как сформулировал Оруэлл в концовке романа «1984»: «…человечество стоит перед выбором: свобода или счастье, и для подавляющего большинства счастье – лучше»[1124]. Более того, большинство американцев, в общем, устраивает, что за их личной коммуникацией следит аппарат государственной безопасности. Как в этом, так и в применении пыток американский народ негласно соглашается на радикальный отход от своих национальных традиций.
Другие государства следуют примеру Америки в изучении возможностей проникновения высокотехнологичной электроники в частную жизнь. Во время переворота 2014 г. на Украине пророссийское правительство, осаждаемое протестующими, обратилось к ним с предельно оруэлловским посланием. Оно отследило местоположение сотовых телефонов в местах проведения протестов и разослало на все эти номера СМС с предупреждением: «Дорогой абонент, вы зарегистрированы как участник массовых беспорядков»[1125]. Обращение «дорогой» особенно напоминает стиль мышления Старшего Брата[1126].
* * *
Оруэлл не был всевидящим. Он боялся грубой силы тоталитаризма, но, как мы знаем, ни разу не был в Америке, из-за чего, возможно, не осознавал жизнеспособности капитализма. Он недооценил потенциал американских солдат во время Второй мировой войны и живучий, гибкий характер их общества. В 1943 г. он писал, что «экономика, которой управляет стремление к выгоде, не соответствует задаче перевооружения в современных масштабах»[1127]. Это могло быть верно в отношении Британии 1930-х гг., переживавшей упадок экономики, не сумевшей обеспечить финансирование инноваций, но за последние восемь десятилетий Соединенные Штаты трижды доказали ошибочность этой оценки: сначала в годы Второй мировой войны, затем в ходе развития во время президентства Эйзенхауэра и, наконец, восстановив американскую военную мощь после войны во Вьетнаме, когда рейгановские финансовые вливания в сочетании с возможностями Кремниевой долины создали мощную компьютеризованную военную машину США.
Вследствие этого Оруэлл также недооценивал, насколько бесцеремонно могут действовать западные государства и компании. Он ошибочно предсказал в «Дороге на Уиган-пирс», что «технический прогресс значительно ускорится с установлением социализма»[1128]. Возможно, его восприятие было ограничено местом, где он жил. Его представления о возможностях капитализма сложились под влиянием того, что Оруэлл видел в Британии, – а он видел стагнирующий капитализм поздней индустриальной эпохи. Главной целью этого капитализма была эффективность, то есть успех зависел от умения управленцев выжать еще немного денег из имеющихся систем и работников. «Процессы, задействованные в производстве, скажем, аэроплана, настолько сложны, что возможны только в плановом централизованном обществе, со всем репрессивным аппаратом, который при этом предполагается, – писал Оруэлл в 1945 г. – Если не случится какого-то непредсказуемого изменения в человеческой природе, свобода и эффективность будут тянуть нас в разные стороны»[1129].
Оруэлл не мог знать, что через несколько десятилетий, с началом информационной эпохи эффективность станет экономически менее значимым фактором, чем инновационность и адаптивность. Apple, Microsoft, Google и великое множество других компаний конца XX в. не делали лучшие пишущие машинки, они создали совершенно новые продукты, скажем, карманные компьютеры и приложения к ним. Это не было эффективно, поскольку инновации по определению затратны, и неудач в этой сфере значительно больше, чем успехов. Новые компании могли конкурировать, только осыпая деньгами и прочими благами сотрудников, способных к разработке инновационных продуктов. Оруэлл не мог знать и того, что, парадоксальным образом, эти компании, вдохновленные калифорнийской идеологией личной свободы, скоро станут производить продукты, которые намного глубже вторгнутся в частную жизнь, чем это делали титаны промышленной эпохи, что они начнут беспрерывно следить за индивидами, чтобы продавать им больше товаров. Сегодня информация – это не только власть, но и колоссальные прибыли. Как говорят в Кремниевой долине, не бывает такой вещи, как бесплатное приложение, – если приложение бесплатно, значит, продуктом является человек, который его использует. Иными словами, сегодняшние корпорации Кремниевой долины смотрят на людей как на ресурсы, которые следует добыть и использовать, как, скажем, уголь в XIX в.
Возродившаяся актуальность Оруэлла в последние годы впервые сделала из него своего рода знаменитость, часто появляющуюся в поп-культуре. В течение того времени, что я писал эту книгу, запрос «Оруэлл» в «Google Оповещениях» ежедневно приносил 20–30 упоминаний о нем в газетах, журналах, на сайтах и в других медиа по всему миру. Как минимум одно из них неизбежно начиналось с посылки: «Если бы Оруэлл жил сейчас…», а дальше, как правило, шло разоблачение того, против чего в тот день выступал автор. В политических комментариях аргумент обычно упрощался до подходящей дубинки, которой можно ударить оппонентов. Вот типичный пример из редакционной статьи правого толка в The Wall Street Journal: «Перефразируя лозунги оруэлловской Океании, можно сказать, что в правление мистера Обамы друзья – это враги, отрицание – это мудрость, капитуляция – это победа»[1130]. Вот другой, написанный несколько недель спустя либеральным студентом колледжа: «Америка еще не превратилась в антиутопию Оруэлла… Однако, поскольку ее политика такова, что это “еще” – уместное уточнение, голос за республиканского кандидата является голосом, толкающим Америку в “1984”»[1131]. Эти попытки призвать дух Оруэлла легко высмеять, но это означало бы не увидеть главное – их важную и ценную сторону. Очевидно, что работы Оруэлла научили многих людей с подозрением относиться к отупляющей риторике правительственных заявлений, к навязчивому присмотру властей, а главное, к вторжению государства в сферу частной жизни.
Имеется и поток более интересных отсылок к Оруэллу в мире искусства и развлечений. В совокупности они превращают его фактически в действующую фигуру в культуре. В 2013 г. певец Дэвид Боуи составил список ста своих любимых книг, куда включил три книги Оруэлла[1132]. Тренер футбольного клуба «Бирмингем Сити» назвал «1984» любимой книгой[1133]. Жизнерадостно-шумная молодая рок-группа из Чикаго, назвавшая себя The Orwells, завоевала международную славу благодаря таким песням, как «Кому ты нужен?» и «Грязное белье». Если бы Оруэлл имел склонность к сочинению песен, то мог бы написать парочку с такими названиями. Канадский инди-дуэт Town Heroes записал альбом, вдохновленный советом Оруэлла стараться увидеть то, что находится у тебя перед носом[1134].
Пожалуй, одной из самых достойных попыток воздать дань Оруэллу является яркий роман Дэйва Эггерса «Круг» (The Circle), переносящий проблематику «1984» в реалии сегодняшней Кремниевой долины. Действие разворачивается в компании Circle, поглотившей Apple, Google, Facebook и, видимо, ряд других информационных компаний, и представляет собой погружение молодой женщины Мэй в мир добровольной тотальной слежки. Вероятно, не случайно новая штаб-квартира, которую Apple проектирует и строит несколько лет, имеет форму идеального круга в стеклянной оболочке[1135]. Этот проект представляет собой непреднамеренную реминисценцию идеальной тюрьмы Джереми Бентама, концентрического Паноптикона[1136]. Однако, отмечает Эггерс, махина Apple возводится, чтобы следить не за узниками, находящимися внутри, а за всеми живущими, за миром снаружи.
Движущей силой романа является сочетание реалистичного изображения Эггерсом мировоззрения Кремниевой долины и его собственного представления о том, что усилия здешних корпораций в конечном счете уничтожают личные свободы. «У каждого должно быть право знать все», – заявляет один из трех руководителей компании. Более того, продолжает он, если за каждым ведется слежка, «это приведет к более нравственному образу жизни… Мэй, в конце концов мы будем вынуждены стать лучшими версиями самих себя». Эггерс ловко прикрывает эту ужасную мысль калифорнийским «новоязом»: «Мы, наконец, раскроем свой потенциал».
Кураторы Мэй узнают, что она не обнародовала все данные о своем жизненном опыте, и устраивают ей публичный допрос, воспринимаемый окружающими как форма духовного роста. Для своих рецензентов она подытоживает уроки, которые ее заставили усвоить:
СЕКРЕТЫ – ЭТО ЛОЖЬ.
ВМЕШАТЕЛЬСТВО – ЭТО ЗАБОТА.
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ – ЭТО КРАЖА.
Неудивительно, что издание Digital Trends сочло фрагменты книги «почти оскорбительными»[1137].
Тем временем ученые продолжают ковыряться в подробностях жизненного пути Оруэлла, вроде того факта, что в 1931 г., во время работы над «Фунтами лиха в Париже и Лондоне», он провел ночь в тюрьме, назвавшись в полиции «Эдвардом Бертоном»[1138]. Журналист, изучающий период жизни Оруэлла в качестве сельского книготорговца в Хертфордшире, обнаружил, никого этим не удивив, что как минимум один сосед считал эту деятельность «бесполезной»[1139].
Сегодня Оруэлл получал бы более чем достаточный доход, просто сидя в этом магазине и подписывая свои книги. В 2014 г. распорядитель сообщил британскому изданию, что доход от оруэлловского литературного наследия за три года вырос до 10 % годовых – намного больше, чем в среднем в стагнирующей экономике[1140]. Би-би-си заказала статую своего бывшего сотрудника Оруэлла, она должна была быть установлена в 2016 г. В смысле влияния на современность Оруэлл, пожалуй, превзошел Черчилля.
* * *
Не переоценивается ли Оруэлл в многочисленных сегодняшних восхвалениях? Отчасти да, особенно в расхожих упоминаниях о нем как о единственном в своем роде провидце и знатоке тоталитаризма. Тем не менее реальность, по большей части, свидетельствует в пользу Оруэлла. Современники не принимали его в расчет, отчасти потому, что он лучше понимал ту эпоху. Тогда это было невозможно доказать, но о его правоте свидетельствуют события шести десятилетий, минувших с тех пор, как он перестал писать.
В то же время самый долгосрочный вклад Оруэлла в западную культуру наименее очевиден. Часто отмечается, что он один из немногих писателей, обогативших наш язык общепонятными сегодня словами и фразами: «двоемыслие», «Старший Брат», «гнездо памяти», «все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие».
Меньше внимания уделяется тому, что его узнаваемый стиль, особенно при изучении политики и культуры, стал общепринятым в современной дискуссии по этим вопросам. В таких изданиях, как The Times Literary Supplement, The New York Review of Books, и на страницах сотен газет преобладает – во всяком случае, таково стремление – его подход: ясность, повествовательность и опора на конкретные факты, которые очевидны, но игнорируются. Еще и поэтому его эссе и обзоры выглядят настолько современными. Рассмотрим, например, фразу американского политического писателя XXI в. Та-Нехиси Коутса: «…все наши формулировки – расовые отношения, расовая пропасть, расовая справедливость, расовая дискриминация, привилегии белых, даже превосходство белой расы – затемняют тот факт, что расизм укоренен на уровне подкорки, что он отключает людям мозги, пережимает горло, рвет мышцы, вырывает внутренние органы, ломает кости, выбивает зубы. Нельзя закрывать на это глаза»[1141]. Выбор слов, ритм и, самое главное, основополагающий завет – видеть подлинные проявления власти – все это квинтэссенция Оруэлла.
Не будет преувеличением сказать, что Черчилль и Оруэлл, наряду с многими другими личностями, способствовали возникновению условий для экономического бума конца XX в. Черчилль своими действиями в качестве одного из мировых лидеров военной эпохи сделал возможным послевоенный мир. Холодная война стала следствием Второй мировой, и исход этого конфликта был предопределен событиями 1940 г., в центре которых стоял Черчилль. Россия и Соединенные Штаты, тогда не находившиеся в состоянии войны, в конечном счете выиграли войну, но в 1940 г. Черчилль «единственный не потерял головы»[1142], по утверждению историка венгерского происхождения Джона Лукача (Лукаса), узника нацистов во время Второй мировой. Пожалуй, лучше всех эту мысль выразил британский писатель Пол Джонсон: «Каждый, кто ценит свободу в рамках закона и власть народа, волей народа и во имя народа[1143], найдет успокоение и поддержку в истории его жизни»[1144].
Экономический рост создал пространство для роста личностного и соответственно возможность творческого самовыражения. Крайне маловероятно, что фашизм или коммунизм смогли бы обеспечить бурный экономический рост до конца XX в. При всей своей агрессивной навязчивости интернет приносит больше пользы, чем вреда, проявлениям индивидуального в человеке. На протяжении бо́льшей части последних двух столетий нужно было обладать немалым достатком, чтобы стать издателем. Теперь это не так. Теперь каждый, у кого есть компьютер, может делиться мнениями, фактами и изображениями со всем миром. Оборотной стороной является возможность властей и корпораций наложить лапу на все эти данные и превратить интернет в подобие «телекрана», устройства двусторонней передачи информации из «1984», но еще более всеохватное – в гигантский механизм, соединяющий государственный контроль и капиталистическую коммерцию.
Оруэлл понимал, что люди могут стать рабами государства, но не предвидел, что они могут превратиться и в нечто другое, не менее ужасное, – в продукт корпораций, в источник данных, безостановочно добывающихся и распространяющихся повсюду. Нет никаких сомнений, он бы яростно критиковал подобные проявления.
Послесловие Путь Черчилля и Оруэлла
Сталкиваясь с переломным моментом в истории, Черчилль и Оруэлл, во-первых, определяли его существенные стороны. Во-вторых, действовали согласно своим убеждениям. Они оказались в подлинно катастрофической ситуации, когда их образу жизни грозило исчезновение. Многие окружающие были уверены, что зло восторжествует, и пытались примириться с ним. Но не эти двое. Они действовали с отвагой и проницательностью. Нам стоило бы перенять у них этот мудрый двухэтапный процесс, особенно во времена сбивающих с толку кризисов: сначала тщательно выявить факты, затем действовать, исходя из своих принципов.
Они часто ошибались в своих оценках, но неустанно стремились докопаться до сути, что не менее важно в сложной ситуации[1145]. Особенно в этом отношении выделяется Оруэлл, никогда не оставлявший попыток разглядеть правду через нагромождения лжи, искажений и отвлекающих факторов. Вместо того чтобы подгонять факты под свои взгляды, он был готов изменить свои взгляды под давлением фактов.
Имея дело с терроризмом, глобальным потеплением, экономическим неравенством и расизмом, а также паникующими политиками и демагогами-лидерами, полезно помнить, как эти два человека реагировали на ошеломляющие события своего времени. Им особенно хорошо удавалось распознавать заблуждения собственного социального круга – умение всегда полезное, хотя и не способствующее налаживанию и поддержанию дружеских связей.
Нам следует учитывать, что большинство из нас почти никогда не хочет прислушиваться к таким людям, как Оруэлл и Черчилль. Большинство, сталкиваясь с кризисной ситуацией, не вникает в ее суть. Мы склонны бежать от проблемы. Именно это представляла собой политика умиротворения агрессора в 1930-е гг. – способ уклониться от проблемы, обойти неопровержимые, неизбежные факты.
Термин «психологическое избегание» (psychological avoidance) постоянно использует Тейлор Бранч в первом томе биографии Мартина Лютера Кинга – младшего для описания первой массовой реакции «белой Америки» на борьбу за гражданские права[1146]. Главной проблемой, с которой столкнулись гражданские активисты в Америке 1950–1960-х гг., были не расовые предрассудки, как таковые, – и даже не всегда в южных штатах, – а нежелание даже добропорядочных людей вскрывать гнойник, который нельзя было далее терпеть.
В апреле 1963 г. доктор Кинг оказался в тюремной камере в Бирмингеме (Алабама) по обвинению в нарушении закона, выразившемся в организации маршей и сидячих забастовок в ходе кампании за гражданские права. Адвокат принес ему номер газеты Birmingham News от 13 апреля. На второй странице Кинг увидел заголовок: «Белые священнослужители предупреждают местных негров о недопустимости участия в демонстрациях». В статье приводились слова семи местных религиозных деятелей, белых сторонников интеграции, которые отвергали кампанию Кинга, называя ее «глупой и несвоевременной»[1147]. Умеренные клирики увещевали экстремистов с обеих сторон остыть и дать людям время.
Кинг стал писать ответ на полях газеты, другой бумаги у него не было. Через четыре дня послание было готово. В этом «Письме из Бирмингемской тюрьмы» Кинг, как Оруэлл и Черчилль, просто призвал людей увидеть, что происходит у них перед глазами. Он начал с объяснений, какие цели преследует его кампания и как он этого добивается. Первый шаг, указал он священникам, – «сбор фактов, чтобы определить, действительно ли происходит беззаконие». Следующие три шага: «2) переговоры, 3) самоочищение и 4) прямые действия».
Оруэлл заметил бы, что первый шаг, сбор фактов, – самое революционное действие, как это стало для Уинстона в «1984». Кинг утверждал, что в мире, основанном на фактах, где индивид имеет право самостоятельно обдумывать факты и делать из них выводы, государство обязано завоевать лояльность своих граждан. Если оно действует вразрез с тем, что утверждает, то начинает утрачивать их лояльность. Эта мысль была революционной и в то же время очень американской.
Далее Кинг приводит факты, которые видит.
Бирмингем пронизан сегрегацией, пожалуй, больше всех других городов в Соединенных Штатах. Отвратительный перечень жестокостей здешней полиции известен во всех уголках страны. Несправедливое обращение с неграми в его судах – печально известная реальность. Здесь больше нераскрытых взрывов негритянских домов и церквей, чем в любом другом городе нашей страны. Таковы ужасные, немыслимые, но неопровержимые факты.
Разве Кинг не противоречит сам себе, призывая нарушать закон, чтобы заставить государство по-человечески обращаться со своими гражданами? Нисколько, отвечает он, напоминая о неотъемлемом праве человека делать собственные выводы: «Любой закон, возвышающий личность, справедлив. Любой закон, принижающий личность, несправедлив».
Оруэлл, вероятно, согласился бы с этим. Он принял бы и следующую мысль Кинга: «Если бы я жил сейчас в коммунистической стране, где подавляются определенные принципы, дорогие христианину, тогда, я уверен, открыто выступал бы за несоблюдение этих антирелигиозных законов».
Через несколько страниц, выражая уверенность в конечной победе движения за гражданские права, Кинг высказывает предположение, что «поверженная справедливость сильнее торжествующего победу зла»[1148]. Эти слова перекликаются с настроениями Черчилля весной 1940 г. Неудивительно, что вскоре Кинг стал жертвой государственного надзора.
Черчилль и Оруэлл видели, как избегание признания таких фактов, как приход к власти Гитлера и пороки коммунизма, ослабляет реакцию людей на насилие. Даже перед лицом неминуемой военной угрозы правящий класс Британии был неспособен проявить волю, чтобы защитить свой либерально-демократический образ жизни. Советская угроза после Второй мировой войны оказалась более сложной проблемой, но потребовала, чтобы мы, по крайней мере, видели, что представляет из себя сталинский коммунизм, – убийственная тоталитарная идеология, уничтожающая свободу человека не только говорить, но даже думать, что для таких сильных и оригинальных мыслителей, как Оруэлл и Черчилль, было хуже пытки.
Идет время, и мы начинаем видеть истинных героев недавнего прошлого. Теперь мы знаем, что подлинными лидерами 1960-х гг. в Соединенных Штатах были Мартин Лютер Кинг – младший, Баярд Растин, Малкольм Икс и другие люди, которые отказывались терпеть. По другую сторону Атлантики мы видим среди тех, кто помогал освободить Восточную Европу и Россию от мертвой хватки коммунизма, Вацлава Гавела, Чеслава Милоша, Леха Валенсу, Иоанна Павла II, Андрея Сахарова и других диссидентов.
Большинство их современников пошли другим путем. Большинство в подобных ситуациях почти всегда неправо, по крайней мере, вначале. Писатель чешского происхождения Милан Кундера напоминает в своей «Книге смеха и забвения», что весной 1948 г., когда Советы установили в Чехословакии сталинский коммунизм, их радостно приветствовали «самые динамичные, самые умные, лучшие. Да говорите, что хотите, а коммунисты были умнее. У них была впечатляющая программа. План совершенно нового мира, где каждому найдется место. У противников не было великой мечты, лишь какие-то старомодные и банальные нравственные принципы, которыми они пытались латать драные штаны установленного порядка»[1149].
Взяв власть, коммунисты Чехословакии выдвинули программу, которая не удивила бы Оруэлла, – программу систематического уничтожения прошлого. Вот как говорит об этом один из персонажей Кундеры, историк, которого вот-вот посадят в тюрьму на долгие годы: «Ликвидация народа… начинается с лишения его памяти. С уничтожения его книг, его культуры, его истории». Сам Кундера эмигрировал по политическим мотивам.
Отказаться брести вместе со стадом обычно труднее, чем кажется. Чтобы порвать с самым сильным в стаде, нужна необыкновенная твердость характера и ясность ума. Однако все мы должны следовать этим путем, как бы ни было трудно, если хотим сохранить право самостоятельно мыслить, говорить и действовать, подчиняясь не государству или господствующей идее, а собственному разуму. Почти везде и почти всегда свобода не результат военных действий. Скорее, ее можно сравнить с живым существом, растущим или уменьшающимся каждый день, с тем, как мы мыслим, общаемся и относимся друг к другу в общественной дискуссии, свобода – то, что мы как общество ценим и вознаграждаем и как мы этого добиваемся. Черчилль и Оруэлл показали нам путь. Кинг, идя тем же путем, нашел средства освободить и очистить Америку, как за сто лет до него это сделал Авраам Линкольн в Геттисберге.
Все мы можем стремиться к этому, ища твердые факты, особенно о прошлом родной страны[1150]. Факты оказывают поразительно двойственное воздействие. Митинги за «правду и примирение» в Аргентине, Южной Африке и испанской Стране Басков показали, что факты являются удивительно эффективным инструментом – они могут вскрыть обман, но также и заложить основу движения вперед. Чтобы демократии процветали, большинство должно уважать право меньшинств вслух выражать несогласие. Верная точка зрения почти всегда поначалу является позицией меньшинства. Лица, наделенные властью, часто стремятся отвратить людей от достоверных фактов по конкретному вопросу, будь то в России, в Сирии или в родной стране. Почему белые американцы так долго не могли понять, что полиция часто относится к черным американцам как к врагам, которых нужно запугать, – даже сегодня? Почему мы позволяем политическим лидерам, не имеющим ни капли свойственной Черчиллю верности традиционным установлениям, называть себя консерваторами?
Борьба за то, чтобы видеть вещи такими, как есть, пожалуй, главная движущая сила западной цивилизации. Долгая, но прямая линия пролегает от Аристотеля и Архимеда к Локку, Юму, Миллю и Дарвину, а от них через Оруэлла и Черчилля к «Письмам из Бирмингемской тюрьмы». Это согласие, что объективная реальность существует, что люди доброй воли могут ее воспринять и что другие люди изменят свои взгляды, если представить им факты.
Благодарности
Я благодарен за многообразную помощь Питеру Бергену, Бейли Кахолл, Энн-Мари Слотер и Рейчел Уайт из аналитического центра New America. Эмили Шнейдер и Джастин Линч оказали мне квалифицированную помощь с исследованиями. Завершающий цикл исследований осуществил Дэвил Стерман, выполнивший также кропотливую работу по сбору фотографий.
Я ценю поддержку, оказанную мне Университетом штата Аризона при содействии центра New America.
Мне также приятно упомянуть о поддержке фонда Bogliasco Foundation, предоставившего мне на месяц прекрасное место для работы над текстом и группу замечательных единомышленников для разговоров по вечерам.
Я ценю помощь в исследованиях, оказанную мне ранее Кэтрин Киддер и Стюартом Монтгомери, которые затем присоединились к Центру новой американской безопасности, организации, которой я также обязан.
Несколько человек частично или полностью прочли первый вариант текста и дали мне полезные советы. Вернон Лёб снова великодушно вызвался участвовать и творчески подошел к делу, что очень помогло мне при переработке рукописи. Комментарии и рекомендации Ли Поллока помогли мне заострить и углубить ряд фрагментов текста о Черчилле. Соображения Ричарда Данцига заставили меня переосмыслить подход к сравнению и противопоставлению Черчилля и Оруэлла. Мысли Карин Чиноуэт о политической ситуации 1930-х гг. оказались полезными и вдохновляющими. Тим Ноа также очень помог мне с послесловием. Каллен Мерфи дал мне общие рекомендации о том, как сделать книгу более доступной. Ричард Уиб критическим взглядом изучил первый вариант текста, обращая особое внимание на несоответствие между тем, что обещала каждая глава, и ее действительным содержанием. Книгу также прочли и помогли сделать лучше Майкл Абрамовиц, Эллен Хеффелфингер, Ричард Кон, Анна-Мэри Торрес, Джеймс Уайт, Чарльз и Танки Саммеролл. Симус Осборн любезно вызвался контролировать официальную судьбу рукописи. Никто из них не несет никакой ответственности за что-либо, сказанное в этой книге. Написав пять книг, я понял, что ошибки неизбежны и что все они мои.
Спасибо полезным сайтам и , а также за стенограммы выступлений членов парламента.
С готовностью признаю, что очень многим обязан сотням ученых, специалистов по Черчиллю, Оруэллу и Второй мировой войне, работы которых я изучал, когда писал эту книгу. Особенно ценными для меня оказались труды Мартина Гилберта, чьи многочисленные исследования о Черчилле являлись для меня руководством в последние годы. Хочу, однако, упомянуть, что моей любимой биографией Черчилля является многотомник Уильяма Манчестера, возможно, потому что он написан с точки зрения американцев. Гилберт предлагает авторитетный отчет о событиях, а Манчестер вдыхает в него жизнь. На меня повлияла и превосходная биография, написанная Роем Дженкинсом. Тем не менее самые запоминающиеся книги о Черчилле написаны им самим.
Что касается Оруэлла, я хочу поблагодарить Энди Мурсанда за то, что еще в 1982 г. он подарил мне четырехтомник избранных эссе Оруэлла.
Наконец, за помощь в работе над этой книгой, как и над предыдущими пятью, я хочу сказать спасибо Скотту Мойерсу, великому редактору, и его команде: Кристоферу Ричардсу, Кьяре Барроу, а также Гейл Брассел за бесподобную рекламную кампанию этой книги. Без Скотта это была бы совсем другая и менее интересная книга. Если бы редактирование входило в программу Олимпийских игр, Джейн Каволина завоевала бы золотую медаль. Я по-прежнему нуждаюсь в руководстве своего литературного агента Эндрю Уайла. Спасибо Dow Road Choir за еженедельную поддержку.
Как всегда, я благодарен своей жене за то, что она всегда рядом со мной в великом путешествии под названием жизнь.
Иллюстрации
Orwell Archive, UCL Library Services, Special Collections
© Imperial War Museums (ZZZ 5426F)
mperial War Museums (ZZZ 7150D)
Kurt Hutton/Getty Images
Sueddeutsche Zeitung Photo/Alamy
Universal History Archive/UIG via Getty Images
© Imperial War Museums (A 20581)
Harry S. Truman Library
Matthew Chattle/REX/Shutterstock/Associated Press;
Wason Wanichakorn/Associated Press
David von Blohn/NurPhoto/Sipa USA/Associated Press
ullstein bild/Getty Images; Cecil Beaton © Imperial War Museums (MH 26392) (Endnotes)
Сноски
1
Martin Gilbert, Churchill and America (New York: Free Press, 2005), 132.
(обратно)2
. ”Bullet in the Neck,“ in Audrey Coppard and Bernard Crick, Orwell Remembered (New York: Facts on File Publications, 1984), 158.
(обратно)3
Обсуждения со Стивом Райтом (Университетский колледж Лондона, специальное хранилище, архив Оруэлла) 14 июля 2015 г. и с Луисом Уатлингом, хранителем архива (Центр архивов Черчилля, колледж Черчилля, Кембриджский университет, Кембридж) 15 июля 2015 г.
(обратно)4
Сэр Чарльз Уилсон, впоследствии лорд Моран, Churchill: Taken from the Diaries of Lord Moran (Boston: Houghton Mifflin, 1966), 426.
(обратно)5
Violet Bonham Carter, Winston Churchill: An Intimate Portrait (New York: Harcourt, Brace & World, 1965), 416.
(обратно)6
Isaiah Berlin, ”Winston Churchill in 1940,“ in Personal Impressions, 2nd ed. (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2001), 5.
(обратно)7
Winston Churchill, Painting as a Pastime (Greensboro, N. C.: Unicorn Press, 2013), 64.
(обратно)8
Уинстон Черчилль, парламентские дебаты, 3 сентября 1939 г., доступно онлайн: Hansard, Parliamentary Debates. Далее: Hansard.
(обратно)9
George Orwell, ”Literature and Totalitarianism,“ The Listener, 19 June 1941, in The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 2: My Country Right or Left, 1940–1943, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 134. Далее: Orwell, CEJL, vol. 2.
(обратно)10
См. обсуждение в: John Rodden and John Rossi, The Cambridge Introduction to George Orwell (Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 2012), 105.
(обратно)11
Simon Schama, ”The Two Winstons“ in the BBC television series A History of Britain, Series 3, presented by Simon Schama (2002; A&E Home Video), DVD.
(обратно)12
Roy Jenkins, Churchill (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2001), 849.
(обратно)13
См.: Simon Read, Winston Churchill Reporting: Adventures of a Young War Correspondent (Boston: Da Capo, 2015).
(обратно)14
Rodden and Rossi, Cambridge Introduction to George Orwell, 107.
(обратно)15
Winston Churchill, My Early Life: 1874–1904 (New York: Touchstone, 1996), 8.
(обратно)16
Peregrine Churchill and Julian Mitchell, Jennie: Lady Randolph Churchill, a Portrait with Letters (New York: Ballantine, 1976), 128–29.
(обратно)17
Churchill, My Early Life, 31.
(обратно)18
Randolph S. Churchill, Winston S. Churchill: Youth, 1874–1900 (Boston: Houghton Mifflin, 1966), 79. См. также: Martin Gilbert, Churchill: A Life (New York: Henry Holt, 1991), 9.
(обратно)19
R. Churchill, Winston S. Churchill: Youth, 119.
(обратно)20
William Manchester, The Last Lion: Visions of Glory, 1874–1932 (New York: Bantam, 1984), 137.
(обратно)21
Roy Jenkins, Churchill (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2001), 8.
(обратно)22
Выступление Кона Кафлина в New America Foundation, Вашингтон, округ Колумбия, 5 февраля 2014 г.
(обратно)23
Michael Shelden, Young Titan: The Making of Winston Churchill (New York: Simon & Schuster, 2013), 34.
(обратно)24
Paul Johnson, Churchill (New York: Penguin, 2010), 7.
(обратно)25
Между нами (фр.). – Прим. пер.
(обратно)26
R. Churchill, Winston S. Churchill: Youth, 99.
(обратно)27
Churchill, My Early Life, 12.
(обратно)28
Там же, 13.
(обратно)29
R. Churchill, Winston S. Churchill: Youth, 63.
(обратно)30
Там же, 109.
(обратно)31
Churchill, My Early Life, 17.
(обратно)32
David Freeman, ”Putting Canards to Rest,“ Finest Hour: The Journal of Winston Churchill (Downers Grove, Il.: The Churchill Centre, Spring 2010): 38.
(обратно)33
Churchill, My Early Life, 39.
(обратно)34
Там же, 25.
(обратно)35
Там же, 35.
(обратно)36
Там же.
(обратно)37
R. Churchill, Winston S. Churchill: Youth, 188–89.
(обратно)38
Там же, 191.
(обратно)39
Там же, 202.
(обратно)40
Sir Charles Wilson, later Lord Moran, Churchill: Taken from the Diaries of Lord Moran (Boston: Houghton Mifflin, 1966), 281.
(обратно)41
Winston S. Churchill, Painting as a Pastime (Greensboro, N. C.: Unicorn Press, 2013), 20.
(обратно)42
Churchill, My Early Life, 109.
(обратно)43
Jonathan Rose, The Literary Churchill (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2015), 24.
(обратно)44
Churchill, My Early Life, 111.
(обратно)45
Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, vol. III, ed. J. B. Bury (New York: Heritage Press, 1946), 2042.
(обратно)46
Churchill, My Early Life, 186.
(обратно)47
Con Coughlin, Churchill’s First War: Young Winston at War with the Afghans (New York: St. Martin’s, 2014), 112.
(обратно)48
George Orwell, ”Why I Write,“ reprinted in Orwell and Politics, ed. Peter Davison (Harmondsworth, U. K.: Penguin Books Limited, 2001), 463.
(обратно)49
Moran, Churchill, 9.
(обратно)50
Isaiah Berlin, ”Winston Churchill in 1940,“ in The Proper Study of Mankind: An Anthology of Essays (London: Pimlico, 1998), 6.
(обратно)51
John Howard Wilson, ”‘Not a Man for Whom I Ever Had Esteem’: Evelyn Waugh on Winston Churchill,“ in Waugh Without End: New Trends in Evelyn Waugh Studies, ed. Carlos Villar Flor and Robert Murray Davis (Bern, Switzerland: Peter Lang, 2005), 251.
(обратно)52
Ethel Barrymore, Memories (New York: Harper, 1955), 126.
(обратно)53
Violet Bonham Carter, Champion Redoubtable (London: Weidenfeld & Nicolson, 1999), 21.
(обратно)54
Violet Bonham Carter, Winston Churchill: An Intimate Portrait (New York: Harcourt, Brace & World, 1965), 4.
(обратно)55
Moran, Churchill, 559; Rose, The Literary Churchill, 132.
(обратно)56
R. W. Thompson, Churchill and Morton (London: Hodder & Stoughton, 1976), 71.
(обратно)57
Bonham Carter, Winston Churchill, 383.
(обратно)58
Moran, Churchill, 324–35.
(обратно)59
Churchill, My Early Life, 212.
(обратно)60
Там же.
(обратно)61
Winston Churchill, The Story of the Malakand Field Force (Mineola, N. Y.: Dover, 2010), 131.
(обратно)62
Coughlin, Churchill’s First War, 204.
(обратно)63
R. Churchill, Winston S. Churchill: Youth, 342, 353–54.
(обратно)64
Ralph Martin, Jennie: The Life of Lady Randolph Churchill, vol. 2 (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1971), 125–26, 130.
(обратно)65
Churchill, The Story of the Malakand Field Force, 29.
(обратно)66
Там же, 128.
(обратно)67
R. Churchill, Winston S. Churchill: Youth, 365.
(обратно)68
Simon Read, Winston Churchill Reporting (Boston: Da Capo, 2015), 90.
(обратно)69
Churchill, Winston S. Churchill: Youth, 439.
(обратно)70
Churchill, My Early Life, 244.
(обратно)71
Там же, 259.
(обратно)72
Там же, 274.
(обратно)73
Там же, 298.
(обратно)74
R. Churchill, Winston Churchill: Youth, 514.
(обратно)75
Bonham Carter, Winston Churchill, 6.
(обратно)76
John Ramsden, Man of the Century: Winston Churchill and His Legend Since 1945 (New York: Columbia University Press, 2002), 39.
(обратно)77
Violet Bonham Carter, Lantern Slides: The Diaries and Letters of Violet Bonham Carter, ed. Mark Bonham Carter and Mark Pottle (London: Phoenix, 1997), 162.
(обратно)78
Bonham Carter, Winston Churchill, 210.
(обратно)79
Jenkins, Churchill, 133.
(обратно)80
Boris Johnson, The Churchill Factor: How One Man Made History (New York: Riverhead, 2014), 118.
(обратно)81
Mary Soames, ed., Winston and Clementine: The Personal Letters of the Churchills (Boston: Houghton Mifflin, 2001), 198.
(обратно)82
Sonia Purnell, Clementine: The Life of Mrs. Winston Churchill (New York: Viking, 2015), 40, также 11, 18, 26.
(обратно)83
Churchill, Painting as a Pastime, 36.
(обратно)84
Soames, Winston and Clementine, 116.
(обратно)85
Это обстоятельство мне разъяснил в беседе 9 марта 2016 г. Питер Эппс, автор книги «Черчилль в окопах» (Peter Apps, Churchill in the Trenches, Amazon, 2015).
(обратно)86
Soames, Winston and Clementine, 164, 177.
(обратно)87
Там же.
(обратно)88
Там же, 195. Питер Эппс обратил мое внимание на эти строки.
(обратно)89
Christopher Ogden, Life of the Party: The Biography of Pamela Digby Churchill Hayward Harriman (New York: Little, Brown, 1994), 121.
(обратно)90
Martin Gilbert, Winston S. Churchill: The Prophet of Truth, Volume V: 1922–1939 (London: Minerva, 1990), 41.
(обратно)91
Mary Lovell, The Churchills in Love and War (New York: W. W. Norton, 2011), 344.
(обратно)92
Lord Beaverbrook, Politicians and the War, 1914–1916 (London: Collins, 1960), 25.
(обратно)93
Описание торговли опиумом: Sarah Deming, ”The Economic Importance of Indian Opium and Trade with China on Britain’s Economy, 1843–1890,“ Whitman College, Economics Working Papers 25, Spring 2011, 4.
(обратно)94
. ”Mrs. Ida Blair’s Diary for 1905,“ in Audrey Coppard and Bernard Crick, Orwell Remembered (New York: Facts on File Publications, 1984), 19.
(обратно)95
Gordon Bowker, George Orwell (London: Abacus, 2004), 15.
(обратно)96
. ”The Brother-in-Law Strikes Back,“ in Coppard and Crick, Orwell Remembered, 128.
(обратно)97
George Orwell, ”Why I Write,“ in, Orwell and Politics, ed. Peter Davison (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 2001), 457.
(обратно)98
George Orwell, ”Such, Such Were the Joys,“ in The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 4: In Front of Your Nose, 1945–1950, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 360. Далее: Orwell, CEJL, vol. 4.
(обратно)99
Там же, 359.
(обратно)100
Там же, 333, 334.
(обратно)101
Там же, 339.
(обратно)102
Там же, 362.
(обратно)103
Bowker, George Orwell, 91–92.
(обратно)104
George Orwell, The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 1: An Age Like This, 1920–1940, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 45. Далее: Orwell, CEJL, vol. 1.
(обратно)105
Цит. по: Оруэлл Дж. Эссе. Статьи. Рецензии. – Пермь: КАПИК, 1992.
(обратно)106
Orwell, CEJL, vol. 4, 114.
(обратно)107
George Orwell, ”Shooting an Elephant,“ in Orwell and Politics, 18.
(обратно)108
Пер. А. Файнгара.
(обратно)109
George Orwell, Burmese Days (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1974), 16–17. (Оруэлл Дж. Дни в Бирме / Пер. В. М. Домитеевой. – СПб.: Азбука-классика, 2002.)
(обратно)110
Там же, 17.
(обратно)111
Там же.
(обратно)112
Здесь и далее цит. по: Оруэлл Дж. Дни в Бирме / Пер. В. М. Домитеевой. – СПб.: Азбука-классика, 2002.
(обратно)113
Там же, 22–23.
(обратно)114
Там же, 29.
(обратно)115
Там же, 208.
(обратно)116
Там же, 39.
(обратно)117
Там же, 43.
(обратно)118
Там же, 40.
(обратно)119
Orwell, ”Why I Write,“ in Orwell and Politics, 459.
(обратно)120
Orwell, Burmese Days, 12.
(обратно)121
Там же, 118.
(обратно)122
Там же, 280.
(обратно)123
Orwell, CEJL, vol. 1, 142.
(обратно)124
Orwell, ”Shooting an Elephant,“ in Orwell and Politics, 22.
(обратно)125
. ”The Brother-in-Law Strikes Back,“ in Coppard and Crick, Orwell Remembered, 127.
(обратно)126
. ”An Old Burma Hand,“ in Coppard and Crick, Orwell Remembered, 64. См. также: Emma Larkin, Finding George Orwell in Burma (New York: Penguin, 2005), 249.
(обратно)127
George Orwell, The Road to Wigan Pier (New York: Harvest, 1958), 148.
(обратно)128
Цит. по: Michael Shelden, Orwell: The Authorized Biography (New York: HarperCollins, 1991), 126.
(обратно)129
Harold Nicolson, The War Years: 1939–1945 (New York: Atheneum, 1967), 234.
(обратно)130
Stephen Dorril, Black Shirt: Sir Oswald Mosley and British Fascism (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 2007), 522. См. также: Michael Bloch, Closet Queens: Some 20th Century British Politicians (New York: Little, Brown, 2015).
(обратно)131
Nicolson, The War Years, 57.
(обратно)132
Там же, 325.
(обратно)133
Массы, толпа (фр.) – Прим. пер.
(обратно)134
Там же, 433, 435.
(обратно)135
Orwell, Down and Out in Paris and London (New York: Mariner Books, 1972), 120. (Оруэлл Дж. Фунты лиха в Париже и Лондоне / Пер. В. М. Домитеевой. – CПб.: Азбука-классика, 2003.)
(обратно)136
Там же, 14.
(обратно)137
Здесь и далее цит. по: Оруэлл Дж. Фунты лиха в Париже и Лондоне / Пер. В. М. Домитеевой. – СПб.: Азбука-классика, 2003.
(обратно)138
. ”A Philosopher in Paris,“ in Coppard and Crick, Orwell Remembered, 211. Странное совпадение: много лет спустя, в 1987 г., Айер, находясь на вечеринке в Нью-Йорке, заглянул в спальню и застал боксера Майка Тайсона за попыткой изнасиловать модель Наоми Кэмпбелл. Он вмешался, и Тайсон заявил: «Ты знаешь, мать твою, кто я такой? Я чемпион мира в тяжелом весе». Айер ответил: «А я бывший уикхемовский профессор логики [в Оксфорде]. Мы оба выдающиеся фигуры в своей области; предлагаю поговорить об этом как разумные люди». Ben Rogers, A. J. Ayer: A Life (New York: Grove, 2000), 344. Айер был приемным отцом ведущей кулинарного телешоу Найджелы Лоусон, в годы войны являлся коллегой Малкольма Маггериджа, друга Оруэлла. Muggeridge, Like It Was: The Diaries of Malcolm Muggeridge, ed, John Bright-Holmes (London: Collins, 1981), 364.
(обратно)139
Orwell, Down and Out in Paris and London, 18.
(обратно)140
Там же, 70–71.
(обратно)141
Там же, 168.
(обратно)142
Там же, 174.
(обратно)143
Там же, 89.
(обратно)144
George Orwell, Diaries, ed. Peter Davison (New York: W. W. Norton, 2012), 141.
(обратно)145
Orwell, Down and Out in Paris and London.
(обратно)146
Там же, 132.
(обратно)147
Там же, 36.
(обратно)148
Там же, 73.
(обратно)149
George Orwell, ”Antisemitism in Britain,“ in The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 3: As I Please, 1943–1945, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 332–41. Далее: Orwell, CEJL, vol. 3.
(обратно)150
John Newsinger, ”Orwell, Anti-Semitism and the Holocaust,“ in The Cambridge Companion to George Orwell, ed. John Rodden (Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 2007), 124.
(обратно)151
Muggeridge, Like It Was, 376.
(обратно)152
Orwell, Down and Out in Paris and London.
(обратно)153
Там же, 68.
(обратно)154
Там же, 120, 121.
(обратно)155
(George Orwell, Keep the Aspidistra Flying, in George Orwell omnibus (London: Secker & Warburg, 1976), 578. (Оруэлл Дж. Да будет фикус. – М.: Текст, 2004.)
(обратно)156
Mary McCarthy, ”The Writing on the Wall,“ New York Review of Books, 30 January 1969, доступно онлайн.
(обратно)157
. Orwell omnibus (London: Secker & Warburg, 1976), 255.
(обратно)158
Цит. по: Оруэлл Дж. Дочь священника / Пер. В. М. Домитеевой, Кеннета Джона Макиннеса. – М.: AST Publishers, 2015.
(обратно)159
Bernard Crick, ”Orwell: A Photographic Essay,“ in Reflections on America, 1984: An Orwell Symposium, ed. Robert Mulvihill (Athens, Ga., and London: University of Georgia Press, 1986), 76.
(обратно)160
. ”Jack Common’s Recollections,“ in Coppard and Crick, Orwell Remembered, 142.
(обратно)161
. ”A Memoir by Anthony Powell,“ in Coppard and Crick, Orwell Remembered, 244.
(обратно)162
Orwell, CEJL, vol. 4, 205.
(обратно)163
Orwell, Down and Out in Paris and London.
(обратно)164
Orwell, Diaries, 29.
(обратно)165
Там же, 37.
(обратно)166
Orwell, ”In Front of Your Nose,“ in CEJL, vol. 4, 125.
(обратно)167
Orwell, ”In Front of Your Nose,“ in CEJL, vol. 4, 125.
(обратно)168
Orwell, Diaries, 80.
(обратно)169
Stephen Wadhams, ed., Remembering Orwell (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 1984), 115.
(обратно)170
Orwell, Wigan Pier, 95–96.
(обратно)171
Orwell, Wigan Pier, 104.
(обратно)172
Там же, 21.
(обратно)173
Там же, 35.
(обратно)174
Peter Stansky and William Abrahams, Orwell: The Transformation (Palo Alto, Calif.: Stanford University Press, 1994), 186.
(обратно)175
Orwell, Wigan Pier, 174.
(обратно)176
Там же, 182.
(обратно)177
Курсив Оруэлла. Там же, 127.
(обратно)178
Там же, 128.
(обратно)179
. ”Hampstead Friendship,“ in Coppard and Crick, Orwell Remembered, 102.
(обратно)180
Victor Gollancz, foreword to Orwell, Wigan Pier, xix.
(обратно)181
Там же, x.
(обратно)182
Последнее предложение построено на рассуждениях из записки по поводу этого абзаца, присланной мне писателем Тимоти Ноа.
(обратно)183
Bernard Crick, George Orwell: A Life (New York: Penguin, 1980), 295.
(обратно)184
Там же, 204.
(обратно)185
Shelden, Orwell, 246.
(обратно)186
Crick, George Orwell, 312.
(обратно)187
Stephen Spender, The Thirties and After (New York: Random House, 1978), 4.
(обратно)188
Этот абзац опирается на исследование, представленное Ричардом Овери в его прекрасной книге «Годы заката: парадокс Британии в период между войнами» (The Twilight Years: The Paradox of Britain Between the Wars, New York: Penguin, 2009, 273). Комментарии Тойнби: 38, 43; цитата Роузе: 273; замечание Фишера: 316; мнение Вулф: 345.
(обратно)189
Harold Lasswell, Essays on the Garrison State (New Brunswick, N. J.: Transaction, 1997), 43.
(обратно)190
Harold Nicolson, Diaries and Letters, 1930–1939, ed. Nigel Nicolson (London: Collins, 1966), 41.
(обратно)191
Stanley Weintraub, Shaw’s People: Victoria to Churchill (University Park, Pa., and London: Penn State University Press, 1996), 229.
(обратно)192
Martin Gilbert, Winston Churchill: The Wilderness Years (Boston: Houghton Mifflin, 1984), 33.
(обратно)193
См.: Winston Churchill, Blood, Toil, Tears and Sweat: The Great Speeches, ed. David Cannadine (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 1990), xxxiv.
(обратно)194
William Manchester, The Caged Lion: Winston Spencer Churchill, 1932–1940 (London: Abacus, 1994), 88.
(обратно)195
David Reynolds, In Command of History: Churchill Fighting and Writing the Second World War (New York: Random House, 2005), xx.
(обратно)196
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume I: The Gathering Storm (Boston: Houghton Mifflin, 1948), 667.
(обратно)197
См., например: Stuart Ball, ”Churchill and the Conservative Party,“ in Winston Churchill in the Twenty-First Century, ed. David Cannadine and Roland Quinault (Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 2004), 78.
(обратно)198
Jonathan Rose, ”England His Englands,“ in The Cambridge Companion to George Orwell, ed. John Rodden (Cambridge U. K.: Cambridge University Press, 2007), 37.
(обратно)199
George Orwell, ”Looking Back at the Spanish War,“ in Orwell in Spain, ed. Peter Davison (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 2001), 358.
(обратно)200
Robert Rhodes James, ed., Chips: The Diaries of Sir Henry Channon, ed. Robert Rhodes James (London: Weidenfeld & Nicolson, 1967), 62.
(обратно)201
Ian Kershaw, Making Friends with Hitler: Lord Londonderry, the Nazis and the Road to World War II (New York: Penguin, 2004), 141, 177, 222.
(обратно)202
Там же, xvii, 175, 258, 319.
(обратно)203
Randolph S. Churchill, Twenty-One Years (Boston: Houghton Mifflin, 1965), 27.
(обратно)204
Charlotte Mosley, ed., The Mitfords: Letters Between Six Sisters (New York: HarperCollins, 2007), 28.
(обратно)205
Там же, 87, 89. См. также: David Cannadine, Aspects of Aristocracy: Grandeur and Decline in Modern Britain (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1994), 142.
(обратно)206
Mosley, The Mitfords, 103.
(обратно)207
Там же, 68.
(обратно)208
David Faber, Munich, 1938 (New York: Simon & Schuster, 2010), 88–89.
(обратно)209
John Ramsden, Man of the Century: Winston Churchill and His Legend Since 1945 (New York: Columbia University Press, 2002), 44.
(обратно)210
Thomas Jones, A Diary with Letters, 1931–1950 (Oxford: Oxford University Press, 1954), 181. См. также: William McNeill, Arnold J. Toynbee: A Life (Oxford: Oxford University Press, 1989), 172.
(обратно)211
Jones, A Diary with Letters, 390.
(обратно)212
Nicolson, Diaries and Letters, 1930–1939, 342–43.
(обратно)213
Там же.
(обратно)214
Jonathan Freedland, ”Enemies Within,“ The Spectator, 11 February 2012.
(обратно)215
«Да погибнет Иуда» (англ.). – Прим. пер.
(обратно)216
Lord Halifax foreword to John Wrench, Geoffrey Dawson and Our Times (London: Hutchinson, 1955), 12.
(обратно)217
No author, The History of The Times, Volume IV, The 150th Anniversary and Beyond, Part II: 1921–1948 (London: Office of the Times, 1952), 887.
(обратно)218
Wrench, Geoffrey Dawson and Our Times, 361.
(обратно)219
. History of The Times, vol. IV, part II, 946, 1009.
(обратно)220
Приводится в кн.: Anthony Cave Brown, C: The Secret Life of Sir Stewart Menzies, Spymaster to Winston Churchill (New York: Macmillan, 1987), 183.
(обратно)221
Keith Feiling, The Life of Neville Chamberlain (London: Macmillan, 1946), 323.
(обратно)222
Kershaw, Making Friends with Hitler, 243.
(обратно)223
Jones, A Diary with Letters, 247.
(обратно)224
Цит. по: Gilbert, Churchill: The Wilderness Years, 60.
(обратно)225
Winston Churchill, Parliamentary debate, 7 November 1933, доступно онлайн: Hansard, Parliamentary Debates. Далее: Hansard.
(обратно)226
. Hansard, 28 November 1934.
(обратно)227
Faber, Munich, 1938, 16.
(обратно)228
Gilbert, Churchill: The Wilderness Years, 78.
(обратно)229
. Hansard, 11 March 1935.
(обратно)230
Gilbert, Churchill: The Wilderness Years, 215.
(обратно)231
Martin Gilbert, Winston S. Churchill: The Prophet of Truth, Volume V: 1922–1939 (London, Minerva, 1990), 889.
(обратно)232
. Hansard, 24 March 1938.
(обратно)233
Письмо Томаса Джонса Абрахаму Флекснеру, в: Jones, A Diary with Letters, 125.
(обратно)234
Там же, 175.
(обратно)235
Там же, 208.
(обратно)236
Там же, 219.
(обратно)237
Tony Judt with Timothy Snyder, Thinking the Twentieth Century (New York: Penguin Press, 2012), 68.
(обратно)238
. Hansard, 13 March 1930.
(обратно)239
Gilbert, Churchill: The Wilderness Years, 113.
(обратно)240
Там же, 106.
(обратно)241
W. P. Crozier, Off the Record: Political Interviews 1933–1943, ed. A. J. P. Taylor (London: Hutchinson, 1973), 32.
(обратно)242
. Hansard, 2 May 1935.
(обратно)243
Gilbert, Churchill: The Wilderness Years, 146.
(обратно)244
Там же, 171.
(обратно)245
Churchill, The Second World War, Vol. I: The Gathering Storm, 219.
(обратно)246
. Hansard, 18 December 1934.
(обратно)247
Информация о предках барона Понсонби: Overy, The Twilight Years, 237.
(обратно)248
. Hansard, 4 October 1938.
(обратно)249
Brian Gardner, Churchill in Power: As Seen by His Contemporaries (Boston: Houghton Mifflin, 1970), 11.
(обратно)250
Gilbert, Churchill: Prophet of Truth, 822.
(обратно)251
Iona Opie and Peter Opie, The Lore and Language of Schoolchildren (Oxford: Oxford University Press, 1959), 6.
(обратно)252
Nicolson, Diaries and Letters, 280.
(обратно)253
Churchill, The Second World War, Vol. I: The Gathering Storm, 222–24.
(обратно)254
. Hansard, 14 April 1937.
(обратно)255
Churchill, The Second World War, Vol. I: The Gathering Storm, 258.
(обратно)256
. Hansard, 24 March 1938.
(обратно)257
Faber, Munich, 1938, 177.
(обратно)258
Gilbert, Churchill: Prophet of Truth, 925.
(обратно)259
Цит. по: A. L. Rowse, Appeasement: A Study in Political Decline, 1933–1939 (New York: W. W. Norton, 1963), 83.
(обратно)260
Gilbert, Churchill: Prophet of Truth, 978–79.
(обратно)261
Высказывания членов парламента цит. по: Hansard, 3 October 1938.
(обратно)262
Здесь и далее: ”What is Czechoslovakia?“: Hansard, 5 October 1938.
(обратно)263
Там же.
(обратно)264
. Hansard, 6 October 1938.
(обратно)265
Roy Jenkins, Churchill (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2001), 530, 534.
(обратно)266
Harold Nicolson, The War Years: 1939–1945 (New York: Atheneum, 1967), 355.
(обратно)267
Faber, Munich, 1938, 432.
(обратно)268
Jones, A Diary with Letters, 411.
(обратно)269
Gilbert, Churchill: Prophet of Truth, 1016.
(обратно)270
Faber, Munich, 1938, 432.
(обратно)271
О проблеме еврейских беженцев: Robert Self, Neville Chamberlain: A Biography (London and Burlington, Vt.: Ashgate, 2006), 344–45.
(обратно)272
Crozier, Off the Record, 120.
(обратно)273
Simon Schama, A History of Britain, Volume 3: The Fate of Empire: 1776–2000 (London: BBC, 2003), 384.
(обратно)274
Jenkins, Churchill, 535.
(обратно)275
Gilbert, Churchill: Prophet of Truth, 1039.
(обратно)276
Там же, 1041.
(обратно)277
L. S. Amery, My Political Life, Volume 3: The Unforgiving Years, 1929–1940 (London: Hutchinson, 1955), 279.
(обратно)278
Williamson Murray, ”Innovation: Past and Future,“ Military Innovation in the Interwar Period, ed. Williamson Murray and Allan Millett (Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 2006), 307.
(обратно)279
. ”Bericht ueber Besprechung am 23.5.1939“ [Minutes of a Conference on 23 May 39], Evidence Code Document 79, Nuremberg Documents. Доступно онлайн: Harvard Law School Nuremberg Trials Project.
(обратно)280
Gerhard Weinberg, A World at Arms: A Global History of World War II, 2nd ed. (Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 2006), 239 and passim.
(обратно)281
. ”The right honorable Gentleman“: Hansard, 8 June 1939.
(обратно)282
Wrench, Geoffrey Dawson and Our Times, 394.
(обратно)283
. Hansard, 24 August 1939.
(обратно)284
George Orwell, Homage to Catalonia (New York: Harvest, 1980), 6. (Оруэлл Дж. Памяти Каталонии. – Париж, «Editions de la Seine», 1950.
(обратно)285
David Boyd Haycock, I Am Spain: The Spanish Civil War and the Men and Women Who Went to Fight Fascism (London: Old Street, 2012), 67.
(обратно)286
Там же, 69.
(обратно)287
George Orwell, The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 1: An Age Like This, 1920–1940, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 459. Далее: Orwell, CEJL, vol. 1.
(обратно)288
Там же, 37.
(обратно)289
Там же, 256.
(обратно)290
. ”Jennie Lee to Margaret M. Goalby,“ in George Orwell, Orwell in Spain, ed. Peter Davison (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 2001), 5.
(обратно)291
Adam Hochschild, Spain in Our Hearts: Americans in the Spanish Civil War, 1936–1939 (Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2016), 65.
(обратно)292
. ”With the ILP in Spain,“ in Audrey Coppard and Bernard Crick, Orwell Remembered (New York: Facts on File Publications, 1984), 146–47.
(обратно)293
Orwell, Homage to Catalonia, 16.
(обратно)294
Там же, 20.
(обратно)295
Bernard Crick, George Orwell: A Life (New York: Penguin, 1992), 322.
(обратно)296
Народный комиссариат внутренних дел СССР (1934–1946) – центральный орган государственного управления по борьбе с преступностью, обеспечению гос. безопасности, а также орган внешней разведки. – Прим. ред.
(обратно)297
Christopher Andrew and Vasili Mitrokhin, The Sword and the Shield: The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB (New York: Basic Books, 1999), 76.
(обратно)298
Orwell, Homage to Catalonia, 18).
(обратно)299
Gordon Bowker, George Orwell (London: Abacus, 2004), 230.
(обратно)300
Orwell, Homage to Catalonia, 72.
(обратно)301
. ”In the Spanish Trenches“ in Audrey Coppard and Bernard Crick, Orwell Remembered (New York: Facts on File Publications, 1984), 149.
(обратно)302
Там же.
(обратно)303
Stephen Wadhams, ed., Remembering Orwell (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 1984), 79.
(обратно)304
Там же, 85.
(обратно)305
Michael Shelden, Orwell: The Authorized Biography (New York: HarperCollins, 1991), 258.
(обратно)306
Orwell, CEJL, vol. 1, 266.
(обратно)307
Orwell, Homage to Catalonia, 109.
(обратно)308
Там же, 110.
(обратно)309
Andrew and Mitrokhin, The Sword and the Shield, 74.
(обратно)310
Orwell, Homage to Catalonia, 117.
(обратно)311
Там же, 121.
(обратно)312
Geert Mak, In Europe: Travels Through the Twentieth Century (New York: Vintage, 2008), 321. См. также: Winston S. Churchill, The Second World War, Volume I: The Gathering Storm (Boston: Houghton Mifflin, 1948), 185. Черчилль в своих мемуарах не приводит название отеля, но хранящиеся в архиве Черчилля письма и телеграммы, присланные ему в середине декабря 1935 г., были отправлены на адрес отеля «Колон». См.: Churchill Papers, Churchill College, Cambridge, Document CHAR 2/238/131.
(обратно)313
Orwell, Homage to Catalonia, 131.
(обратно)314
Там же, 64.
(обратно)315
Там же, 147.
(обратно)316
Там же, 51.
(обратно)317
Там же, 65.
(обратно)318
В этом и нескольких предыдущих абзацах отразились наши беседы с писательницей Карин Чиноуэт.
(обратно)319
Там же, 160.
(обратно)320
Wadhams, Remembering Orwell, 88–89.
(обратно)321
Orwell, Homage to Catalonia, 185.
(обратно)322
Shelden, Orwell, 267.
(обратно)323
Orwell, Homage to Catalonia, 186.
(обратно)324
. ”Bullet in the Neck,“ in Coppard and Crick, Orwell Remembered, 159.
(обратно)325
Andrew and Mitrokhin, The Sword and the Shield, 73.
(обратно)326
Shelden, Orwell, 270.
(обратно)327
Orwell, Homage to Catalonia, 204.
(обратно)328
Там же, 205, 198.
(обратно)329
Там же, 198.
(обратно)330
Там же, 208.
(обратно)331
Там же, 224.
(обратно)332
Haycock, I Am Spain, 256.
(обратно)333
Ernest Hemingway, For Whom the Bell Tolls (New York: Scribner, 1993), 229.
(обратно)334
Там же, 247.
(обратно)335
Malcolm Muggeridge, Chronicles of Wasted Time (Vancouver, B. C., Canada: Regent College, 2006), 488.
(обратно)336
. ”Escape from Spain,“ in Orwell in Spain, 26. Немного другой перевод: Bowker, George Orwell, 227.
(обратно)337
Вывод в окончании этого абзаца опирается на обсуждение в переписке с Карин Чиноуэт по электронной почте.
(обратно)338
Orwell, Homage to Catalonia, 232–32.
(обратно)339
George Orwell, ”Review of The Tree of Gernika by G. L. Steer; Spanish Testament by Arthur Koestler,“ Time and Tide, 5 February 1938, in Orwell, CEJL, vol. 1, 296.
(обратно)340
George Orwell, Orwell and Politics, ed. Peter Davison (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 2001), 26.
(обратно)341
Hugh Kenner, ”The Politics of the Plain Style,“ in Reflections on America, 1984: An Orwell Symposium, ed. Robert Mulvihill (Athens, Ga., and London: University of Georgia Press, 1986), 63.
(обратно)342
George Orwell, ”Spilling the Spanish Beans,“ in CEJL, vol. 1, 270.
(обратно)343
George Orwell, ”Why I Write,“ in Orwell and Politics, ed. Peter Davison (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 2001), 461.
(обратно)344
George Orwell, ”Unsigned editorial,“ Polemic, 3 May 1946, Там же, 455.
(обратно)345
George Orwell, The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 2: My Country Right or Left, 1940–1943, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 257. Далее: Orwell, CEJL, vol. 2.
(обратно)346
Shelden, Orwell, 281.
(обратно)347
Lionel Trilling, introduction to Orwell, Homage to Catalonia, v.
(обратно)348
. ”The 100 Best Non-Fiction Books of the Century,“ National Review, May 3, 1999.
(обратно)349
Bowker, George Orwell, 237.
(обратно)350
Orwell, Orwell and Politics, 104.
(обратно)351
Orwell, Homage to Catalonia, 181.
(обратно)352
Там же.
(обратно)353
Orwell, Orwell in Spain, 171.
(обратно)354
Цит. по: Dorothy Boyd Rush, ”Winston Churchill and the Spanish Civil War,“ Social Science (Spring 1979): 90. Этот абзац опирается на выводы данной статьи.
(обратно)355
Orwell, CEJL, vol. 1, 539.
(обратно)356
Этот вывод основан на другой переписке с Карин Чиноуэт по электронной почте.
(обратно)357
Orwell, Orwell in Spain, 269–73.
(обратно)358
Robert Graves and Alan Hodge, The Long Week-End: A Social History of Great Britain, 1918–1939 (London: Faber & Faber, 1940; reprinted New York: W. W. Norton, 1963). См.: Sir Charles Wilson, later Lord Moran, Churchill: Taken from the Diaries of Lord Moran (Boston: Houghton Mifflin, 1966), 319.
(обратно)359
Shelden, Orwell, 359.
(обратно)360
George Orwell, Diaries, ed. Peter Davison (New York: W. W. Norton, 2012), 224–25.
(обратно)361
Там же, 230.
(обратно)362
Там же, 232.
(обратно)363
Martin Gilbert, Winston S. Churchill: The Prophet of Truth, Volume V: 1922–1939 (London: Minerva, 1990), 1013.
(обратно)364
Walter Thompson, Beside the Bulldog: The Intimate Memoirs of Churchill’s Bodyguard (London: Apollo, 2003), 76.
(обратно)365
Neville Chamberlain, Parliamentary debate, 3 September 1939, доступно онлайн: Hansard, Parliamentary Debates. Далее: Hansard.
(обратно)366
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume I: The Gathering Storm (Boston: Houghton Mifflin, 1948), 409.
(обратно)367
. Hansard, 3 September 1939.
(обратно)368
George Orwell, ”Orwell’s Proposed Preface to Animal Farm,“ in Orwell and Politics, ed. Peter Davison (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 2001), 311.
(обратно)369
George Orwell, The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 3: As I Please, 1943–1945, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 199. Далее: Orwell, CEJL, vol. 3.
(обратно)370
Charlotte Mosley, ed., The Mitfords: Letters Between Six Sisters (New York: HarperCollins, 2007), 143.
(обратно)371
Warren F. Kimball, ed., Churchill & Roosevelt: The Complete Correspondence, Volume 1: Alliance Emerging, October 1933 – November 1942 (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1987), 24.
(обратно)372
Churchill, The Second World War, Vol. I: The Gathering Storm, 440. См. также обсуждение Кеннеди в: Norman Gelb, Dunkirk: The Complete Story of the First Step in the Defeat of Hitler (New York: William Morrow, 1989), 46–47.
(обратно)373
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume II: Their Finest Hour (Boston: Houghton Mifflin, 1949), 23.
(обратно)374
David Nasaw, The Patriarch: The Remarkable Life and Turbulent Times of Joseph P. Kennedy (New York: Penguin Press, 2012), 315. См. также: 497.
(обратно)375
Там же, 373.
(обратно)376
Там же, 331.
(обратно)377
David Dilks, ed., The Diaries of Sir Alexander Cadogan, 1938–1945, (New York: G. P. Putnam’s Sons, 1972), 37.
(обратно)378
Churchill, The Second World War, Vol. I: The Gathering Storm, 255.
(обратно)379
Там же, 433. Детали в изложении Мартина Гилберта: Winston S. Churchill: Finest Hour, Volume VI: 1939–1941 (London: Heinemann, 1983), 32.
(обратно)380
Paul Johnson, Churchill (New York: Penguin, 2010), 104.
(обратно)381
Robert Self, Neville Chamberlain: A Biography (London and Burlington, Vt.: Ashgate Publishing, 2006), 388.
(обратно)382
Roy Jenkins, Churchill (Farrar, Straus and Giroux, 2001), 553.
(обратно)383
John Colville, The Fringes of Power: 10 Downing Street Diaries, 1939–1955 (New York: W. W. Norton, 1985), 143.
(обратно)384
Цит. по: Harold Nicolson, The War Years: 1939–1945 (New York: Atheneum, 1967), 186.
(обратно)385
Там же, 251.
(обратно)386
Sir Ian Jacob, in John Wheeler-Bennett, ed., Action This Day: Working with Churchill (New York: St. Martin’s, 1969), 183.
(обратно)387
Следующие две страницы написаны по материалам: Gilbert, Churchill: Finest Hour. 306–17. Сразу за этим источником идет собственный отчет Черчилля о событиях в конце первого тома его воспоминаний о Второй мировой войне «Надвигающаяся буря». Отдельные аспекты этого ключевого назначения раскрыты с использованием ряда других источников. О предпочтении, отдаваемом королем Георгом Галифаксу, см.: Joseph Lash, Roosevelt and Churchill, 1939–1941: The Partnership That Saved the West (New York: W. W. Norton 1976), 110–11, а также Brian Gardner, Churchill in Power: As Seen by His Contemporaries (Boston: Houghton Mifflin, 1969), 39. О том, как Галифакс строил бы отношения с Германией, если бы стал премьер-министром, см.: Dennis Showalter, ”Phony and Hot War, 1939–1940,“ in Dennis Showalter and Harold Deutsch, ed., If the Allies Had Fallen: Sixty Alternate Scenarios of World War II (London/New York: Frontline/Skyhorse, 2010). После войны Клементина Черчилль оказалась на ужине во французском посольстве рядом с Галифаксом, и тот пожаловался, что ее муж становится обузой для Консервативной партии. Клементина в сердцах ответила: «Если бы судьба страны зависела от вас, мы бы проиграли войну». Sir Charles Wilson, later Lord Moran, Churchill: Taken from the Diaries of Lord Moran (Boston: Houghton Mifflin, 1966), 472. Она почти наверняка была права. Как отмечает историк Себастьян Хаффнер: «Черчилль в 1940 и 1941 гг. вполне допускал, что Гитлер может выиграть войну и основать великое германское эсэсовское государство, протянувшееся от Атлантики до Урала или дальше». Sebastian Haffner, Churchill (London: Haus, 2003), 104.
(обратно)388
Churchill, The Second World War, Vol. I: The Gathering Storm, 662.
(обратно)389
Там же.
(обратно)390
Thompson, Beside the Bulldog, 84.
(обратно)391
Colville, The Fringes of Power, 122.
(обратно)392
Joshua Levine, Forgotten Voices of the Blitz and the Battle for Britain (London: Ebury, 2007), 37.
(обратно)393
Anthony Cave Brown, C: The Secret Life of Sir Stewart Menzies, Spymaster to Winston Churchill (New York: Macmillan, 1987), 263.
(обратно)394
Churchill, The Second World War, Vol. I: The Gathering Storm, 667.
(обратно)395
Gilbert, Churchill: Finest Hour, 327.
(обратно)396
Andrew Roberts, Eminent Churchillians (London: Phoenix, 1995), 159.
(обратно)397
Там же, 168.
(обратно)398
Robert Rhodes James, ed., Chips: The Diaries of Sir Henry Channon, (London: Weidenfeld & Nicolson, 1967), 252. См. также: Richard Toye, The Roar of the Lion: The Untold Story of Churchill’s World War II Speeches (Oxford: Oxford University Press, 2013), 42. Слова Черчилля: Churchill, The Second World War, Vol. II: Their Finest Hour, 10.
(обратно)399
Nicolson, The War Years, 85.
(обратно)400
. Hansard, 13 May 1940.
(обратно)401
Michael Shelden, Young Titan: The Making of Winston Churchill (New York: Simon & Schuster, 2013), 7.
(обратно)402
Пер. Ю. Балтрушайтиса. – Прим. пер.
(обратно)403
George Orwell, ”Letter to the Editor of Time and Tide,“ in The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 2: My Country Right or Left, 1940–1943, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 28. Далее: Orwell, CEJL, vol. 2.
(обратно)404
Gilbert, Churchill: Finest Hour, 358.
(обратно)405
Stephen Roskill, Churchill and the Admirals (New York: William Morrow, 1978), 126.
(обратно)406
Nasaw, The Patriarch, 447.
(обратно)407
Там же, 350.
(обратно)408
Orville Bullitt, ed., For the President: Personal and Secret: Correspondence Between Franklin D. Roosevelt and William C. Bullitt (Boston: Houghton Mifflin, 1972), 428.
(обратно)409
Hastings Ismay, The Memoirs of Lord Ismay (London: Heinemann, 1960), 116.
(обратно)410
Gelb, Dunkirk, 316.
(обратно)411
Alistair Horne, To Lose a Battle: France 1940 (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 2007), 610.
(обратно)412
Hans von Luck, Panzer Commander: The Memoirs of Colonel Hans von Luck (New York: Dell, 1989), 42.
(обратно)413
Stephen Bungay, The Most Dangerous Enemy: A History of the Battle of Britain (London: Aurum Press, 2001), 31. See also Levine, Forgotten Voices of the Blitz, 19–20.
(обратно)414
John Lukacs, Five Days in London: May 1940. (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2001), 42, 192. See also Churchill, The Second World War, Vol. II: Their Finest Hour, 76.
(обратно)415
Carlo D’Este, Warlord: A Life of Winston Churchill at War, 1874–1945 (New York: HarperCollins, 2008), 425.
(обратно)416
Earl Ziemke, ”Rundstedt,“ in Correlli Barnett, ed., Hitler’s Generals (London: Weidenfield & Nicolson, 1989), 191.
(обратно)417
B. H. Liddell Hart, The German Generals Talk (New York: Berkley, 1958), 113, 115.
(обратно)418
Ian Kershaw, Fateful Choices: Ten Decisions That Changed the World, 1940–1941 (New York: Penguin, 2007), 27; Gerhard Weinberg, A World at Arms: A Global History of World War II, 2nd ed. (Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 2006), 131.
(обратно)419
Horne, To Lose a Battle, 610.
(обратно)420
Michael Shelden, Orwell: The Authorized Biography (New York: HarperCollins, 1991), 330.
(обратно)421
Там же, 331.
(обратно)422
Там же.
(обратно)423
Kershaw, Fateful Choices, 41.
(обратно)424
Colville, Fringes of Power, 141.
(обратно)425
С 24 июля 2019 г. – премьер-министр Великобритании. – Прим. ред.
(обратно)426
Boris Johnson, The Churchill Factor: How One Man Made History (New York: Riverhead, 2014), 22.
(обратно)427
Jenkins, Churchill, 602.
(обратно)428
Dilks, Diaries of Sir Alexander Cadogan, 291.
(обратно)429
Jenkins, Churchill, 604.
(обратно)430
Lukacs, Five Days in London, 149, 155, 182–83.
(обратно)431
Hugh Dalton, The Fateful Years (London: Frederick Muller, 1957), 336.
(обратно)432
Churchill, The Second World War, Vol. II: Their Finest Hour, 90.
(обратно)433
John Charmley, Churchill: The End of Glory (New York: Harcourt Brace, 1993), 400.
(обратно)434
Simon Schama, A History of Britain, Volume 3: The Fate of Empire: 1776–2000 (London: BBC, 2003), 398.
(обратно)435
W. P. Crozier, Off the Record: Political Interviews, 1933–1943, ed. A. J. P. Taylor (London: Hutchinson, 1973), 221.
(обратно)436
Richard Overy, The Battle of Britain: The Myth and the Reality (New York: W. W. Norton, 2001), 17.
(обратно)437
Bungay, The Most Dangerous Enemy, 13.
(обратно)438
Там же, 112. См. также: Roberts, Eminent Churchillians, 137–38.
(обратно)439
Зд. и далее: Hansard, 4 June 1940.
(обратно)440
Anthony Storr, Churchill’s Black Dog, Kafka’s Mice, and Other Phenomena of the Human Mind (New York: Ballantine, 1990), 9.
(обратно)441
Bungay, The Most Dangerous Enemy, 22.
(обратно)442
Nicolson, The War Years, 93.
(обратно)443
Levine, Forgotten Voices of the Blitz, 43–44.
(обратно)444
C. P. Snow, ”Winston Churchill,“ in Variety of Men (London: Macmillan, 1967), 111.
(обратно)445
Gelb, Dunkirk, 213.
(обратно)446
Cathal Nolan, The Allure of Battle: A History of How Wars Have Been Won and Lost (New York: Oxford University Press, 2017), 445.
(обратно)447
Harold Macmillan, The Blast of War, 1939–1945 (New York: Harper & Row, 1968), 81. См. также: Gelb, Dunkirk, 311.
(обратно)448
Churchill, The Second World War, Vol. II: Their Finest Hour, 256.
(обратно)449
Len Deighton, Battle of Britain (New York: Coward, McCann & Geoghegan, 1980), 84.
(обратно)450
Сказано Крозьеру и процитировано в: Crozier, Off the Record, 184.
(обратно)451
Daniel Todman, Britain’s War: Into Battle, 1937–1941 (Oxford: Oxford University Press, 2016), 379.
(обратно)452
Levine, Forgotten Voices of the Blitz, 57–58.
(обратно)453
Gelb, Dunkirk, 301.
(обратно)454
Ismay, Memoirs of Lord Ismay, 127.
(обратно)455
Gardner, Churchill in Power, 47.
(обратно)456
Churchill, The Second World War, Vol. II: Their Finest Hour, 47.
(обратно)457
Winston S. Churchill, Painting as a Pastime (Greensboro, N. C.: Unicorn Press, 2013), 48.
(обратно)458
Gardner, Churchill in Power, 47.
(обратно)459
Churchill, The Second World War, Vol. II: Their Finest Hour, 243.
(обратно)460
Там же, 217.
(обратно)461
Walter Millis, Arms and Men: A Study in American Military History (New Brunswick, N. J.: Rutgers University Press, 1981), 275.
(обратно)462
. Hansard, 18 June 1940.
(обратно)463
Jenkins, Churchill, 611. В этой связи отмечу, что существует сайт, посвященный сравнению Черчилля и Линкольна: .
(обратно)464
George Orwell, ”London Letter,“ Partisan Review, July – August 1942, in Orwell and Politics, 162.
(обратно)465
Winston Churchill, ”Never Give In“ (речь в школе Харроу, 29 октября 1941 г.), доступно онлайн: Web site of the Churchill Society.
(обратно)466
George Orwell, Diaries, ed. Peter Davison (New York: W. W. Norton, 2012), 286.
(обратно)467
Там же, 292.
(обратно)468
Gilbert, Churchill: Finest Hour, 642.
(обратно)469
Sir lan Jacob, in Wheeler-Bennett, Action This Day, 159.
(обратно)470
Todman, Britain’s War, 225.
(обратно)471
Churchill, The Second World War, Vol. I: The Gathering Storm, 650.
(обратно)472
Lukacs, Five Days in London, 190.
(обратно)473
Lord Normanbrook, in Wheeler-Bennett, Action This Day, 22.
(обратно)474
Sir Ian Jacob, Там же, 168.
(обратно)475
Churchill, The Second World War, Vol. I: The Gathering Storm, 158.
(обратно)476
R. W. Thompson, Churchill and Morton (London: Hodder & Stoughton, 1976), 95.
(обратно)477
Churchill, The Second World War, Vol. II: Their Finest Hour. 243.
(обратно)478
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume IV: The Hinge of Fate (Boston: Houghton Mifflin, 1950), 934.
(обратно)479
Churchill, The Second World War, Vol. II: Their Finest Hour, 681.
(обратно)480
David Jablonsky, Churchill: The Making of a Grand Strategist (Carlisle, Pa.: Strategic Studies Institute, U. S. Army War College, 1990), 72.
(обратно)481
Churchill, The Second World War, Vol. I: The Gathering Storm, 459.
(обратно)482
Там же, 662.
(обратно)483
Bungay, The Most Dangerous Enemy, 101.
(обратно)484
Ronald Lewin, Ultra Goes to War (London: Hutchinson, 1978), 86.
(обратно)485
Stephen Bungay, The Most Dangerous Enemy: A History of the Battle of Britain (London: Aurum Press, 2001), 111. См. также: 152.
(обратно)486
Martin Gilbert, Churchill and America (New York: Free Press, 2005), 200–201.
(обратно)487
Richard Overy, The Battle of Britain: The Myth and the Reality (New York: W. W. Norton, 2001), 45.
(обратно)488
George Orwell, Diaries, ed. Peter Davison (New York: W. W. Norton, 2012), 282.
(обратно)489
Thomas Jones, A Diary with Letters, 1931–1950 (Oxford: Oxford University Press, 1954), 460.
(обратно)490
Там же, 466.
(обратно)491
No author, The History of The Times, Volume IV, The 150th Anniversary and Beyond, Part II: 1921–1948 (London: Office of the Times, 1952), 1022.
(обратно)492
. The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 3: As I Please, 1943–1945, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 132. Далее: Orwell, CEJL, vol. 3. Именно в кафе «Роял», к примеру, Фрэнк Гаррис встретился в 1895 г. с Оскаром Уайльдом, чтобы посоветовать ему отозвать иск о клевете против маркиза Куинсберри, предостерегая: «Вы не представляете, что с вами случится». Уайльд зло отверг совет и продолжил губить свою жизнь. Stanley Weintraub, Shaw’s People: Victoria to Churchill. (University Park, Pa., and London: State University Press, 1996), 46. Гаррис, викторианский джентльмен с большими связями и немалым числом собственных скелетов в шкафу, спустя годы поможет Уинстону Черчиллю заключить роскошный контракт с издателем. Peter Clarke, Mr. Churchill’s Profession: The Statesman as Author and the Book That Defined the ”Special Relationship“ (London: Bloomsbury Press, 2012), 27. Сегодня Гарриса помнят главным образом как автора четырехтомного описания собственных сексуальных похождений «Моя жизнь и любовные истории».
(обратно)493
. Hansard, 20 August 1940.
(обратно)494
Joshua Levine, Forgotten Voices of the Blitz and the Battle for Britain (London: Ebury, 2007), 302.
(обратно)495
. Hansard, 20 August 1940.
(обратно)496
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume II: Their Finest Hour (Boston: Houghton Mifflin, 1949), 657.
(обратно)497
Harold Nicolson, The War Years: 1939–1945 (New York: Atheneum, 1967), 111.
(обратно)498
Levine, Forgotten Voices of the Blitz, 91.
(обратно)499
«Блиц», «Большой блиц» (The Blitz) – период бомбардировок германской авиацией Великобритании с 7 сентября 1940 г. до 10 мая 1941 г. В результате бомбардировок погибли 40 тысяч мирных жителей. – Прим. пер.
(обратно)500
Peter Stansky, The First Day of the Blitz (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2007), 1.
(обратно)501
David Nasaw, The Patriarch: The Remarkable Life and Turbulent Times of Joseph P. Kennedy (New York: Penguin Press, 2012), 474.
(обратно)502
Там же, 477.
(обратно)503
Peter Ackroyd, introduction to Levine, Forgotten Voices of the Blitz, 2.
(обратно)504
Пер. М. Бородицкой.
(обратно)505
Neil Wallington, Firemen at War: The Work of London’s Fire Fighters in the Second World War (Huddersfield, U. K.: Jeremy Mills Publishing, 2007), 91.
(обратно)506
Martin Gilbert, Winston S. Churchill: Finest Hour, Volume VI: 1939–1941 (London: Heinemann, 1983), 775.
(обратно)507
Описание визита Черчилля в штаб-квартиру истребительной авиационной группы 15 сентября 1940 г. основано главным образом на кн.: Churchill, The Second World War, Vol. II: Their Finest Hour, 332–36, а также на ряде других источников: Sir Charles Wilson, later Lord Moran, Churchill: Taken from the Diaries of Lord Moran (Boston: Houghton Mifflin, 1966), 320–21; Levine, Forgotten Voices of the Blitz, 289; запись от 15 сентября 1940 г. на сайте Королевских ВВС ”Fighter Command Operational Diaries“.
(обратно)508
Churchill, The Second World War, Vol. II: Their Finest Hour, 332.
(обратно)509
Там же, 336.
(обратно)510
Bungay, The Most Dangerous Enemy, 330.
(обратно)511
Gilbert, Churchill: Finest Hour, 729.
(обратно)512
Len Deighton, Battle of Britain (New York: Coward, McCann & Geoghegan, 1980), 174.
(обратно)513
Bungay, The Most Dangerous Enemy, 371.
(обратно)514
James Leutze, ed., The London Journal of General Raymond E. Lee, 1940–1941 (Boston: Little, Brown, 1971), 62.
(обратно)515
Moran, Churchill, 348.
(обратно)516
Field Marshal Lord Alanbrooke, The War Diaries: 1939–1945, ed. Alex Danchev and Daniel Todman (Berkeley: University of California Press, 2002), 107.
(обратно)517
John Colville, The Fringes of Power: 10 Downing Street Diaries, 1939–1955 (New York: W. W. Norton, 1985), 370, 364, 394, 403, 442, 509.
(обратно)518
Упоминание о Хорнблоуэре: Winston S. Churchill, The Second World War, Volume III: The Grand Alliance (Boston: Houghton Mifflin, 1950), 429. Упоминание об Остин: Winston S. Churchill, The Second World War, Volume V: Closing the Ring (Boston: Houghton Mifflin, 1951), 425.
(обратно)519
Bungay, The Most Dangerous Enemy, 376–84.
(обратно)520
Robin Prior, When Britain Saved the West: The Story of 1940 (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2015), 181.
(обратно)521
Levine, Forgotten Voices of the Blitz, 137.
(обратно)522
Bungay, The Most Dangerous Enemy, 125.
(обратно)523
Там же, 162.
(обратно)524
John Lukacs, The Duel: The Eighty-Day Struggle Between Churchill and Hitler (Boston: Ticknor & Fields, 1991), 158.
(обратно)525
Levine, Forgotten Voices of the Blitz, 137.
(обратно)526
Bungay, The Most Dangerous Enemy, 244.
(обратно)527
Levine, Forgotten Voices of the Blitz, 199, 239.
(обратно)528
Bungay, The Most Dangerous Enemy, 292, 371–74.
(обратно)529
Tom Harrisson, Living Through the Blitz (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 1990), 105.
(обратно)530
Bungay, The Most Dangerous Enemy, 115.
(обратно)531
Там же, 368.
(обратно)532
Orwell, Diaries, 319.
(обратно)533
Churchill, The Second World War, Vol. II: Their Finest Hour, 675.
(обратно)534
Nasaw, The Patriarch, 498.
(обратно)535
Michael Beschloss, Kennedy and Roosevelt: The Uneasy Alliance (New York: W. W. Norton, 1980), 229.
(обратно)536
Charles Lindbergh, The Wartime Journals of Charles A. Lindbergh (Harcourt Brace Jovanovich, 1970), 420.
(обратно)537
Churchill, The Second World War, Vol. III: The Grand Alliance, 22.
(обратно)538
George McJimsey, Harry Hopkins: Ally of the Poor and Defender of Democracy (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987), 316.
(обратно)539
Описание Хопкинса как самого доверенного советника президента Рузвельта почерпнуто из кн.: Warren Kimball, The Juggler: Franklin Roosevelt as Wartime Statesman (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1991), 9.
(обратно)540
«Непостоянен», см.: Roy Jenkins, Churchill (Farrar, Straus and Giroux, 2001), 573; «половину времени пьян», см.: David Reynolds, The Creation of the Anglo-American Alliance 1937–41: A Study in Competitive Co-operation (Chapel Hill, N. C.: University of North Carolina Press, 1982), 114.
(обратно)541
Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins: An Intimate History (New York: Harper & Brothers, 1948), 232, 234, 302. Детали перелета: Thomas Parrish, To Keep the British Isles Afloat: FDR’s Men in Churchill’s London, 1941 (London: Collins, 2009).
(обратно)542
Большое значение факта встречи Хопкинса Брекеном: Parrish, To Keep the British Isles Afloat, 133.
(обратно)543
Зд. и в следующем абзаце цит. по: Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 238.
(обратно)544
Здесь и далее: Gilbert, Churchill: Finest Hour, 985–86.
(обратно)545
Martin Gilbert, ed., The Churchill War Papers: The Ever-Widening War, 1941 (New York: W. W. Norton, 1995), 59, 61, 76.
(обратно)546
David Dilks, ed., The Diaries of Sir Alexander Cadogan, 1938–1945, (New York: G. P. Putnam’s Sons, 1972), 348.
(обратно)547
Moran, Churchill, 6. The whispered level of Hopkins’s voice is remembered in Hastings Ismay, The Memoirs of Lord Ismay (London: Heinemann, 1960), 216. Примерно 26 лет спустя Боб Дилан в ходе своего неоднозначного турне по Великобритании, когда он играл на электрогитаре и был обозван «Иудой», жил в Глазго в том же отеле и записал несколько песен. Туманное название одной из них оценил бы Хопкинс: «Что это за друг?» Steve Hendry, ”The King in Queen Street,“ Glasgow Daily Record, 4 October 2015, доступно онлайн.
(обратно)548
Churchill, The Second World War, Vol. II: Their Finest Hour, 690.
(обратно)549
Parrish, To Keep the British Isles Afloat, 188.
(обратно)550
Winston Churchill, Blood, Toil, Tears and Sweat: The Great Speeches, ed. David Cannadine (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 1990), 213.
(обратно)551
Leutze, The London Journal of General Raymond E. Lee, 258.
(обратно)552
Richard Toye, The Roar of the Lion: The Untold Story of Churchill’s World War II Speeches (Oxford: Oxford University Press, 2013), 91.
(обратно)553
Christopher Thorne, Allies of a Kind: The United States, Britain, and the War Against Japan, 1941–1945 (Oxford: Oxford University Press, 1979), 111.
(обратно)554
George Orwell, ”The Lion and the Unicorn,“ in The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 2: My Country Right or Left, 1940–1943, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 88. Далее: Orwell, CEJL, vol. 2.
(обратно)555
George Orwell, The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 1: An Age Like This, 1920–1940, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 410. Далее: Orwell, CEJL, vol. 1.
(обратно)556
Michael Shelden, Orwell: The Authorized Biography (New York: HarperCollins, 1991), 289.
(обратно)557
Bernard Crick, George Orwell: A Life (New York: Penguin, 1980), 391–92.
(обратно)558
Эрнест Тейлор Пайл – американский журналист, прославившийся репортажами об американских солдатах на фронтах Второй мировой войны; убит в 1944 г. во время битвы за Окинаву. – Прим. пер.
(обратно)559
George Orwell, ”Letter to John Lehmann,“ in CEJL, vol. 2, 29.
(обратно)560
George Orwell, Diaries, ed. Peter Davison (New York: W. W. Norton, 2012), 325.
(обратно)561
John Rodden and John Rossi, The Cambridge Introduction to George Orwell (Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 2012), 26.
(обратно)562
Orwell, CEJL, vol. 1, 516.
(обратно)563
Orwell, CEJL, vol. 2, 24.
(обратно)564
Зд. и далее: Orwell, Diaries, 308.
(обратно)565
Shelden, Orwell, 237.
(обратно)566
George Orwell, ”Letter to the Editor of Time and Tide,“ in CEJL, vol. 2, 27.
(обратно)567
Cyril Connolly, The Evening Colonnade (London: David Bruce & Watson, 1973), 383.
(обратно)568
Shelden, Orwell, 330.
(обратно)569
Orwell, Diaries, 312.
(обратно)570
Там же, 313.
(обратно)571
Там же, 316.
(обратно)572
Orwell, CEJL, vol. 2, 54.
(обратно)573
John Rossi, ”‘My Country, Right or Left’: Orwell’s Patriotism,“ in The Cambridge Companion to George Orwell, ed. John Rodden (Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 2007), 94.
(обратно)574
Orwell, ”The Lion and the Unicorn,“ in CEJL, vol. 2, 67.
(обратно)575
Там же, 78.
(обратно)576
George Orwell, ”Wells, Hitler and the World State,“ Там жеТам же, 142.
(обратно)577
Gordon Bowker, George Orwell (London: Abacus, 2004), 293. См. также: Orwell, Diaries, 366.
(обратно)578
Stephen Wadhams, ed., Remembering Orwell (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 1984), xii.
(обратно)579
Orwell, Diaries, 344.
(обратно)580
Там же, 295.
(обратно)581
Daniel Todman, Britain’s War: Into Battle, 1937–1941 (Oxford: Oxford University Press, 2016), 478.
(обратно)582
Рабочий район в лондонском Ист-Энде. – Прим. пер.
(обратно)583
Joshua Levine, Forgotten Voices of the Blitz and the Battle for Britain (London: Ebury, 2007), 345–48, Churchill, The Second World War, Volume II: Their Finest Hour, 351.
(обратно)584
Цит. по: Robert Hewison, Under Siege: Literary Life in London, 1939–45 (New York: Oxford University Press, 1977), 39.
(обратно)585
Orwell, ”The Lion and the Unicorn,“ in Orwell, CEJL, vol. 2, 90.
(обратно)586
Levine, Forgotten Voices of the Blitz and the Battle for Britain, 377. См. также некролог командира эскадрильи «Стэмпа» Степлтона: Telegraph (London), 22 April 2010, доступно онлайн.
(обратно)587
James Leutze, ed., The London Journal of General Raymond E. Lee, 1940–1941 (Boston: Little, Brown, 1971), 339.
(обратно)588
Там же, 463.
(обратно)589
Orwell, ”The Lion and the Unicorn,“ in CEJL, vol. 2, 71.
(обратно)590
Len Deighton, Battle of Britain (New York: Coward, McCann & Geoghegan, 1980), 32.
(обратно)591
Evelyn Waugh, Officers and Gentlemen (New York: Dell, 1961), 255.
(обратно)592
Hugh Dundas, Flying Start: A Fighter Pilot’s War Years (New York: St. Martin’s Press, 1989), 6.
(обратно)593
Levine, Forgotten Voices of the Blitz, 226.
(обратно)594
George Orwell, ”London Letter, 8 May 1942,“ in Orwell and Politics, ed. Peter Davison (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 2001), 167.
(обратно)595
Orwell, ”The Lion and the Unicorn,“ in CEJL, vol. 2, 109.
(обратно)596
John Colville, The Fringes of Power: 10 Downing Street Diaries, 1939–1955 (New York: W. W. Norton, 1985), 282.
(обратно)597
Deighton, Battle of Britain, 93.
(обратно)598
Anthony Cave Brown, C: The Secret Life of Sir Stewart Menzies, Spymaster to Winston Churchill (New York: Macmillan, 1987), 113.
(обратно)599
Colville, The Fringes of Power, 278.
(обратно)600
Там же, 278, 433.
(обратно)601
John Ramsden, Man of the Century: Winston Churchill and His Legend Since 1945 (New York: Columbia University Press, 2002), 575.
(обратно)602
Margaret Thatcher, The Path to Power (New York: HarperCollins, 1995), 27.
(обратно)603
Зд. и далее: Churchill, The Second World War, Vol. I: The Gathering Storm, 760–63.
(обратно)604
Martin Gilbert, Winston S. Churchill: Finest Hour, Volume VI: 1939–1941 (London: Heinemann, 1983), 148.
(обратно)605
Field Marshal Lord Alanbrooke, The War Diaries: 1939–1945, ed. Alex Danchev and Daniel Todman (Berkeley: University of California Press, 2002), 347.
(обратно)606
Eliot Cohen, Supreme Command: Soldiers, Statesmen, and Leadership in Wartime (New York: Anchor, 2003), 127.
(обратно)607
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume IV: The Hinge of Fate (Boston: Houghton Mifflin, 1950), 916.
(обратно)608
Orwell, ”Lion and the Unicorn,“ in CEJL, vol. 2, 67.
(обратно)609
Там же, 85.
(обратно)610
George Orwell, ”The English People,“ in The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 3: As I Please, 1943–1945, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 21. Далее: Orwell, CEJL, vol. 3.
(обратно)611
Bowker, George Orwell, 123.
(обратно)612
Есть мнение, что слова «британец» не существует, но Джордж Маршалл использовал его в переписке с официальными лицами Британии. См., например, его записку лорду Луису Маунтбаттену от 25 октября 1950 г.: The Papers of George Catlett Marshall, Volume 7: ”The Man of the Age“, ed. Mark Stoler and Daniel Holt (Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 2016), 26.
(обратно)613
На это обстоятельство указывает при рассмотрении Второй мировой войны Джеймс Боуман: James Bowman, Honor: A History (New York: Encounter, 2006), 157.
(обратно)614
Crick, George Orwell, 431.
(обратно)615
Об привычках Оруэлла в одежде: George Woodcock, The Crystal Spirit: A Study of George Orwell (Boston: Little, Brown, 1966), 23, Audrey Coppard and Bernard Crick, Orwell Remembered (New York: Facts on File Publications, 1984), 203.
(обратно)616
George Orwell, ”London Letter,“ Partisan Review, July– August 1943, in Orwell and Politics, ed. Peter Davison (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 2001), 181.
(обратно)617
Martin Gilbert, Churchill and America (New York: Free Press, 2005), 157.
(обратно)618
Max Hastings, Winston’s War: Churchill 1940–1945 (New York: Vintage, 2011), 40.
(обратно)619
C. P. Snow, Variety of Men (London: Macmillan, 1967), 112–13.
(обратно)620
Orwell, Diaries, 333.
(обратно)621
Там же, 345.
(обратно)622
Там же, 316.
(обратно)623
Там же, 317.
(обратно)624
Там же, 339.
(обратно)625
Там же, 342.
(обратно)626
Там же, 358.
(обратно)627
Michael Simpson, A Life of Admiral of the Fleet Andrew Cunningham (Abingdon, U. K., and New York: Routledge, 2012), 62.
(обратно)628
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume III: The Grand Alliance (Boston: Houghton Mifflin, 1950), 242. (Курсив мой – Авт.)
(обратно)629
Цит. по: Ronald Lewin, Churchill as Warlord (London: Scarborough, 1973), 72.
(обратно)630
Alanbrooke, The War Diaries, 207.
(обратно)631
Там же, 226.
(обратно)632
Там же.
(обратно)633
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume II: Their Finest Hour (Boston: Houghton Mifflin, 1949), 443.
(обратно)634
Alanbrooke, The War Diaries, 207, 273.
(обратно)635
A. L. Rowse, The Churchills: The Story of a Family (New York: Harper & Row, 1966), 471.
(обратно)636
Churchill, The Second World War, Vol. III: The Grand Alliance, 28.
(обратно)637
Winston S. Churchill, Painting as a Pastime (Greensboro, N. C.: Unicorn Press, 2013), 45–46.
(обратно)638
Churchill, The Second World War, Volume II: Their Finest Hour, 548.
(обратно)639
Южный пригород Лондона. – Прим. пер.
(обратно)640
Orwell, Diaries, 354.
(обратно)641
Winston S. Churchill, The Second World War, Vol. III: The Grand Alliance, 372.
(обратно)642
Orwell, Diaries, 353.
(обратно)643
George Orwell, ”Notes on Nationalism,“ in Orwell, CEJL, vol. 3, 370.
(обратно)644
George Orwell, The War Commentaries, ed. W. J. West (New York: Schocken Books, 1986), 40.
(обратно)645
Там же, 213–14.
(обратно)646
Там же, 138.
(обратно)647
. ”That Curiously Crucified Expression,“ in Coppard and Crick, Orwell Remembered, 171.
(обратно)648
George Orwell, ”Macbeth,“ 17 October 1943, in Orwell: The Lost Writings, ed. W. J. West (New York: Arbor House, 1985), 160–61.
(обратно)649
Bowker, George Orwell, 294.
(обратно)650
Orwell, Diaries, 361.
(обратно)651
Там же, 390–91.
(обратно)652
Там же, 386.
(обратно)653
Bowker, George Orwell, 294.
(обратно)654
George Orwell, Coming Up for Air, in George Orwell omnibus (London: Secker & Warburg, 1976), 476. (Оруэлл Дж. Глотнуть воздуха / Пер. В. М. Домитеевой. – М.: АСТ, 2015.)
(обратно)655
Orwell, Diaries, 392.
(обратно)656
Там же, 361–62.
(обратно)657
George Orwell, ”Literature and Totalitarianism,“ in CEJL, vol. 2, 135.
(обратно)658
Jeremy Lewis, David Astor (London: Jonathan Cape, 1980), chapter 2. В версии Kindle номера страниц отсутствуют.
(обратно)659
Христианская наука, Christian Science – религиозная организация и духовное учение. – Прим. пер.
(обратно)660
Stephen Pritchard, ”Astor and the Observer,“ Observer, 8 December 2001.
(обратно)661
Roger Lewis, ”How the Observer’s Celebrated Owner-Editor Coped with Being So Rich,“ Guardian, 18 February 2016.
(обратно)662
. ”David Astor and the Observer,“ in Coppard and Crick, Orwell Remembered, 184.
(обратно)663
Crick, George Orwell, 421.
(обратно)664
Field Marshal Lord Alanbrooke, The War Diaries: 1939–1945, ed. Alex Danchev and Daniel Todman (Berkeley: University of California Press, 2002), 209; Roy Jenkins, Churchill (Farrar, Straus and Giroux, 2001), 800.
(обратно)665
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume III: The Grand Alliance (Boston: Houghton Mifflin, 1950), 607.
(обратно)666
Winston Churchill, Blood, Toil, Tears and Sweat: The Great Speeches, ed. David Cannadine (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 1990), 226.
(обратно)667
Там же, 227.
(обратно)668
Там же, 228–29.
(обратно)669
Там же, 230.
(обратно)670
Там же, 232.
(обратно)671
Sir Charles Wilson, later Lord Moran, Churchill: Taken from the Diaries of Lord Moran (Boston: Houghton Mifflin, 1966), 16. См. также: Churchill, The Second World War, Vol. III: The Grand Alliance, 671.
(обратно)672
Moran, Churchill, 17.
(обратно)673
Churchill, The Second World War, Vol. III: The Grand Alliance, 686.
(обратно)674
Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins: An Intimate History (New York: Harper & Brothers, 1948), 444.
(обратно)675
Martin Gilbert, Winston S. Churchill: The Prophet of Truth, Volume V: 1922–1939 (London: Minerva, 1990), 301.
(обратно)676
Mary Soames, ed., Winston and Clementine: The Personal Letters of the Churchills (Houghton Mifflin, 2001), 331–32.
(обратно)677
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume II: Their Finest Hour (Boston: Houghton Mifflin, 1949), 553.
(обратно)678
Andrew Roberts, Eminent Churchillians (London: Phoenix, 1995), 49.
(обратно)679
George Orwell, The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 2: My Country Right or Left, 1940–1943, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 177. Далее: Orwell, CEJL, vol. 2.
(обратно)680
George Orwell, ”As I Please,“ 22 November 1946, in The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 4: In Front of Your Nose, 1945–1950, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 247. Далее: Orwell, CEJL, vol. 4.
(обратно)681
George Orwell, ”Mark Twain – The Licensed Jester,“ in CEJL, vol. 2, 326.
(обратно)682
Bernard Crick, George Orwell: A Life (New York: Penguin, 1980), 247.
(обратно)683
Randolph S. Churchill, Winston S. Churchill: Youth, 1874–1900 (Boston: Houghton Mifflin, 1966), 369, 525.
(обратно)684
Gordon Bowker, George Orwell (London: Abacus, 2004), 62. См. также: ”Quixote on a Bicycle,“ in Audrey Coppard and Bernard Crick, Orwell Remembered (New York: Facts on File Publications, 1984), 256.
(обратно)685
Charles Dickens, The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit (New York: Penguin, 1986), 338, также 336–37, 346–47, 592, 607.
(обратно)686
Christopher Hitchens, Why Orwell Matters (New York: MJF Books, 2002), 104.
(обратно)687
Один из королевских парков в лондонском районе Вестминстер, соседствующий с Вестминстерским аббатством и Букингемским дворцом. – Прим. пер.
(обратно)688
Norman Longmate, The G. I.’s: The Americans in Britain, 1942–1945 (New York: Scribner, 1975), 228, 43, 36.
(обратно)689
John Charmley, Churchill: The End of Glory (New York: Harcourt Brace, 1993), 449.
(обратно)690
Парламентские дебаты, 27, 28, 29 января 1942 г., Hansard, Parliamentary Debates. Далее: Hansard.
(обратно)691
Harold Nicolson, The War Years: 1939–1945 (New York: Atheneum, 1967), 209.
(обратно)692
Парламентские дебаты, 27, 28, 29 января 1942 г., Hansard, Parliamentary Debates.
(обратно)693
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume IV: The Hinge of Fate (Boston: Houghton Mifflin, 1950), 92.
(обратно)694
Orwell, CEJL, vol. 2, 209.
(обратно)695
George Orwell, Diaries, ed. Peter Davison (New York: W. W. Norton, 2012), 396–97.
(обратно)696
Stephen Wadhams, ed., Remembering Orwell (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 1984), 129–30.
(обратно)697
Там же, 130.
(обратно)698
Исторический район Лондона в Вестминстере. – Прим. пер.
(обратно)699
Crick, George Orwell, 432.
(обратно)700
Churchill, The Second World War, Vol. IV: The Hinge of Fate, 209.
(обратно)701
Там же, 134.
(обратно)702
Там же, 201.
(обратно)703
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume V: Closing the Ring (Boston: Houghton Mifflin, 1951), 270.
(обратно)704
Warren F. Kimball, ed., Churchill & Roosevelt: The Complete Correspondence, Volume 1: Alliance Emerging, October 1933 – November 1942 (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1987), 447–48.
(обратно)705
Orwell, Diaries, 371.
(обратно)706
. Hansard, July 2, 1942.
(обратно)707
Simon Berthon and Joanna Potts, Warlords: An Extraordinary Re-creation of World War II Through the Eyes and Minds of Hitler, Churchill, Roosevelt, and Stalin (Cambridge, Mass.: Da Capo, 2006), 150.
(обратно)708
Churchill, The Second World War, Vol. IV: The Hinge of Fate, 382–83. Описание эпизода также опирается на кн.: Hastings Ismay, The Memoirs of Lord Ismay (London: Heinemann, 1960), 254–55; Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 204; Department of State, Foreign Relations of the United States, The Second Washington Conference (Washington, D. C.: U. S. Government Printing Office, 1968), 437.
(обратно)709
Moran, Churchill, 41.
(обратно)710
Kim Philby, My Silent War (New York: Modern Library, 2002), 174. См. также: Andrew Marr, A History of Modern Britain (London: Pan Macmillan, 2009), 141.
(обратно)711
John Charmley, ”Churchill and the American Alliance,“ in Winston Churchill in the Twenty-First Century, ed. David Cannadine and Roland Quinault (Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 2004), 146.
(обратно)712
Max Hastings, Winston’s War: Churchill 1940–1945 (New York: Vintage, 2011), 149.
(обратно)713
Harold Nicolson, Diaries and Letters, 1930–1939, ed. Nigel Nicolson (London: Collins, 1966), 205.
(обратно)714
Там же, 189.
(обратно)715
Harold Nicolson, The War Years: 1939–1945 (New York: Atheneum, 1967), 328.
(обратно)716
Harold Macmillan, The Blast of War, 1939–1945 (New York: Harper & Row, 1968), 121, 359.
(обратно)717
Oliver Harvey, War Diaries, 1941–1945, ed. John Harvey (New York: HarperCollins, 1978), 37.
(обратно)718
Там же, 85.
(обратно)719
Там же, 141.
(обратно)720
James Boswell, The Life of Samuel Johnson, Volume III (Oxford: Talboys and Wheeler, 1826), 180.
(обратно)721
Andrew Roberts, ”The Holy Fox“: A Biography of Lord Halifax (London: Weidenfeld & Nicolson, 1991), 281–82.
(обратно)722
Anthony Eden, The Reckoning: The Memoirs of Anthony Eden (Boston: Houghton Mifflin, 1965), 158–59.
(обратно)723
Norman Longmate, The G. I.’s: The Americans in Britain, 1942–1945 (New York: Scribner, 1975), 62.
(обратно)724
George Orwell, The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 2: My Country Right or Left, 1940–1943, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 236. Далее: Orwell, CEJL, vol. 2.
(обратно)725
. George C. Marshall: Interviews and Reminiscences for Forrest C. Pogue, ed. Larry I. Bland (Lexington, Va.: George C. Marshall Foundation, 1996), 608, 613.
(обратно)726
Martin Gilbert, Winston S. Churchill: Road to Victory, Volume VII: 1941–1945 (London: Heinemann, 1989), 293.
(обратно)727
Eric Larrabee, Commander in Chief: Franklin Delano Roosevelt, His Lieutenants, and Their War (New York: Harper & Row, 1987), 184.
(обратно)728
Ronald Lewin, Churchill as Warlord (London: Scarborough, 1973), 184.
(обратно)729
Hastings Ismay, The Memoirs of Lord Ismay (London: Heinemann, 1960), 288.
(обратно)730
. Field Marshal Lord Alanbrooke, The War Diaries: 1939–1945, ed. Alex Danchev and Daniel Todman (Berkeley: University of California Press, 2002), 364.
(обратно)731
Gilbert, Churchill: Road to Victory, 296.
(обратно)732
. ”Joint Chiefs of Staff Minutes of a Meeting at the White House, January 7, 1943,“ Foreign Relations of the United States: The Conferences at Washington, 1941–1942, and Casablanca, 1943 (Washington, D. C.: U. S. Government Printing Office, 1968), 510.
(обратно)733
. ”Meeting of Roosevelt with the Joint Chiefs of Staff, January 15, 1943, 10 a. m., President’s Villa,“ Foreign Relations of the United States, Washington and Casablanca Conferences, 559.
(обратно)734
Steven Rearden, Council of War: A History of the Joint Chiefs of Staff, 1942–1991 (Washington, D. C.: NDU Press, 2012), 13–14.
(обратно)735
Albert Wedemeyer, Wedemeyer Reports! (New York: Henry Holt, 1958), 191–92. Через долгий срок после окончания войны Маршалл напишет Черчиллю: «Я не знаю никого, с кем спорил бы больше, чем с Вами, и никого, кем бы я больше восхищался». The Papers of George Catlett Marshall, Volume 7: ”The Man of the Age,“ ed. Mark Stoler and Daniel Holt (Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 2016), 986.
(обратно)736
. Oliver Harvey, War Diaries, 1941–1945, ed. John Harvey (New York: HarperCollins, 1978), 287.
(обратно)737
Alanbrooke, The War Diaries, 419.
(обратно)738
Sir Charles Wilson, later Lord Moran, Churchill: Taken from the Diaries of Lord Moran (Boston: Houghton Mifflin, 1966), 767.
(обратно)739
Alanbrooke, The War Diaries, 384.
(обратно)740
Harold Nicolson, The War Years: 1939–1945 (New York: Atheneum, 1967), 347.
(обратно)741
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume IV: The Hinge of Fate (Boston: Houghton Mifflin, 1950), 733–34.
(обратно)742
. ”Meeting of the Combined Chiefs of Staff, May 13, 1943, 10:30 a. m., Board of Governors Room, Federal Reserve Building,“ Foreign Relations of the United States: The Conferences at Washington and Quebec, 1943 (Washington, D. C.: Government Printing Office, 1970), 45.
(обратно)743
Alanbrooke, The War Diaries, 233.
(обратно)744
David Dilks, ed., The Diaries of Sir Alexander Cadogan, 1938–1945, (New York: G. P. Putnam’s Sons, 1972), 484.
(обратно)745
Field Marshal Lord Alanbrooke, The War Diaries, 370.
(обратно)746
Violet Bonham Carter, Winston Churchill: An Intimate Portrait (New York: Harcourt, Brace & World, 1965), 172.
(обратно)747
William Manchester, The Caged Lion: Winston Spencer Churchill, 1932–1940 (London: Abacus, 1994), 25.
(обратно)748
G. S. Harvie-Watt, Most of My Life (London: Springwood, 1980), 53.
(обратно)749
Eleanor Roosevelt, ”Churchill at the White House,“ Atlantic Monthly, March 1965, доступно онлайн.
(обратно)750
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume V: Closing the Ring (Boston: Houghton Mifflin, 1951), 405.
(обратно)751
Moran, Churchill, 145.
(обратно)752
Warren F. Kimball, ed., Churchill & Roosevelt: The Complete Correspondence, Volume 2: Alliance Forged, November 1942 – February 1944 (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1987), 596.
(обратно)753
Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins: An Intimate History (New York: Harper & Brothers, 1948), 781. О цвете карандаша: Richard Overy, Why the Allies Won (New York: W. W. Norton, 1996), 246.
(обратно)754
Warren F. Kimball, ed., Churchill & Roosevelt: The Complete Correspondence, Volume 1: Alliance Emerging, October 1933 – November 1942 (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1987), 206, 642. Elliott Roosevelt, As He Saw It (New York: Duell, Sloan and Pearce, 1946), 190. Сталин назван хозяином на этом обеде в кн.: Jon Meacham, Franklin and Winston: An Intimate Portrait of an Epic Friendship (New York: Random House, 2004), 258. «Причесанная» версия случившегося на обеде, вообще не упоминающая о вмешательстве Эллиота Рузвельта в разговор: U. S. Department of State, Foreign Relations of the United States: The Conferences at Cairo and Tehran (Washington, D. C.: U. S. Government Printing Office, 1961), 552–55.
(обратно)755
Churchill, The Second World War, Vol. 5: Closing the Ring, 374.
(обратно)756
В статье «Википедии» о Катынском расстреле говорится: «…массовые убийства польских граждан, в основном пленных офицеров польской армии, осуществленные весной 1940 г. … производились по решению «тройки» НКВД СССР в соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКП (б) от 5 марта 1940 г. Согласно обнародованным архивным документам, всего было расстреляно 21 857 человек. Термин «Катынский расстрел» первоначально использовался в отношении казни польских офицеров в Катынском лесу (Смоленская область) близ Катыни. После нахождения других массовых захоронений польских граждан, а также свидетельствующих о расстрелах советских архивных документов термины «Катынский расстрел» и «Катынское преступление» стали употреблять также по отношению к проведенным в апреле-мае 1940 г. расстрелам польских граждан, содержавшихся в разных лагерях и тюрьмах НКВД СССР. Завершившееся в 2004 г. расследование Главной военной прокуратуры России подтвердило вынесение «тройкой» НКВД смертных приговоров 14 542 польским военнопленным… и достоверно установило смерть 1803 человек и личность 22 из них». – Прим. ред.
(обратно)757
Benjamin Fischer, ”The Katyn Controversy: Stalin’s Killing Field,“ Studies in Intelligence, CIA (Winter 1999–2000), доступно онлайн.
(обратно)758
Этот синопсис, исключенный из редакций полной трилогии, доступен онлайн:
(обратно)759
Dilkes, Diaries of Sir Alexander Cadogan, 580.
(обратно)760
Alanbrooke, The War Diaries, 544.
(обратно)761
Violet Bonham Carter, Champion Redoubtable (London: Weidenfeld & Nicolson, 1999), 312–13.
(обратно)762
John Colville, The Fringes of Power: 10 Downing Street Diaries, 1939–1955 (New York: W. W. Norton, 1985), 158.
(обратно)763
Diana Cooper, Trumpets from the Steep (London: Century, 1960), 154.
(обратно)764
Moran, Churchill, 22.
(обратно)765
См.: Orwell, ”Letter to Roger Senhouse,“ in The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 4: In Front of Your Nose, 1945–1950, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 132.
(обратно)766
George Orwell, ”Letter to L. F. Rushbrook-Williams,“ in CEJL, vol. 2, 316.
(обратно)767
George Orwell, The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 3: As I Please, 1943–1945, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 54.
(обратно)768
Malcolm Muggeridge, Like It Was: The Diaries of Malcolm Muggeridge, ed. John Bright-Holmes (London: Collins, 1981), 410.
(обратно)769
Sir Charles Wilson, later Lord Moran, Churchill: Taken from the Diaries of Lord Moran (Boston: Houghton Mifflin, 1966), 199.
(обратно)770
George Orwell, ”On Kipling’s Death,“ in The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 1: An Age Like This, 1920–1940, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 159–60. Далее: Orwell, CEJL, vol. 1.
(обратно)771
Beatrix Potter, The Tale of Peter Rabbit, доступно онлайн: Project Gutenberg.
(обратно)772
Kenneth Grahame, The Wind in the Willows (New York: Grosset & Dunlap, 1913), 3.
(обратно)773
Там же, 11–12.
(обратно)774
George Orwell, ”Some Thoughts on the Common Toad,“ in The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 4: In Front of Your Nose, 1945–1950, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 142. Далее: Orwell, CEJL, vol. 4.
(обратно)775
George Orwell, Diaries, ed. Peter Davison (New York: W. W. Norton, 2012), 380
(обратно)776
На это совпадение обратил внимание Джеффри Мейерс в кн.: Orwell: Life and Art (Champaign, Ill.: University of Illinois Press, 2010), 112. Впрочем, «Красный лев» – самое популярное название британских пивных, их больше пятисот, судя по недавнему отчету Pubs Galore. Есть среди них и «Красный лев» в Уиллингдоне.
(обратно)777
В оригинале Snowfall. В переводе Л. Г. Беспаловой «Обвал». Здесь и далее цит. по: Оруэлл Дж. Скотный двор: Сказка / Пер. Л. Г. Беспаловой. – М.: Московский рабочий, 1992.
(обратно)778
George Orwell, Animal Farm (New York: New American Library, 1974), 35. (Оруэлл Дж. Скотный двор: Сказка. – М.: Московский рабочий, 1992.)
(обратно)779
Там же, 40–41.
(обратно)780
Orwell, Diaries, 471.
(обратно)781
Цит. по: Gordon Bowker, George Orwell (London: Abacus, 2004), 358–59.
(обратно)782
Orwell, Animal Farm, 58.
(обратно)783
Там же, 59.
(обратно)784
Там же, 83.
(обратно)785
Там же, 122.
(обратно)786
Там же, 123.
(обратно)787
George Orwell, ”Literature and Totalitarianism,“ The Listener, 19 June 1941, in The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 2: My Country Right or Left, 1940–1943, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 134. Далее: Orwell, CEJL, vol. 2.
(обратно)788
George Orwell, Orwell and Politics, ed. Peter Davison (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 2001), 384.
(обратно)789
Orwell, Animal Farm, 128.
(обратно)790
No. 3128, ”To Dwight Macdonald,“ 5 December 1946, in Peter Davison, ed., The Complete Works of George Orwell, Volume 18 (London: Secker & Warburg, 1998), 507.
(обратно)791
Stephen Wadhams, ed., Remembering Orwell (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 1984), 131.
(обратно)792
E. B. White, ”A Letter from E. B. White,“ on the Web site of HarperCollins.
(обратно)793
Christopher Andrew and Vasili Mitrokhin, The Sword and the Shield: The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB (New York: Basic Books, 1999), 87.
(обратно)794
Anthony Cave Brown, Treason in the Blood: H. St. John Philby, Kim Philby, and the Spy Case of the Century (Boston: Houghton Mifflin, 1994), 222.
(обратно)795
Andrew and Mitrokhin, The Sword and the Shield, 67. См. также: Brown, Treason in the Blood, 79.
(обратно)796
Andrew and Mitrokhin, The Sword and the Shield, 74–75.
(обратно)797
Crick, George Orwell: A Life (New York: Penguin, 1980), 454.
(обратно)798
Там же, 458. См. также: Alison Flood, ”‘It Needs More Public-Spirited Pigs’: T. S. Eliot’s Rejection of Orwell’s Animal Farm,“ Guardian, 26 May 2016. Количество отказавших Оруэллу издателей: John Rodden and John Rossi, The Cambridge Introduction to George Orwell (Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 2012); Crick, George Orwell, 452–62.
(обратно)799
Rodden and Rossi, Cambridge Introduction to Orwell, 77.
(обратно)800
George Orwell, The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 3: As I Please, 1943–1945, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 141. Далее: Orwell, CEJL, vol. 3.
(обратно)801
Wadhams, Remembering Orwell, 131.
(обратно)802
Crick, George Orwell, 465.
(обратно)803
Audrey Coppard and Bernard Crick, Orwell Remembered (New York: Facts on File Publications, 1984), 186–87.
(обратно)804
Bowker, George Orwell, 472. Интересно, что эта памятка не включена в сборник: Orwell’s Collected Essays, Journalism and Letters.
(обратно)805
Bowker, George Orwell, 329.
(обратно)806
Coppard and Crick, Orwell Remembered, 187.
(обратно)807
Orwell, CEJL, vol. 3, 359.
(обратно)808
George Woodcock, The Crystal Spirit (New York: Schocken Books, 1984), 31.
(обратно)809
Coppard and Crick, Orwell Remembered, 197.
(обратно)810
Orwell, CEJL, vol. 4, 104.
(обратно)811
Bowker, George Orwell, 330–31.
(обратно)812
Rodden and Rossi, Cambridge Introduction to Orwell, 59.
(обратно)813
Bowker, George Orwell, 484.
(обратно)814
Wadhams, Remembering Orwell, 166.
(обратно)815
Джордж Оруэлл. Политика и английский язык. (George Orwell, ”Politics and the English Language,“ in Orwell and Politics, 409).
(обратно)816
За исключением оговоренных случаев здесь и далее отрывки из эссе «Политика и английский язык» цитируются в переводе В. П. Голышева. – Прим. пер.
(обратно)817
Там же, 410.
(обратно)818
Там же, 406.
(обратно)819
Manchester, The Caged Lion, 26.
(обратно)820
Sir John Martin, in John Wheeler-Bennett, ed., Action This Day: Working with Churchill (New York: St. Martin’s, 1969), 146–47.
(обратно)821
John Colville, Winston Churchill and His Inner Circle (New York: Wyndham, 1981), 155.
(обратно)822
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume VI: Triumph and Tragedy (Boston: Houghton Mifflin, 1953), 749.
(обратно)823
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume I: The Gathering Storm (Boston: Houghton Mifflin, 1948), 166.
(обратно)824
В оригинале Home Guard, букв. «домашняя стража». – Прим. пер.
(обратно)825
Цит. по: Harold Macmillan, The Blast of War 1939–1945 (New York: Harper & Row, 1968), 84.
(обратно)826
Warren F. Kimball, ed., Churchill & Roosevelt: The Complete Correspondence, Volume 2: Alliance Forged, November 1942 – February 1944 (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1987), 712.
(обратно)827
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume II: Their Finest Hour (Boston: Houghton Mifflin, 1949), 431.
(обратно)828
John Colville, The Fringes of Power: 10 Downing Street Diaries, 1939–1955 (New York: W. W. Norton, 1985), 471–72.
(обратно)829
Laurence Bergreen, As Thousands Cheer: The Life of Irving Berlin (New York: Viking, 1990), 431.
(обратно)830
George Orwell, ”London Letter,“ Partisan Review, 17 April 1944,“ in The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 3: As I Please, 1943–1945, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 123. Далее: Orwell, CEJL, vol. 3.
(обратно)831
Artemis Cooper, ed., A Durable Fire: The Letters of Duff and Diana Cooper, 1913–1950 (London: HarperCollins, 1983), 305.
(обратно)832
Winston Churchill (speech, Lord Mayor’s Luncheon, 10 November 1942), доступно онлайн: Web site of the Churchill Society.
(обратно)833
Field Marshal Lord Alanbrooke, The War Diaries: 1939–1945, ed. Alex Danchev and Daniel Todman (Berkeley: University of California Press, 2002), 515.
(обратно)834
Там же, 521.
(обратно)835
Там же, 528.
(обратно)836
Там же, 534.
(обратно)837
Там же, 561.
(обратно)838
Там же, 568.
(обратно)839
Там же, 590.
(обратно)840
Там же, 566.
(обратно)841
Подробнее об этом см. в кн.: Carlo D’Este, Warlord: A Life of Winston Churchill at War, 1874–1945 (New York: HarperCollins, 2008), 395.
(обратно)842
См., например, его меморандум от 12 сентября 1939 г., перепечатанный в кн.: Winston S. Churchill, The Second World War, Volume I: The Gathering Storm (Boston: Houghton Mifflin, 1948), 434–35.
(обратно)843
David Reynolds, In Command of History: Churchill Fighting and Writing the Second World War (New York: Random House, 2005), 114.
(обратно)844
Maurice Ashley, Churchill as Historian (New York: Scribner, 1969), 189.
(обратно)845
Colville, The Fringes of Power, 186–87. См. также: Churchill, The Second World War, Volume III: The Grand Alliance (Boston: Houghton Mifflin, 1950), 806–7.
(обратно)846
R. W. Thompson, Churchill and Morton (London: Hodder & Stoughton, 1976), 48.
(обратно)847
См., например: Sir Charles Wilson, later Lord Moran, Churchill: Taken from the Diaries of Lord Moran (Boston: Houghton Mifflin, 1966), 169.
(обратно)848
Sir Ian Jacob, in John Wheeler-Bennett, ed., Action This Day: Working with Churchill (New York: St. Martin’s, 1969), 201.
(обратно)849
Churchill, The Second World War, Vol. I: The Gathering Storm, 462.
(обратно)850
Здесь и далее: Eliot Cohen, Supreme Command: Soldiers, Statesmen, and Leadership in Wartime (New York: Anchor, 2003), 118.
(обратно)851
Moran, Churchill, 759.
(обратно)852
David Fraser, ”Alanbrooke,“ in Churchill’s Generals, ed. John Keegan (New York: Grove Weidenfeld, 1991), 90. Эта история немного иначе рассказывается в более ранней книге Фрезера: Fraser, Alanbrooke (London: Arrow Books, 1983), 295.
(обратно)853
Simon Heffer, Like the Roman: The Life of Enoch Powell (London: Weidenfeld & Nicolson, 1998), 75.
(обратно)854
Там же, 62.
(обратно)855
George Orwell, ”Letter from England,“ Partisan Review, 3 January 1943, in The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 2: My Country Right or Left, 1940–1943, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 278–79. Далее: Orwell, CEJL, vol. 2.
(обратно)856
Max Hastings, Winston’s War: Churchill, 1940–1945 (New York: Vintage, 2011), 437.
(обратно)857
Colville, The Fringes of Power, 574.
(обратно)858
Ralph Ingersoll, Top Secret (New York: Harcourt, Brace, 1946), 67.
(обратно)859
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume V: Closing the Ring (Boston: Houghton Mifflin, 1951), 85.
(обратно)860
Там же, 129.
(обратно)861
J. Lawton Collins, Lightning Joe (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1979), 292.
(обратно)862
Первая цитата: George Orwell, ”Wells, Hitler and the World State,“ in CEJL, vol. 2, 143–44. Вторая цитата: George Orwell, ”Such, Such Were the Joys,“ in The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 4: In Front of Your Nose, 1945–1950, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 336. Далее: Orwell, CEJL, vol. 4.
(обратно)863
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume VI: Triumph and Tragedy (Boston: Houghton Mifflin, 1953), 713.
(обратно)864
Ronald Lewin, Churchill as Warlord (London: Scarborough, 1973), 19.
(обратно)865
George Trevelyan, English Social History: A Survey of Six Centuries from Chaucer to Queen Victoria (New York: Longman, 1978), 457.
(обратно)866
Correlli Barnett, The Audit of War: The Illusion & Reality of Britain as a Great Nation (London: Macmillan, 1986), 161, 164, 180–81.
(обратно)867
David Edgerton, ”The Prophet Militant and Industrial: The Peculiarities of Correlli Barnett,“ in Twentieth Century British History 2, no. 3 (1991), доступно онлайн.
(обратно)868
Bernard Lewis, ”Second Acts,“ Atlantic Monthly, November 2007, 25.
(обратно)869
James Leutze, ed., The London Journal of General Raymond E. Lee, 1940–1941 (Boston: Little, Brown, 1971), 319, 341.
(обратно)870
Сравнение полевых сил Британии и Америки весной 1945 г.: Lord Normanbrook, in Wheeler-Bennett, ed., Action This Day, 32.
(обратно)871
George Orwell, ”London Letter,“ to Partisan Review, December 1944, in CEJL, vol. 3, 293, 297.
(обратно)872
Moran, Churchill, 614.
(обратно)873
Churchill, The Second World War, Vol. VI: Triumph and Tragedy, 57.
(обратно)874
. ”First Plenary Meeting, November 28, 1943,“ U. S. Department of State, Foreign Relations of the United States: The Tehran Conference (Washington, D. C.: U. S. Government Printing Office, 1961), 490.
(обратно)875
Warren F. Kimball, ed., Churchill & Roosevelt: The Complete Correspondence, Volume 3: Alliance Declining, February 1944 – April 1945 (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1987), 228, 263.
(обратно)876
Captain Harry C. Butcher, Three Years with Eisenhower (New York: Simon & Schuster, 1946), 634, 644. См. также: D. K. R. Crosswell, Beetle: The Life of General Walter Bedell Smith (Lexington: University Press of Kentucky, 2010), 677.
(обратно)877
Churchill, The Second World War, Vol. VI: Triumph and Tragedy, 120.
(обратно)878
Там же, 59.
(обратно)879
Williamson Murray and Allan R. Millett, A War to Be Won: Fighting the Second World War (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000), 433.
(обратно)880
Steven Zaloga, Operation Dragoon 1944: France’s Other D – Day (Oxford: Osprey, 2013), 6.
(обратно)881
1 английская (длинная) тонна =1016 кг. – Прим. пер.
(обратно)882
Roland Ruppenthal, The European Theater of Operations: Logistical Support of the Armies, Volume II: September 1944 – May 1945 (Washington, D. C.: U. S. Army Center of Military History, 1959), 124.
(обратно)883
См.: Moran, Churchill, 179–80, 195.
(обратно)884
Violet Bonham Carter, Champion Redoubtable (London: Weidenfeld & Nicolson, 1999), 314.
(обратно)885
Moran, Churchill, 197.
(обратно)886
Colville, The Fringes of Power, 513.
(обратно)887
Alanbrooke, The War Diaries, 630.
(обратно)888
Там же.
(обратно)889
Там же.
(обратно)890
Sir Henry Pownall, Chief of Staff: The Diaries of Lieutenant General Sir Henry Pownall, Volume II: 1940–1944 (Hamden, Conn.: Archon, 1974), 190.
(обратно)891
Alanbrooke, The War Diaries, 647.
(обратно)892
Churchill, The Second World War, Vol. VI: Triumph and Tragedy, 397.
(обратно)893
Martin Gilbert, Winston S. Churchill: Road to Victory, Volume VII: 1941–1945 (London: Heinemann, 1989), 1294.
(обратно)894
Там же, 1296.
(обратно)895
Christopher Thorne, Allies of a Kind: The United States, Britain, and the War Against Japan, 1941–1945 (Oxford: Oxford University Press, 1979), 120.
(обратно)896
Moran, Churchill, 322.
(обратно)897
Там же, 350.
(обратно)898
Roy Jenkins, Churchill (Farrar, Straus and Giroux, 2001), 785.
(обратно)899
Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins: An Intimate History (New York: Harper & Brothers, 1948), 442.
(обратно)900
Thompson, Churchill and Morton, 30.
(обратно)901
Alfred D. Chandler Jr., Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994), 334.
(обратно)902
Barnett, The Audit of War, 304.
(обратно)903
Alanbrooke, The War Diaries, 677.
(обратно)904
Violet Bonham Carter, Lantern Slides: The Diaries and Letters of Violet Bonham Carter, ed. Mark Bonham Carter and Mark Pottle (London: Phoenix, 1997), 318.
(обратно)905
Winston Churchill, Blood, Toil, Tears and Sweat: The Great Speeches, ed. David Cannadine (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 1990), 259–60.
(обратно)906
Там же, 266.
(обратно)907
Там же, 286, 288.
(обратно)908
Там же, 274.
(обратно)909
Malcolm Muggeridge, ”Twilight of Greatness,“ in Tread Softly for You Tread on My Jokes (London: Collins, 1966), 238.
(обратно)910
George Orwell, CEJL, vol. 3, 381.
(обратно)911
В ходе Эль-Аламейнской операции (Египет, осень 1942 г.) британские войска разгромили итало-немецкую группировку, не допустив захвата Египта. Это была крупнейшая операция на Североафриканском театре военных действий и первая победа британцев в битвах Второй мировой войны. – Прим. пер.
(обратно)912
Simon Schama, ”Rescuing Churchill,“ New York Review of Books, 28 February 2002, доступно онлайн.
(обратно)913
Harold Nicolson, The War Years: 1939–1945 (New York: Atheneum, 1967), 344–45.
(обратно)914
Richard Toye, The Roar of the Lion: The Untold Story of Churchill’s World War II Speeches (Oxford: Oxford University Press, 2013), 112.
(обратно)915
Alanbrooke, The War Diaries, 324.
(обратно)916
Jasper Copping, ”Records of WW2 Dead Published Online,“ Daily Telegraph, 17 November 2013.
(обратно)917
Winston Churchill, ”The Scaffolding of Rhetoric,“ доступно онлайн: Web site of the Churchill Society.
(обратно)918
Thompson, Churchill and Morton, 53, 65. См. также: Churchill, The Second World War, Vol. I: The Gathering Storm, 80.
(обратно)919
Boothby, I Fight to Live (London: Victor Gollancz, 1947), 46.
(обратно)920
Alanbrooke, The War Diaries, 709.
(обратно)921
David Dilks, ed., The Diaries of Sir Alexander Cadogan, 1938–1945 (New York: G. P. Putnam’s Sons, 1972), 763.
(обратно)922
Moran, Churchill, 306.
(обратно)923
John Charmley, Churchill: The End of Glory (New York: Harcourt Brace, 1993), 649.
(обратно)924
Williamson Murray, ”British Grand Strategy, 1933–1942,“ in Williamson Murray, Richard Hart Sinnreich, James Lacey, eds., The Shaping of Grand Strategy: Policy, Diplomacy and War (Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 2011), 180.
(обратно)925
David Reynolds, In Command of History: Churchill Fighting and Writing the Second World War (New York: Random House, 2005), 537.
(обратно)926
John Keegan, introduction to Winston Churchill, The Second World War (Boston: Houghton Mifflin, 1985), xi.
(обратно)927
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume II: Their Finest Hour (Boston: Houghton Mifflin, 1949), 447.
(обратно)928
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume III: The Grand Alliance (Boston: Houghton Mifflin, 1950), 834.
(обратно)929
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume IV: The Hinge of Fate (Boston: Houghton Mifflin, 1950), 797.
(обратно)930
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume I: The Gathering Storm (Boston: Houghton Mifflin, 1948), 440.
(обратно)931
Michael Beschloss, Kennedy and Roosevelt: The Uneasy Alliance (New York: W. W. Norton, 1980), 200.
(обратно)932
Churchill, The Second World War, Vol. I: The Gathering Storm, 26.
(обратно)933
Здесь и далее (кроме описания бойцов отрядов по обезвреживанию) цит. по: Черчилль У. Вторая мировая война. Т. 1. Надвигающаяся буря. – М.: Альпина нон-фикшн, 2018.
(обратно)934
Там же, 7.
(обратно)935
Там же, 85.
(обратно)936
Там же, 89.
(обратно)937
Там же, 62.
(обратно)938
Там же, 209.
(обратно)939
Там же, 222.
(обратно)940
Там же, 249.
(обратно)941
Churchill, The Second World War, Vol. II: Their Finest Hour, 257
(обратно)942
Там же, 362.
(обратно)943
Churchill, The Second World War, Vol. I: The Gathering Storm, 272
(обратно)944
Там же, 347.
(обратно)945
Churchill, The Second World War, Vol. II: Their Finest Hour, 628.
(обратно)946
Здесь и далее: Черчилль У. Вторая мировая война. Т. 2. Их звездный час. – М.: Альпина нон-фикшн, 2018.
(обратно)947
Там же, 630.
(обратно)948
Там же, 598.
(обратно)949
Там же, 600.
(обратно)950
Reynolds, In Command of History, 501.
(обратно)951
Churchill, The Second World War, Vol. IV: The Hinge of Fate, 773.
(обратно)952
Там же, 254.
(обратно)953
Там же, 798, 800.
(обратно)954
Reynolds, In Command of History, 300.
(обратно)955
Там же, 353–54. Рейнолдс ошибается, считая этот случай уникальным. Такое же таинственное примечание имеется на с. 202 шестого тома мемуаров, без каких-либо объяснений предлагающее читателю обратиться к «H. St. G. Saunders, The Green Beret».
(обратно)956
Samuel Eliot Morison, History of United States Naval Operations in World War II, Volume IV: Coral Sea, Midway and Submarine Actions, May 1942 – August 1942 (Boston: Little, Brown, 1975), 63.
(обратно)957
Churchill, The Second World War, Vol. IV: The Hinge of Fate, 247.
(обратно)958
Там же, 828.
(обратно)959
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume V: Closing the Ring (Boston: Houghton Mifflin, 1951), 426.
(обратно)960
Winston Churchill, Parliamentary debate, 6 June 1944, доступно онлайн: Hansard, Parliamentary Debates.
(обратно)961
Malcolm Muggeridge, Like It Was: The Diaries of Malcolm Muggeridge, ed, John Bright-Holmes (London: Collins, 1981), 410. О проблеме с циклом см.: Muggeridge, Chronicles of Wasted Time (Vancouver, B. C., Canada: Regent College, 2006), 167.
(обратно)962
Reynolds, In Command of History, 436.
(обратно)963
John Colville, Winston Churchill and His Inner Circle (New York: Wyndham, 1981), 135.
(обратно)964
Winston S. Churchill, The Second World War, Volume VI: Triumph and Tragedy (Boston: Houghton Mifflin, 1953), 214, 216.
(обратно)965
Там же, 456.
(обратно)966
Simon Schama, A History of Britain, Volume 3: The Fate of Empire: 1776–2000 (London: BBC, 2003), 408.
(обратно)967
№ 1 – зона почтового индекса в Ислингтоне, районе Большого Лондона. В годы жизни Оруэлла в этой части столицы часто селилась левая интеллигенция. – Прим. ред.
(обратно)968
George Orwell, ”Some Thoughts on the Common Toad,“ in The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 4: In Front of Your Nose, 1945–1950, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 142, 144–45. Далее: Orwell, CEJL, vol. 4
(обратно)969
. ”Orwell at Tribune,“ in Audrey Coppard and Bernard Crick, Orwell Remembered (New York: Facts on File Publications, 1984), 212.
(обратно)970
Jonathan Rose, ”England His Englands,“ in The Cambridge Companion to George Orwell, ed. John Rodden (Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 2007), 41.
(обратно)971
Orwell, CEJL, vol. 4, 185.
(обратно)972
Речь о железном занавесе: Winston Churchill, ”The Sinews of Peace (‘Iron Curtain Speech’),“ доступно онлайн: Web site of the Churchill Society.
(обратно)973
George Orwell, ”Literature and Totalitarianism,“ The Listener, 19 June 1941, in The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 2: My Country Right or Left, 1940–1943, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 134. Далее: Orwell, CEJL, vol. 2.
(обратно)974
. ”David Astor and the Observer,“ in Coppard and Crick, Orwell Remembered, 188. Время написания: John Rodden and John Rossi, The Cambridge Introduction to George Orwell (Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 2012); Crick, George Orwell, 29, 81.
(обратно)975
Stephen Wadhams, ed., Remembering Orwell (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 1984), 170.
(обратно)976
. ”His Jura Laird,“ in Coppard and Crick, Orwell Remembered, 226.
(обратно)977
George Orwell, Diaries, ed. Peter Davison (New York: W. W. Norton, 2012), 427.
(обратно)978
Там же, 469.
(обратно)979
Wadhams, Remembering Orwell, 180.
(обратно)980
Orwell, CEJL, vol. 4, 200.
(обратно)981
Там же, 376.
(обратно)982
Wadhams, Remembering Orwell, 190–92.
(обратно)983
Orwell, Diaries, 516.
(обратно)984
. ”His Jura Laird,“ in Coppard and Crick, Orwell Remembered, 227.
(обратно)985
Orwell, CEJL, vol. 4, 329.
(обратно)986
Orwell, Diaries, 520. Круглые скобки Оруэлла.
(обратно)987
Там же, 529.
(обратно)988
Там же, 551.
(обратно)989
Там же, 555.
(обратно)990
Там же, 561.
(обратно)991
John J. Ross, ”Tuberculosis, Bronchiectasis, and Infertility: What Ailed George Orwell?“ Clinical Infectious Diseases (December 1, 2005): 1602.
(обратно)992
Подобно герою Оруэлла, один из лидеров этой группы Джон Леннон, родившийся 9 октября 1940 г., в конце битвы за Британию, был назван в честь Черчилля – его второе имя Уинстон, хотя в зрелые годы он добавит к нему «Оно» в честь второй жены Йоко Оно. (Philip Norman, John Lennon: The Life [New York: Ecco, 2009], 598. См. также: Ken Lawrence, John Lennon: In His Own Words [Kansas City, Mo.: Andrews McMeel, 2001], 5.) Леннон, в детстве читавший мемуары Черчилля, окажется вместе со своим полутезкой в списке величайших британцев, составленном BBC в 2002 г. Mark Lewisohn, The Beatles: All These Years, Volume 1: Tune In (New York: Crown, 2013), 16, 33. Черчилль стал первым, Леннон восьмым. (См. ”100 Greatest Britons“ BBC Poll, 2002, доступно онлайн.) По иронии, Черчилль, политик военного времени, мирно скончался в своей постели в очень преклонных годах, а автор песен и музыкант был убит разрывными пулями в 40 лет. Леннон был также поклонником Оруэлла, книги которого имелись в его доме. Philip Norman, John Lennon (New York: Ecco, 2009), 383.
(обратно)993
Здесь и далее цит. по: Оруэлл Дж. 1984 / Пер. В. П. Голышева. – М.: Прогресс, 1989.
(обратно)994
George Orwell, 1984 (New York: Signet, 1981), 5.
(обратно)995
George Orwell, 1984, in George Orwell omnibus (London: Secker & Warburg, 1976), 789.
(обратно)996
Orwell, 1984 (Signet), 6–7.
(обратно)997
Там же, 8.
(обратно)998
Характер Уинстона. Там же, 27.
(обратно)999
Orwell, 1984 (Secker & Warburg), 777.
(обратно)1000
Orwell, 1984 (Signet), 19.
(обратно)1001
Orwell, 1984 (Secker & Warburg), 790.
(обратно)1002
John Stuart Mill, On Liberty, in Great Books of the Western World, Volume 43 (Edinburgh, Scotland: Encyclopædia Britannica, 1971), 267.
(обратно)1003
Там же, 272.
(обратно)1004
Orwell, 1984 (Secker & Warburg), 855.
(обратно)1005
Orwell, 1984 (Signet), 26.
(обратно)1006
Там же, 32.
(обратно)1007
Orwell, 1984 (Secker & Warburg), 767.
(обратно)1008
В оригинале «speakwrite». – Прим. пер.
(обратно)1009
Там же, 783, 791.
(обратно)1010
Orwell, CEJL, vol. 2, 261.
(обратно)1011
Orwell, 1984 (Secker & Warburg), 785.
(обратно)1012
Там же, 841.
(обратно)1013
Thomas Pynchon, foreword to George Orwell, Nineteen Eighty-Four (New York: Penguin, 2003), xviii.
(обратно)1014
Orwell, 1984 (Secker & Warburg), 814.
(обратно)1015
Там же, 818.
(обратно)1016
Там же, 836.
(обратно)1017
Winston Churchill, ”Prime Minister to Home Secretary, 21 November 43,“ reprinted in Winston S. Churchill, The Second World War, Volume V: Closing the Ring (Boston: Houghton Mifflin, 1951), 679.
(обратно)1018
George Orwell, The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 3: As I Please, 1943–1945, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 266–67. Далее: Orwell, CEJL, vol. 3.
(обратно)1019
Этот дикий факт упоминается в: Adam Hochschild, ”Orwell: Homage to the ‘Homage’,“ New York Review of Books, 19 December 2013.
(обратно)1020
Orwell, 1984 (Secker & Warburg), 886.
(обратно)1021
. ”His Second, Lasting Publisher,“ in Coppard and Crick, Orwell Remembered, 198.
(обратно)1022
Robert McCrum, Observer, 10 May 2009, доступно онлайн.
(обратно)1023
Orwell, CEJL, vol. 4, 487.
(обратно)1024
Там же, 498.
(обратно)1025
George Orwell, ”Writers and Leviathan,“ in Orwell and Politics, ed. Peter Davison (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 2001), 486.
(обратно)1026
Здесь и далее: Orwell, Diaries, 564–65.
(обратно)1027
Malcolm Muggeridge, Like It Was: The Diaries of Malcolm Muggeridge, ed, John Bright-Holmes (London: Collins, 1981), 353.
(обратно)1028
Здесь и далее: George Orwell, ”Review,“ in CEJL, vol. 4, 491–95.
(обратно)1029
Gordon Bowker, George Orwell (London: Abacus, 2004), 405.
(обратно)1030
Wadhams, Remembering Orwell, 133.
(обратно)1031
Там же, 165.
(обратно)1032
Michael Shelden, Orwell: The Authorized Biography (New York: HarperCollins, 1991), 440.
(обратно)1033
Malcolm Muggeridge, ”Knight of the Woeful Countenance,“ in World of George Orwell, ed., Miriam Gross, (London: Weidenfeld & Nicolson), 174.
(обратно)1034
Bernard Crick, George Orwell: A Life (New York: Penguin, 1980), 577.
(обратно)1035
Muggeridge, Like It Was, 361.
(обратно)1036
Orwell, Diaries, 567.
(обратно)1037
Muggeridge, ”A Knight of Woeful Countenance,“ in Gross, The World of George Orwell, 173.
(обратно)1038
George Orwell, ”In Defense of Comrade Zilliacus,“ CEJL, vol. 4, 397–98. См. также 309, 323.
(обратно)1039
George Orwell, ”The Lion and the Unicorn,“ in CEJL, vol. 2, 59.
(обратно)1040
Здесь и ниже речь идет о популярных американских фильмах-вестернах. Первый – по не раз экранизировавшемуся (1913, 1920, 1943, 1957) роману Дж. Ф. Купера «Зверобой» (The Deerslayer, 1841), второй – по роману О. Уистера «Виргинец» (The Virginian, 1902, экранизировался в 1914, 1923, 1929, 1946, 1962, 2000 гг.). «Одинокий рейнджер» (The Lone Ranger) – широко известный в свое время радио-, кино- (1938, 1939) и телесериал (1949–1957 гг.). – Прим. ред.
(обратно)1041
Дион Димуччи, выступавший сольно и в составе вокальной группы Dion and the Belmonts. – Прим. пер.
(обратно)1042
Muggeridge, Like It Was, 366.
(обратно)1043
Там же, 368.
(обратно)1044
Bowker, George Orwell, 307.
(обратно)1045
Muggeridge, Like It Was, 376. Жизнь самого Маггериджа после смерти Оруэлла пойдет интересным курсом. Как Черчилль очень эффективно использовал радио в 1940-е и 1950-е гг., Маггеридж воспользовался новым средством информации, телевидением, и добился известности в Британии, став, вероятно, первой «говорящей головой» и, бесспорно, одним из самых знаменитых журналистов своего поколения. Оруэлл ненавидел время, проведенное на ВВС, а Маггеридж с ее помощью прославился. Например, будучи в Гамбурге в июне 1961 г., он забрел в шумный ночной клуб Top Ten. На маленькой сцене, упакованный в кожу и накачанный амфетаминами, выделывался маленький поп-ансамбль. «Группа была английская, из Ливерпуля, и узнала меня», – записал он в дневнике. Если бы Оруэлл увидел их и услышал их акцент, то, вероятно, счел бы участников группы «пролами». Один из них, скорее всего, Джон Леннон, спросил Маггериджа, коммунист ли он. Маггеридж ответил, что он оппозиционер. «Вы делаете на этом деньги?» – поинтересовался музыкант. «Да», – подтвердил Маггеридж. Muggeridge, Like It Was, 524–25. В том же месяце, когда «Битлз» впервые явились в студию грамзаписи, звукозаписывающая компания предложила им заполнить рекламные бланки. В строке, где предлагалось указать свои цели в жизни, «Джон У. Леннон» написал просто «быть богатым». Mark Lewisohn, All These Years, Volume 1: Tune In (New York: Crown, 2013), 434, 446, 451. Через несколько дней, как известно, эта группа стала самой яркой медийной звездой своего времени. Маггеридж между тем стал громко заявлять о своей религиозности и работой на телевидении и в документалистике помог прославить мать Терезу, харизматичную монахиню из Калькутты. Оруэлл начал становиться писателем в Южной Азии, для Маггериджа с этой частью света был связан последний этап карьеры. Представляется вероятным, что Маггеридж в течение своей долгой и разнообразной жизни стал единственным человеком, общавшимся с тремя великими Уинстонами Англии XX в.: Черчиллем, Оруэллом и Ленноном.
(обратно)1046
Shelden, Orwell, 443.
(обратно)1047
Еккл., гл. 12, стих 12. Синодальный перевод. – Прим. пер.
(обратно)1048
Там же, 444.
(обратно)1049
Sir Charles Wilson, later Lord Moran, Churchill: Taken from the Diaries of Lord Moran (Boston: Houghton Mifflin, 1966), 426.
(обратно)1050
См.: Peregrine Churchill and Julian Mitchell, Jennie: Lady Randolph Churchill, a Portrait with Letters (New York: Ballantine, 1976), 104.
(обратно)1051
Roy Jenkins, Churchill (Farrar, Straus and Giroux, 2001), 845.
(обратно)1052
Mark Amoy, ed., The Letters of Evelyn Waugh (Boston: Ticknor & Fields, 1980), 489.
(обратно)1053
Anthony Montague Browne, Long Sunset (Ashford, U. K.: Podkin Press, 2009), 220–21.
(обратно)1054
John Ramsden, Man of the Century: Winston Churchill and His Legend Since 1945 (New York: Columbia University Press, 2002), 327.
(обратно)1055
Черчилль У. История англоязычных народов. В 4 кн. – Екатеринбург: Гонзо, 2012.
(обратно)1056
Ronald Lewin, Churchill as Warlord (London: Scarborough, 1973), 17.
(обратно)1057
Peter Clarke, Mr. Churchill’s Profession (New York: Bloomsbury, 2012), 207.
(обратно)1058
Anita Leslie, Cousin Randolph: The Life of Randolph Churchill (London: Hutchinson, 1985), 133.
(обратно)1059
R. W. Thompson, Generalissimo Churchill (New York: Scribner, 1973), 23, 153.
(обратно)1060
. ”Quotes Falsely Attributed to Winston Churchill,“ доступно онлайн: Web site of the Churchill Society.
(обратно)1061
Этот абзац написан на основе ”People Sleep Peacefully in Their Beds at Night Only Because Rough Men Stand Ready to Do Violence on Their Behalf,“ an exposition by Quote Investigator, доступно онлайн.
(обратно)1062
George Orwell, ”Rudyard Kipling,“ in The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 2: My Country Right or Left, 1940–1943, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 187.
(обратно)1063
Peter Kirsanow, ”The Real Jack Bauers,“ National Review Online, 11 September 2006, доступно онлайн.
(обратно)1064
Juan de Onis, ”Castro Expounds in Bookshop Visit,“ New York Times, 14 February 1964, 1.
(обратно)1065
Stephen Rodrick, ”Keith Richards: A Pirate Looks at 70,“ Men’s Journal, July 2013, доступно онлайн. Ссылку на оригинальное замечание Черчилля см. в: Nigel Knight, Churchill: The Greatest Briton Unmasked (London: David & Charles, 2008), 144, 374; and Collin Brooks, ”Churchill the Conversationalist,“ in Churchill by His Contemporaries, ed., Charles Eade, (Simon & Schuster, 1954), 248.
(обратно)1066
. ”Miscellaneous Wit & Wisdom,“ National Churchill Museum, доступно онлайн.
(обратно)1067
Max Hastings, ”Defending the ‘Essential Relationship’: Britain and the United States“ (2011 Ruttenberg Lecture, Center for Policy Studies, London, July 15, 2011), 3, доступно онлайн.
(обратно)1068
Tony Blair, A Journey: My Political Life (New York: Knopf, 2010), 352, 353, 475.
(обратно)1069
Robin Prior, When Britain Saved the West: The Story of 1940 (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2015), 208.
(обратно)1070
Henry Mance, ”Chilcot Report: Tony Blair Rebuked over Iraq Invasion,“ Financial Times, 6 July 2016, доступно онлайн.
(обратно)1071
. ”Text of Blair’s Speech,“ 17 July 2003, доступно онлайн: BBC News Web site.
(обратно)1072
Ramsden, Man of the Century, 21.
(обратно)1073
Zahra Salahuddin, ”Will This Blog Be the Last Time I Get to Express Myself,“ Dawn, 21 April 2015, доступно онлайн.
(обратно)1074
Michael Shelden, Friends of Promise: Cyril Connolly and the World of Horizon (New York: Harper & Row, 1989), 151.
(обратно)1075
Jason Crowley, ”George Orwell’s Luminous Truths,“ Financial Times, 5 December 2014, доступно онлайн.
(обратно)1076
John Rodden and John Rossi, The Cambridge Introduction to George Orwell (Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 2012), 98.
(обратно)1077
John Rodden, George Orwell: The Politics of Literary Reputation (New Brunswick, N. J.: Transaction Publishers, 2006), 117.
(обратно)1078
Neil McLaughlin, ”Orwell, the Academy and Intellectuals,“ in The Cambridge Companion to George Orwell, ed. John Rodden (Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 2007), 170.
(обратно)1079
Arthur Koestler, The Invisible Writing (Briarcliff Manor, N. Y.: Stein and Day, 1969), 466.
(обратно)1080
Rodden, George Orwell, 45.
(обратно)1081
John Bartlett, Familiar Quotations, 13th ed., (Boston: Little, Brown, 1955), 991.
(обратно)1082
Bernard Crick, George Orwell: A Life (New York: Penguin, 1980), 279.
(обратно)1083
. ”Stephen Spender Recalls,“ in Audrey Coppard and Bernard Crick, Orwell Remembered (New York: Facts on File Publications, 1984), 264.
(обратно)1084
Stephen Wadhams, ed., Remembering Orwell (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 1984), 104.
(обратно)1085
Stephen Spender, World Within World: The Autobiography of Stephen Spender (New York: St. Martin’s Press, 1994), 232.
(обратно)1086
Wadhams, Remembering Orwell, 105.
(обратно)1087
Michael Scammell, Koestler: The Literary and Political Odyssey of a Twentieth-Century Skeptic (New York: Random House, 2009), 213.
(обратно)1088
Gordon Beadle, ”George Orwell and the Neoconservatives,“ Dissent, Winter 1984, 71.
(обратно)1089
Peter Watson, The Modern Mind: An Intellectual History of the 20th Century (New York: HarperCollins, 2002), v – vi.
(обратно)1090
. ”The 100 Best Non-Fiction Books of the Century,“ National Review, May 3, 1999, доступно онлайн.
(обратно)1091
. ”Pump Up the Volumes,“ Guardian, 26 November 2000, доступно онлайн.
(обратно)1092
Robert McCrum, ”The 100 Best Novels– Number 70,“ Guardian, 19 January 2015, доступно онлайн.
(обратно)1093
Scott Dodson and Ami Dodson, ”Literary Justice,“ The Green Bag, 26 August 2015, доступно онлайн.
(обратно)1094
Чеслав Милош. Порабощенный разум. – М.: Летний сад, 2011. Czesław Miłosz, The Captive Mind (New York: Vintage, 1990), 42, 215, 218.
(обратно)1095
Andrei Amalrik, Will the Soviet Union Survive Until 1984? (London: Allen Lane, 1970), accessed online.
(обратно)1096
Norman Podhoretz, ”If Orwell Were Alive Today,“ Harper’s, January 1983, 32
(обратно)1097
Примечание редактора в: George Orwell, Orwell and Politics, ed. Peter Davison (Harmondsworth, U. K.: Penguin, 2001), 441.
(обратно)1098
Wadhams, Remembering Orwell, 122.
(обратно)1099
George Orwell, The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 4: In Front of Your Nose, 1945–1950, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 30. Далее: Orwell, CEJL, vol. 4.
(обратно)1100
Там же, 207.
(обратно)1101
George Orwell, The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume 2: My Country Right or Left, 1940–1943, ed. Sonia Orwell and Ian Angus (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 30. Далее: Orwell, CEJL, vol. 2.
(обратно)1102
Rodden, George Orwell, 6.
(обратно)1103
Отношения между Оруэллом и Apple позволяют в новом свете увидеть историю XX и XXI вв. Поклонники Оруэлла, возможно, надеются, что название компании имеет какую-то связь с решающим моментом в «Скотном дворе», когда свиньи решили присвоить яблоки, однако в действительности оно намекает одновременно на яблоко познания, съеденное Евой, и звукозаписывающую компанию, созданную «Битлз». (Steve Rivkin, ”How Did Apple Computer Get Its Brand Name?“ Branding Strategy Insider, 17 November 2001, доступно онлайн.) Забавно, что 31 год спустя Ноэль Галлахер из британской рок-группы «Оазис», раздраженный тем, что Apple Computer заправляет потоковой передачей музыки, обвинил компанию в том, что «творится какое-то дерьмо в духе Оруэлла». (Colin Joyce, ”Noel Gallagher Thinks Apple Music Is ‘Some George Orwell S – t,’“ Spin, 4 August 2015, доступно онлайн.) Последний занятный поворот: на месте, где стоял старый отель «Колон», штаб-квартира Коммунистической партии в Барселоне в 1937 г., когда там сражался Оруэлл, заметивший пулемет за средней «О» в вывеске, был построен крупнейший розничный аутлет Apple. Это не столько магазин, сколько изящный греческий храм современного бога Информации. Его горизонтальные элементы покрыты сплошным гладким камнем, а вертикальные – окна, внутренние стены, лестницы – из толстого стекла, что создает по-оруэлловски чистый образ. (”Grand Tour of the Apple Retail Palaces of Europe,“ Fortune, 28 April 2014, доступно онлайн.) Где-то в Барселоне теперь имеется новый отель «Колон».
(обратно)1104
Wadhams, Remembering Orwell, 106.
(обратно)1105
Кристофер Хитченс на с. 156 Why Orwell Matters утверждает, что список был обнародован в написанной Бернардом Криком биографии Оруэлла, изданной в 1980 г. Однако это натяжка, поскольку лишь одно предложение в книге Крика, на с. 556, туманно намекает на этот список подозреваемых в записной книжке Оруэлла.
(обратно)1106
Timothy Garton Ash, ”Orwell’s List,“ New York Review of Books, 25 September 2003, доступно онлайн.
(обратно)1107
. ”Orwell’s Century,“ transcript of Think Tank with Ben Wattenberg, first aired on PBS, April 25, 2002.
(обратно)1108
William Giraldi, ”Orwell: Sage of the Century,“ New Republic, 11 August 2013, доступно онлайн. В этой статье также приводятся слова Хитченса о том, что Оруэллу принадлежит XX в.
(обратно)1109
Harold Bloom, ed., George Orwell: Modern Critical Views (New York: Chelsea House, 1987), vii.
(обратно)1110
Irving Howe, Politics and the Novel (Chicago: Ivan R. Dee, 2002), 251.
(обратно)1111
Gabrielle Pickard, ”Police Surveillance of Your Life Is Booming Thanks to Technology,“ Top Secret Writers (blog), 8 July 2015, доступно онлайн.
(обратно)1112
Charles Paul Freund, ”Orwell’s 1984 Still Matters, Though Not in the Way You Might Think,“ Reason.com, 15 January 2015, доступно онлайн.
(обратно)1113
. ”What Books Caught Russia’s Imagination in 2015?“ Russia Beyond the Headlines, 25 December 2015, доступно онлайн.
(обратно)1114
Oliver Smith, ”Don’t Pack George Orwell, Visitors to Thailand Told,“ Daily Telegraph, 6 August 2014, доступно онлайн.
(обратно)1115
Emma Larkin, Finding George Orwell in Burma (New York: Penguin, 2006), 3.
(обратно)1116
Michael Rank, ”Orwell and China, 1984 in Chinese,“ 2 January 1014, Ibisbill’s blog, доступно онлайн.
(обратно)1117
. ”How Orwell’s ‘Animal Farm’ Led a Radical Muslim to Moderation,“ interview on Fresh Air, NPR.org, 15 January 2015, доступно онлайн.
(обратно)1118
David Blair, ”Mugabe Regime Squeals at Animal Farm Success,“ Daily Telegraph, 15 July 2001, доступно онлайн.
(обратно)1119
Pamela Kalkman, ”The Art of Resistance in Cuba,“ Open Democracy, 17 September 2015, доступно онлайн.
(обратно)1120
George Orwell, 1984 (New York: Signet, 1981), 30.
(обратно)1121
George Orwell, 1984, in George Orwell omnibus (London: Secker & Warburg, 1976), 856.
(обратно)1122
Dan DeLuce and Paul McLeary, ”Obama’s Most Dangerous Drone Tactic Is Here to Stay,“ Foreign Policy, 5 April 2016, доступно онлайн.
(обратно)1123
Rodden and Rossi, Cambridge Introduction to George Orwell, 107.
(обратно)1124
Orwell, 1984 (Secker & Warburg), 895.
(обратно)1125
В рассылавшихся на русском языке сообщениях значилось: «Уважаемый абонент, вы зарегистрированы как участник массовых беспорядков» (см., напр., -rassylka-uchastnikam-massovyx-besporyadkov-mobilnye-operatory-otricayut-svoyu-prichastnost/). В английском языке общепринятым эквивалентом вежливого обращения «уважаемый» является dear – дорогой. – Прим. пер.
(обратно)1126
. ”Maybe the Most Orwellian Text Message Ever Sent,“ Motherboard, 21 January 2014.
(обратно)1127
Orwell, Orwell and Politics, 207.
(обратно)1128
George Orwell, The Road to Wigan Pier (New York: Harvest, 1958), 206.
(обратно)1129
Orwell, CEJL, vol. 4, 49.
(обратно)1130
Bret Stephens, ”The Orwellian Obama Presidency,“ Wall Street Journal, 23 March 2015, доступно онлайн.
(обратно)1131
Alec Woodward, ”Republicans Follow Orwellian Agenda,“ Emory Wheel, 13 April 2015.
(обратно)1132
. ”David Bowie’s 100 Chart-Topper Books,“ London Evening Standard, 2 October 2013, доступно онлайн.
(обратно)1133
Laurie Whitwell, ”Gary Rowett Reads Orwell, Has Banned Mobiles… And Rescued Birmingham City After 8–0 Drubbing,“ Daily Mail, 15 January 2015.
(обратно)1134
Meaghan Baxter, ”Town Heroes Look to George Orwell on Latest Album,“ Vue Weekly, 12 November 2015. Режиссер Пол Гринграсс, известный, прежде всего, игровыми фильмами, объявил в 2014 г. о планах сделать новую киноверсию «1984»: ”Paul Greengrass to Direct George Orwell’s 1984,“ BBC News, 20 November 2014. Театральный мир открыл для себя «1984», в Лондоне, Лос-Анджелесе и повсюду в мире было создано множество постановок. ”1984 Announces Return to the West End for a 12 Week Run,“ TNT UK, 29 April 2015, доступно онлайн; Stephen Rohde, ”Big Brother is Watching You,“ Los Angeles Review of Books, 4 January 2016. В английском Лидсе приобретающая авторитет балетная труппа поставила танец на сюжет «1984». Annette McIntyre, ”Exclusive Behind the Scenes Access Offered to Northern Ballet’s 1984,“ Daily Echo, 9 August 2015, доступно онлайн. В 2015 г. американский драматург Джо Саттон представил пьесу «Оруэлл в Америке», в которой фантазировал о том, как Оруэлл предпринял турне по США, рекламируя «Скотный двор». Meg Brazill, ”Theater Review: Orwell in America,“ Seven Days (Burlington, Vt., newspaper), 18 March 2015. Вышел роман «Сжечь дом Джорджа Оруэлла» о человеке, воспроизводящем жизнь писателя и переселяющемся на шотландский остров Джура. Руководитель Facebook Марк Цукерберг, ведущий книжного клуба, созданного им для участников соцсети «Фейсбук», выбрал в качестве сиквела «1984» роман «Месть Оруэлла» Питера Хубера. Richard Feloni, ”Why Mark Zuckerberg Is Reading ‘Orwell’s Revenge,’ an Unofficial Sequel to ‘1984,’“ BusinessInsider, 30 April 2015. Оруэллу, вероятно, было бы очень приятно, что самым большим пабом в Британии XXI в., вмещающим около 1700 посетителей, является манчестерский «Луна под водой», названный по его второстепенному эссе 1943 г. о признаках идеальной пивной. Об оруэлловском пабе см.: ”The Moon Under Water,“ at the TheOrwellPrize.co.uk
(обратно)1135
Katia Savchuk, ”Apple’s Core: Dissecting the Company’s New Corporate Headquarters,“ Forbes, 4 November 2015.
(обратно)1136
Наблюдением о сходстве здания Apple с «Паноптиконом» Бентама я обязан Ричарду Уибу, эксперту по законам о коммуникации из Сан-Франциско. Личное общение.
(обратно)1137
Andrew Couts, ”‘Privacy Is Theft’ in the Heavy- Handed Social Media Dystopia of ‘The Circle,’“ Digital Trends, 19 November 2013.
(обратно)1138
Luke Seaber, ”Method Research: George Orwell Really Did Have a Stint in Jail as a Drunk Fish Porter,“ Science 2.0, 6 December 2014, доступно онлайн.
(обратно)1139
No author, ”George Orwell’s Time in Hertfordshire as a ‘Pretty Useless’ Shopkeeper,“ Hertfordshire Mercury, 31 January 2015, доступно онлайн.
(обратно)1140
Robert Butler, ”Orwell’s World,“ The Economist: More Intelligent Life, January/February 2015, доступно онлайн.
(обратно)1141
Ta-Nehisi Coates, ”Letter to My Son,“ Atlantic, September 2015, 84.
(обратно)1142
John Lukacs, Five Days in London: May 1940 (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1999), 2.
(обратно)1143
Аллюзия на Геттисбергскую речь А. Линкольна, ставшую важным элементом американского национального самосознания. – Прим. пер.
(обратно)1144
Paul Johnson, Churchill (New York: Penguin, 2009), 166.
(обратно)1145
Этот абзац основан на переписке с Карин Чиноуэт по электронной почте.
(обратно)1146
Taylor Branch, Parting the Waters: America in the King Years, 1954–1963 (New York: Simon & Schuster, 1989), 54, 173, 332, 402, 486.
(обратно)1147
Jeffrey Aaron Snyder, ”Fifty Years Later: Letter from Birmingham Jail,“ New Republic, 19 April 2013; дополнительные подробности: Branch, Parting the Waters, 737.
(обратно)1148
Martin Luther King Jr., ”Letter from Birmingham City Jail,“ from Martin Luther King Jr. Research and Education Institute, Stanford University, доступно онлайн.
(обратно)1149
Здесь и далее: Milan Kundera, The Book of Laughter and Forgetting (New York: HarperPerennial, 1999), 10–11, 218.
(обратно)1150
Этот абзац во многом основан на моих разговорах с писателем Тимоти Ноа.
(обратно)
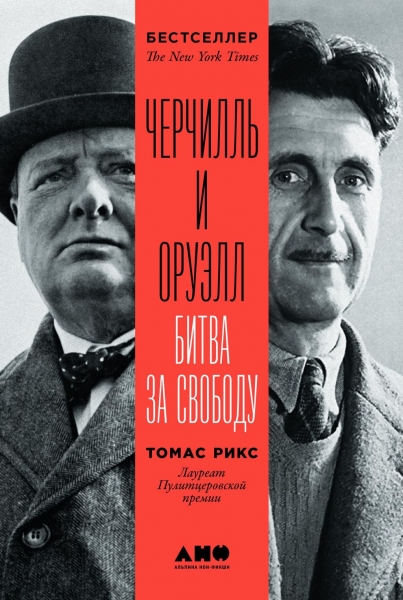


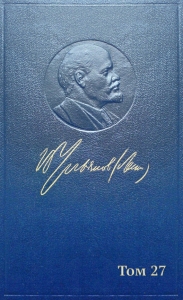
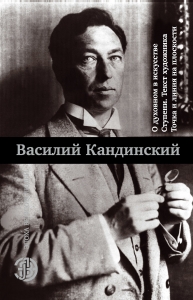
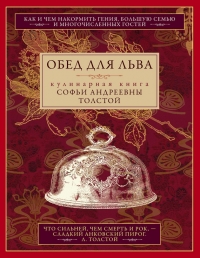
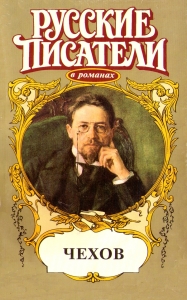
Комментарии к книге «Черчилль и Оруэлл», Томас Рикс
Всего 0 комментариев