Георгий Шонин Самые первые
Иногда нас спрашивают: зачем нужна такая напряженная работа? Зачем мы работаем так, зная, что, в общем-то, работаем на износ? Но разве люди, перед которыми поставлена важная задача, большая цель, разве они будут думать о себе?.. Настоящий человек, настоящий патриот, комсомолец и коммунист никогда об этом не подумает. Главное — выполнить задание.
Эти слова Юрия Гагарина стали нашим девизом.
Да, для нас, космонавтов, нет ничего, что бы мы не отдали во славу и честь нашей Родины. Покорение космоса стало делом нашей жизни. И мы прекрасно понимаем, что каждый новый полет в космос — это борьба, жестокая борьба с Неизвестностью, и, чтобы победить в ней, нужно отдать всего себя без остатка, как это делал наш боевой друг Гагарин.
Жизнь Юрия, его имя — для каждого из нас пример беззаветного служения Отчизне. Он проложил нам дорогу в космос, и мы идем этой дорогой как посланцы всех людей, живущих на нашей прекрасной голубой планете.
В детстве мы все грезили алыми парусами бригантин… Но по-настоящему счастлив и благословен лишь тот, кто всю жизнь идет под этими парусами, независимо от того, над кораблем какой конструкции он поднял эти алые паруса.
И сегодня, когда мне сорок, я, как и в восемнадцать, вижу их, эти паруса надежды и романтики, наполненные ветром и зовущие меня вдаль.
Пятый океан… Там лежали первые маршруты моей бригантины. Она шла правильным курсом прежде всего потому, что моими жизненными ориентирами, моими маяками были и Валерий Чкалов, который нравился мне за неистовство в полетах, и воздушный романтик и философ Сент-Экзюпери, одинаково любивший и небо, и землю, и людей, живущих на ней, и Джимми Коллинз, американский летчик-испытатель, покоривший меня своим профессиональным мастерством, и который даже в тяжелейших ситуациях не расставался со своим мрачноватым юмором.
Но… когда мне было действительно тяжело и я готов был потерять веру в те принципы, по которым жил, я вспоминал не их. На помощь мне приходил худой парень в буденовке. Он страстно любил жизнь, и ради этой любви шел на лишения и невероятные трудности. Павка Корчагин!
Через юность и зрелость несем мы в своих сердцах этот светлый образ. Для нас он отождествляется с целым поколением первых комсомольцев. Они сражались с белогвардейцами, устанавливали Советскую власть, боролись с разрухой. Они были запевалами первых пятилеток, строили Магнитку и Комсомольск. В грозное для нашей Родины время тысячи корчагинцев надели солдатские шинели и встали на защиту своей Отчизны.
Сколько их, известных и неизвестных, легло на этом длинном и трудном пути!
Но огонь, который зажгли эти юноши и девушки в своих сердцах, не погас. Его подхватили другие и пронесли через годы восстановления народного хозяйства.
Он горит сегодня на величайшей комсомольско-молодежной стройке века — Байкало-Амурской магистрали, где воля и упорство людей делают невозможное. Там сейчас Павки Корчагины второй половины семидесятых годов! Они, как и он, строят железную дорогу. Дорогу в будущее.
Этот огонь служит и нам путеводной звездой на космических трассах.
Нет, не прошли те годы, «о которых слагают легенды». И в жизни всегда было, есть и будет место подвигу!
12 апреля 1961 года в 9 часов 07 минут по московскому времени на весь мир прозвучало простое русское слово «Поехали!». Его произнес, отправляясь в неизведанное, наш соотечественник — двадцатисемилетний летчик Юрий Алексеевич Гагарин. Произнес бодро и радостно, уверенный в благополучном завершении своей миссии.
Вековой мечтой землян был полет в космическое пространство. И вот человек вырвался за пределы Земли. Дорога в космос открыта!
С тех пор прошло пятнадцать лет. Пятнадцать лет… Много это или мало? Вроде бы сущий пустяк. Но если взглянуть и оценить достигнутые результаты, то покажется, что прошла жизнь целого поколения.
Проделан большой и сложный путь от первого одновиткового полета человека в космическое пространство до многомесячных полетов на орбитальных станциях, до полетов на другие небесные тела. Космос стал ареной международного сотрудничества. Все больше стран принимают участие в различных международных кооперациях по исследованию космического пространства. Первый совместный советско-американский космический полет по программе «Союз» — «Аполлон» показал, что экипажи различных стран успешно могут работать и выполнять сложные научные и технические эксперименты в космосе.
И если Юрий Гагарин, оценивая свершившееся сразу же после 12 апреля 1961 года, сказал, что, по его мнению, наступило «утро космической эры», то сейчас, видя, какая огромная научная, экспериментальная, народнохозяйственная работа проводится в космосе, мы с полным правом можем утверждать, что являемся свидетелями и участниками трудового космического дня, которому нет ни конца и ни края, как и самой вселенной.
И хотя мы всё дальше и дальше уходим от первых космических стартов, интерес к космосу вообще и к нашей профессии в частности не ослабевает. Поэтому и сейчас нам приходится участвовать в многочисленных встречах, читать лекции, рассказывать о себе, о своей работе, отвечать на огромное количество вопросов, простых и сложных, бесхитростных и порою очень неожиданных. Ведь задают их люди разных возрастов и убеждений, профессий и интересов.
Об этом красноречиво говорит и та бесчисленная почта, которая ежедневно приходит в наш Звездный городок. Десятки тысяч юношей и девушек пишут, что они в любой момент готовы приобщиться к нашему нелегкому делу, изъявляют страстное желание полететь в космос. Их искренние письма, полные еще не перебродившей романтики, и память, память о дорогих друзьях и заставили меня взяться за перо.
Я хочу рассказать о том, как создавался отряд космонавтов, и пусть вкратце, порою мельком, о том, кто же они — эти самые первые, — о их судьбе, радостях и печалях и о пути, который они прошли, готовясь к первым космическим стартам.
И если я порою буду излишне эмоционален или пристрастен, тому есть свое оправдание. Этот трудный путь я прошел и пережил вместе с ними, моими друзьями и соратниками, с космонавтами гагаринского набора.
* * *
Когда это было? С чего началось?
Я вспоминаю один из осенних дней теперь уже далекого 1959 года. Крайний Север. Синее, удивительно чистое небо. Ослепительное солнце. Безмолвные заснеженные сопки, как часовые в тулупах, застыли по краям заполярного аэродрома. Мороз градусов под двадцать. Метет небольшая поземка. Все, как вчера, как год, как десять и, может быть, как сотни лет назад.
По тропинке, проложенной среди колючих сугробов, от аэродромного домика к штабу части, ступая след в след, идем мы — небольшая группа молодых летчиков. Идем молча, углубившись в свои мысли и теряясь в догадках. Мы не знаем, зачем нас вызвал к себе командир.
В самом деле, зачем мы ему понадобились? Для вручения какой-либо награды? Брошенное кем-то шутливое предположение никто не поддержал. Оснований для этого ни у кого из нас не было. Летали мы, в общем-то, как и все, постепенно втягивались в суровые условия Севера. Особых заслуг не имели. Да и многие из нас только недавно перебрались сюда с Балтики (по этой причине и окрестили нас «балтийцами»). Случая отличиться как-то еще не представилось. Скорее не за наградой идем, а за нахлобучкой…
Сегодня понедельник. Припоминаем до деталей, до мелочей, как мы провели воскресенье, что делали, где и с кем были.
Утром лыжный кросс на десять километров. Хоть мы, «балтийцы», и не лыжные люди, а показали неплохое время. Потом… традиционный хоккей с мячом до изнеможения. Вечером ходили в Дом офицеров на танцы. Что же еще? Ах да! Кое-кто был приглашен на день рождения. Но к полуночи все вернулись в гостиницу. Так что и здесь вроде бы все в порядке.
У штаба встречаем нескольких летчиков из «братской части». Подхожу к одному из них, с лица которого даже в такой напряженный для нас момент не сходит добродушная улыбка. Это Юрий Гагарин.
— Жора, вас что, из проруби, что ли, вынули? — окидывает он взглядом наши унылые физиономии.
Оказалось, Юрий тоже вызван к командиру.
Подходим к двери кабинета. Небольшая заминка: «Кому шагать первому?» Поняв, что «храбреца» не будет, Юрий предлагает идти гуртом, и мы, следуя его совету, все входим в кабинет и бодро докладываем:
— Товарищ полковник! По вашему приказанию прибыли! — И называем свои фамилии.
Командир обводит нас взглядом:
— Да вы, собственно, мне и не нужны! Зайдите в соседнюю комнату, там с вами побеседуют приехавшие товарищи.
Ну, это уже совсем другое дело! Стрелка барометра нашего настроения резко поползла на «ясно». Все заулыбались, посыпались шутки, в коридоре сразу стало шумно. Такое уже бывало. Залетали к нам иногда корреспонденты военных газет, чтобы, порасспросив час, а то и два о житье-бытье, напечатать потом пять строк о том, что «молодые летчики Н-ской части успешно осваивают программу летной подготовки».
И снова всей группой вваливаемся в соседнюю комнату. Однако нас вежливо попросили выйти и входить по одному. Но такой прием уже не смог испортить нам настроения.
Дожидаюсь своей очереди. Вхожу. Предо мной за столом сидят два пожилых человека, оба подполковники-медики в морской форме. Это несколько озадачило. Зачем я понадобился врачам?
Мне предложили сесть. Стали задавать вопросы. Разговор пошел на обычные, если можно так сказать, избитые темы: как идет служба, как летаю, привык ли к Заполярью, чем занимаюсь в свободное время, что читаю и так далее. Поинтересовались, как справляюсь с партийными обязанностями (я в то время был секретарем парторганизации эскадрильи).
— Возможно, мы встретимся еще раз, и наша беседа будет более основательной, — сказали мне на прощание.
Выйдя из кабинета, я встретил вопросительные взгляды товарищей, но ответить что-либо толковое не смог и только развел руками.
Весть о том, что врачи интересуются в основном молодыми летчиками, быстро распространилась по городку, и неопределенность, которой заканчивалась каждая беседа, естественно, начала порождать различные кривотолки. Городок небольшой, ничего не спрячешь и не утаишь, каждый как на ладони.
Дня через два начался очередной тур бесед. Пригласили уже не всех, а только некоторых из первоначальной группы. Да и сами беседы носили более определенный характер. Меня подробно расспросили о летной подготовке, начиная с училища. Ответы слушали с большим вниманием, хотя, как я полагал, подполковникам все это было известно — ведь на столе перед ними лежала моя летная книжка. Я настороженно ожидал, когда наконец мне зададут тот вопрос, ради которого сюда приехали эти люди. И вот меня спросили, как бы я отнесся к предложению летать на более современных типах самолетов? Так вот в чем дело! В то время авиационные части стали переходить на новые, сверхзвуковые истребители и многие из нас завидовали счастливчикам, летавшим на них. С детских лет моим кумиром был Валерий Чкалов, и его девиз — летать быстрее, выше, дальше всех — стал для меня смыслом и целью жизни.
— Конечно, хочу! — отвечаю.
— Ну а если речь пойдет о принципиально новом типе летательного аппарата?
Я сразу же сник. Тогда создавалось много вертолетных частей, и, естественно, туда нужны были летчики. Такова уж судьба вертолета: в начале своего становления среди нашего брата он не пользовался особенной популярностью, и к этому воздушному «трудяге» пилоты относились с большой настороженностью и недоверием. Не та скорость, не те высоты… Стрекоза, да и только.
— Я летчик-истребитель, — говорю. — Я специально выбрал училище, где учат летать на реактивных, а не…
— Да нет! Вы не так поняли, — успокоили меня. — Речь идет о дальних полетах, о полетах на ракетах вокруг Земли.
Несмотря на то, что уже тогда в космическом пространстве находился не один спутник, полеты человека в космос все еще относились к области фантастики. Даже среди нашей летающей братии о них всерьез не говорили.
— Вокруг Земли?.. — с сомнением переспросил я и, тут же поняв, о чем речь, с поспешностью добавил: — Я согласен.
— Не чувствуется твердости.
— Как не чувствуется? — заторопился я. — Вокруг Земли готов лететь на чем угодно. Даже на ступе Бабы Яги и то бы рискнул попробовать. Но только чтобы ступа эта была сегодня, ну не сегодня, так завтра, долго не летать я не смогу. Я летчик.
— Об этом можете не беспокоиться. Полет человека в космос, несмотря на все ваши сомнения, не за горами. Но вам придется еще пройти очень серьезное медицинское обследование в Москве. Можете «споткнуться» на каком-либо испытании, и все ваши усилия окажутся напрасными. Не смущает вас такое положение?
Этот вопрос звучал предостерегающе. В нем чувствовалась вся серьезность нашего разговора. Он подводил итог. Он требовал от меня вдумчивости и отчета перед самим собой. Перед будущей работой.
— Я готов!
— Тогда ждите вызова в Москву. Желаем удачи!
Я шел к себе в гостиницу, пытаясь оценить все происшедшее со мной. Мои представления о космосе, о полетах на космических кораблях были почерпнуты из фантастической литературы. И вот эта фантастика становится вдруг явью, и мне, 24-летнему летчику Северного флота, предлагают принять в этом самое непосредственное участие! Да, здесь было от чего голове пойти кругом…
К вечеру узнал, что многие из тех, кто был на второй беседе, не получили приглашения на отборочную медкомиссию. Некоторые по разным личным соображениям отказались от предложения работать на новой технике, и нас осталось только шестеро.
* * *
Первыми в Москву уехали Юрий Гагарин и еще трое ребят. Мы с Володей Вязовкиным остались одни. Порой мы сомневались: вызовут ли, не забудут? А если и вызовут, то какой будет эта комиссия — строгой или не очень? Вопросов множество, а ответов нет. Одни домыслы, предположения.
Но вот из Москвы вернулся мой старый (еще с училища) друг Алик Разумов. «Забраковали. Не прошел. Допуск к полетам на самолетах без ограничений, а вот „туда“ не подхожу». Он привез с собой первую информацию о программе медицинского отбора и о его первых результатах. Рассказ Алика заставил насторожиться.
Через некоторое время прилетели еще двое. По их унылым физиономиям можно было догадаться, что и они вернулись ни с чем. Мы с Володей уже стали подумывать: может, нам и ехать не стоит? Но тут, наконец, возвращается Юрий. И по широкой улыбке, которой он еще издали встретил меня, я понял: прошел! Мы договорились вечером встретиться, и Юрий все по порядку, не торопясь, расскажет.
Несмотря на то, что я уже два года прослужил на Севере и давно знал Юрия, домой к нему попал впервые. Наша холостяцкая община жила единой семьей, и визиты к «женатикам» почему-то не пользовались популярностью. Там дети, нельзя громко разговаривать, курить… Поэтому для «мужских разговоров» мы обычно собирались в гостинице — холостяцкий быт попроще. Но теперь случай особенный.
Я вошел, осмотрелся. Обстановка более чем скромная и ненамного отличалась от той, которой располагали мы, холостяки. Юрий представил меня своей жене Валентине — застенчивой молодой женщине.
— А это мое потомство, — указал он на годовалую девчушку, стоявшую на диване и для устойчивости прижавшуюся к его спинке.
Юра подошел к дочке, взял ее за ступни ножек и потянул на себя. Девочка плюхнулась и залилась громким смехом.
— Знакомьтесь, Елена Гагарина! — торжественно произнес радостный отец.
Мне не терпелось начать разговор, а он все возился с дочкой. Я ждал. Но вот Валя пригласила нас к столу. Во время ужина Юрий начал свое необычное и очень долгожданное для меня и для Вали повествование о том, что ему пришлось узнать, испытать и пережить в Москве.
После рассказа о каком-либо сложном исследовании, видя, как «скисает» мое лицо, он подбадривал:
— Да ты не робей, Жора! Это только на первый взгляд все кажется страшным и сложным. Не боги горшки обжигают. Ты пройдешь, я уверен!
Говорил Юра подробно, не упуская деталей. Время от времени прерывался, брал Леночку на руки, подкидывал ее в воздух, делал ей «козу», от чего оба они заразительно смеялись. Валя с улыбкой наблюдала за ними. По всему чувствовалось, что это привычно, они любят такие минуты и дорожат ими. Поэтому я сидел молча, боясь чем-нибудь напомнить о себе. На душе у меня было как-то по-особенному тепло и радостно. Что-то необычное и новое открылось мне. И впервые в жизни моя вера в надежность и рациональность холостяцкого быта была поколеблена.
Ушел я от Гагариных за полночь. Медленно брел к себе в гостиницу по уснувшей, занесенной снегом улице. Я вдруг почувствовал себя спокойнее, так как уже знал, что ждет меня в Москве, в госпитале. И думал уже о результате, и о результате положительном. Мне очень хотелось быть среди тех ребят, о которых рассказывал сегодня Юрий и к которым отныне он принадлежал сам.
Меня вызвали в Москву только к концу ноября. Я мигом собрался, оформил документы, наскоро попрощался с друзьями и вот уже сижу в вагоне поезда. Вокруг обычное дорожное возбуждение: кто-то занял не свое место, кто-то забыл чемодан в буфете вокзала; с преувеличенной радостью обнимаются встретившиеся знакомые, капризничает и отказывается кушать «за бабушку» ребенок.
Мне много пришлось поездить, и я люблю наблюдать за вагонной суетой. А вот сейчас не до нее. Подсаживаюсь к окну. За окном суровое Заполярье: скованные льдом озера, голые бело-серые сопки, пустынные низины, чахлая растительность, которая едва пробивается через слой снега, лохмы туч стелются над самой землей. Знакомая, тысячи раз виденная и с земли, и с неба картина. Смотреть на это зимнее однообразие не хочется, и я достаю из портфеля старенький томик военной лирики Константина Симонова. Я люблю его стихи еще со спецшколы. Они мне настолько близки и понятны, что порой кажется, будто я вместе с поэтом прошагал долгие годы войны, был с ним и «под похожей на Мадрид Одессой», и «в Констанце под черной румынской водой, под Вязьмой на синем ночном полустанке, в Мурманске под белой Полярной звездой». Наугад открываю томик:
Полнеба окинув усталым взглядом, Ты молча ложишься лицом в траву; Тут все наизусть, тут давно не надо Смотреть в надоевшую синеву.И вновь передо мной встает образ симоновского механика — самого преданного и верного друга пилотов, парня в промасленном комбинезоне, крестом стоящего в степи и чутко слушающего небо.
Но сегодня не читается, и, закинув руки за голову, ложусь на полку. Мерно покачивается вагон, вздрагивая на стыках, медленно, словно из тумана, одно за другим наплывают воспоминания. В предчувствии скорых и серьезных изменений в судьбе передо мной проходит вся моя жизнь.
* * *
Детство… Было ли оно у меня?
Родился я в августе 1935 года в городе Ровеньки Ворошиловградской области и прожил там с родителями около четырех лет. Вспоминается старик-портной (я часами мог простаивать у его швейной машинки), его жена, добрая и тихая старушка, всегда чем-нибудь меня угощала. У них снимал квартиру мой отец, служивший в фельдсвязи.
Давно это было. Но память сохранила все.
Однажды, когда мама занималась стиркой, мы с братом Олегом, который только начал ходить, вертелись возле чана с водой. Я не уследил, каким образом Олег попал в этот чан, и, увидев подошвы его туфелек над водой, выскочил на крыльцо и испуганно закричал:
— Мама, мама! Там Алик… — а дальше слов не хватило.
Мама вбежала в комнату, вытащила брата и послала меня за бабушкой. Когда я ворвался к ней, та по обыкновению сунула мне большой кусок пирога. И я, забыв, что мама бьется над посиневшим братом, стал есть пирог и смотреть на швейную машинку. Очнулся только тогда, когда вбежала мама с Олегом на руках и, отвесив мне первую в моей жизни оплеуху, захлопотала с бабушкой над братом.
Помню радость от подарков, наши семейные праздники, румяный и удивительно вкусный пирог на день рождения и поздравления взрослых.
Но вот наступило тяжелое время. Отцу пришлось оставить службу в НКВД и уехать на Север строить Кольскую ГЭС. Мог ли он тогда представить себе, что спустя двадцать лет (каких лет!) его сын будет летать в этом небе и что эта Кольская ГЭС да пожелтевшая его фотография будут единственной для меня памятью о нем.
Изредка отец навещал нас у бабушки в Балте, куда мы переехали из Ровеньков. Я очень любил, когда он приезжал. Утром все большое семейство во главе с бабушкой уходило на фабрику, и мы с отцом оставались одни. В доме было тихо, мерно тикали ходики, и мы, присев на корточки и прижавшись спинами к теплой печи, вели длинные мужские беседы. А с какой радостью я выполнял его «важные поручения» — бегал в лавку за спичками и папиросами.
Семья собиралась лишь за обедом и по вечерам. Взрослые подолгу тревожно разговаривали, все чаще упоминая слово «война». Настал день, когда она коснулась и нашей семьи. В доме остались одни женщины. Мужчины ушли на фронт.
Лишь спустя четыре года домой вернулся только один — младший мамин брат, дядя Миша, раненный в ногу разрывной пулей в боях на Балатоне.
Когда фронт стал приближаться к нашему городку, мы засобирались в дорогу на восток, вслед за беженцами, которые день и ночь тянулись через город. Транспорта никакого не было, и все шли пешком. Бабушка с Олегом на руках, мама с родившейся недавно сестрой Жанной, младшая сестра мамы — Таня — и я. Над нами часто появлялись фашистские самолеты. Они на бреющем полете проносились над толпами беженцев, едва не задевая винтами людей, сея среди них панику и ужас.
Мне навсегда запомнилось: воющий мотор над головой, бьющие по щекам стебли кукурузы, желание превратиться в песчинку, в букашку, спрятаться, забиться в какую-нибудь щель, чтобы не видеть, не слышать вражескую ревущую машину, кричащих, обезумевших людей. Это мое воспоминание из детства заслонило все остальное, что могли воспринять мозг и сознание шестилетнего мальчишки.
Далеко уйти не удалось. Война догнала нас.
Путь на восток оказался закрыт. Оставалось одно — возвращаться домой. Тогда мы и не думали, что это надолго, на три года оккупации. Трудное было время. Чем безнадежнее для оккупантов складывались дела на фронте, тем хуже они относились к местному населению. То начинались облавы на молодых парней и девушек, чтобы отправить их в Германию, то прочесывались улицы и дома в поисках партизан, то сгоняли и уводили куда-то евреев. Расстрелы, виселицы… В те тревожные дни бабушка прятала в доме еврейскую семью, своих друзей по фабрике.
Не пересказать всего, что было в те годы, месяцы, дни.
Они тянулись мучительно долго. Но за ними шла надежда. Большая и светлая. Волна войны уже покатилась назад.
Когда фронт вплотную подошел к городу, стало совсем туго. Все улицы и сады запрудили немецкие бронемашины, танки, самоходные орудия. Непригодную военную технику тут же сжигали, вызывая пожары в городе. Жителей выгнали из домов, и они ютились в сараях и погребах, боясь хоть чем-то выказать свое существование. Но слух, что наши уже на подступах к городу, просачивался во все щели, подвалы и сараи. Скоро этот слух получил реальное подтверждение: по орудийной канонаде можно было догадаться, что за городом идет тяжелый бой.
Наступило долгожданное апрельское утро. Над городом повисла какая-то тягостная тишина. Не было слышно привычного лая собак, скрипа подвод, топота кованых сапог — еще ночью куда-то исчезли солдаты, жившие в нашей хате. Городок притаился и замер. В доме все прильнули к окнам. И вдруг видим, как по садам бесшумно, небольшими группками перебегают вооруженные люди. Еще не различая ни лиц, ни формы, мы сердцем поняли: «Наши!» И высыпали из домов навстречу бойцам. Бабушка и мама повисли на плечах забежавшего в наш двор усатого старшины. Они плакали от счастья. Глядя на них, плакали и мы, дети. Растроганный старшина снял свой вещевой мешок, вытащил несколько кусков сахару и отдал нам.
Жизнь стала налаживаться. Открылись школы, и мы, детвора, отправились на занятия, хотя учиться оставалось всего один месяц. Но зато осенью меня сразу определили во второй класс, так как читать и писать я уже умел.
Нелегкими были послевоенные годы. Разруха, нехватка рабочих рук, неурожай. Самое трудное время — весна: ни есть, ни сеять почти нечего. И только когда начинали зеленеть бабушкины грядки, становилось немного легче.
На заводах пустовали рабочие места, простаивали станки. На смену отцам пришли сыновья, совсем еще мальчишки, неумелые, хрупкие, плохо одетые. Чтобы их обучить, открыли ремесленные училища, куда принимали после четвертого класса. Многим пришлось оставить школу. Уходили, чтобы не быть дома лишним ртом. Я продержался в школе до окончания семилетки. И потом мы со школьным другом Степаном Юровым отправились попытать счастья в Одесскую школу ВВС.
Солнечным июльским утром я стоял на тихом перекрестке Молдаванки. Так называется один из известнейших районов Одессы. В руках у меня сколоченный дядей Мишей фанерный чемоданчик и одолженный у дальнего родственника старенький пиджачок, во внутреннем кармане которого комсомольский билет, свидетельство о рождении, табель успеваемости за 7-й класс и деньги на обратную дорогу. Напротив большое серое здание. Левое его крыло разрушено прямым попаданием бомбы. Пять лет прошло после войны, а красавица Одесса еще не залечила все свои раны. На воротах небольшая табличка: «Одесская спецшкола ВВС».
Через проходную, мимо очень важного часового, который даже в высокой фуражке с «крабом» казался вдвое короче своей винтовки, прохожу в просторный двор. Справа, в тени акаций, стоят два самолета: Ла-5 и «горбатый» Ил-2. Несмотря на ранний час, урок «летного мастерства» в полном разгаре. В кабинах самолетов с важным видом сидят «ветераны». А на плоскостях, вдоль фюзеляжей расположились такие же, как и я, худые, лопоухие салажата. Занятие прерывается сигналом трубы. Начинается проза жизни — нас приглашают на экзамены. Конкурса особого нет, так как абитуриенты в основном ребята, потерявшие отцов, воспитанники войсковых частей и детдомов, выходцы из многодетных семей.
Все решала медицинская комиссия. У себя дома, в Балте, я прошел ее без замечаний. Но здесь одесских гарнизонных врачей я поставил в затруднительное положение. Председатель, полный седой подполковник, долго молча рассматривал то мою медицинскую карточку, то меня самого. Затем сказал:
— Да, богатырь… Рост — сто сорок девять, вес — тридцать девять. Ты бы, брат, ехал домой да подкормился годок. А потом мы тебя примем, так как к здоровью твоему у нас претензий нет.
У меня на глаза навернулись слезы. Я не мог сказать что-либо в свою защиту. Воцарилась неловкая тишина.
— Ему нельзя ехать домой, — услышал я приятный женский голос. — Дома у него брат и сестра. Младшие.
И все вдруг заговорили:
— Конечно, нужно оставить! Вес — дело наживное, ему ведь и пятнадцати еще нет.
Подполковник сдался:
— Ладно, иди! А то развел здесь сырость. Летчик!
Мне никогда больше не приходилось встречаться с той женщиной. Но я всегда с благодарностью вспоминаю ее ласковое лицо с большими серыми глазами, окаймленное гладко зачесанными назад русыми волосами. Промолчи она в тот момент — и неизвестно, как бы дальше сложилась моя судьба.
На следующий день я уже примерял авиационную форму.
* * *
Это были трудные и вместе с тем прекрасные годы. Красивый портовый город, приветливые люди, богатые и своеобразные традиции, плюс пятнадцать лет от роду — все вместе делало жизнь счастливой и полной, несмотря на то, что ремешок был затянут на самую последнюю дырочку. Всего-то и горя, если схватишь пару по какому-нибудь предмету. За это незамедлительно последует нахлобучка от командира роты Резницкого. Даже прозвище «вентиляторы», которым окрестили будущих авиаторов сверстники из одесских мореходок, не омрачало нам жизнь.
В спецшколе среди преподавателей было много участников войны. К примеру, старший лейтенант Чертков, в прошлом летчик-истребитель, а ныне замполит нашей роты. Рассказывали, что в одном из воздушных боев он сбил знаменитого немецкого аса. Правда, сам получил осколок в легкое. Сбитый фашист отдал ему золотые именные часы, которыми был награжден за победы в небе Европы. Были и другие герои. Лишенные возможности снова взять в руки штурвал самолета, они в нас, мальчишках, своих питомцах, видели продолжателей любимого дела и прививали нам любовь к авиации, к избранной нами профессии.
В 1951 году одесская спецшкола была передана в военно-морское ведомство, и в связи с этим нам пришлось сменить «спецовскую» форму на морскую «робу». С трудом привыкали мы к гюйсам, форменкам и бушлатам. А привыкнув, стали носить ее с гордостью и даже с шиком. Форма понравилась, была в ней и строгость, и мужественность, и красота — все то, что так привлекает мальчишек. Короче говоря, мы готовились стать морскими летчиками и гордились этим. Признаюсь, не думал и не гадал я тогда, что через десять лет мне придется опять надеть зеленую, с голубыми кантами авиационную форму, а ставшую уже родной морскую повесить в шкаф и хранить как реликвию.
В августе 1952 года по улицам Льва Толстого, Дерибасовской, Пушкинской на вокзал прошагала последняя наша колонна. Одесская спецшкола ВВС прекратила свое существование. Нас отправили в город Ейск. Там располагалось одно из старейших в стране авиационное училище, созданное в 1918 году по декрету В. И. Ленина.
На второй день после нашего приезда произошел трагический случай. Прошедшая война еще раз больно напомнила о себе. На пляже, где мы отдыхали, взорвалась морская мина, и десять воспитанников погибло, а пятьдесят получили различные ранения. Среди погибших был и мой близкий друг Саша Зинченко, спокойный, рассудительный паренек из маленького украинского городка Прилуки.
Здесь, в стенах легендарного училища, под аккомпанемент авиационных моторов и гул турбин мы и окончили десять классов.
После сдачи экзаменов меня в числе тех, кто прошел медицинскую комиссию и был признан годным к летной службе, направили в так называемую «первоначалку», ВМАУ (военно-морское авиационное училище первоначального обучения).
Всю осень и зиму мы с увлечением штурмовали теорию. И с нетерпением ждали весны.
Наконец пришла она, первая летная весна. Сдаем целую кучу экзаменов и ждем отправления на полевой аэродром. Мечта становится явью.
В первый летный день мы поднялись рано. Настроение такое, будто был большой и радостный праздник. Первый полет, первая проба крыла. Какой неожиданный доселе мир откроется там, в прозрачной голубизне. И пусть за спиной сидит инструктор, пусть пока не ты, а он выполняет почти все элементы полета, а твоя рука лишь «мягко» держит управление, все равно уже чувствуешь себя крылатым. Ты в воздухе, ты летишь!
Но разве все это может идти в сравнение с тем днем, когда тебе впервые в жизни разрешен самостоятельный вылет. Самостоятельный! Занимаю место в кабине самолета, по-хозяйски осматриваюсь и запускаю мотор. Стараюсь все делать неторопливо и основательно. Но глуховатое инструкторское покашливание и его «спокойнее, спокойнее» говорят о том, что я все же тороплюсь и волнуюсь. Последнее напутствие, я закрываю фонарь и выруливаю на исполнительный старт.
«Добро» в наушниках — это и разрешение на взлет, и на мой первый самостоятельный шаг в авиации.
В воздухе, где я остался один на один с небом, мне показалось, что сердце стучит громче, чем поет свою монотонную песню мотор. Нет, о полете простыми словами не расскажешь! Я ликовал. Время прошло одним мгновением. Сделал две посадки, зарулил, с сожалением вылез из кабины самолета. И хотя сам никогда не курил, достаю из кармана комбинезона купленные заранее две пачки «Казбека» и угощаю всех находящихся в «квадрате». Такова традиция. Ребята поздравляют, хлопают по плечу. С благодарностью жму руку инструктора, старшего лейтенанта Полякова.
Большой, угловатый, с застенчивой улыбкой, всегда уравновешенный, Поляков терпеливо «внушал нам законы неба». Это он научил меня летать. И вообще я благодарен судьбе: мне на инструкторов везло! Начиная с Полякова все мои наставники были корректны, выдержанны. Никто из них не отчислил из своей группы ни одного курсанта по так называемой «летной неуспеваемости». И я всегда с благодарностью вспоминаю и капитана Дмитриева, открывшего мне небо на Як-11, и старшего лейтенанта Шульгу, выпустившего меня из училища на реактивном МиГ-15.
А ведь были инструкторы, уставшие и нервные от работы, требовавшей от них немалых моральных и физических сил. Самолет не автомобиль, а небо не шоссе. Здесь нельзя подрулить к обочине, остановиться, прикинуть, не торопясь, что и как. Здесь каждая ошибка может стоить жизни и курсанту, и инструктору.
Итак, совершен самый важный в жизни полет! И хотя впереди еще тысячи других, простых и сложных, удачных и опасных, предстоит еще много труда, пота, прежде чем ты с полным правом назовешь себя летчиком. Однако уже и сейчас чувствуешь свою причастность к крылатому племени людей.
Осенью 1954 года мы сдали госэкзамены. Мне была вручена грамота ЦК ВЛКСМ — моя первая награда за успехи в летной подготовке. Позже, через пятнадцать лет, я получу еще одну такую же грамоту. Теперь за участие в космическом полете. Символично, что мои первые шаги и в авиации, и в космонавтике были отмечены комсомолом.
Экзамены по летной подготовке подвели итог долгим и жарким спорам, положили конец всем колебаниям и дали однозначный ответ, кому кем быть: истребителем или пилотом тяжелых машин. В зависимости от личных наклонностей и летной подготовки часть курсантов должна была продолжить учебу в Ейском авиационном училище, а часть — в другом. В моем предписании значилось: «После отпуска прибыть в Военно-морское ордена Ленина авиационное училище имени Сталина».
Но, прежде чем разъехаться по своим училищам, мы должны были пройти морскую практику. Для этого нас отправили на месяц в Кронштадт и разместили группами на трех кораблях: линкоре «Октябрьская революция», крейсере «Макаров» и паруснике-бриге «Седов».
С интересом присматривались и приспосабливались мы к морскому укладу жизни. Для нас все это было ново и необычно, начиная с команды «Подъем!» («Команде вставать!»), подвесных коек и страстью моряков к чистоте. Поначалу нам казалось, будто они только и делают, что или изучают боевую технику, или драят свой корабль. Мы тоже получили свое место и в БЧ (БЧ — боевая часть. Так называются службы на корабле), и свой участок палубы или кубрика, который во время так называемых «малых приборок» (три раза в день: перед завтраком, обедом и ужином) и «больших приборок» (в субботу с утра до обеда) должны были скрести и мыть, невзирая на их стерильную чистоту.
Уже после первых приборок мы поняли, что фигура старпома с накрахмаленным носовым платком, знакомая нам по книгам, далеко не мифическая, а вполне реальная личность. На «Седове» им был коренастый, молчаливый, рыжеватый старший лейтенант. Обычно под самый конец большой приборки он появлялся у нас в кубрике, доставал этот самый приводивший нас в трепет белый платок, просовывал его в какую-нибудь щель за рундуком или трубопроводом. Затем долго и брезгливо рассматривал его маленькими неподвижными глазками, поворачивался и уходил, не проронив ни слова. Это означало, что мы должны начать все сначала.
Привыкшие к простору аэродрома, мы никак не могли приспособиться к быстрому передвижению по узким отсекам и крутым трапам, к обилию металлических частей, выступающих в самых неожиданных местах на нашем пути. Уже на второй день «службы» на корабле на моей голове, как казалось, не было живого места и образовалась одна сплошная шишка.
Моряки любят подначки. Многим из нас приходилось и макароны продувать от пыли, и точить напильником якорь, и искать в соли вредителей.
Но все это детали. Главное — мы ознакомились со средствами Военно-Морского Флота, с которым придется взаимодействовать в будущей нашей службе в авиации ВМФ, приобщились к суровой жизни тех, кто управляет и обслуживает все эти крейсеры, эсминцы, подлодки и катера, находясь в постоянной боевой готовности.
Мы расставались с Балтикой. Где-то в глубине души я надеялся, что вернусь еще сюда, в этот край, который дал мне крылья, где я научился летать.
Уже потом мне пришлось побывать в разных местах, летать с разных аэродромов. Все это были аэродромы, закованные в бетон, насыщенные различной техникой и наполненные воем и грохотом реактивных двигателей. Но почему-то и сейчас с какой-то щемящей грустью вспоминаю тот первый для меня аэродром на берегу Финского залива. Покрытый густой, сочной травой, он скорее напоминал луг или большую лесную поляну, на краю которой уютно разместились всего один бензо- и один маслозаправщик, да пара-тройка самолетов, не успевших подняться в воздух. Тихие рассветы с клочками тумана над болотами и речушками, с медленно встающим из-за леса огромным солнцем и с хриплым криком петуха из далекой деревни. Чистое, словно только что выполосканное небо. Милая, бесконечная трель невидимого жаворонка…
И вот я снова в стенах ставшего мне уже родным училища. Привычный ритм жизни: подъем, зарядка, занятия, самоподготовка. Так каждый день. Много дней. Но в их череде не замечаешь, как летят недели, месяцы. И уже окончен теоретический курс. Сданы экзамены. Нас отправляют на полевой аэродром.
Як-11. Мне как-то сразу понравился этот лобастый самолет. Пилотируя его, я вскоре почувствовал себя чуть ли не асом. Машина умная и вместе с тем достаточно строгая. Делаешь все как полагается, и она чутко реагирует на каждое твое движение. Послушна, устойчива. Но если начинаешь «мудрить»… Словом, не любит Як, когда с ним фамильярничают.
Время летит. Весну с ее прохладой и земляными бурями сменило жаркое лето. Теперь мы изнываем от кубанского зноя. Комбинезоны, надетые прямо на голое тело, пропитаны солью от пота. Остряки по этому поводу шутят: «Если ты вышел из своего комбинезона, а он остался стоять, значит, пора заняться стиркой».
Вечерами, лежа в палатках, мы слышим, как ветер доносит девичьи голоса. Это поют в соседней станице. Выплывает луна. Она такая огромная, что кажется совсем рядом — подойди и потрогай рукой. Песни становятся звонче, зазывнее. Мы беспокойно ворочаемся на жестких кроватях и безуспешно стараемся заснуть. Сладкая истома теснит грудь, и, кажется, еще миг — и ты бесшумной тенью выскользнешь из палатки, и никакая сила не удержит тебя. Но мы должны спать. Нам рано вставать. Завтра полеты. Они сейчас для нас самое главное в жизни.
Пришла осень, а с ней и пора подведения итогов. Экзамен по летной подготовке у нашей группы принимал полковник Норкин — командир полка, где нам предстояло завершить учебу в училище. Мы здорово волновались. Волновался и наш инструктор капитан Дмитриев. Правда, внешне это было незаметно, но мы видели, как часто он доставал традиционную пачку «Капитанских» из кармана своего комбинезона. И понимали его состояние: ведь он «показывал товар лицом».
Все прошло как нельзя лучше. С легким сердцем разъезжались мы в отпуск, по домам. Я как на крыльях мчался в свою Одессу. Там жила Она, которая снилась мне по ночам, от которой я ждал писем, о которой мечтал. Первая любовь…
Но Она… вышла замуж. Я с тоской бродил по улицам и паркам, где раньше гуляли вдвоем. Мне было не по себе. И я еле дождался окончания отпуска.
К счастью, в двадцать лет горизонт недолго бывает затянут тучами. Утешив себя тем, что все, что ни делается, к лучшему, я с головой окунулся в учебу. Занимался с каким-то внутренним подъемом: ведь курс последний, летать предстоит на реактивных, о которых мы столько наслышались былей и небылиц, летать не по учебной программе, а на боевое применение: воздушные бои, перехваты, стрельбы. С вдохновением штудировал теорию полета, динамику, конструкцию самолета и двигателя этой необычной для нас, курсантов, машины. Нам не терпелось побыстрее сесть за ее штурвал, разорвать ревом турбины утреннюю тишину и раствориться в далекой синеве неба, по которому мы уже так соскучились!
И вот снова весна. Весна 1956 года. Последние государственные экзамены. Теорию сдаю на «отлично». Попадаю к Норкину в «дворцовый полк». Полк так окрестили шутники, потому что базировался он прямо при училище, в городе. Впереди контрольные полеты.
В группе инструктора Шульги нас четверо. С одним из этих парней, Олегом Разумовым, меня связывает крепкая мужская дружба. У нас сходные судьбы: оба потеряли на войне отцов и воспитывались в основном бабушками, добрыми и снисходительными к мальчишеским проказам. У нас все общее. Небольшое денежное содержание идет в один котел, а оттуда уже выделяются суммы на покрытие всяких расходов, покупку различной бытовой мелочи, праздничные подарки родным.
Всюду мы были вместе: на аэродроме, в классе, на спортивной площадке, в увольнении. Эта привязанность осталась до сих пор, несмотря на то, что через несколько лет судьба заставила нас шагать разными дорогами.
Близилась осень. Мы чувствовали себя почти офицерами: учеба подходила к концу, с каждого из нас уже сняли мерку для пошива офицерского обмундирования. Но сезон выдался дождливый. Аэродромы залило, и нам пришлось «кочевать» по всей Кубани, чтобы урвать погоду для полетов. Тоскливое ожидание, «пустые» дни, длительные перекуры у синоптической карты…
Экзамены по летной подготовке мы сдавали не в октябре, как обычно, а в конце декабря. Выпустили нас в начале февраля 1957 года.
Большой спортивный зал училища. Мы стоим, выстроившись поэскадрильно. Перед нами длинные столы, на которых горками лежат кортики и дипломы. На наших плечах самая что ни на есть затасканная форма. Это нас так приодели матросы батальона обслуживания и мотористы, выменяв свою промасленную робу на нашу, курсантскую. Затаив дыхание слушаем приказ о присвоении нам офицерского звания.
Волнуюсь. В голову приходит шальная мысль: «А вдруг в списке нет?» Но вот кортик и диплом у меня в руках, и я уже не могу дождаться, когда нас отпустят в кубрики, где на кроватях разложены наши парадные формы — лейтенантов авиации Военно-Морского Флота.
Наконец сломя голову бежим в кубрики. Быстро переодеваемся и… не узнаем друг друга! Неужели все так просто, так легко: три минуты — и курсант превращается в офицера. О том, что ради этих минут были затрачены годы напряженного труда, в этот момент как-то не думалось.
И снова построение в спортзале. Мы несколько смущены и поминутно поглядываем на свои погоны и звездочки. Взрослые дети — такими, наверное, мы казались со стороны снисходительно улыбающимся членам Государственной комиссии. Торжественно и строго в зале. Нас поздравляют и зачитывают приказ о распределении по флотам.
Помню, как мы подолгу спорили, обсуждали, где лучше служить. Каждый флот имел своих поклонников и противников. Черноморский — идеальные метеорологические условия. Это позволит быстро войти в строй, но зато пройдет немало времени, пока приобретешь опыт полетов в «сложняке». Северный — антипод юга. Здесь можно долго просидеть, «ожидая у моря погоды» для того, чтобы перестать считаться «молодым», но, войдя в строй, быстро приобретешь опыт полетов в самых сложных условиях, станешь настоящим летчиком. На Тихоокеанском — романтика.
Долго и основательно совещались с Аликом, взвешивали все «за» и «против». В конце концов выбрали Балтику. Поэтому с волнением жду, когда назовут мою фамилию: куда-то забросит меня судьба? В списке получивших назначение на Черноморский флот меня не оказалось, на Тихоокеанский — тоже нет, Северный — нет, Балтийский — ура! Мое желание служить на Краснознаменном Балтийском флоте было удовлетворено!
Последние трогательные минуты, минуты прощания с училищем. Подойдя к знамени — нашей святыне, став на одно колено, целую его угол. И хотя об этом дне мы мечтали долгие годы, нам делается не по себе, к горлу подкатывает комок: ведь мы прощались не только со своим училищем, но и с юностью.
* * *
Прибыв к месту службы, мы, молодые летчики, уже на следующий день сидели в классах и готовились к сдаче зачетов, чтобы получить допуск к полетам. Я попал в звено к капитану Литвинскому.
Новый командир располагал к себе. Его спокойные и уверенные манеры, умение вести объяснение конкретно и четко импонировали нам. Когда на стоянке или в курилке Литвинский что-либо рассказывал, послушать его приходили ребята и из других звеньев. И то, что нашего командира любили и уважали в полку, вызывало чувство гордости и желание не подвести Литвинского ни в чем.
Никогда не забуду один полет, который мы выполняли с Литвинским. Наши самолеты шли по маршруту. Погода портилась. Начала развиваться мощная кучевка. После второго поворотного пункта нижняя кромка облаков стала опускаться, прижимая нас к земле. Выход был один — подняться над облаками. Но на какой высоте они кончаются? Литвинский — опытный летчик, я новичок, в сложных условиях еще не летал. Как в этом случае поступить?
— Я — четыреста двадцать шестой, — иду парой после второго, нижняя кромка понижается. Разрешите выйти за верхнюю, — слышу в наушниках голос ведущего.
— Добро, — отвечает руководитель полетов.
Я уже приготовился отвернуть вправо на десять градусов, чтобы одиночно пробивать облака, но голос командира упредил это решение:
— Стать ближе, четыреста двадцать седьмой.
Я любил групповые полеты и умел неплохо держаться в строю, но то были полеты в простых метеоусловиях. А сейчас… Я подошел к Литвинскому поближе и стал крыло в крыло. Теперь только это крыло да приборная доска были предметом всего моего внимания.
Самолеты перешли в набор высоты. Две тысячи пятьсот, три тысячи… отсчитывает высотомер. Просветов не видно, облака делаются плотнее, гуще. Четыре тысячи, пять тысяч… Такое впечатление, будто наступили сумерки. И мне вдруг начинает казаться, что самолет кренит в правую сторону. «Делаем поворот вправо», — подумал я и взглянул на навигационные приборы. Но что это? Авиагоризонт показывает, что мы идем с набором высоты без какого-либо крена, по прямой. Смотрю на другие приборы — указатель курса, указатель поворота скольжения… Но и они не показывают крена.
На эти сомнения ушло не более секунды. Одной секунды! Но и за это время интервал между самолетами увеличился, и истребитель Литвинского стал еле просматриваться, так что я едва не потерял своего ведущего.
«Не отвлекайся!» — командую сам себе и опять вплотную подхожу к Литвинскому.
Самолеты набирают высоту: шесть тысяч… семь тысяч метров. И снова сплошной туман. Густой, липкий. Я бегло гляжу по сторонам, и мне вдруг отчетливо представляется, что я уже на спине, что мы летим вниз головой. Смотрю на приборы, чтобы убедиться, что ничего не изменилось и мы продолжаем набирать высоту с прежним курсом. Но для этого надо очень поверить приборам.
Пот льет градом. Он попадает в глаза, мешает следить за ведущим. Высота растет: восемь тысяч… девять тысяч… Голова становится тяжелой, словно свинцом наливается. А под фонарем соседнего самолета улыбающееся лицо и поднятый вверх большой палец Литвинского: «Все в порядке, молодец!».
Я выдавливаю из себя жалкое подобие улыбки и думаю: наверное, очень смешным и жалким я выгляжу со стороны.
Но вот облачность начинает редеть. На десяти тысячах метров она уже похожа на легкий утренний туман, через который виден диск солнца. Десять тысяч пятьсот метров. Мы выскакиваем из облаков, и ощущение перевернутого полета моментально исчезает. Будто его и не было совсем. Вот теперь-то я улыбаюсь Литвинскому по-настоящему. Радостно и спокойно. Правда, до земли одиннадцать километров, и, прежде чем туда попасть, нужно снова пройти через всю эту толщу облаков. А держаться в строю на снижении несколько посложнее, чем в наборе высоты.
Чем ближе мы подходили к аэродрому, тем сильнее росло беспокойство. Но вдруг, на мое счастье, показался узкий и длинный просвет вдоль береговой черты. Он был похож на глубокое ущелье в горах. И мы ныряем в этот просвет.
Зарулив на стоянку и выйдя из кабины самолета, я почувствовал чертовскую усталость. Шлем промок насквозь, шевретовую куртку тоже хоть выжимай.
— Что, устал? Трудновато было? — спрашивает Литвинский.
— Да нет… — начал было я, но, поймав на себе лукавый взгляд командира звена, признаюсь: — В общем, есть маленько.
И мы оба рассмеялись.
Полет стал хорошим уроком. Позже, летая в Заполярье, я попадал в более сложные переделки, но такой глубокой иллюзии никогда не испытывал. Я научился верить приборам.
Незаметно прошел еще год. Мы возмужали, как говорят, стали на крыло и получили новое назначение — в Заполярье! Мы — это Алик Разумов, Леша Линник и я. Леша присоединился к нашему коллективу позднее. Образовалась, таким образом, дружная холостяцкая община.
Не скрою, нам не совсем просто было расставаться с Балтикой. Мы понимали, что там, куда едем, нет всех прелестей курортного городка, векового тенистого парка, ласкового пляжа, раскинувшегося на километры, вдоль которого можно часами бродить босиком с надеждой найти особой красоты янтарь.
Прилетели в Мурманск. Но это еще не конечная наша остановка. Оттуда еще надо лететь самолетом. Припав к иллюминаторам старенького, видавшего виды Ли-2, мы смотрели на раскинувшуюся внизу панораму мартовского Заполярья. В салоне самолета царила настороженная тишина, нарушаемая одиночными возгласами: «Да-а!..», «Ну и ну…», «Вот это попали…» и тому подобное. Действительно, картина, представшая перед нами, не баловала разнообразием: острозубые скалы, заснеженные сопки, замерзшие озера, в низинах вдоль речек угадывалась чахлая растительность. Все это для нас в новинку. Правда, перед самым местом назначения картина несколько изменилась: в балках начали появляться небольшие лесные массивы с довольно крупными деревьями.
Ли-2 бежит по скользкой полосе, окаймленной мощными снежными валами. К месту остановки спешат люди. Почти все на лыжах. Самолет из Мурманска здесь событие. Наше появление на трапе встречают откровенными саркастическими улыбками. Поначалу смысл их был не ясен. Но буквально через пять минут, ожидая автобус, мы догадались о причине молчаливых насмешек. Щегольские балтийские фуражки и ботиночки — форма не для тех мест. Даже в марте Север давал о себе знать. Он приветствовал новых покорителей бодрым морозцем. Постукивая ногой об ногу и растирая руками уши и носы, мы старались скрыть свою растерянность. Но это не очень-то получалось. Настроение падало. А автобус задерживался.
Но вот нас привезли в гостиницу. В отведенном нам номере, прямо в шинелях усевшись на кровати, мы стали с грустью вспоминать добрую и мягкую Балтику…
Не сразу привыкаешь к новому месту, новым людям. Наверное, поэтому мы сплотились еще крепче. За дружбу и привязанность друг к другу нас прозвали «балтийцами».
В общем, приняли нас хорошо. Поняли, что мы не из скучающих: двое из нас играли на гитаре, мы любили петь и знали много новых песен. И скоро стали совсем своими. Очевидно, этому способствовало и то, что там, на Севере, была характерная особенность в отношениях между людьми. Это готовность пойти на дружбу и принять ее, большая терпимость и такт, внимательность и строгость. Видимо, суровые условия этого края заставляют людей сплачиваться и дорожить друг другом.
Я попал в эскадрилью майора Ермаченкова. Лев Васильевич был не только отличным летчиком, у которого нам, молодым, было чему поучиться, но и прекрасной души человеком. Невысокого роста, крепкого телосложения, с крупными чертами лица, спокойный и выдержанный, он, несмотря на свое положение, был душой эскадрильи, где завел порядки в строгом соответствии с морским этикетом. Лев Васильевич любил шутку, сам умел шутить, принимал участие во всех спортивных соревнованиях. Обычно, выйдя на спортивную площадку, он спрашивал: «Когда майор может стать капитаном?» И сам же отвечал: «На спортивной площадке или после дебоша». Ермаченков держал себя запросто со всеми и вместе с тем оставался требовательным комэском. Мы любили своего «льва» и старались подражать ему.
Длинные полярные (в несколько месяцев) дни и ночи, морозная снежная зима, северные сияния — все делало службу в Заполярье по-своему романтичной и интересной.
Вспоминаю, как впервые в жизни мне довелось увидеть северное сияние. Я выполнял ночной полет на потолок. Скребя, как говорят, последние метры высоты, самолет ушел далеко в Баренцево море. Ночь была темная, безлунная. Все внимание — приборам: хотелось набрать побольше высоты и побить рекорд своих друзей. Собственно, кроме как на приборы, смотреть было не на что.
Внизу — ни огонька, вверху — только яркие звезды. В наушниках — шорох эфира. Ночь и тишина. Вдруг я почувствовал себя ужасно одиноким, и мне даже показалось, что такое со мной уже было — именно такое состояние или, по крайней мере, где-то читал о нем.
Да, конечно, Сент-Экзюпери! Он писал о грусти и одиночестве, которые переживал, сидя в своем почтовом самолетике ночью между океаном и бескрайним небом.
И вдруг на лобовом стекле истребителя вспыхнул отблеск, словно полыхнуло огнем.
«Пожар», — мелькнула мысль. Смотрю на приборы, контролирующие работу двигателя. Все в порядке, никаких признаков пожара. Поднимаю голову вверх и оглядываю в перископ хвост своего самолета. Тоже ничего нет, только густая, холодная темнота. Плавно, с небольшим креном ввожу самолет в разворот и до боли в шее поворачиваю голову назад, чтобы убедиться, нет ли за самолетом шлейфа дыма. Та же темная бездна. Еще раз проверяю приборы. Все спокойно, ровно поет двигатель, молчит эфир. Отрываю взгляд от приборной доски, поднимаю голову и вздрагиваю: за стеклом кабины в каких-то всполохах на меня внимательно смотрит чья-то физиономия. С трудом соображаю, что это мое зеркальное отображение. Всполохи начинают появляться чаще, они становятся шире и ярче, и вот — о боже, какая красотища! — по всему небу от края до края, переливаясь всеми цветами радуги, полыхает величественное северное сияние.
Нет слов, которыми можно описать это одно из самых прекрасных чудес природы. И даже потом, когда северное сияние стало привычным, как для ленинградца осенний дождик, а для одессита — летняя жара, я каждый раз выскакивал из гостиницы во двор посмотреть и послушать его. Да-да, именно послушать! В ночной тишине, наблюдая за игрой красок, кажется, что слышишь, как «шуршит» сияние, перелистывая свои страницы…
Интересно было бы расшифровать эту цветомузыку природы. Какие ритмы и мелодии заключены в удивительной игре красок?
Сергей Павлович Королев с большим вниманием относился к самой идее цветомузыки и считал, что на борту каждого космического аппарата должна быть «цветотека». По его мнению, она может стимулировать работоспособность космонавтов, удовлетворять их духовные запросы, способствовать полноценному отдыху.
Мерно стучат колеса. Хрипит гудок паровоза, протяжный, зовущий, нагоняет тоску и рождает сомнения: «Что ждет меня впереди?» Я успел полюбить суровый северный край, мне дороги люди, с которыми два года крыло в крыло охранял это небо.
«Стоит ли вот так, одним махом, ломать то, что уже есть?» Но тут же воображение рисует картины нового, захватывающего будущего. Да, стоит!
Я должен вернуться в наш городок длиною всего в одну улицу, к друзьям в эскадрилью с такой же радостной улыбкой, как Юрий Гагарин, и сказать:
— Я годен!
* * *
Пасмурный ноябрьский вечер 1959 года. Выхожу на перрон Ленинградского вокзала. В Москве я впервые. Города не знаю. Мне нужно как можно быстрее попасть в Центральный научно-исследовательский авиационный госпиталь. С помощью шофера такси наконец нахожу его в одном из укромных уголков Москвы. Из приемного отделения по коридорам и переходам, по крутой лестнице меня приводят в огромную палату, которая чем-то напоминает летнюю веранду. В ней расположено более двадцати коек, и только половина из них заняты. Несмотря на поздний час и предупреждение дежурной сестры, в палате царит возбуждение. С моим появлением оно усиливается: еще бы, новый, свежий человек.
Для начала меня проинформировали, что я нахожусь в «палате лордов» (так уже успели окрестить свою обитель мои предшественники). Затем посыпались вопросы: кто я, откуда родом, какое училище кончил, на каких самолетах и где летал? Среди присутствующих не оказалось ни земляков, ни однокашников, ни общих знакомых. Меня начали вводить «в курс дела». Получив исчерпывающую информацию о методах и результатах отбора, я долго не мог уснуть, ворочался с боку на бок, думал, как же сложится моя судьба. Сомневаться и волноваться было из-за чего. Здесь мы попадали под такой контроль и обследование, которые не шли ни в какое сравнение с нашей ежегодной специальной врачебной комиссией.
Вполне понятно, что не все могли соответствовать требованиям, предъявляемым к будущим космонавтам. На то и отбор.
Но кто тогда мог точно сказать, какими должны быть эти требования? Поэтому для верности они были явно завышенными, рассчитанными на двойной, а может быть, и тройной запас прочности. И многие, очень многие возвращались назад в полки. В среднем из пятнадцати человек проходил все этапы обследования один. Некоторых вообще списывали с летной работы. И кто мог дать гарантию, что этим списанным не окажешься ты? Приходилось рисковать, ради будущего рисковать настоящим — профессией летчика, правом летать. Неудивительно, что среди моих новых знакомых были ребята, которые уже в процессе отбора, заподозрив у себя какую-либо зацепку, отказывались от дальнейшего обследования и уезжали к прежнему месту службы.
Проснувшись утром с тяжелой от плохого сна головой, я все же решил попытать счастья. Об этом догадались старожилы «палаты лордов». «Ну-ну, попробуй!» — было написано на их лицах. Но невеселых разговоров о возможных исходах со мной больше не заводили. Так я и втянулся в рабочий ритм палаты.
Практически весь день уходил на исследования. Чего здесь только не было! Даже по мнению американских специалистов, наш первый отряд прошел через «суровый и жестокий отбор». Уже для следующих кандидатов программа обследования была разумно облегчена. Но самым первым пришлось испить эту «медицинскую чашу» до дна.
«Лорды» собирались все вместе у себя наверху только после ужина. И тут начиналась авиационная «травля». Анекдоты, шутки, забавные истории, невероятные на первый взгляд случаи и просто беспардонные выдумки. Когда и это надоедало, все вдруг смолкали. Наступала пауза. А потом, посерьезнев, ребята поочередно рассказывали эпизоды из своей жизни, вспоминали друзей-однополчан, говорили о девушках.
Я сразу заметил, что в наших вечерних буйствах совсем не принимает участия один парень. Смуглый, с карими глазами, с аккуратно зачесанными черными прямыми волосами, он выглядел лет на пять-семь старше остальных. На все исследования он шел без залихватского гонора, как-то сосредоточенно и внутренне собранно. Свободное время проводил с книгами, читал какой-либо учебник или конспект. Чувствовалось, что «вечерний звон» — тот шум и гам, который мы по вечерам поднимали у себя наверху и который безуспешно пытались пресечь дежурные сестры, ему не по душе и мешает. Скоро нашлось объяснение: человек этот заканчивал академию имени профессора Н. Е. Жуковского, женат, имеет двоих детей и, разумеется, интересы нашей, в основном холостяцкой, братии его уже не занимали. Этим человеком был Владимир Комаров.
Мне Володя нравился. Его собранность, большая внутренняя самодисциплина, какое-то обыденное, что ли, отношение к самым сложным и серьезным исследованиям и тренировкам порою отрезвляли нас, умеряли наш романтический пыл и заставляли более спокойно относиться к работе.
В первой половине декабря Владимир прошел весь этап обследований, на прощанье заглянул к нам в палату, пожелав всем успехов, сказал: «До встречи» — и уехал из госпиталя.
Кто мог тогда предположить, что встретиться ему придется только со мной?! Все годы, которые мы провели в отряде, Володя оставался таким же скромным, собранным и сосредоточенным.
Помню, в самом начале наших тренировок с Володей случилась беда — ему сделали операцию. Врачи запретили продолжать тренировки, связанные с большими физическими нагрузками. Встал вопрос о пребывании Комарова в отряде. Нас всех очень обеспокоило это событие, тем более что в его положении мог оказаться каждый. Володя долго, упорно и терпеливо доказывал врачам и начальству, что этот временный недуг никак не отразится на его дальнейшей работе в отряде. И он добился своего. Добился благодаря упорным тренировкам и тому режиму жизни, который он сам выработал для себя. И уже через год был назначен в группу для подготовки очередного полета в космос, а затем и командиром основного экипажа первого многоместного космического корабля.
Комаров стал первым из советских космонавтов, отправившимся во второй космический рейс, рейс, который закончился так трагически.
Печальной и скорбной была в тот раз наша поездка в аэропорт. Не на широком поле, где обычно встречают почетных гостей во Внукове, а на удаленной стоянке Шереметьевского аэропорта мы встретили самолет, прибывший с места приземления. Мы приняли на руки гроб с телом друга, отнесли его в автобус и, разместившись по бокам, в молчаливом и скорбном карауле проследовали через всю уснувшую Москву в госпиталь. В операционной врач, которому было поручено провести медицинскую экспертизу, строго сказал:
— А вас, молодые люди, я попрошу покинуть операционную…
— Пусть остаются. Они должны видеть и знать все. Им работать дальше! — прервал его находившийся здесь Главный Маршал авиации Вершинин.
Шло время. К середине декабря «палата лордов» совсем опустела, и меня, оставшегося в одиночестве, перевели в другую комнату. В свободное от исследований время бродил по аллеям заснеженного парка, вспоминал ребят. А по вечерам я, некурящий, торопился в «курилку», в наш госпитальный импровизированный клуб интересных встреч. В течение полутора недель бессменным его председателем и рассказчиком был генерал Кожедуб, находившийся в госпитале, как он говорил, на «небольшой проверочке своего организма». Кому-кому, а Ивану Никитовичу было что рассказать. Да и рассказчик он прекрасный! Слушали его буквально раскрыв рты и мы, молодые летчики, и те, кому пришлось повоевать в минувшую войну. Расходились по своим палатам только тогда, когда уставшая сестра пускала в бой «тяжелую артиллерию» — вызывала дежурного врача.
Сейчас мне приходится часто встречаться с этим жизнерадостным человеком, который, кажется, излучает оптимизм. Я рад этим встречам. И не только потому, что услышу что-нибудь новое, интересное, смешное. Одного взгляда на его крепкую, ладную фигуру, на его улыбающееся лицо, в его с лукавинкой глаза достаточно, чтобы у тебя поднялось настроение, каким бы плохим оно до этого ни было.
30 декабря, ровно через сорок дней, комиссия признала меня годным для работы в спецгруппе.
Вот так или примерно так отбирали нас, молодых летчиков-истребителей, для того, чтобы потом после тщательного медицинского обследования оставить два десятка человек для подготовки к первым космическим стартам.
На этот отбор ушло около полугода. В марте 1960 года первая группа, которую стали называть отрядом, в основном была сформирована. В нее вошли: Павел Беляев, Валерий Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов, Евгений Хрунов, я и еще восемь молодых парней из различных авиационных частей ПВО, ВМФ и ВВС. Кому-то из нас предстояло первым стартовать в неведомое, взять на себя огромную ответственность — проложить человечеству путь к звездам.
С радостью, которая прямо-таки распирала меня, я спешил в родную эскадрилью, чтобы вместе с друзьями встретить новый, 1960 год. Правдами и неправдами на перекладных через сутки я оказался у себя в части. И в тот же день встретился с Юрием.
Увидев меня издали, Юра, робко улыбаясь, пытался по выражению моего лица угадать, с чем я вернулся из госпиталя. Я не выдержал, рот мой расплылся до ушей в счастливой улыбке. И мы побежали навстречу друг другу. Обнялись, как будто бы не виделись целую вечность.
— Я же говорил… Я знал… Я верил… — радовался он.
Теперь у нас с Юрием была своя тайна, и мы подолгу обсуждали не совсем еще ясное для нас будущее.
В конце февраля прошедших комиссию вызвали в Москву. Предстояло дополнительное короткое обследование. Когда мы его закончили, нашу группу принял Главный Маршал авиации К. А. Вершинин. Мне запомнилась эта непринужденная, теплая беседа, которую отеческим тоном вел главком. Скорее это было напутствие перед дальней и нелегкой дорогой. Он не скрывал трудностей, которые нас ожидали, не убаюкивал гладкостью нового пути. Спокойно, рассудительно маршал рисовал нам картину космического завтра.
На следующий день с предписанием немедленно рассчитаться в своих частях и прибыть в Москву для испытательной работы мы возвращались в родные полки. На этих предписаниях стояла подпись — Каманин. Видели мы ее впервые. А все последующие двенадцать лет эта подпись рядом с подписями Главного конструктора и президента Академии наук СССР стояла почти на всех основных документах, которые определяли всю работу в стране по исследованию космического пространства пилотируемыми космическими аппаратами.
Нам льстило, что нашим начальником был назначен известный всей стране человек — один из героев челюскинской эпопеи. Николай Петрович всю свою жизнь посвятил авиации и имеет большие заслуги перед народом. Это подтверждают и Золотая Звезда Героя с номером два, и планки боевых орденов и медалей во весь левый борт его мундира. Теперь ему было поручено руководить совершенно новой работой. Дело касалось национальных интересов нашей страны, речь шла о полетах людей в космос.
Сложность и ответственность этого задания, на мой взгляд, прежде всего заключались в том, что начинать нужно было с «абсолютного нуля» и идти непроторенными путями, порой вслепую, по интуиции. Ведь еще никто, никогда и нигде не занимался практической подготовкой человека к полету в космическое пространство. Человеческое общество еще не имело такого опыта. И несмотря на это, задачи, стоявшие перед коллективом людей, которым руководил генерал Каманин, выполнялись успешно. И в день десятилетия первого полета человека в космическое пространство Центр подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина был награжден высокой правительственной наградой — орденом Ленина.
Немногословный и сдержанный, даже немного суховатый, Николай Петрович был примером отношения к своему служебному долгу. Даже внешне он импонировал всем нам. Раз и навсегда установленный жесткий распорядок дня (ранний подъем, обязательная физзарядка, строгий режим питания), систематические занятия спортом — бег, лыжи, теннис, бассейн (и это в возрасте далеко за пятьдесят) способствовали тому, что он обладал редкой работоспособностью и всегда находился в прекрасной спортивной форме. Я не оговорился и еще раз подчеркиваю — в прекрасной спортивной форме. Ведь даже нам, тренированным и по возрасту годящимся ему в сыновья, было трудно тягаться с ним на теннисном корте.
Порою мне казалось, что Николай Петрович никогда ни в чем не сомневался, не чувствовал растерянности, неуравновешенности, что для него всегда все ясно и все понятно. Прямой и цельный сам, он и нас хотел видеть такими.
Я с уважением отношусь к тем, у кого жизнь словно хорошо выверенный и точно выставленный гироскоп. Но буду искренен: меня все же больше тянет к людям другого плана. Мои симпатии на стороне тех, кому не всегда везет и, может, не сразу становится все ясным и понятным, кто идет по жизни не ровненькой и гладкой, как железнодорожное полотно, дорогой, а бывает, что и падает, расшибая лоб и колени, встает и все-таки снова идет к заветной цели; кто, отстаивая свое мнение, говорит иногда не так красиво и правильно, но зато откровенно и горячо; кто, не беря на себя громких обязательств и не ожидая наград, может работать день и ночь (сколько нужно!) на общее дело, кто не боится посмотреть вслед красивой женщине и при необходимости порой проскочить перекресток на красный свет. И потому мне так близка и понятна мысль мудрого Льва Толстого: чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и бросать, и вечно бросаться и метаться. А спокойствие — душевная подлость.
Прощай, Заполярье! Теперь уже навсегда. Не думал, что буду с такою тоскою с тобой расставаться! Оказывается, можно привязаться и к голым скалам, и к сопкам, и к быстрым, холодным, порожистым речкам, и к тихим, задумчивым озерам, к длинным зимним ночам, к трескучим морозам… Прощай, родной полк, до свиданья, дорогие друзья! Частица моего сердца остается с вами.
Провожали меня всей эскадрильей. Видавший виды «студебеккер» не мог вместить всех желающих поехать на вокзал. Ехали весело, пели песни. Но где-то все же у меня посасывало: «Ведь расстаемся, доведется ли еще свидеться?» Когда поезд тронулся, ребята устроили прощальную иллюминацию из осветительных ракет. Правда, за это, как мне потом написали, им здорово влетело от военного коменданта.
Москва. Нам было приказано собраться 14 марта к девяти часам. В восемь я был у проходной, не решаясь переступить ее порог в одиночку. Наконец, минут через двадцать около меня остановилась машина. Из нее вышел Андриян Николаев с двумя увесистыми чемоданами. Сравнив их со своим скудным багажом, я усмехнулся. Заметив это, Андриян сказал: «Поживи с мое, сынок!»
Этот день ушел на устройство. Все уже успели перезнакомиться еще в госпитале во время последнего медицинского обследования. В группе сразу же установились добрые, товарищеские взаимоотношения. А со следующего дня у нас начались плановые занятия: лекции, тренировки, исследования.
Лекции, прочитанные нам в первые недели, носили разнообразный характер, но большинство из них касалось тех или иных физиологических проблем космического полета. Это и понятно. Хотя техника была уже почти отработана и на орбитах побывали простейшие растения, мушки, мышки, собачки, сам человек в космосе еще не был, и вопросы о том, как он перенесет воздействие всех факторов такого полета, сумеет ли адаптироваться к условиям невесомости, оставались, по существу, открытыми.
Помимо изучения целого ряда новых для нас теоретических дисциплин, проведения различных исследований, каждый день в расписание включались два часа по физической подготовке. Первый наш тренер Борис Легоньков с полной серьезностью взялся за дело и никому не давал поблажки или снисхождения. Да мы их и не требовали. Уже первые вращения на центрифуге показали, что перегрузки лучше переносит тот, кто хорошо подготовлен физически. Поэтому не щадили себя ни в зале, ни в бассейне, ни на стадионе. Нагрузки, нагрузки, нагрузки…
Март подходил к концу. В один из дней нам объявили, что после обеда занятия проведет полковник Никитин, парашютист-испытатель, мастер спорта, рекордсмен мира, неоднократный чемпион страны. Еще задолго до начала лекции мы, высунувшись в открытые окна, стали ожидать приезда знаменитого человека, который первым в мире выполнил пятьдесят катапультирований и «опрыгал» многие отечественные самолеты. Минут за пять до назначенного времени во двор въехала сверкающая бежевая «Волга». Из машины вышел коренастый полковник, поправил фуражку, одернул китель и ровным шагом направился в здание. Мы заняли свои места. Приняв рапорт дежурного и разрешив нам сесть, он обвел всех испытующим взглядом.
— Будем знакомиться. Я полковник Никитин Николай Константинович, ваш наставник-парашютист. О будущей нашей работе мы поговорим чуть позже, а сейчас каждый коротко доложит, сколько, когда и каких он выполнил прыжков с парашютом. Начнем с вас, капитан Попович.
Пока мои друзья докладывали, я с интересом рассматривал именитого полковника. У классной доски стоял человек низкого роста, его большая голова уверенно сидела на широких плечах. Обветренное, загорелое лицо, по которому только сейчас, кажется, прошла бритва парикмахера, смотрело строго, мужественно. Короткая стрижка заканчивалась небольшой рыжеватой челкой. Голубые проницательные глаза. Тонкие, плотно сжатые губы. Мощная, особенно для такого роста, развернутая грудь. Руки чуть-чуть согнуты в локтях и немного отведены в стороны. От всей его фигуры веяло уверенностью и силой. О таких говорят: «Ладно скроен и крепко сшит». Военная форма сидела на нем безукоризненно.
Каждого он слушал со вниманием, не перебивал, но и не скрывал своего разочарования. Доклады наши были поразительно кратки и похожи один на другой: хвастаться нечем — весь наш багаж состоял из четырех-пяти прыжков, выполненных еще в училище.
— Не густо, — подвел итоги полковник. — Ну ничего, дело поправимое. Через недельку займемся настоящей работой. А теперь послушайте, что нам предстоит сделать.
И он ознакомил нас с программой парашютной подготовки.
Чего здесь только не было! Прыжки с разных высот, с различным временем задержки и высотой раскрытия. Прыжки с самолетов и вертолетов, с разнообразными куполами и целыми парашютными системами… Не знаю, как сейчас, но во время моей авиационной юности многие летчики относились к прыжкам негативно. Парадокс? Но это так! Люди поднимались на самые «потолки», выделывали в воздухе замысловатые фигуры, срывали машины в штопор, производили посадки на почти разваливающихся самолетах, а вот к парашютам, на которых они сидели в своих кабинах, относились порой скептически и пользовались ими только в самых критических случаях.
Не составляли исключения и мы. Поэтому, слушая Никитина, я толкнул своего соседа по столу Валерия Быковского и полушутя-полусерьезно спросил:
— Валера! Тебе не кажется, что мы с тобой сели не в тот вагон?
— Да, Жорик, пора отсюда сматываться, пока нас еще хорошо не запомнили.
После беседы мы вышли во двор провожать Николая Константиновича. Окружив его возле машины, ребята все еще задавали вопросы. Я оперся ладонью о крыло «Волги», а когда убрал руку, на краске остался влажный отпечаток моей пятерни.
— Темнота! — беззлобно сказал полковник, полез под сиденье, достал кусочек замши и тщательно вытер пятно. В этом был весь Никитин. Аккуратность во всем: в работе, во внешнем виде, в поведении, даже в отношении к личным вещам. Педантизм? Нет, характер!
Николай Константинович уехал, а мы еще долго обсуждали услышанное, прикидывая все «за» и «против». Как бы там ни было, а в один из последних мартовских дней мы летели к аэродрому, расположенному на берегу Волги. Там Никитин должен был сделать из нас «настоящих мужчин». Быковский остался в Москве. Он сидел в сурдокамере. Ему первому из нас предстояло испытать, что скрывается за понятием «длительное одиночество»…
Но начали мы не с прыжков, а с укладки парашютов — несколько скучной, но очень важной работы. В полку за нас это делали другие. А теперь мы должны были сами для себя укладывать различные парашюты, уметь это делать быстро, правильно. Накануне первого прыжкового дня — тщательное медицинское обследование. И здесь меня подстерегла досадная осечка: врачей насторожил анализ моей крови. Встревожился и я. Почему вдруг такое? Чувствовал себя прекрасно, ни на что не жаловался. Анализ повторили, результат оказался положительным, но первый «парашютный» день для меня пропал.
Начали мы с малого: небольшие высоты и задержка пять секунд. Те, у кого эти прыжки получались нормально, переходили к выполнению упражнения с задержкой десять, пятнадцать и более секунд. Вот такими небольшими шажками вел нас к парашютному мастерству Николай Константинович.
День, второй, третий… Трудяга Ан-2, который мы любовно назвали «Аннушкой», поднимал нас на высоту. Над дверью зажигались предупредительные сигналы, Никитин давал последнюю команду, и… упругий воздух ударял в лицо, слепил, холодил губы. А навстречу неслась земля…
Вскоре, «отсидев» десять суток в сурдокамере, к нам приехал Валерий, и мы стали прыгать парой. Никитин в один заход выпускал не более двух человек. Это давало ему возможность следить и контролировать поведение каждого в воздухе по секундам. И уж если на разборе прыжков инструктор говорил, допустим, кому-либо, что на втором прыжке на пятнадцатой секунде у него были очень напряжены руки и ноги, то возражений не было: он никогда никого ни с кем не путал, несмотря на то, что группа прыгала немаленькая.
Первым обычно прыгал я, вторым — Быковский. Такой порядок не был случайным. Порой Валерий увлекался в воздухе и не выдерживал заданного времени падения, а за это Николай Константинович строго взыскивал. Поэтому оранжевый чехол моего парашюта служил для Валерия своеобразным сигналом — пора вводить в поток свой.
Никитин держал нас в ежовых рукавицах, придирчиво следил за тем, чтобы парашют был уложен не только правильно, но и аккуратно, чтобы отделение от самолета было не только четким, но и красивым, чтобы все мы в любое время дня и ночи имели бравый и подтянутый вид, чтобы распорядок дня выполнялся минута в минуту.
Однажды Евгений, Иван и я вернулись из города на час позже установленного срока. Наутро Николай Константинович узнал об опоздании. Мы уже стояли в строю у самолета с надетыми парашютами и ждали привычной команды: «Направо! В самолет шагом марш!» — как вдруг услышали:
— Опоздавшие на отбой, выйти из строя. Снять парашюты. На сегодня от прыжков вас отстраняю. Будете собирать чехлы. Вопросы?
Вопросов, естественно, не было. Обидно отставать от товарищей, но мы знали, что просить и доказывать что-либо бесполезно, — здесь Никитин неумолим. Огорченные, сняли парашюты и отправились на площадку приземления. Время для нас тянулось медленно. В небе ромашками раскрывались купола, ребята выполняли различные упражнения, а мы с тоской смотрели на них, проклиная себя за вчерашнее опоздание.
Надо сказать, что Николай Константинович мог вспылить, наговорить крепких слов, но мгновенно отходил и никогда уже больше не возвращался к неприятному разговору.
«По шпалам в Москву отправлю!» — любимая и самая ходкая его угроза никогда не выполнялась. Была у него и своя привычка: если мы куда-нибудь шли — в кино ли, в столовую, на аэродром, — он всегда шествовал впереди группы, а мы следом за ним, как цыплята за наседкой. И если кто-нибудь, заговорившись, выходил вперед, сразу же следовало многозначительное покашливание, и порядок мгновенно восстанавливался.
Парашютные прыжки в течение полутора месяцев были, пожалуй, одним из самых сложных и трудных этапов подготовки. Частые и сильные ветры, резкая перемена погоды в тех местах заставляла менять рабочий график. Для того чтобы «поймать» погоду, нам приходилось вставать каждый день очень рано — в четыре часа утра. Часам к восьми-девяти прыжки надо было закончить, так как к этому времени ветер становился свежим.
Большое эмоциональное напряжение (прыгаешь ведь не со стула), отсутствие опыта в приземлении приводили вначале пусть к незначительному, но довольно частому травматизму. Из-за желания не отстать от товарищей о травмах не всегда говорили врачам («Подумаешь! Потянул ногу, пройдет»). Зато по субботам в парной блаженно «зализывали» свои болячки. Чудное это зрелище! Не нужно спрашивать, кто что зашиб: это место напаривали в шайке с крутым кипятком.
Помню такой случай. Впятером: Валерий, Евгений, Виктор, Иван и я — выполняли зачетный прыжок. Поудобнее разместившись в самолете, дремлем, пока наша «Аннушка» набирает четыре тысячи пятьсот метров. На этой высоте мы должны оставить борт и лететь в свободном падении до семисот метров. Ну а там раскрыть парашют. Проверялись наша выдержка и хладнокровие, умение ориентироваться в воздушном пространстве и управлять своим телом в воздухе при свободном падении.
Пока мы набирали высоту, ветер усилился. Учитывая это, мы должны были покинуть самолет довольно далеко от аэродрома. Валерию и мне предстояло прыгать первыми — для пристрелки. Наконец зажигается желтый плафон над дверью самолета. Никитин открывает ее, в самолет врывается мощная струя воздуха. Мы с Валерием быстро встаем и подходим к двери. Сирена, мигание зеленого плафона, поднятый вверх большой палец Николая Константиновича («Смотрите, будьте молодцами!») — это команда «Покинуть самолет!». В воздухе, осмотревшись, я ужаснулся: подо мной был противоположный берег Волги. А она той весной разлилась широко-широко. Чтобы попасть к себе на площадку, надо было перелететь Волгу да еще приличное расстояние над левым берегом. Не знаю, о чем в тот момент думал Валерий, но подозреваю, что о том же, о чем и я, — как бы не плюхнуться в воду.
Волгу мы все-таки перетянули, но на площадку не попали. Приземлившись на пахоту и погасив купол парашюта, поднимаю голову, ищу Валерия. Ну, все ясно! На то у него и фамилия такая: его купол висит над большим стадом коров, и я не пойму, чей смех звучит громче в утренней тишине — Валерия или пастуха.
У всех космонавтов первого отряда более сотни парашютных прыжков самой различной сложности. Прыжки днем и ночью, с больших и малых высот, на сушу и на воду, с самолетов и вертолетов.
Почему же парашютная подготовка заняла одно из ведущих мест в общей подготовке к первым космическим полетам? Разве это главное перед стартом на орбиту? Ведь ни американские коллеги, ни мы сами теперь не уделяем столько внимания парашюту. Эти вопросы задавались раньше. Их можно услышать и сейчас.
На мой взгляд, лишнего в наших тренировках не было. Теперь, может быть, необходимости в столь большом объеме прыжков нет. Не потому, что в отряд стали приходить более храбрые ребята. Поверьте, первая группа — люди тоже неробкого десятка и, несмотря на свою молодость, многие уже к тому времени успели побывать в различных переделках. Но сейчас мы знаем, что ждет человека «наверху», и даже можем прогнозировать, как поведет себя тот или иной космонавт в полете. В начале же пути было много неясностей и загадок. Все понимали, что первый человек, который пойдет в космос, должен быть не просто безрассудно храбр. Он должен иметь крепкую волю, быть хладнокровным, уметь владеть собой в самых неожиданных и сложных ситуациях, быть способным принять правильное решение в условиях острого дефицита времени. Развитию всех этих качеств во многом способствовала программа парашютной подготовки.
…Сразу после возвращения в Москву мы были приглашены на первую встречу с Главным конструктором Сергеем Павловичем Королевым.
Нас собрали в конференц-зале института. И вот вошел чуть сутуловатый, улыбающийся, с карими глазами человек. Поздоровался, сел и очень внимательно посмотрел на нас. Потом по списку стал называть фамилии. Названный вставал. Сергей Павлович задавал один-два вопроса, спокойно, но уже без улыбки выслушивал ответ и называл фамилию следующего.
— Рад, что познакомился с вами. Это наша первая встреча, но далеко не последняя. Нам предстоит с вами много потрудиться. Я думаю, что вместе мы справимся с поставленной задачей. Иначе и не должно быть! — подвел итоги встречи Сергей Павлович.
И действительно, встречаться нам приходилось часто. Вскоре мы посетили конструкторское бюро и завод, где собирали космические корабли и ракеты. Знакомил нас с этими объектами сам Сергей Павлович. И по тому, как он рассказывал о носителе и «Востоке», по интонации его голоса, отдельным движениям и самому содержанию рассказа нетрудно было понять, что для Главного конструктора это не просто металл, статичный и мертвый. К своему детищу он относился как к живому существу.
Нам довелось видеть Сергея Павловича в различных ситуациях: и в трудные минуты, и когда дела шли наилучшим образом, во время различных встреч и бесед, на отдыхе и за дружеским столом. И всегда поражало то удивительное сочетание высокой требовательности к людям и вместе с тем большая чуткость и внимание к ним. К нам, космонавтам, он относился по-особому, по-отечески. Несмотря на огромную занятость, следил за каждым нашим шагом, интересовался учебой в академии, в которой мы начали учиться не без его содействия, ходом космической подготовки, личными делами. Ничего не ускользало из его поля зрения.
Приезжал в Звездный зачастую неожиданно, по крайней мере для нас, космонавтов. То на служебную территорию — узнать, как идет строительство Центра, оснащение его тренажными средствами, то в клуб — на торжественное собрание, то вместе с женой к кому-нибудь из ребят на семейное торжество. И если в служебной обстановке мы всегда чувствовали его твердую руку, то «в семейном кругу» он был общительным и доступным.
Помню, когда впервые в присутствии Сергея Павловича мне было предоставлено слово, я смутился. Взглянув на меня и поняв мое состояние, он улыбнулся и поощрительно подбодрил меня:
— Давай, Жора! Не посрами Одессу. Ведь среди присутствующих только ты и я по-настоящему знаем, что это за город!
Мне сразу же стало легко и просто.
* * *
Напряженным для нас оказался 1960 год. Не только потому, что пришлось заниматься совершенно незнакомым делом. Рождалась новая профессия — профессия людей, которые в ближайшее время должны были отправиться в неведомый мир и там работать в необычных для землян условиях. А новое, как известно, рождается в муках, с трудом. Для нас эти трудности усугублялись тем, что каждый наш шаг, каждое движение и реакция находились под постоянным «недремлющим оком» врачей и физиологов.
Присматривались друг к другу и мы. Ведь только Хрунов и Горбатко были «однокашниками». Да мы с Гагариным были из соседних частей. Все остальные приехали в отряд из разных округов и даже родов войск. Везде свои традиции, принципы взаимоотношений и даже взгляды на одни и те же вещи и понятия.
А нам надо было определиться в коллектив.
Уже в самом начале существования нашего отряда все мы шли через серьезное испытание — насыщенную и сложную парашютную подготовку. Здесь каждый оказался на виду. И, в полную меру пережив и оценив все, что связано с выполнением порою даже очень рискованных прыжков с парашютом, ты невольно начинал уважать и гордиться теми, кто проделывал эту же работу бок о бок с тобой.
Помню, выполняли ознакомительные прыжки с парашютной системой, которая предназначалась для нашего приземления после полетов на космических кораблях «Восток». Я сижу у открытой грузовой двери самолета, медленно набирающего высоту. Волнуюсь больше обычного и, как всегда в таких случаях, с нетерпением жду сигнала зеленой лампочки у двери, по которому два дюжих молодца из парашютно-десантной службы приподнимут меня и выбросят из самолета. Именно выбросят, потому что сам встать и выпрыгнуть я просто физически не смогу. И вот почему. На мне громоздкий скафандр, стекло гермошлема опущено, надеты перчатки. На мой спине ложемент с основным и запасным куполами, с различными приборами и автоматами, обеспечивающими правильную последовательность работы всей парашютной системы. Ниже, под ложементом, прикреплен большой контейнер с носимым аварийным запасом — НАЗом. Я на нем сижу, так как стоять очень неудобно да и тяжело. Ведь вся эта амуниция весит за сотню килограммов. На моей груди небольшой запасной парашют — единственная вещь, не имеющая отношения к космосу. Им я должен буду воспользоваться в случае аварийной ситуации, предварительно освободившись от всего груза.
Вот сейчас меня выбросят два крепких парня, а в штатной ситуации эту работу проделают пиропатроны: они «выстрелят» космонавта из «Востока» на высоте семи тысяч метров.
Внизу медленно проплывает земля: заснеженный аэродром, крыши деревянных домишек небольшого древнего городка, ленточки дорог, лес…
Пассивное ожидание гнетет меня, и я мысленно подгоняю время.
Но вот наконец меня приподнимают и с русским «Ух!» (которого я не слышу) выталкивают из самолета. Следом за мной выскакивает парашютист-испытатель. На легком спортивном парашюте он «ходит» вокруг меня и информирует, как работают мои купола. На его лице улыбка, голос необычно звонок — он волнуется и рад, что все в порядке. На земле я попадаю в объятия друзей. Меня тискают, хлопают по спине, поздравляют. Все возбуждены. После обычного прыжка так не встречают. Значит, переживали за меня… А вообще-то такие эмоции у нас не приняты. Они проявляются только в очень трудных и критических ситуациях, которые бывали во время парашютных прыжков. К примеру, отказ основного парашюта у Германа, и глубокий штопор Ивана, и длительное затенение купола у Дмитрия, и жесткое приземление Павла Беляева. И во всех этих случаях мы переживали за своих товарищей как за себя.
И мне кажется, парашют не только вырабатывал у нас высокие морально-волевые качества, но еще и способствовал скорейшему формированию коллектива, отряда.
* * *
В трудах и заботах проходило время. Тренировки, занятия по физподготовке, лекции. Работали и жили мы дружно, почти всюду бывали вместе, хотя женатики и претендовали на особую автономию, за что им здорово доставалось от Валерия Быковского, в ту пору еще холостого. Он не упускал случая пустить «шпильку» в адрес сплоховавшего на тренировках: «Больше о юбке жены думаешь, а не о деле…»
Но, коль скоро речь зашла о Быковском, расскажу об одном случае.
В одно из воскресений мы с Валерием поехали в лес. День выдался теплый, солнечный. Мы шли наугад. О чем-то спорили, слушали птичьи перепевы… А когда пришло время возвращаться, оказалось, что потеряли ориентировку. Заблудились.
— Сейчас мигом все выясним, — сказал Валерий и, сбросив с себя куртку, туфли, стал ловко взбираться на самое высокое дерево.
— Вижу шоссе. По нему ходят автобусы, — указал направление Валерий, добравшись до раздвоенной вершины дерева.
— А дальше залезть слабо? — дернул меня чёрт за язык.
Валерий немного подумал и полез дальше. И здесь произошло то, чего в принципе и следовало ожидать: вершина дерева обломилась, и Валерий полетел вниз. То ли сознательно, то ли инстинктивно, падая, он не выпускал из рук отломившуюся часть верхушки. Она задевала за ветки и в какой-то мере снижала скорость падения. Чтобы хоть как-то помочь товарищу, я бросился к дереву, думал, что сумею подхватить Валерия на руки. Но он попал на гибкую нижнюю ветвь, та самортизировала и отбросила его в сторону. Я подбежал к нему. Быковский лежал неподвижно с закрытыми глазами.
— Валера, Валера, — чуть не плача, позвал я, хлопая его по щекам.
— Эх, Жорики-Жорики… Что же ты меня не ловил? — прохрипел он с укоризной. — И перестань хлопать меня по щекам.
Валерий поднялся, оглядел место своего приземления и тихо сказал:
— Представляешь, что бы было, если б я выпустил из рук эту ветку и не будь здесь болота?..
Я подставил ему плечо, и мы стали выбираться из леса. На шоссе сели в автобус, поехали в Москву. При каждом толчке Валерий поскрипывал зубами.
Добрались до Ново-Басманной улицы, где в то время жили его родители. Дома никого не оказалось.
— В буфете бутылка водки. Возьми и растирай мне плечи, пока не устанешь, — сказал Валерий, ложась животом на тахту.
Я осторожно стал растирать ему плечи и шею — то место, на которое он приземлился.
— Ты никак все силы растерял, — зло подгонял меня Быковский.
Ночевали мы в нашей гостинице. Утром я с тревогой наблюдал, с каким мучением поднимался Валерий. Предложение обратиться к врачам он категорически отверг. Вместе со всеми вышел на зарядку, а потом и на занятия по физкультуре.
Выполняя то или иное упражнение, я с ужасом представлял, что же в это время испытывает он. Ведь наш преподаватель Б. Легоньков умел, как говорят, «пустить сок» из своих подопечных. И так изо дня в день. Постепенно боли у Валерия стали утихать. Но очередную медицинскую комиссию, во время которой предстояло делать рентген позвоночника, мы ожидали с опасением. К счастью, все обошлось. Но случай этот послужил хорошим уроком для Валерия. Он стал осторожным.
И когда знойным летом 1963 года все, кто приехал на Байконур на запуск Валерия и Валентины, в свободное время почти не вылезали из реки, Валера смиренно лежал на берегу.
— Эй, Валера, перегреешься. Дымишь! — заводили его ребята.
— Нема дурных… Я не собираюсь свой полет ставить в зависимость от какого-то гвоздя или куска стекла, — отвечал он. Пришлось Алексею и Борису носить его на руках в воду и обратно. Делать это им пришлось долго, так как старт Валерия был отложен. Алексей и Борис запросили «компенсацию».
— За все, ребята, получите сжатым воздухом, — обещал Быковский, удобно устраиваясь на руках этих двух самых сильных парней в отряде.
Решение о переносе даты запуска Валерия было принято неожиданно, буквально накануне. Быковский уже спал в домике недалеко от стартовой площадки, где обычно проводили космонавты последнюю ночь перед полетом.
Дело в том, что, по докладу одной из обсерваторий страны, на Солнце стала наблюдаться необычная активность. Никто не мог сказать, как долго и какие размеры примет это явление, как и то, какое влияние оно окажет на радиацию, на распространение радиоволн, на границы атмосферы. Особенно важен был последний момент, так как верхняя граница атмосферы, которая «дышит» даже в нормальных условиях, в данной ситуации могла очень резко повыситься. В результате этого могло произойти непроизвольное торможение космического корабля. И без того трудный расчет его орбиты еще более усложнялся. Решено было подождать. И потому, проснувшись утром, Валерий отправился не на стартовую позицию, а в гостиницу, где жили все мы.
Нужно иметь железные нервы, чтобы даже внешне ничем не выдать своего душевного состояния, пройдя через такой «психологический тест». Наверное, у Быковского они такие.
К сожалению, я бы сказал — из-за мальчишеского озорства, ушел из отряда наш товарищ — Валентин, способный и трудолюбивый парень. Когда мы начали постигать премудрости высшей математики, Валентин был единственным, кто не плутал в пределах и производных, обо всем имел ясное и четкое представление.
И очевидно поэтому, несмотря на отсутствие разницы в годах, иногда разговаривал с нами наставительным тоном. Останавливал его в таких случаях Марс:
— Э-э, отец-настоятель, занесло!
Валентин не обижался и заканчивал свою «проповедь».
И вот такой серьезный человек стал жертвой нелепого случая. Случая, которого могло не быть.
Однажды мы поехали на озеро позагорать. Разделись. Утренняя прохлада не манила, а, наоборот, отталкивала от воды.
— Давайте прыгать с берега. Так проще: раз — и готово! — предложил Валентин.
— Мелковато, — засомневались мы с Быковским.
— Внимание, показываю! — крикнул Валентин и, разбежавшись, с силой оттолкнулся от берега.
Он подозрительно долго был под водой, а когда вынырнул, на вопрос: «Как дела?» — ответил как-то неуверенно: «Все путем…»
Вторым прыгал Валерий. Благополучно. Разбегаясь, я думал: в воду нужно войти под минимальным углом. И все же проехал по дну животом.
«Слабак, плохо оттолкнулся и потому не долетел», — подумал я.
Переплыв на другую сторону, мы решили прыгать в воду с рук друг друга. Готовясь к прыжку, я оперся о головы Валентина и Валерия.
— Ой! — вскричал Валентин, — тише, голову сломаешь!
Пришлось отказаться от затеи…
Вскоре ребята обнаружили, что Валентина с нами нет.
— Где-нибудь в кустах загорает, — предположил кто-то.
Стали кричать. Валентин не отзывался. Тогда бросились на поиски. Не найдя его нигде, засобирались домой. И там узнали, что он уже в госпитале. Перелом шейного позвонка.
Оказалось, выйдя из воды и не сказав никому ни слова, он прошагал до автобусной остановки около семи километров, держа голову навытяжку руками. Более месяца пролежал Валентин в госпитале, подвешенный за подбородок. Мы тяжело переживали то, что произошло с Валентином, будто в этом была и наша вина, старались хоть чем-то помочь ему. Узнав, что необходимо просо, чтобы избежать появления пролежней, а в магазинах его вдруг не оказалось, мы, не сговариваясь, написали своим родным, и нам со всех концов Союза пошли посылки с просом.
Молодость, конечно, взяла свое, Валентин выздоровел, но с мечтой о полете в космос ему пришлось распрощаться.
Это была первая, но, к сожалению, далеко не последняя наша потеря. По различным причинам и в разное время из отряда ушли Марс и второй Валентин (по прозвищу «Дед»), Анатолий и Иван, Григорий и Дмитрий, и третий Валентин — младший.
Разные это были люди, разные у них судьбы. Но из этих судеб складывался отряд, его история.
Им не пришлось слетать в космос. Но к его покорению мы готовились вместе. Наши самые первые, самые трудные шаги, все наши радости и печали были едины. И если кто-то уходил из отряда, все переживали и расставались с ним, как с самым близким и дорогим человеком. И мне хочется хоть коротко, но рассказать о каждом из этих парней.
На своем жизненном пути я не встречал столь расположенных к дружбе людей, как Иван. Он был моим «земляком» — служил в авиации так же как и я. Сутуловатый (отчего казался при своем небольшом росте еще ниже), с голубыми глазами и с не по возрасту поредевшей шевелюрой — предмет постоянных подначек, — он как бы источал доброжелательность. В ночь ли, за полночь, придешь к нему за помощью, никогда не откажет ни в чем. Он мог отдать последнее любому, даже малознакомому человеку. Иван был молчалив, не знал страха и стремился все в жизни испытать сам. Помнится случай на Байконуре. К старту готовился Герман Титов. Мы только что вернулись в гостиницу с технической позиции и решили перед обедом искупаться в реке. Некоторое время лежали на песке, лениво переговариваясь. На противоположном берегу паслось стадо овец. Среди них неподвижно застыли два верблюда. Жара стояла такая, что даже они перестали жевать свою вечную жвачку.
— Не могу представить себе голого наездника на этакой махине. Иван, а ты смог бы его оседлать? — пошутил Григорий.
— Я тоже об этом думаю, — ответил Ваня. — И кажется, попробую.
Он переплыл реку и подошел к пастуху-казаху. Они о чем-то недолго совещались, используя международный язык жестов, потом направились к одному из верблюдов. Пастух постукал палочкой по передним ногам верблюда, приказал ему лечь. Нехотя, недоброжелательно косясь на Ваню, «корабль пустыни» занял стартовое положение. Ваня спокойно уселся между двух горбов. По команде пастуха животное поднялось на ноги и… вдруг с ревом понеслось в степь. Вскочили и мы. Затаив дыхание смотрели, что же будет дальше. Помочь товарищу ничем не могли.
Каким чудом Ване удалось соскочить с разъяренного животного и не угодить ему под ноги, не расшибиться, одному аллаху известно.
На наш вопрос: «Как дела?» — Иван, как обычно, ответил: «Нормально». Но купаться как-то сразу расхотелось. Молча, не глядя на Григория, одеваемся, идем в гостиницу и там, не проронив ни слова, расходимся по своим комнатам.
Валентин, как Комаров, Николаев, Беляев, был постарше остальных ребят. До армии он уже успел поработать на поприще просвещения — преподавал в начальных классах. С тех пор сохранил любовь к детям и умение располагать их к себе. Спокойный и выдержанный, он не отличался многословием, ко всему относился просто и легко. Поручали ему какое-либо задание — точно и в срок выполнял, не поручали — не напрашивался. То ли из-за возраста, то ли из-за манеры поведения за ним прочно укрепилась кличка «Дед». Дед был себе на уме, и о нем не скажешь — душа нараспашку. По его голубым глазам никогда нельзя было определить, подсмеивается он или восхищается, осуждает или одобряет поступок товарища. Несмотря на мощную фигуру атлета, ходил Валентин бесшумно, ступал мягко, как пантера, отлично бегал короткие дистанции и неплохо играл в волейбол и баскетбол.
На нас, «молодежь», как говорил он, смотрел с улыбочкой, с позиции бывалого человека, знающего вес и цену каждому своему слову, каждому своему поступку. Он постоянно «мурлыкал» какую-нибудь устаревшую мелодию, и на все случаи жизни у него была готова пословица или поговорка. А оценивая свой промах, свои ошибки, Дед обычно говорил:
— Да, пора на пенсию. К своей арифметике!
Впрочем, за этой шуткой скрывалось вполне реальное намерение: он все-таки вернулся к ней — к своей арифметике.
Потому ли, что он был старше всех и прошел более суровую школу жизни, или в силу своего характера, Дед оставлял отряд более сдержанно, чем все остальные.
— «Не надо слез! Они мне будут сниться», — в обычной своей манере охладил он эмоции провожавших его друзей.
Как ни странно, но даже после тщательной медицинской комиссии уже в самом начале наших тренировок из отряда стали уходить летчики именно по состоянию здоровья. К примеру, Анатолий, красивый парень с русым чубом и голубыми глазами. Глядя на него, мне всегда казалось, что если бы Сергею Есенину суждено было родиться с другой внешностью, то он бы родился в обличии Анатолия.
Анатолий стал одним из кандидатов на первые космические старты, и, когда дошла его очередь «крутиться» на центрифуге — а крутили нас в ту пору жестоко, с двенадцатикратными перегрузками, — у Анатолия на теле стали появляться крошечные кровоизлияния — питехии. Он решил, что это случайность, делал несколько заходов, но результат был один и тот же. Анатолию предложили перейти на испытательную работу.
Прощаясь с нами, он сказал:
— «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла». Летчик-испытатель тоже неплохо.
Но по застоявшейся в глубине глаз грусти мы поняли, с какой болью он оставляет отряд.
И уже потом, встречаясь с Анатолием через годы, я всегда видел и чувствовал эту грусть. Ее не могла скрыть даже широкая белозубая улыбка, которой он неизменно встречал меня.
Не слетал в космос и «флотский парень» Григорий. Он пришел в отряд с Черноморского флота. Гриша легко сходился с людьми, быстро завоевывал их симпатии. Казалось, удача не обходила его стороной. И действительно, вначале все для него складывалось наилучшим образом: его назначили вторым дублером Гагарина. Но, очевидно, не зря бытует пословица «Знал бы где упасть, подстелил бы соломки». Для нас всех и самого Григория было большой неожиданностью, когда ему и еще нескольким ребятам пришлось расстаться с отрядом. Режим и труда, и отдыха космонавтов был суров. Не менее суровы были наказания за малейшие отклонения от этого режима.
Мы тяжело переживали их уход. И не только потому, что это были хорошие парни, наши друзья. На их примере мы увидели, что жизнь — борьба и никаких скидок или снисхождения никому не будет. Нас стало меньше, и мы сплотились еще теснее.
Когда я вспоминаю те годы, не могу их представить без Марса. Тысячу раз прав был Твардовский, говоря, что ребята, подобные Василию Теркину, есть в каждом батальоне, даже в каждом взводе. Не буду рассуждать, насколько Марс соответствовал этому образу, но тогда он был нашим бессменным культоргом, спорторгом, массовиком и затейником. Он никогда не сидел сложа руки, всегда что-нибудь организовывал, всех тормошил. Выезды в театры, на концерты, на спортивные мероприятия, просто в лес по грибы или на шашлык — все это было делом его рук. Татарин по национальности, долгое время прожив в Средней Азии, он был мастером шашлыков и плова. Священнодействовал над мангалом обычно сам, не принимая помощи ни мужчин, ни женщин. За столом, с довольной улыбкой поглядывая на энергично работающих челюстями едоков, поощрял:
— То-то! Помните мою доброту. Учитесь, пока я жив!
Если проходила неделя и мы никуда не выезжали, Марс начинал суетиться, размахивать руками, недоумевать:
— Никак не пойму, что за старики собрались в отряде? Под боком Москва, все блага цивилизации, а они позабивались в свои норы и сидят, как суслики. Я бы наказывал таких! На пенсию всех вас!
И организовывал что-нибудь такое, от чего мы, выражаясь его же словами, «пальчики облизывали».
В то время, когда строился Звездный городок, мы жили в одной квартире с самым младшим из трех наших Валентинов, веселым и компанейским парнем. Порой Валентин мог вспылить, но без злости и обиды, буквально на мгновенье, взорвется и тут же покраснеет, застесняется за свою несдержанность. Я всегда восторгался его самоотверженностью и решительностью. Меня до сих пор знобит, когда вспоминаю, как он взбирался по водосточной трубе на пятый этаж к стоявшему на подоконнике ребенку, рискуя ежесекундно свалиться вместе со скрипящей трубой.
Бывало, во время спортивных игр разгорятся страсти и кто-нибудь, обидевшись на Валентина-младшего за недозволенный прием, бросит крепкое слово в его адрес. Но он, как ни странно, не обидится. Напротив, спокойно ответит:
— Точно, я именно такой. А ты разве до сих пор не знал об этом?
И инцидент исчерпан.
Валентин очень любил своего отца. Он гордился им, бывшим партизанским разведчиком. Вечерами, когда мы выходили на балкон подышать перед сном, он много и интересно рассказывал о нем, прерывая вдруг себя вопросом:
— Я тебе говорил, что папаха моего батьки лежит в музее партизанской славы?
А когда приезжал отец, он не знал, куда его усадить.
Последним из отряда ушел Дмитрий.
Дмитрий из всех нас выделялся серьезностью и аккуратностью, доходящей до педантизма. И это во всем: и в отношении к порученным ему делам, и в личной жизни. Да и внешне он всегда выглядел собранным и сосредоточенным. Вырос Дима в Сальских степях среди хлеборобов. Перенял от них житейскую сметку, рассудительность и какую-то крестьянскую хитринку-лукавинку, свидетельствующую о том, что и в его роду были деды Щукари.
Вместе со всеми он окончил авиационную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского, долгое время готовился, тренировался, был дублером Павла Беляева, но в 1969 году на очередной медицинской комиссии ему было поставлено ограничение, закрывавшее дорогу в космос.
Да, труден, тернист путь в космос…
И если вы когда-нибудь услышите чересчур бодрый репортаж о работе экипажа на борту космического корабля или космической станции или прочтете где-то о сверхспособных космонавтах — не верьте этому! Среди наших девизов нет лозунга: «Пришел, увидел, победил!»
Как многие другие профессии, профессия космонавта предполагает огромный труд (и на земле, и в космосе), преданность своему делу, способность и готовность пойти на риск.
На этом пути не только победы, но и поражения, и даже трагедии. Из двадцати человек «гагаринского набора» в Центре подготовки продолжают работать только восемь.
Кто погиб в космосе, кто — в воздухе, кто — на земле… У одних не выдержали нервы, других подвело здоровье…
Таковы факты. Такова жизнь…
* * *
Итак, мы грезили встречей с космосом. Юрий и его дублеры (а тогда они не знали, кто из них дублер, а кто — основной) занимались непосредственно подготовкой к первому полету, остальные летали на различных самолетах, прыгали с парашютом, «поднимались» в барокамерах, «грелись» в термокамерах. Дел хватало всем, только «успевай поворачивайся, хвакт», как говорил Иван Петрович Ващенко — один из первых наших инструкторов, с которым, несмотря на разницу в возрасте, мы крепко подружились.
Как и многим другим, в самом начале Ивану Петровичу приходилось заниматься самым широким кругом вопросов: от чтения лекций до проведения тренировок на тренажерах. Он готов был отвечать на любые вопросы, касающиеся подготовки космонавтов.
Петрович (так все называли его в Центре), украинец по национальности и поэтому русский звук «ф», когда начинал волноваться, произносил как «хв». Вот это «хв» и его «универсализм» стали предметом постоянных подначек Целикина Евстафия Евсеевича, тоже ветерана, опытного летчика-инструктора и в то время руководителя нашей летной подготовки. Помню, как однажды Петрович, взявшись с ходу объяснить схему нового прибора, запутался и смущенно умолк. Евстафий Евсеевич тут как тут:
— Это тебе, Петрович, не мемуары писать, хвакт!
— Та никаких мемуаров я не пишу, Евстахвий! У меня для этого нет времени, да и желания тоже, — отвечал Ващенко, явно сожалея, что погорячился со схемой.
— Ну как же! Я даже знаю, как будут называться эти твои мемуары. Мне твоя Петровна по секрету говорила, — продолжает свое Целикин.
— Какое там еще название? — заглатывает наживку Петрович.
— «Я и космос».
Мы все от души смеемся.
— А вот первую главу твоего труда, отбросив ложную скромность, я бы назвал так: «Космос — это хвактически я!» — ставит точку Целикин, и новый взрыв смеха потрясает аудиторию.
Но я отвлекся… В октябре 1960 года настала моя очередь испытать, что представляет собой длительное одиночество в «ограниченном объеме».
Проводя эти исследования, от эксперимента к эксперименту врачи меняли наш режим труда и отдыха. Делалось это для того, чтобы найти оптимальный вариант, который можно было бы предложить экипажам, отправляющимся в космический полет. Кроме обычного земного распорядка дня, были исследованы «перевернутые», «дробные», «растянутые» и целый ряд других графиков. По тому, который предстояло опробовать мне, рабочий день начинался в два часа ночи.
Перед началом эксперимента я получил сутки отдыха, но уже и в этот день должен был питаться «космическими продуктами», то есть теми, которые предстояло оценить во время эксперимента и которыми должны укомплектовываться бортовые рационы «Востоков».
На следующий день отправился в институт. Эксперимент должен был начаться в 14.00, но из-за неполадок в некоторых системах откладывался на неопределенное время. Меня подготовили: приклеили датчики, записали фоновые данные, я еще раз просмотрел все методики, по которым должен был работать.
Чем занять себя еще? Сходил в клуб института на концерт художественной самодеятельности, погулял во дворе… Была уже ночь, а меня все не вызывали в зал, где находилась барокамера. Наконец около 23.00 эксперимент начался. Вхожу в барокамеру, за мной захлопнулась одна массивная дверь, затем вторая; их опечатали, чтобы распечатать только при завершении работ. Осматриваю свое «жизненное пространство», где в течение пятнадцати суток на высоте пяти тысяч метров буду проводить эксперимент.
Обстановка, скажу прямо, более чем скромная. Напротив двери у стены — кресло, в нем мне предстояло работать и отдыхать; небольшой столик, подогреватель пищи, на стенах камеры различные датчики и оборудование, которыми я должен был вести записи своих физиологических функций. На уровне головы на полке в строгом порядке по суткам размещен мой пятнадцатидневный рацион. Я не предполагал, что он окажется моим своеобразным календарем: по оставшимся пакетам я считал дни до конца эксперимента.
До кресла два шага, вытянутая рука упирается в потолок. Да, здесь не побегаешь! Пока осматривал свое нехитрое хозяйство, динамик сообщил, что я нахожусь на «площадке», то есть на высоте пяти тысяч метров, пожелал мне успехов и умолк на все пятнадцать дней. Правда, иногда динамик делался снисходительным, и в часы моего отдыха из него лились любимые мелодии — небольшой сюрприз дежурной смены.
Свободное время вместе со мной коротали бравый солдат Швейк и не оправдавший надежд бабки-повитухи, так и не ставший генералом шолоховский дед Щукарь. Эти две книги, Ярослава Гашека и Михаила Шолохова, разрешили взять с собой в самый последний момент.
Мне нравится оптимизм толстяка в военной форме, его твердая убежденность в том, что «все, мол, в порядке и ничего не случилось, а если что и случилось, то и это в порядке вещей, потому что всегда что-нибудь случается». В тяжелые минуты я вспоминаю эту наивно-простодушную философию и улыбающееся лицо «непризнанного героя».
Искренне люблю я и шустрого деда в старом заячьем треухе за его неувядающий юмор, за его привязанность, преданность и любовь к дорогим и моему сердцу Нагульнову и Давыдову.
Не сразу и не вдруг привык я к своему распорядку дня. Поднимаясь в два часа ночи, представлял себе пустынный Ленинградский проспект, темные окна в домах москвичей, и мне становилось немного грустно оттого, что я здесь, на высоте пяти тысяч метров, один в железной коробке должен выполнять уже порядком надоевшие медицинские тесты, а не спать, как это делают все нормальные люди.
Чем меньше оставалось дней до конца эксперимента, тем нетерпеливее становился я сам. В последние дни буквально считал часы. И когда на пятнадцатые сутки динамик вдруг заговорил и вместе с приветствием предложил мне продлить эксперимент еще на несколько дней, я категорически отказался. Может быть, это предложение было тоже своего рода тестом? Не знаю. Но будь оно сделано на седьмые, десятые или двенадцатые сутки эксперимента, я, быть может, и согласился бы. Но когда до выхода оставалось каких-то тридцать минут, и я весь был уже мысленно там, вне камеры, принять такое предложение я не смог.
Меня «опустили на землю». Распечатали и раскрыли двери. Пошатываясь, я вышел из барокамеры. Хотелось обнять каждого члена дежурной бригады, так я соскучился по людям. Все и всё мне казалось милым и дорогим. Переходя через двор в другое здание, где должен был пройти первоначальный осмотр, я улыбался каждому встречному, каждому кусту и дереву, успевшим за время моей «отсидки» сбросить листву. А у вивария с заливающимися радостным лаем собачками я даже остановился и позволил им облизать свои руки. Они заслужили эту толику внимания. И кажется, что только сейчас я по-настоящему понял этих четвероногих друзей, которые так бурно и радостно реагируют на малейшую человеческую ласку. Ведь через все испытания, через которые сейчас пробиваемся мы, они проходят первыми. И одному богу (и, разумеется, физиологам) известно, что вынесли эти ласковые существа для того, чтобы наш путь был безопасным и менее рискованным.
В госпитале, куда меня поместили для обследования, все шарахались от бородатого (в течение пятнадцати суток я не брился и стал похож на «барбудос») парня с нелепой улыбкой.
На первый взгляд в этом эксперименте нет ничего особенного. Казалось бы, даже приятно отдохнуть десяток дней в абсолютной тишине. И один наш знакомый корреспондент добился разрешения на участие в таком эксперименте. «Отдохну от телефонных звонков, командировок, интервью. Займусь наконец своей рукописью», — тешил он себя радужными надеждами, оставив за дверьми сурдокамеры даже часы.
Корреспондента выпустили по его же настоятельной просьбе.
— Сколько я просидел? Вечность? — был его первый вопрос.
— Чуть поменьше. Через пару часов — сутки, — ответили ему.
* * *
Весну 1961 года мы встретили в приподнятом настроении. Близилось событие, которому суждено было войти в историю человечества одной из самых значительных вех на пути его развития.
И вот настал день, когда наш Центр подготовки как-то сразу обезлюдел. Все разъехались по своим местам: кто на космодром, кто на командно-измерительные пункты, разбросанные по всей территории страны. Выехали заранее, чтобы на местах провести заключительные тренировки групп управления.
Накануне старта Целикин проводит последний инструктаж для нашей группы на одном из пунктов управления, затерявшемся почти в самом сердце Сибири.
— Здесь, за этим пультом, буду находиться я. Справа от меня — вы, капитан Шонин. Вы отвечаете за связь с экипажем и, если будет необходимость, воспользуетесь телеграфом. Между прочим, заметьте: капитан — самое прекрасное воинское звание… Слева от меня вы, доктор.
Доктор Михаил Николаевич Мокров — наш хирург. Он присоединился к группе перед отлетом, заменив заболевшего физиолога. Поэтому мне вполне естественным кажется его вопрос:
— А для чего?
Целикин долго молча и не моргая смотрит на доктора. Наконец изрекает:
— Для противовеса!
При этом лицо его остается непроницаемым.
Стиснув зубы, я трясусь как в лихорадке, стараясь не смотреть на доктора: ведь Михаил Николаевич старше меня по званию, да и по возрасту он мне почти в отцы годится. Меня выдают слезы. Оказалось, доктор тоже не лишен чувства юмора.
— Давай, Жора! Не стесняйся. Смейся в открытую. Ведь лопнешь сейчас! — разрешает он мне.
12 апреля за четыре часа до старта мы все на рабочих местах. Во время проверки связи я слышал возбужденные голоса своих друзей, тех, что находились близко от меня, и тех, что за тысячи километров. Напряжение с каждым часом нарастало. Все на КП сосредоточились, подтянулись. Когда объявили пятиминутную готовность, нервы мои были, наверное, похожи на перетянутые струны гитары: только тронь — зазвенят!
Через несколько минут начнется необратимый процесс: управление запуском и стартом носителя возьмет на себя автоматика. Кто мог тогда точно сказать, что ждет Юрия там, в этой черной бездне, чем закончится путешествие первого Колумба вселенной?
Я закрыл глаза и представил, как два мощных прожектора — науки и техники — скрестили свои лучи и в их перекрестии вершина сигарообразного тела дымящейся ракеты. А там, на самом верху, на острие, в «Востоке» — Юрий. Как он там? Осознает ли, какую ответственность взвалил на свои плечи?
Справится ли?
Конечно! Юрий не подведет! В этом мы все были глубоко убеждены.
И я уверен, что в тот момент он был самым спокойным человеком среди всех тысяч людей, ожидавших это событие. Потому что ему еще предстояла работа, к которой он тщательно готовился, в то время как остальные участники первого запуска пилотируемого космического корабля — от Главного конструктора до техника, закрывшего за Юрием люк «Востока», — превращались в пассивных наблюдателей. Им оставалось только ждать.
«Нет, мы не знаем цены ожидания — ремесла остающихся на земле!» Трудно не согласиться с Константином Симоновым.
Старт! Сто восемь минут вокруг земного шара. Сто восемь минут напряжения. Сто восемь минут томительного ожидания. Это были исторические сто восемь минут!
Когда нам передали, что космонавт уже на земле, он жив и невредим, мы бросились друг к другу в объятья. Нашей радости не было предела. Напряжение последних дней искало выхода, и этим выходом была радость.
Чтобы немножко разрядиться и посмотреть, как на свершившееся реагируют люди, я вышел из машины, не доезжая до гостиницы, и пошел пешком через центр большого сибирского города. Помнится, меня обескуражило хладнокровие, с которым встретили сообщение ТАСС окружающие. Жизнь города текла по обычном руслу: ходили трамваи и автобусы, куда-то сосредоточенно спешили люди… И только яркий апрельский день радовался и салютовал происшедшему событию всеми своими красками. Как же так? Почему? Мне захотелось останавливать каждого встречного, тормошить его и кричать: «Понимаете, что произошло! Полтора часа назад человек покорил космос!»
Потом я понял. Люди не были равнодушны. В первые минуты и часы большинству действительно было трудно разобраться и оценить это событие. Фантастика! Сказка!
Как в нее поверить? Ведь ни в печати, ни по радио, ни по телевидению вопросы практического освоения космоса подробно не освещались, о предстоящем старте заранее не говорили. А когда разобрались, всех захлестнул единый патриотический порыв. В этом я убедился, стоя на трибуне Мавзолея во время встречи москвичами Юрия Гагарина. Тысячи людей, собравшиеся на Красной площади, представлялись мне как единый человеческий организм, который возбужденно дышал, радовался, смеялся и плакал от счастья…
Вечером Москва салютовала рождению новой эры в истории человечества.
Юрий Гагарин…
О Космонавте-1 написано и рассказано сейчас так много, что, кажется, и добавить нечего. Пишут писатели и журналисты, родные и друзья. Пишут те, кому пусть коротко, пусть раз, но приходилось встречаться с этим замечательным человеком. О, если бы все эти слова могли вернуть его нам! К сожалению, такого не бывает…
«Вся моя жизнь кажется мне одним прекрасным мгновением», — сказал Гагарин, отправляясь в космический полет. И нам, его друзьям и соратникам, Юрина жизнь кажется тоже мгновением… Но это мгновение будет вечным в сердцах тех, кому он отдавал себя без остатка.
Мы свято храним память о нашем боевом друге. И где бы ни были, у себя ли на Родине, или далеко за ее пределами, с кем бы ни встречались, мы прежде всего говорим о нем, о славном русском парне, о Человеке с большой буквы, о Первом гражданине вселенной.
Я благодарен судьбе за то, что на одном из перекрестков жизненных дорог она свела меня с Юрием Гагариным. Свела… И более двенадцати лет мы шли рядом плечо в плечо и вместе с небольшой группой таких же, как мы сами, парней трудились во имя одного важного дела. Мы были счастливы и горды, что стояли у истоков пилотируемых полетов в космическое пространство, что именно нам довелось начинать подготовку к первым космическим стартам и первым «на родную Землю со стороны взглянуть».
Нам повезло: мы родились вовремя! Пятью годами раньше — не подошли бы по возрасту; пятью годами позже — пришли бы уже на проторенный путь. И в том, и в другом случае за нас это великое дело сделали бы другие.
Встретились мы с Юрием задолго до создания у нас стране отряда космонавтов. Это произошло на Крайнем Севере, куда я приехал «для дальнейшего прохождения службы». К великой радости, я встретил там многих выпускников одесской спецшколы.
Первая труба оркестра спецшколы (в котором играл и я) Миша Андрейченко прочитал мне ознакомительную лекцию на тему «Что такое Север и с чем его жуют». К нему же я обратился за разъяснением, когда обнаружил, что в рядах «братской части» небольшая группа молодых летчиков носит не черную морскую форму, а форму летчиков ВВС.
— А, эти — пехота! — с чувством собственного превосходства объяснил мне «морской волк». — Такие же северные салажата, как и ты. Из Оренбургского училища, — и даже не обратил внимания на то, что я обиделся и за себя, и за тех ребят, которых он назвал пехотой.
Правда, на такой снисходительный тон он имел право. Прослужив несколько лет в Заполярье, Михаил успел побывать во многих переделках и летал как бог.
Через некоторое время в день открытия спортивного сезона в гарнизоне этот же Миша Андрейченко, теперь уже в роли капитана баскетбольной команды, ставит передо мной задачу на игру:
— Забудь обо всем и держи вон того маленького! — и кивком головы указывает на самого низкорослого игрока из команды наших соперников. — Ростом он, правда, подкачал, но шустрый и верткий. Да и глаз у него верный. Ты с ним не заскучаешь.
После игры я подошел к своему подопечному. Мне понравилось, что во время игры он не обращал внимания на мои граничащие с фолом попытки задержать его, самого результативного нападающего.
— Да, доставил ты мне хлопот! Давай познакомимся. Георгий! Проще — Жора.
— А я уже слышал о тебе. Ты балтиец! Гагарин моя фамилия. Юрий Гагарин. А насчет игры учти: я сегодня не в лучшей своей форме. Вот встретимся в следующий раз — тогда держись, пехота! — и заулыбался белозубой улыбкой.
Он удивил меня этим словечком — «пехота». Оказалось, что сам Юра ни капельки не обижался на это приклеившееся к ним прозвище.
Позже, уже в отряде космонавтов, мы все привыкли к тому, что Юрий часто употребляет это слово, и по интонации определяли отношение Юрия к тому, кого он развал пехотой.
Помню, как один из ветеранов Центра подготовки, сверхсрочник Федор Демчук, обучавший Юрия езде на автомобиле, обидевшись, пробурчал:
— Никакая я не пехота. Я всю службу за баранкой сижу.
— Хорошо, хорошо! — примирительно ответил Юрий. — Согласен — мотомехпехота! — Так и стал с тех пор Федор Демчук «мотомехпехотой».
Встречались мы с Гагариным в ту пору редко и в основном по дороге на аэродром, в Доме культуры, на стадионе или на лыжне. «Привет!» — «Здорово!» — «Как дела?» — «Нормально». — «Ну будь!» — «Буду». И шли дальше своей дорогой.
Все резко изменилось с того памятного осеннего дня, когда мы с Юрой оказались в числе шести отобранных на медицинскую комиссию в Москву для новой, неясной нам и от этого еще более заманчивой предстоящей работы.
Дружба наша окрепла в ожидании скорого и окончательного вызова к новому месту службы. В то время мы стали друг для друга единственными собеседниками и советчиками, ведь разговаривать о будущей работе даже с друзьями нам не рекомендовалось.
Приехав в Москву, Гагарин сразу же сдружился со всеми ребятами группы. Я удивлялся, как легко и естественно у него это получалось, так как сам схожусь с людьми медленно, не так быстро, как этого порой мне самому хотелось бы. Юрий стал своим и среди холостяков, и среди женатиков. И когда из отряда была выделена небольшая группа для непосредственной подготовки к первому полету, никого не удивило, что возглавил ее Гагарин.
Помню, с какой легкостью и непринужденностью Юра проходил все исследования и тренировки. И, даже сидя в самолете, с надетыми парашютами, за несколько минут до прыжка, он подшучивал над притихшими друзьями или подбивал Павла Поповича на какую-нибудь песню.
— Валера, подтягивай! — поддевал он сидящего напротив и «загрустившего» Быковского, который не «подтягивает», находясь даже в самом прекрасном расположении духа. Действительно, в ту пору нам было не до песен, мы только приобщались к парашюту и еще не полюбили этот спорт отважных.
Сравнивая свои внутренние переживания и Юрину внешнюю реакцию на прыжки, я даже засомневался в себе и обратился к нашему храброму и напористому тренеру за разъяснением:
— Николай Константинович! То, что вы не чувствуете страха перед этими обычными для вас прыжками, мне понятно. У вас их три тысячи. Да еще каких! О некоторых даже слушать страшно. Но меня удивляет Юрий. У него-то этих прыжков столько же, сколько и у остальных — кот наплакал! И десятка еще нет.
— Чудак-человек! Так, кажется, говорят у тебя Одессе. Ведь эти шутки и песни у Юрия как защитная реакция. С их помощью он держит себя в руках. Да и вас заодно. И кто это тебе сказал, что я перед прыжком не волнуюсь? Ты что же, думаешь, я из другого теста слеплен, железный? Нет, милый. Абсолютно ничего не бояться может только фанат, маньяк. Короче, человек с ненормальной психикой. Храбрый человек — это тот, кто хорошо умеет управлять чудесным инстинктом, который заложила в нас природа. Инстинкт самосохранения, слыхал? Не будь его, человечество исчезло бы уже на самой первой стадии своего развития. И вот для того, чтобы научиться хорошо управлять этим инстинктом, мы и занимаемся с вами такой насыщенной и сложной парашютной подготовкой. Понял? — и пристально посмотрел на меня колючими глазами. — И я сделаю из вас настоящих мужчин! — четко и энергично закончил он и, как бы ставя точку нашему разговору, больно ударил меня в плечо своим железным кулаком.
— Вот, правильно! И по улице нужно ходить так: уж если кто и зацепился за твое плечо, то он и должен отлететь в сторону, а ты продолжаешь идти прямо! — удовлетворенно заметил он.
После этого разговора я уже другими глазами смотрел на Юрины выходки. Я понял — это не бесшабашность, это продуманная линия поведения. И высокие результаты, которых он неизменно достигал на всех испытаниях и тренировках, подтверждали это. Было ясно, что он хорошо знает свои возможности, и твердая вера в свои силы позволяет ему относиться к абсолютно новой для всех нас деятельности как к чему-то привычному и естественному.
— Делаю все, как учили! — с неизменной улыбкой выдавал он нам «секреты» своих успехов. И ни капельки бахвальства, ни капельки зазнайства.
Обычно, идя на какое-либо исследование или испытание, мы советовались с теми, кто уже прошел их, тщательно изучали их опыт и рекомендации. Поэтому, когда настала моя очередь садиться в барокамеру на длительное одиночество, решил поговорить с Юрием. Я слышал, что физиологи и психологи восхищались Юриным хладнокровием и спокойствием, устойчивостью его психики и крепостью нервов.
— Ничего особенного. Действуй, как учили! — ответил он, но, заметив, что меня такой ответ не удовлетворил, обхватил рукой мои плечи и поспешно добавил: — Пойдем, сядем под ту березку и потолкуем не торопясь.
Мы уселись на пожухлую траву под начавшие желтеть березы. Их много в Звездном городке, и, как все русские люди, мы с особой теплотой и нежностью относимся к этим деревьям. Юрий долго молча смотрел в чистое, но уже по-осеннему блеклое небо. Потом неожиданно спросил:
— Скажи-ка мне, у тебя есть любимое состояние души, в котором ты можешь находиться бесконечно долго?
Меня удивил и несколько озадачил этот, казалось бы, не относящийся к теме нашего разговора вопрос. Но тем не менее, подумав, я ответил:
— Конечно. Я могу часами смотреть в небо или подолгу сидеть на берегу моря и не шелохнувшись слушать прибой. И еще я люблю смотреть на огонь костра.
— А в это время ты разговариваешь, слушаешь соседей или музыку?
— Нет. Я ухожу в себя. Все вокруг исчезает. И мне обычно кажется, что я остаюсь один на один с небом, водой или огнем.
— И тебе никогда не приходило на ум, что во всех этих трех вариантах ты имел дело с одним и тем же объектом — тишиной? Ты слушал ее, тишину!
Я удивился такому заключению, хотя возражать не стал. Над этим надо было подумать. А Юрий продолжал:
— Иногда я целиком отдавался тишине, какую даже трудно представить. Я всегда любил тишину. Тишину раздумий, тишину труда… Жаль, что в наш энергичный двадцатый век мы все меньше обращаемся к ней, к тишине! — вздохнул Юрий и уже совсем другим тоном добавил: — Тебе предоставляется величайшая возможность пятнадцать дней мыслить и работать в абсолютной тишине, слушать ее, милую. Так что пользуйся случаем! Теперь понял, в чем дело?
Да, я, кажется, понял. Юрий открылся мне с какой-то совершенно новой стороны. Стало ясно, почему в классе, в автобусе, в лесу во время прогулок, даже во время физзарядки этот непоседливый человек мог вдруг умолкнуть и отключиться на несколько минут от всего окружающего.
Юрий тренировался вдохновенно, с энтузиазмом. В то время мы еще не располагали такими тренировочными средствами, которые хорошо имитировали окружающую космическую обстановку. Поэтому качество тренировки в большой степени зависело от фантазии тренирующегося, от его умения домыслить, додумать не моделируемые стендами и тренажерами процессы и явления. И здесь Гагарин оказался на высоте.
— Конечно, наши стенды и тренажеры позволят (и мы должны!) все движения доводить до автоматизма, чтобы руки сами знали, что нужно делать в любом случае. Но… мы ведь не автоматы. Мы мыслящие существа. Домыслите то, что не может дать тренажер. С детства я был наделен воображением. И, сидя в камере или тренажере, представлял себе, что нахожусь в летящем космическом корабле. Я закрывал глаза и видел, как подо мной проносятся материки и океаны, как сменяется день и ночь и где-то далеко внизу светится золотая россыпь огней ночных городов, — так говорил Юрий, делясь с нами своим опытом подготовки к космическому полету.
Гагарин всегда видел перед собой ясную цель и шел к ней, не зная ни колебаний, ни сомнений. И когда один из контрольных полетов космического корабля «Восток», предшествующих полету человека, 1 декабря 1960 года закончился неудачно и «экипаж» в составе Пчелки и Мушки погиб, Юрий четко и конкретно выразил свое мнение и отношение к этому взволновавшему нас событию:
— Жаль спутник, в который вложены большие средства. Но в таком грандиозном деле неизбежны издержки.
С первых же дней пребывания в отряде мы внимательно следили за подготовкой американских астронавтов. Мы заочно знали каждого из семи отважных парней, отобранных для полетов на космических кораблях «Меркурий».
— А ведь рано или поздно кому-то из нас придется встретиться с кем-то из них и поговорить обо всем виденном и пережитом. Уверен в этом. Космический полет может сблизить наши страны, — мечтал Юрий, выражая наше общее мнение.
И такой полет состоялся! Готовя его, нам пришлось не только разговаривать и делиться впечатлениями о выполненных полетах с нашими американскими коллегами, но и напряженно, дружно работать в течение двух с половиной лет. А в самом полете участвовали заочно знакомые с давних времен ветераны космоса — Алексей Леонов и Дик Слэйтон.
Как и предсказывал Юрий, не доживший до этого полета, подготовка к нему и сам полет внесли большой вклад в дело сближения наших двух великих государств, в дело разрядки напряженности. Он показал — совместно можно более успешно исследовать космическое пространство. Полет этот явился хорошим примером, которому должны следовать все нации и государства на Земле, и не только в области космических исследований, но и во всех других областях человеческой деятельности.
А в работе нашего отряда все шло к своему логическому завершению. Успешно был выполнен последний контрольный полет «Востока», который «пилотировали» Звездочка (так окрестили по предложению Юрия забавную дворняжку) и «дядя Ваня» — манекен, удобно устроившийся в пилотском кресле корабля.
И вот Юрий и его дублеры, устанавливая традицию, перед отъездом на космодром пришли на Красную площадь, в Кремль… Они бродили в толпе москвичей, и никто не знал, что через несколько дней произойдет событие, которое потрясет мир, и что главным его участником будет один из этих трех старших лейтенантов в авиационной форме, беззаботно шагающих по весенней Москве.
На вопрос, что привело его на Красную площадь тогда, перед отлетом на космодром, Юрий ответил:
— У советских людей стало внутренней потребностью перед решающим шагом в жизни идти на Красную площадь, к Кремлю, к Ленину. Двадцать лет назад прямо отсюда, с парада, на защиту Москвы отправились полки ополченцев. На Красную площадь приходят юноши и девушки после окончания школы. Сюда приходят все советские люди и все наши зарубежные гости. Москва — сердце нашей Родины, а Красная площадь — сердце нашей столицы.
С тех пор все экипажи космических кораблей, отправляясь на космодром, проходят и по этому земному, проложенному Юрием маршруту.
Перед отлетом наших друзей мы собрались всем отрядом, чтобы сказать им напутственные слова. Не удержался и я.
— Мы завидуем вам! Завидуем хорошей дружеской завистью. Поэтому, оставаясь здесь, на земле, всем сердцем будем с тем из вас, кому поручат выполнить первый в истории человечества космический полет, — обратился я ко всем троим, хотя мы предполагали, что полетит все-таки Юрий.
Он тоже попросил слова.
— Я рад и горжусь, что попал в число первых космонавтов. И если мне будет доверено выполнить этот полет, на выполнение этого ответственного задания пойду с чистой душой и большим желанием и выполню его, как положено коммунисту.
Конечно, нам всем хотелось быть на месте Юрия. Еще острее это желание было у тех, кто прошел с ним непосредственную подготовку к полету. И, несмотря на это, в группе были самые добрые, дружеские отношения. Никакого намека на соперничество, никакого «духа соревнования». Все делали одно общее и очень важное для страны дело. И все свои помыслы и усилия мы подчинили успешному завершению этого задания.
Для примера хотелось бы рассказать об отношении Гагарина к своему дублеру Герману Титову. В своей книге Юрий вспоминает их первую дорогу на космодром: «Герман Титов сидел ко мне в профиль, и я невольно любовался правильными чертами красивого задумчивого лица, его высоким лбом, над которым слегка вились мягкие каштановые волосы. Он был тренирован так же, как и я, и, наверное, способен на большее. Может быть, его не послали в первый полет, приберегая для второго, более сложного».
Когда настало время старта в космос Титова, Гагарин находился далеко от космодрома, в западном полушарии Земли. Но всеми своими мыслями, всем своим сердцем он был на Байконуре. Услышав об успешном запуске «Востока-2», Юрий прилагает все свои силы и возможности (вплоть до связей Сайруса Итона, гостем которого он был в Канаде) и в непогоду вылетает на Родину.
Не отдохнув после утомительного перелета через Атлантику и Европу, он спешит на Волгу, в район приземления Титова. С какой радостью он обнимает и поздравляет своего друга!
«Я застал Германа Титова в знакомом двухэтажном живописном домике, в котором я отдыхал после своего возвращения из космоса. Сухощавый, гибкий, сильный и необыкновенно ловкий, он, несмотря на все тяготы суточного пребывания на орбите, дышал здоровьем, и только в красивых, выразительных глазах его чувствовалась усталость, которую не могла погасить даже улыбка. При виде его у меня дрогнуло сердце. Мы обнялись по-братски и расцеловались, объединенные тем, что каждый из нас пережил в космосе». Так пишет Юрий об этой встрече в своих записках.
Титов не был исключением. Юрия волновала судьба каждого из нас, и мы чувствовали эту заботу друга и командира (после полета Гагарина назначили командиром отряда космонавтов). Помню, однажды он спросил меня:
— Что делаешь сегодня вечером? Зашел бы, давненько не говорили с тобой по душам. Приходи, вспомним Север!
Я согласился и часам к девяти вечера пришел к Юрию.
— Поскучай минутку на этом диване, пока я уложу спать этих сорок, — извинился он. На руках Юрий держал дочерей, и они громко чмокали его в обе щеки на сон грядущий. — Я пригласил тебя по серьезному делу. Намечается сложный полет. Кандидатура командира есть. А вот напарником к нему я хочу предложить тебя. Знаю, парни вы оба строптивые, и в этом полете вам будет нелегко. Но я хорошо знаю тебя и верю в твою выдержку. Не торопись, подумай. Через несколько дней мы вернемся к этому разговору, — так объяснил он мне цель своего приглашения. И, давая понять, что разговор на эту тему закончен, начал расспрашивать: — Ну как Андрюха, растет? Как здоровье Софьи Владимировны?
И, услышав, что матери немного нездоровится, он, посетовав, вдруг неожиданно спросил:
— А какое у тебя самое приятное воспоминание о детстве?
— Я любил, положив голову на колени матери, слушать, как она, ласково гладя мои волосы, напевала мне песенку об усатом Феде-дворнике, — смущенно признался я.
— А я любил, когда мама, укладывая меня спать, целовала мне спину между лопатками. В этот момент мне казалось, что я самый счастливый мальчишка на свете, — задумчиво сказал Юрий.
Нас всех поражал большой диапазон интересов, мыслей и чувств Юрия, а также средства и способы, которыми он их выражал. Вот пришло время сообщить жене об отъезде на космодром, и он как бы мимоходом бросает:
— Готовь чемодан с бельишком. Лечу в космос…
В этих словах и простота, и шутка, и забота о Вале. Ему не хотелось, чтобы она волновалась, и, отправляясь на такое серьезное задание, Юрий ведет себя так, будто уезжает в самую обычную командировку.
А стоя у ракеты за несколько минут перед стартом и чувствуя всю важность предстоящего события, он произносит слова, которые мог произнести только верный сын своей Родины, слова, которые, по его же признанию, он никогда не употреблял раньше в обиходной речи. Эти слова падали в сердца его друзей и соратников, в сердца всех наших соотечественников, всех людей планеты.
— Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов! Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы вселенной! Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты…
…Я знаю, что я соберу всю свою волю для наилучшего выполнения задания. Понимая ответственность задачи, я сделаю все, что в моих силах, для выполнения задания Коммунистической партии и советского народа…
Эти слова звучали как клятва, как присяга. Они и сейчас звучат в сердцах тех, кто, стоя на стартовой площадке перед дымящимися на старте ракетами, докладывает о своей готовности к выполнению космического полета.
Юрий глубоко верил в успех и потому свое заявление закончил словами:
— Я говорю вам, дорогие друзья, до свидания, как всегда говорят люди друг другу, отправляясь в далекий путь. Как бы хотелось вас всех обнять, знакомых и незнакомых, далеких и близких!
В этом был весь Юрий со своей любовью к жизни и ко всем живущим на земле.
Гагарин как-то по-особенному, по-своему, воспринимал и чувствовал прекрасное, красоту природы, человека… Он находил ее повсюду, порою даже там, где ее присутствие только угадывалось. И в неизведанный и таинственный мир он шагнул так, как будто шел в мир прекрасного. Выйдя из автобуса, доставившего космонавтов на стартовую позицию, и окинув взглядом пустынную степь, залитую светом наступающего дня, Юрий радостно воскликнул:
— Посмотрите, какое красивое, жизнерадостное солнце!
«Для нас эта фраза была неожиданна, как выстрел в утренней тишине. Большинство тогда вообще забыло о существовании этого светила. Мы все удивленно повернулись на восток. Восход солнца действительно был прекрасным», — вспоминал об этом один из дублеров.
Докладывая председателю Государственной комиссии о своей готовности к полету и выслушивая напутственные слова окружавших его друзей, ученых, конструкторов, он поминутно поглядывал на ракету, которая в восходящих лучах солнца напоминала ему маяк. И здесь чувство прекрасного не изменило ему. «Я глядел на ракету, на которой должен был отправиться в небывалый рейс. Она была красива, красивее локомотива, парохода, самолета, дворцов и мостов, вместе взятых. Подумалось, что эта красота вечна и останется для людей всех стран на все грядущие времена. Передо мной было не только замечательное творение техники, но и впечатляющее произведение искусства», — восторженно рассказывал потом Юрий.
Первое, что мы услышали после выхода «Востока» на орбиту:
— Наблюдаю облака над Землей, мелкие, кучевые, и тени от них. Красота-то какая! — восхищается Юрий нашей планетой.
Поэтому на встрече после полета мы с нетерпением попросили: «Юра, расскажи, какая наша Земля оттуда, из космоса?» Он долго думал, смущенно улыбаясь, — очевидно, в этот момент перед ним опять проплывали виденные в иллюминатор «Востока» картины. Затем ответил:
— Она прекрасная! Трудно найти слова, чтобы можно было описать ее красоту! Это нужно видеть своими глазами. Она голубая!
Нас тогда не особенно удовлетворил такой ответ. Но, побывав в космосе сами, мы убедились в правоте Юрия. Очевидно, истинную красоту невозможно ограничить рамками словесных рассказов и красками пусть даже выдающихся полотен. Ее надо видеть, слышать, чувствовать самому. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, как потом оказалось, каждый из нас воспринимал и осязал космос по-своему. И космос, изображенный на полотнах Алексея Леонова, не очень-то похож на тот, который видел я, Николаев или Горбатко, Севастьянов, Хрунов или Попович.
Юрий был поистине красивым человеком. И окружали его такие же прекрасные и интересные люди. Он был дружен с композитором Александрой Пахмутовой и летчиком-испытателем Георгием Мосоловым, с выдающимся хирургом Александром Александровичем Вишневским, комсомольским вожаком Сергеем Павловым и многими другими замечательными людьми нашей страны. В любой среде он был желанным и интересным собеседником. К нему тянулись люди, и он шел к ним навстречу с открытой душой и добрым сердцем.
На второй день после возвращения из космоса Юрий сделал обстоятельный доклад о работе систем корабля, подробно, до мелочей, рассказал об увиденном и пережитом. Он говорил долго, ведь впечатлений много, и все они так необычны, что ему хотелось побыстрее, пока все свежо в памяти, поделиться ими с людьми. Слушали его, не перебивая, а когда он закончил, вопросы посыпались как из рога изобилия. И на все вопросы Юрий отвечал подробно, точно, так как прекрасно понимал, что их задают не из праздного любопытства, они важны для последующей работы по созданию новых космических кораблей, для подготовки следующих полетов.
Юрий рассчитывал, вернувшись в Звездный городок, хорошенько все обдумать, осмыслить, подвести итоги проделанной работы и принять непосредственное участие в подготовке второго полета в космос. Он понимал, что его опыт и наблюдения, которые он сделал в течение одного витка, будут полезны. Но желанию его не суждено было сбыться. Полет Гагарина потряс весь мир. Люди всей планеты захотели видеть и слышать первого землянина, побывавшего в загадочной вселенной. На его имя пришли десятки приглашений от правительств различных государств, от общественных организаций с просьбой посетить их страны. О нем писали все газеты и журналы. Его фотографии можно было увидеть в каждом доме. Гагарин стал самым популярным человеком планеты.
За три с половиной месяца после своего полета Юрий совершает второе кругосветное путешествие. На этот раз по земле и по воздуху. Чехословакия, Болгария, Финляндия, Англия, Польша, Куба, Бразилия и Канада восторженно принимали посланца Страны Советов.
А в это время полным ходом шла подготовка к полету «Востока-2». Юрий тяжело переживал, что не смог принять должного участия в этой работе, и чувствовал себя виноватым перед Германом. И старт Титова оказался единственным, на котором отсутствовал Гагарин. Во всех последующих он принимал самое активное участие, добившись того, чтобы на время полетов его освобождали от всех поездок.
Юрий помогал нам своим опытом, энергией и уверенностью, своим дружеским участием, наконец. Перед запуском Андрияна он так и не смог уснуть, и ночь с 10 на 11 августа провел на скамеечке возле домика, где спокойно спали сам Николаев и его дублер Быковский. Утром на шутливый вопрос: «Какие мысли посетили его в эту лунную ночь?» — он серьезно ответил:
— О ней же и думал. О луне! О том времени, когда люди отправятся туда. А оно не за горами. Во всяком случае, ближе того, когда в космос можно будет летать по профсоюзным путевкам. А ведь сам Сергей Павлович уверен, что совершит космический полет именно по такой путевке.
Юрий бессменно дежурит на командном пункте и во время полета Валерия Быковского и Валентины Терешковой. Он готовит и провожает в космос экипаж многоместного «Восхода-1» во главе с Комаровым. А во время полета Беляева и Леонова опыт и знание космической техники подсказали ему единственно правильное решение, которое он выдал экипажу в тот момент, когда на командном пункте обнаружили, что «Восход-2» не пошел на ожидаемую посадку, а продолжает полет по орбите.
— Вам разрешается посадка на восемнадцатом витке с помощью ручного управления! — четко и хладнокровно сообщает Юрий в космос.
Сергей Павлович Королев, долго и внимательно посмотрев на него, восхищенно восклицает:
— Молодец!
Юрий во второй раз провожает в космический полет Володю Комарова. Теперь уже не только как наставник, но и как дублер. К великому нашему горю, этот полет закончился трагически: погиб замечательный парень, опытный космонавт Владимир Комаров. И этот старт был последним, на котором присутствовал и работал наш Юрий.
Мы долго не могли прийти в себя после похорон Юрия Гагарина. Буквально всё на каждом шагу напоминало о нем. Классы, тренажеры, спортивные площадки и даже дом, в котором мы живем.
Однажды, придя в свой гараж за машиной, я увидел, что ворота Юриного гаража приоткрыты. Пытаясь унять волнение, подошел и заглянул внутрь. У машины стоял печальный Федор Демчук — «мотомехпехота». Его взгляд застыл на верстаке. Там лежали инструменты, кусок проволоки, моток изоленты, начатая пачка «Беломора» с недокуренной папиросой сверху и три патрона от карабина.
— Вот, спустя неделю заставил себя прийти сюда, чтобы все убрать. Буквально накануне… — Федор запнулся и, помолчав, продолжил: — Юрий возился с антенной, а я копался в моторе. В десятом часу вечера он сказал: «Заканчиваем, пусть все так и лежит. В среду отлетаю, и доделаем». Не доделал.
Мы помолчали, глядя на эти вещи, которых Юрий коснулся в последний раз.
— Курили «трубку мира»? — кивнув на папиросы, спросил я, чтобы как-то прервать затянувшееся молчание.
— Да. Он вначале отказался от предложенного мною «Беломора». Порылся в карманах своей куртки, вытащил пачку с этими патронами и с сожалением сказал: «На последней охоте меня угостили заморскими. Хотел тебя удивить. Да вот посеял где-то. Давай свой „Беломор“».
«Трубка мира»… Бывало, на привале во время охоты или при других обстоятельствах, располагавших на задушевную мужскую беседу, Володя Комаров, втиснувшись в кружок ребят, говорил: «А что, друзья, не раскурить ли нам трубку мира?» И, присев на корточки, мы начинали дымить. Даже те, кто не курил.
Федор убрал инструменты. Три патрона я взял себе на память. Ни у него, ни у меня не хватило сил коснуться Юриной последней, недокуренной, «трубки мира»…
При жизни Юрия мне не приходилось бывать на его родине. Поэтому, когда ехал в Гжатск в одну из годовщин его полета, я волновался так, словно мне предстояло свидание с живым другом.
Древний русский городок, простые русские люди… Он родился в этих краях, здесь прошло его детство. Здесь он, которому были широко открыты двери всех домов планеты, по-настоящему чувствовал себя как дома. Сюда, к землякам, он приезжал, чтобы отдохнуть после напряженной работы, чтобы, как Антей, набраться новых сил от родной земли.
Вернувшись из Гжатска, он сказал как-то: «Поездка на родину, встречи с земляками, с рабочими и колхозниками, сам воздух, напоенный запахом полей и лесов, наполнили меня новой энергией, и мне захотелось снова засучив рукава работать и учиться — делать то, что требует от каждого из нас Отчизна!»
Я навестил родителей Юрия. Его мать, Анна Тимофеевна, повела меня через улицу в старенький домик напротив. «Здесь Юра спал, здесь он делал уроки, возвратясь из школы. А вот на этом крылечке он любил сидеть теплыми летними вечерами», — тихим голосом рассказывала Анна Тимофеевна, и мне порой начинало казаться, что вот сейчас скрипнет крыльцо, откроется дверь и войдет он, по обыкновению жизнерадостный, с широкой улыбкой на лице, а все то, что с ним произошло, просто кошмарный, страшный сон.
Во дворе под стеклянным колпаком его машина. Черная «Волга» с номером 78—78 МОД… С этой машиной у многих из нас связаны дорогие и счастливые воспоминания. В то время это была единственная черная «Волга» в городке. И Юрий охотно отдавал ее на все семейные торжества, для поездок в загс, в роддом, для встречи родителей.
На ней, завалив все заднее сиденье сиренью, я привез из роддома своего наследника Андрейку…
А сейчас мне показалось, что даже она, эта машина, грустит здесь, потеряв своего хозяина, а ее стеклянный колпак не ангар, а склеп, в котором она похоронена.
В тот же день по весеннему бездорожью и под мелким тоскливым дождем мы с Анной Тимофеевной добрались до небольшой, затерявшейся на Смоленщине деревеньки Клушино. Несмотря на дождь, почти все ее жители собрались у маленького деревянного домика на околице. Здесь в простой русской семье 9 марта 1934 года родился обыкновенный русский паренек, которому суждено было стать первым гражданином планеты.
Отныне этот домик стал нашей национальной реликвией: мне было предоставлено почетное право открыть дом-музей Ю. А. Гагарина.
У меня дома в кабинете висит портрет Юрия. Массивный гермошлем скафандра обрамляет дорогое лицо. Спокойный, выразительный взгляд, небольшой нос, по-детски пухлые губы, кажется, вот-вот разойдутся в хорошо знакомую всем улыбку.
Я закрываю глаза, и передо мной мелькают картины, как кадры документальной ленты. В них Юрий в разное время и в разной обстановке.
…Первый космический тренажер. Его облепила со всех сторон небольшая группа старших лейтенантов во главе с инструктором Целикиным. Первые тренировки по отработке навыков в управлении космическим кораблем. Мы внимательны, сосредоточенны и почти не шевелимся вот уже несколько часов. В тренажере — Юрий. Неторопливый рассказ, четкие команды, скупые и словно выверенные движения рук — все это нравится Евстафию Евсеевичу, и он, не привыкший расточать похвалы, оценивая действия Юрия, крякнув, бросает: «Неплохо». Но мы видим, что он очень доволен, и рады за Юрия…
…Баскетбольная площадка. Весь в движении, словно сгусток энергии, Юра ведет за собой нас, «моряков», на штурм щита «пехоты» (так в шутку мы прозвали команды, состоявшие из летчиков ВМС и летчиков ВВС). И сколько радости у него, сколько возгласов, если мяч в корзине! А он, несмотря на небольшой рост, самый результативный игрок в команде. И опять вперед, в атаку, на штурм…
…Первая встреча с Юрием в Центре подготовки после его возвращения из космоса. Смущенно улыбаясь, Юрий рассказывает о своем полете. Вид у него несколько растерянный. Вероятно, оттого, что он никак не ожидал к себе такого внимания и славы, которые так неожиданно легли на его плечи. Мы тоже чувствуем себя как бы не в своей тарелке. И во все глаза смотрим на молодого майора с новенькими Золотой Звездой и орденом Ленина на груди, и в нашем сознании никак не укладывается, что он наш друг. Что совсем недавно, играя в футбол, кто-то сделал ему подножку. Казалось, что между нами образовалась пропасть, через которую мы не смели, да и не знали, как перейти. Ее перешагнул сам Юрий, и все стало на свои места. Он навсегда останется для нас безоговорочным авторитетом. Но эта встреча запомнилась сдержанной радостью, смущенными улыбками и какой-то непонятной всем неловкой растерянностью…
…Лаборатория аэродинамики в авиационной инженерной академии имени профессора Н. Е. Жуковского. Идет продувка сверхзвукового профиля. Мы с Юрием, прильнув к небольшому окошечку в аэродинамической трубе, смотрим на маленькую модель космического аппарата, и она для нас в этот момент центр мироздания. Юрий время от времени делает короткие и поспешные заметки в журнале наблюдения. Он весь внимание и сосредоточенность. И когда один из сотрудников лаборатории подошел к нему за автографом, с несвойственной ему сухостью бросает: «Подождите!»
…Июнь. Воскресенье, жаркий день. Уже в который раз пересматриваю свой конспект по термодинамике. Послезавтра экзамен в академии. Вдруг телефонный звонок. Поднимаю трубку.
— Жора, все выучил? — узнаю голос Юрия. — У меня здесь есть пара вопросиков, объяснишь?
— Попытаюсь.
— Тогда бери свои книжки — и айда в Химки! Выкупаемся, освежимся. Там и разберемся с этими энтальпиями и энтропиями. Идет?
Через час Юрий уже стоит в одних плавках за штурвалом катера. На его голове замысловатый головной убор то ли африканского, то ли южноамериканского происхождения. На шее завязанный по-докерски яркий платок. Валерий Быковский и я, блаженно щурясь на солнышко, беззлобно заводим Юрия:
— Эй, кэп! А эта калоша не развалится?
— Капитан! Послушай, капитан. Тебе работнички не нужны? Нет?.. Жаль, счастливчик. А то бы мы тебе наработали.
— Сеньор! Где вы потеряли свой роджерс?
Мы видим: эти подначки ему нравятся.
— Бунт на корабле? Не потерплю! Как только обнаружу среди этого окияна необитаемый остров, высажу. Из тебя, Жора, сделаю Робинзона, а из тебя, Валерий, поскольку ты посмуглее, — Пятницу! — улыбается нам в ответ Юрий, не забывая внимательно следить за фарватером и давая отмашки флажком то слева, то справа…
…В Центре идет напряженная подготовка к первому пилотируемому пуску «Союза». В группу космонавтов, готовящихся к этому полету, включен и Юрий Гагарин, Он добился своего. Пока дублер Комарова, но все же занят живым, любимым делом. И он с головой уходит в занятия, тренировки, испытания, полеты…
…Весна. Нас пригласили в воскресенье поохотиться на боровую. Выдался чудесный солнечный день. И хоть еще везде полно снега, чувствуется — весна решительно вступает в свои права.
Мы поднялись спозаранку и без устали бродим по лесу, по полянам, хмельные от весенних запахов и птичьих перезвонов. Мы ни капельки не огорчены тем, что ягдташи и ружья на этот раз оказались ненужными атрибутами нашей экипировки. Только Юрий вернулся из лесу с трофеем. Он и Алексей Леонов долго скрадывали глухаря, подбираясь к нему во время его любовной песни и застывая в неудобных позах, когда птица умолкала и озиралась вокруг красными глазами.
Приехали домой и стали прощаться у автобуса. И тут Юрий, единственный с добычей и от этого чувствующий себя неловко, запротестовал:
— Так, ребята, не пойдет! Вот что: через полтора часа жду вас с женами у себя дома. Валя успеет зажарить этого красавца. Я думаю, попробовать на всех хватит.
И мы пришли. И всем хватило. Всем понравился жареный глухарь, хотя некоторым гостям (а было нас человек двадцать) он напоминал жареную курятину. И все еще раз (в который!) слушали сначала Юрия, а затем Алексея, как они подбирались к этой ужасно хитрой птице… А потом пели. Все пели, даже Валерий Быковский. Мы тогда любили и умели, собравшись вместе, попеть задушевные песни.
…И опять весна. Весна 1968 года. Серый, неприветливый мартовский день. Я сижу в летной столовой. Есть почему-то не хочется. Смотрю в окно на серые, свинцовые тучи, закрывающие небо. Настроение под стать погоде. Входит Павел Беляев. Лицо его словно окаменело. Подойдя ко мне, он тихо говорит:
— Жора, час назад из полета должен был вернуться Юрий. Его до сих пор нет.
— Как нет? — до меня не доходит ужасный смысл слов Беляева. — Как не вернулся? — уже вскакиваю я. — Они, наверное, сели на запасной аэродром. Что они сообщили по радио?
— Ни слова, — глухо отвечает Павел. — А может… — начал было он и не закончил своей мысли.
В дремучем владимирском лесу взорвался самолет нашего друга, образовав в земле рваную рану, вокруг которой скорбно застыли израненные русские березы, немые свидетели трагедии, происшедшей 27 марта 1968 года в 10 часов 31 минуту.
Удивительна человеческая память! Она добра и жестока. Она прочно хранит все, что пройдено и пережито. И за какие-нибудь считанные минуты поможет вам еще раз пройти дорогу в добрый десяток лет.
Но она же и напомнит вам о том, как вы порой считали обычным делом величайшие события, как в повседневной сутолоке дел забывали или просто стеснялись сказать слова любви и дружбы, от которых сейчас разрывается грудь, тем, кто заслужил их.
Горько, но приходится согласиться с поэтом:
Лицом к лицу — лица не увидать. Большое видится на расстояньи.* * *
После возвращения Юрия из космоса мы принялись за отчеты о проведении всех этапов подготовки к полету и самого полета. Закончив эту работу, наша группа улетела в Сочи на отдых. Какое было у нас у всех настроение! Мы купались, загорали, ездили на экскурсии, принимали участие во всех соревнованиях.
Рядом с нами, на соседней даче, отдыхал Сергей Павлович Королев. Мы встречались почти ежедневно.
Во время общей безмятежности Сергей Павлович отзывал иногда Германа в сторону или приглашал к себе на дачу и вел с ним продолжительные беседы. Королев уже тогда жил предстоящим полетом. Однажды он собрал нас в небольшом холле.
— У меня к вам вопрос. Он и прост, и сложен. Я хотел бы узнать ваше мнение: на сколько лететь Герману? Было много предложений. После разговора с Германом и с коллегами осталось два варианта: три витка и сутки.
Мнения наши тоже разделились. Но большинство все же высказывалось за сутки. Внимательно выслушав каждого, Сергей Павлович подвел итог:
— Все ясно. Но окончательно вопрос о длительности полета будет решать все же Государственная комиссия. — И он впервые за время беседы улыбнулся.
И вот мы вновь на космодроме. В орбитальный полет на сутки теперь отправится Герман Титов. 6 августа ярким солнечным утром мы стоим у лифта, который должен поднять его на вершину ракеты, говорим ему теплые напутственные слова, а он улыбается нам и ничего не слышит.
Но… время!
Герман поднимается к своему «Востоку-2», а мы едем на смотровую площадку, находящуюся в полутора километрах от стартового стола. С этой площадки вместе с главными конструкторами различных систем, вместе с руководителями многих исследовательских институтов мы будем наблюдать за стартом Германа.
Во время полета Юрия мы все, за исключением его дублеров, находились на командных пунктах. Сейчас же здесь, на космодроме, весь отряд, и большинству из нас впервые предстоит воочию наблюдать старт космического корабля, потому мы так возбуждены и взволнованы.
Когда грохот мощных двигателей расколол утреннюю степную тишину и ракета, выйдя из клубов дыма и пыли, медленно, как бы нехотя, стала удаляться от пусковой площадки, мы все, и седые академики, и двадцатипятилетние «космические ребята», в едином порыве закричали изо всех сил «ура!». У многих по щекам текли слезы. А когда ракета, растворившись в синеве, исчезла из нашего поля зрения, всё на площадке смешалось. Мы бросились поздравлять друг друга. Объятия, радостные восклицания… И гордость!
Да, мы гордились тем, что это событие произошло здесь, в нашей стране, что каждый из нас внес посильный труд в это общее дело во славу Родины. Мы были счастливы, что родились на этой земле, что нам выпало огромное счастье жить и работать в только что начавшийся космический век.
Герман очень серьезно отнесся к отчету о своем полете. Он до мелочей разобрал и свою деятельность, и свое самочувствие. Чего греха таить, желая создать о себе хорошее впечатление у физиологов и методистов, мы во время различных экспериментов, исследований и тренировок на вопрос: «Как самочувствие?» — отвечали: «Отлично!», порой даже тогда, когда его едва можно было оценить удовлетворительным. К сожалению, такое переносилось иногда и в оценки реальных полетов.
Из доклада же Германа Титова следовало, что вопрос об адаптации человеческого организма к невесомости далеко не так прост, как его стали оценивать некоторые после успешного полета Юрия. Тщательно проштудировав отчет Титова, мы в своих тренировках стали уделять много внимания вестибулярному аппарату.
Сразу же после полета Германа частенько стали отвлекать на различные общественные дела. У него появилось много новых обязанностей и друзей. И, как натура увлекающаяся, он отдался им без остатка.
Ребята очень ревностно переживали эту «измену». Германа в отряде любили за живой ум, неподдельную искренность, за любовь к природе, ко всему прекрасному, за тонкое понимание искусства, поэзии. Все увиденное и услышанное он интерпретирует на свой лад, интересно, своеобразно… Помню, как-то во время поездки в лес, набрав грибов и устав, Тамара, Лида и я задремали у костра. Через некоторое время Герман нас разбудил. Он стал читать рассказ о том самом костре, вокруг которого мы безмятежно спали и в котором Герман нашел что-то особенное.
До конца дня он не оставлял нас в покое со своим рассказом. И все удивлялся, как это мы не увидели того, что он увидел сам.
Я всегда поражался его неутомимости и энергии, Помимо служебных и общественных дел, он еще много летал на самолетах, освоил все серийные и несерийные истребители, имеющиеся у нас в стране, и получил класс летчика-испытателя. Позднее он успешно окончил Академию Генерального штаба.
— Остановись, одержимый! — порой одергивали мы его.
— Братцы, так я же «облученный»! — отшучивался Герман, намекая на порядком надоевшую всем нам «утку» о том, что Титов после полета тяжело заболел лучевой болезнью.
* * *
С первых же дней работы в Центре подготовки мы остро ощутили недостаток в инженерных знаниях. Как компенсировать этот пробел? Предположений было много. В конце концов из всех вариантов отобрали два. Первый — чтение лекций по ведущим инженерным дисциплинам. Второй — учеба в авиационной инженерной академии имени профессора Н. Е. Жуковского. За последний вариант ратовали Женя Хрунов и я. Других поклонников у него не было. Но получилось так, что с 1 сентября 1961 года все мы стали слушателями ВВИА.
Груз, который мы добровольно взвалили на свои плечи, оказался не из легких. Не так-то просто совмещать работу в Центре подготовки космонавтов с учебой в академии. На занятия шли сразу же после тренировок и исследований. Это порой приводило к курьезам. Так, к примеру, была открыта «кривая Поповича». Однажды Павел пришел на занятия сразу после исследования. Но, несмотря на усталость, пытался добросовестно слушать и конспектировать лекцию. Через некоторое время, просматривая свой конспект, он и обнаружил эту кривую — «эвомоту». Ну и смеху же было, когда сообща разобрались, что так Павел окрестил самую что ни на есть элементарную эволюту…
Помнится, как профессор Т. М. Мелькумов, читавший нам теорию двигателя и термодинамику, войдя в аудиторию и обнаружив изменение в составе присутствующих, говорил:
— Ну что же, пассажиры меняются, а поезд идет, — и начинал свою лекцию.
А однажды он сказал:
— У меня для вас есть сюрприз, друзья мои. Следующую лекцию по моему курсу прочтет хорошо известный вам академик Глушко.
Да, действительно, Валентина Петровича, основоположника отечественного ракетного двигателестроения, мы знали хорошо. Не раз видели его на космодроме во время пусков пилотируемых космических кораблей, иногда он приезжал в Звездный.
Высокий, стройный, подтянутый, он покорял нас своей интеллигентностью и умением одеваться с большим вкусом. Я уж не говорю о том, как мы восхищались гражданским и научным подвигом этого ученого и меж собой уважительно называли его «богом огня». Поэтому понятно, с каким настроением мы ехали в конструкторское бюро, возглавляемое Глушко.
Он уже ждал нас.
— Пройдем прямо к наглядным пособиям. Прошу вас сюда, — и провел нас в демонстрационный зал. — Я начну свой рассказ, лекцию, если хотите, вот с этого двигателя. Он заслужил такое внимание. Это наш первенец!
Валентин Петрович рассказывал интересно. Перед вами развертывалась история отечественного ракетостроения. Мы переходили от стенда к стенду, от двигателя к двигателю. И если первый, по внешнему виду и по габаритам напоминающий паяльную лампу, имел тягу всего 20 килограммов, то последний, под «колоколом» (соплом) которого могла свободно разместиться вся наша группа, развивал тягу в сотни тонн.
Валентин Петрович детально рассказывал о каждом своем детище, хотя первый его двигатель был создан более сорока лет назад.
— Вот с этим мы долго возились из-за низкочастотных колебаний, а этот, наоборот, беспокоил нас высокочастотными. А на этот прошу вас обратить особое внимание, — остановился Валентин Петрович у ничем не примечательного на первый взгляд движка.
— Это не двигатель, это конфетка. Он дает все, что можно получить на химических топливах! Кстати, вы любите химию? Химия топлива — что может быть интересней!
Четыре часа пролетели как одно мгновение.
Руководство академии, понимая наши трудности, выделило для чтения лекций лучших профессоров и преподавателей. На их плечи лег тяжелый труд. В течение шести с половиной лет они отдавали нам не только своя знания, но и уйму свободного времени. И сейчас, проезжаю ли я мимо академии, иду ли ее коридорами (теперь уже в редкие посещения), я с благодарностью вспоминаю своих бывших преподавателей, — они сделали все, чтобы из нас получились неплохие инженеры. И в праздники, во время военных парадов на Красной площади, начинаю волноваться, когда мимо, чеканя шаг, проходят колонны моей академии.
* * *
Известие о том, что следующий полет будет парный, мы встретили с воодушевлением. Для подготовки к нему назначили основные и дублирующие экипажи: на «Восток-3» — командиром А. Николаева, дублером Б. Волынова; на «Восток-4» — командиром П. Поповича, дублером меня.
С Андрияном Николаевым у меня связано одно из памятных событий в моей жизни… В середине лета 1960 года мы перебазировались из Москвы в район нынешнего Звездного городка. На переезд нам дали три дня. Я около двух лет не был у матери и поэтому решил отпроситься у начальства на это время домой, Отпустили. Да вот беда, денег для такой поездки оказалось маловато, и я рискнул попросить у Андрияна «дотацию». Справившись, сколько у меня денег, он что-то прикинул в уме и протянул мне восемьдесят рублей:
— Этого тебе за глаза хватит!
Лето — время отпусков, транспорт весь забит. Естественно, билета на самолет я в тот день не достал. Ехать в Одессу поездом — слишком долго для трех дней отпуска. Вот и решил добираться на перекладных. В 21.15 сел в экспресс, идущий на Киев. В 11.00 следующего дня был уже в Киевском аэропорту и благодаря неписаному авиационному братству через полчаса вылетел в Одессу.
В полете один из пассажиров почувствовал себя плохо. Настолько плохо, что командир корабля вынужден был сесть на маленький полевой аэродром. Пассажиры вышли подышать свежим воздухом. Я по старой курсантской привычке растянулся под плоскостью самолета в густой, сочной траве. Рядом с нашим Илом стоял двухкрылый Ан-2. Я подмигнул ему как старому знакомому. Смотрю, от Ан-2 идет миловидная девушка с тугой косой, уложенной на голове, с большим баулом на плечах, в руках — огромный «домашний» чемодан. Она подходит к нашей бортпроводнице и о чем-то просит ее. На глазах у девушки слезы. Я встал и подошел к ним. Оказалось, девушке очень срочно нужно быть в Одессе, а Ан-2, на который она взяла билет, летит туда с посадкой почти в каждом большом селе, да и к тому же принять на борт могут только ее или багаж.
— Где же будет следующая посадка? — спрашиваю я.
— В сорока километрах здесь есть районный центр Балта, там и сядет.
Это как раз то, что мне нужно. В Балте живут мои мама и бабушка. Меняемся с девушкой билетами. Через пять минут «Аннушка» в воздухе. Внизу две девичьи фигурки машут мне на прощанье, и на душе у меня становится тепло и радостно. В 13.00 я уже дома.
Два дня пролетело незаметно. Стал собираться в дорогу. И тут приезжает в отпуск Лида из Заполярья. Разговор с мамой, с Лидой!.. Короче говоря, я побежал на почту телеграфировать в Москву и просить еще пару дней в связи с женитьбой.
И вот мама и Лида ранним утром провожают меня на летное поле. Лида решила лететь со мной до Одессы. В Одессе билетов на самолет не оказалось. На железнодорожном вокзале сказали: «Есть только в мягкий вагон». Вдруг Лида говорит:
— Давай я провожу тебя до Москвы.
Бежим в кассу за вторым билетом. На него уходят почти все имевшиеся в наличии деньги.
На следующий день утром я уже в нашей холостяцкой квартире.
— Если бы знал, что ты так легко нас предашь, денег не дал бы! — внушает мне старейшина холостяцкой общины Андриян, но, узнав, что Лида в Москве с одним рублем в кармане ждет обратного поезда, молча достает бумажник.
— Держи, жених! Чтобы как следует проводил! — заканчивает свое наставление немногословный Андриян.
В общем-то он предпочитает больше слушать, чем говорить. И, слушая, Андриян внимательно смотрит на рассказчика своими темными глазами, как будто хочет заглянуть в самые потайные уголки души собеседника. Короче говоря, серьезный нам попался староста.
Но бывают моменты, когда и он раскрывается совершенно с другой стороны. Вот, для примера, один из них.
Герман Титов, Андриян Николаев, Валерий Быковский и я в воскресный день поехали «побегать за зайцами». Побегать-то мы побегали, но… безрезультатно. Едем домой молча — устали. Вдруг Андриян предлагает:
— Ребята! Смотрите, сколько гусей вон у той избы на околице деревни. Давайте купим по одному. Негоже возвращаться домой с пустыми руками.
Валерию и мне это предложение понравилось. Остановив машину, предводительствуемые Андрияном, мы направляемся к избе. Герман не принимает участия в нашей затее. На крыльце встречаем хозяйку.
— Бабушка, нам нужно по гусю! — объясняет ей цель нашего визита Николаев. Старушка подозрительно косится то на наше снаряжение, то на своих гусей.
— Бабушка, мы ведь за деньги, — понял причину ее смятения Николаев.
Это меняет дело. Мы размыкаемся в цепь и под руководством хозяйки прижимаем гусей к забору.
— Хватай их, иродов, сынки! — командует бабуся.
Гуси с криком разлетаются, мы бежим за ними. Запыхавшиеся, бережно прижимая к груди длинношеих птиц, возвращаемся к автобусу.
— Ну, спасибо, старики! Ну порадовали, ну посмешили! Век не забуду! — встречает нас Герман, вытирая слезы.
— Сынки, а овечку вам не нужно? Через часок стадо придет с полей, — кричит нам вслед повеселевшая бабуся.
Теперь и мы все смеемся от души. Герман, как очевидец, описывает в деталях гусиную баталию, а Андриян, обо всем уже забыв, весь уходит в себя. Завтра начинается новая рабочая неделя, и забот у него хоть отбавляй. Андрияна недавно назначили командиром отряда космонавтов. Назначили по рекомендации Юрия Гагарина…
Спустя восемь лет после первого полета Андриян совершает свой второй космический полет. Это была тяжелая экспедиция. Длилась она восемнадцать дней. Так долго в космосе тогда еще никто не летал.
Главная цель полета — определить влияние длительной невесомости на работоспособность человека и на его физиологические функции. Как и ожидалось, Николаев и его бортинженер Севастьянов привезли интересные результаты. Именно после их полета настоятельно встал вопрос о реадаптации человеческого организма после невесомости к обычным, земным, условиям. Николаеву и Севастьянову для этого потребовалось около месяца. И сегодня, когда уже имеется опыт многомесячных полетов, когда мы нашли некоторые средства и пути облегчения и уменьшения длительности периода реадаптации, проблема эта остается еще не до конца изученной. Так, например, экипаж второй экспедиции на «Салюте-4» гораздо легче перенес этот процесс, чем экипаж первой, пролетавший месяц, то есть вдвое меньше.
Точно такая картина отмечалась у первого и второго экипажей американской орбитальной станции «Скайлэб».
Даже сравнивая работоспособность членов одной экспедиции Алана Бина и Джека Лаусмы, прибывших сразу же после своего пятидесятишестисуточного полета к нам на первую совместную тренировку по программе «Союз»—«Аполлон», мы отметили одну очень интересную деталь. Если Алан во время занятий по физкультуре нагружался весьма незначительно и осторожно, то Джек, пробежав пятикилометровую кроссовую дистанцию, тут же мог включиться в игру в баскетбол.
Напарником Андрияна и командиром «Востока-4» был щирый украинец Павло Попович… Есть ли добрее человек на земле? Скольких Павел выручал и скольким помог! Не счесть. «Паша поможет» — это стало чуть ли не заклинанием. Общительный и веселый, он был центром внимания любой компании. А сколько он знает песен?! Русских, украинских, веселых и грустных. Чтобы поддержать стройность хора, поет то первым, то вторым голосом, в зависимости от того, какого в данный момент недостает.
Я родился и вырос на Украине. Поэтому, когда звучит где-нибудь украинская песня, мое сердце тянется туда. «Ненько Украiно!» Да, для меня, русского, она стала матерью. И Павел напоминал о ней. Напоминал своей внешностью, говором, поведением. И когда я смотрю на Павла, мне кажется в зависимости от обстановки, что передо мной то живой, рассудительный и храбрый Тарас Бульба, то лиричный и мягкий Петро, скучающий по своей Наталке, а то один из героев охотничьих рассказов Остапа Вишни, умеющий с юмором, «со смаком» рассказать о своих приключениях на охоте или рыбалке.
Но о рыбалке вы лучше не задавайте Павлу вопросов, ибо это его самый любимый конек.
Павел, как и Андриян, слетал в космос дважды. Между его первым и вторым стартами прошло двенадцать лет. Внушительный срок! И это не исключение. Восемь лет ждал своего второго старта Андриян Николаев, десять — Алексей Леонов.
«Самое тяжелое в жизни космонавта — ожидание», — говорил Юрий Гагарин. И он тысячу раз прав. Ведь за этим ожиданием стоят годы тяжелой и напряженной работы. Не так-то просто держать себя десять-пятнадцать лет в крепкой узде — в хорошей физической форме и в постоянной готовности к полету в космос. И только настоящие энтузиасты космических полетов, горячо любящие свое дело, могут одолеть такое «ожидание».
И опять мне хочется привести слова Юрия, сказанные им сетовавшим на свою судьбу дублерам:
— Ничего, ребята, все приходит вовремя для того, кто умеет ждать.
Не буду спорить, вовремя или с опозданием, насколько здесь прав Юрий, но оно приходит, твое мгновение. Приходит, если ты его мужественно ждешь, затрачивая на это порой почти полжизни.
Сравнивая второй полет Поповича с первым, невольно поражаешься, как далеко ушла наша космическая техника, как возросли объем и сложность задач, решаемых теми, кто пилотирует эту технику.
В 1962 году Попович летал на «Востоке-4» — одном из наших космических первенцев. А в 1974 году ему пришлось управлять многоцелевым кораблем «Союз» и еще более сложной орбитальной станцией «Салют-3».
На «Востоке» одним из самых сложных экспериментов, выполненных Павлом (и Андрияном на «Востоке-3»), был выход из пилотского кресла. Как известно, ни Юрий Гагарин, ни Герман Титов во время полета не покидали своих кресел и весь полет были фиксированы к ним привязными ремнями. Тогда нельзя было с уверенностью сказать, сможет ли космонавт, плавающий в невесомости, вернуться в свое кресло. Вопрос очень серьезный, от которого зависела его безопасность при возвращении на Землю.
Андриян и Павел вначале очень осторожно, не делая резких движений, покидали свои кресла и возвращались в них. Затем, осмелев, легко и свободно проделывали эти операции перед бортовыми телекамерами. Сейчас даже смешно об этом говорить, но все познается через опыт. И даже мельчайшая деталь в космонавтике — серьезная проблема.
На борту «Салюта-3» Попович уже проводил очень сложные научные эксперименты, выполнял работы в народнохозяйственных целях. И, управляя сложнейшими системами орбитальной станции и научной аппаратурой, он, как бы в шутку над его «востоковскими» проблемами, со свойственной ему смекалкой и юмором, перемещался из конца в конец по «Салюту», оседлав пылесос.
— Забавно выступать в роли Бабы Яги. Но ведь это Баба Яга современная, механизированная в ногу с нашим космическим веком, — объяснял Паша изумленным операторам связи, впервые увидевшим его на таком средстве передвижения.
К старту «Востока-3» и «Востока-4» мы готовились с полной отдачей сил. Казалось, все идет нормально. И когда до заветного дня оставалось совсем немного, во время медицинского обследования при вращении на центрифуге на моей кардиограмме сердца выскочили экстрасистолы. Сейчас к подобному явлению относятся спокойно и критически. Но тогда…
Тогда ведь начинали не только мы, начинали и наши клиницисты и физиологи. Короче говоря, я был выведен из группы подготовки и стал подвергаться различным исследованиям до тех пор, пока генерал Молчанов, в то время главный терапевт Советской Армии, внимательно осмотревший и выслушавший меня, не сказал:
— Не мучайте парня! Отправьте-ка его лучше на месяц куда-нибудь отдохнуть. Он просто перетренировался.
Я поехал отдыхать. А мое место в группе занял Владимир Комаров.
* * *
Полеты на космических кораблях типа «Восток» завершились групповым рейсом «Востока-5» и «Востока-6». Их пилотировали Валерий Быковский и Валентина Терешкова.
Однажды, весенним утром 1962 года, возбужденный Юрий вошел в летную столовую и объявил:
— Ребята, нашего полку прибыло! Завтра будем встречать девчат!
Однако нами это сообщение было принято настороженно. К этому времени мы, пройдя серьезные испытания, сложились в крепкий и дружный коллектив. Поэтому понятно и естественно то пристальное внимание, с которым мы, собравшись в небольшом холле нашего профилактория, рассматривали тех, кого должны были принять в свою семью.
Девчата как девчата. Они чувствовали себя не совсем уютно во время этих смотрин. Юрий, поняв их состояние, пришел им на помощь: стал по очереди представлять девушкам каждого из нас. Причем делал это весело, с юмором. Особенно когда говорил об Андрияне, «засидевшемся в женихах».
А со следующего дня девушки уже работали по жесткому графику подготовки к космическому полету.
Между нами сложились хорошие, дружеские отношения, и мы помогали им как могли. Правда, кое в чем девушки могли дать нам, мужчинам, фору. И прежде всего в парашютной подготовке. Среди них были даже мастера и чемпионы Союза по этому виду спорта.
С тех пор по залам, где размещались стенды и тренажеры, среди привычных нам кратких и четких, как команда, позывных — «Кедр», «Сокол», «Беркут», стали звучать мягкие и непривычные: «Я — Чайка», «Я — Береза»…
Через год девушки были готовы к полету. Совершила этот полет Валентина Терешкова.
Девушки стали первыми ласточками в отряде. Наш коллектив начал расти, периодически пополняться новыми людьми. Так, в январе 1963 года в отряд пришла новая группа. Это были парни старше нас не только по возрасту, но и по воинским званиям, имеющие, помимо высшего образования, большие, чем у нас, летную практику и опыт службы на командных должностях. Среди них были и известные ныне космонавты — Владимир Шаталов, Георгий Береговой, Анатолий Филипченко, Георгий Добровольский, Юрий Артюхин, Лев Демин, Алексей Губарев и другие. Пришли в отряд и первые космонавты-нелетчики — инженеры, конструкторы, врачи. Все они своеобразные, интересные по-своему люди. И читатель, очевидно, хотел бы узнать о них подробнее. Но в мои планы такой рассказ не входит. Да я и не вправе это делать. Возможно, что кто-либо из этих ребят возьмет на себя труд и продолжит мой рассказ…
За три с небольшим года была выполнена огромная работа по изучению и решению теоретических и практических, научных и технических вопросов освоения космического пространства. «Восток» славно потрудился и теперь, уступая дорогу более совершенным кораблям, занял свое почетное место на страницах истории да в залах выставок и музеев.
12 октября 1964 года впервые в мире в космос стартовал многоместный космический корабль «Восход». Пилотировал его Владимир Комаров. В состав экипажа входили: Константин Феоктистов — инженер, научный работник, Борис Егоров — врач. Впервые космонавты стартовали в космос одетыми не в громоздкие скафандры, а в легкие костюмы. Через сутки космический корабль произвел мягкую посадку в казахстанской степи с экипажем на борту.
18 марта 1965 года на орбиту искусственного спутника Земли был выведен «Восход-2». Во время полета на этом корабле был проведен уникальный эксперимент: впервые в мире человек — это был Алексей Леонов, второй пилот корабля, — вышел в открытое пространство, удалился от корабля на пять метров, произвел ряд работ и наблюдений, превратившись на эти минуты в живой спутник Земли. Выполняя эксперимент, Леонову пришлось приложить все свои физические (а их-то Леше не занимать) и духовные силы.
Мне нравится этот веселый и общительный русский парень. Нравится своим жизнелюбием, преданностью в дружбе. Мне по душе его энтузиазм и искренняя заинтересованность во всех отрядных делах и начинаниях. Алексей постоянно начинен юмором. Он страстный охотник. Но эта страсть счастливо сочетается в нем с огромной любовью к природе и к «братьям нашим меньшим». На его полотнах (он еще неплохо рисует) изображены если не космос, то обязательно чудные пейзажи Подмосковья или уголки старых русских городов. Он любит общество и со всеми быстро находит общий язык, подкупая и детей, и взрослых дружелюбием и приветливостью.
Алексей очень искренний человек. И, как все такие люди, не умеет скрывать ни своих симпатий, ни антипатий. По его лицу и глазам всегда можно догадаться о его настроении, об отношении к человеку или событию. В связи с этим мне вспомнился один случай.
Лежали мы в госпитале на очередном обследовании. И в это время его жену Светлану увезли в роддом. Они ждали тогда своего первенца. Что будет сын, Алексей ни капельки не сомневался. Он убедил в этом даже нас, и мы сообща выбирали имя Леонову-младшему. Вдруг в палату вбегает сияющий Виктор Горбатко и, обнимая Леонова, радостно объявляет:
— Леша, поздравляю — дочь!
Алексей даже в лице изменился. Он молча смотрит на ликующего Виктора и наконец произносит:
— Не может этого быть!
Палата взрывается от смеха. Нам понятна и реакция Леонова, и реакция Горбатко. У Виктора совсем недавно родилась вторая дочь, и он не знал, куда деваться от подначек друзей. Сейчас у него появился друг по «несчастью».
Работа по международной программе ЭПАС сблизила нас с Алексеем еще больше. В течение двух лет мы трудились бок о бок, жили одними и теми же заботами и проблемами, вместе переживали успехи и неудачи, вместе преодолевали «языковый барьер». Приступая к изучению английского, мы ознакомились со многими методами ускоренного обучения иностранному языку, но остановились на «дедовском»: на занятиях с преподавателем — четыре часа в день в течение полутора лет. Безусловно, было тяжело. Порой мы уходили с занятий недовольные собой, злые на своего «тичера» и на его метод преподавания, с убеждением, что ничего путного из нас не получится. А назавтра опять возвращались в класс, где Феликс Попов, наш преподаватель, отмечая даже минутное опоздание, вместо приветствия говорил ставшие уже традиционными слова:
— Better late than never! Please, Mr. Brown and Mr. Davis, no Russian here![1]
Он даже фамилии нам придумал английские, требуя, чтобы во время занятий мы говорили только по-английски.
И его жесткая система дала свои результаты. Во время последних тренировок с нашими американскими коллегами мы уже обходились без помощи переводчиков.
Вполне понятно, что в начале совместных тренировок c американскими астронавтами мы внимательно присматривались друг к другу. И нам, и американцам хотелось знать: Who is who? (Кто есть кто?)
По молчаливому согласию мы не обсуждали никаких политических и идеологических вопросов, прекрасно понимая, что Стаффорд вряд ли станет когда-либо коммунистом, а Леонов — бизнесменом. И тем не менее все наши усилия были направлены на достижение благородной цели — мы на практике доказывали верность ленинской идеи о мирном сосуществовании государств с различным общественно-политическим строем. Кроме того, мы прекрасно сознавали, что на сей раз речь идет не о «русском» или «американском» очередном полете в космос. Дело касалось международного авторитета двух ведущих космических держав. И любой промах, любая недоработка в этом полете были бы общими. Это помогло нам быстрее найти общий язык.
Привычка американских парней полагаться только на свои силы в общем-то развивает неплохие черты характера. Прежде всего самостоятельность, высокий профессионализм и, я бы сказал, ревностное отношение к своему авторитету, к своему «я». У них есть чему поучиться, и мы старательно использовали для этого представившуюся нам возможность. В свою очередь, американские коллеги, внимательно присматриваясь к нашей подготовке к космическим полетам, нашли много полезного и поучительного для себя.
Наши коллеги оказались на редкость интересными людьми. Несмотря на свою чисто американскую деловитость, они любят юмор и остро шутят порой не только сами над собой, но и над своими товарищами.
Помню, Юджину Сернану один из руководителей Одинцовского конезавода, где мы были гостями (кстати, любовь к животным — одна из характерных черт американцев), задал вопрос:
— Мистер Сернан! Простите за нескромный вопрос. Почему вы, стройный, красивый и молодой мужчина, абсолютно седой?
Юджин ответил, ни секунды не думая:
— В трех моих космических полетах дважды командиром был Стаффорд. Этого оказалось достаточным для того, чтобы я приобрел такой цвет волос!
Том моментально отреагировал:
— Надеюсь, теперь вам понятно, почему я абсолютно лыс? — и он нежно погладил свою большую лысину.
Все присутствующие смеялись до слез. А Том и Юджин громче всех. Затем, когда все утихли, Сернан, посерьезнев, сказал:
— Работа у нас такая: если не станешь лысым, то обязательно поседеешь.
И мы, невольно посмотрев на головы друг друга, возражать ему не стали.
В процессе совместных тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина я много времени провел с Юджином Сернаном — командиром последней американской лунной экспедиции по программе «Apollo». Я помогал ему осваивать «Союз», сражался с ним на теннисном корте, мы вместе проводили свободное время.
Конечно, мы много говорили о будущем, мечтали о новых совместных полетах в космос, надеясь попасть в основные экипажи.
Однажды, совершив орбитальный полет в тренажере «Союза» и после этого победив в упорном сражении на теннисном корте Анатолия Филипченко и Джека Лаусму, мы сидели с Юджином в нашей парной. Хлопнув ладонью меня по плечу, он говорит:
— Look, Georgy! — Юджин не знает русского, но собирается выучить его.— Если бы мне кто-нибудь в Штатах всего два года назад сказал, что я буду до пота работать вместе с русским коммунистом (а ты ведь коммунист, я знаю), а затем сидеть с ним в сауне в нескольких десятках километров от Москвы, я бы ни за что не поверил.
Он, очевидно, много думал над этим «открытием». И в автобусе по дороге в Большой театр опять возвращается к той же теме.
— Listen, Georgy, what I want to say to you, as one navy man to another. (Послушай, Георгий, что я, как моряк моряку, хочу тебе сказать.)
Он немного помолчал, затем продолжил:
— Сейчас всюду много говорят о мире, о разоружении. Но практических шагов, к сожалению, очень мало. Для многих людей они не видны, не осязаемы. Об этом пишут газеты. Но газет много, и они разные. Поэтому большинству трудно разобраться, где слова, а где дела. А вот когда они включат свои телевизоры и по прямой передаче из космоса увидят, как ваши и наши парни трудятся на благо всего человечества, то поверят в наши мирные устремления. Поверят на всех континентах! Поэтому нам нужно летать больше, чаще. Do you agree with me? (Ты согласен со мной?)
Я не мог не согласиться с ним и ответил:
— That is exactly my point! (Я тоже так думаю!)
Да, мы все, советские космонавты и американские астронавты, ждем новых полетов. Мы глубоко уверены в успехе нашей будущей совместной деятельности по исследованию космического пространства с помощью пилотируемых космических кораблей и станций. Эта уверенность имеет под собой реальную почву. И полет по программе «Союз»—«Аполлон» доказал это!
Вы все были свидетелями этого совместного полета. Он дал прекрасные результаты, хотя не всё в его начальной стадии протекало гладко. Так, на борту «Союза» вдруг не заработала система телевидения. Практически этот отказ не мог существенно повлиять на программу совместного полета. Но всех нас огорчило, что миллионы телезрителей не смогут увидеть выдающегося события своими глазами. Поэтому мы все: в космосе, на аналоге космического корабля, в Центре управления — стали искать способы устранения неисправности в телевизионной системе. И нашли! Володя Джанибеков все опробовал на аналоге. Затем составили методику работы для экипажа, и я передал ее Леонову и Кубасову. И когда в следующий телевизионный сеанс мы увидели на экране Алексея, вздох облегчения пронесся по главному залу Центра управления.
Не скрою, мне приятно было выполнять обязанности «кэпкома» (capcom — так американцы называют главного оператора связи с экипажем — прижилось и у нас). И не только потому, что я до деталей отработал программу полета. Я хорошо знал и экипаж «Союза». Более того, они были дороги мне: Алексей, потому что это один из немногих оставшихся в Центре подготовки ребят гагаринского набора; а с Валерием нас породнил космос в октябре 1969 года. Зная до тонкостей характер каждого, я передавал распоряжения, рекомендации и замечания экипажу так, чтобы уже по интонации моего голоса им была понятна реакция Земли на все их действия.
Не обошлось, конечно, и без курьезов. К концу полета дежурный врач обнаружил изменения в кардиограмме сердца Алексея и доложил об этом руководителю полета Елисееву. Доктор настаивал, чтобы Леонов принял несколько таблеток панангина.
Зная отношение Алексея Леонова к пилюлям и облаткам да еще его эмоциональность, я возразил. Меня поддержал сменный руководитель полета Кравец. Но доктор стоял на своем.
— Ну а какие-нибудь побочные действия у твоего панангина есть? — спросил я, стараясь найти хоть малейшую лазейку.
— Никаких! Его можно рекомендовать для стимуляции сердечной деятельности даже здоровым людям, — уверенно и, как мне показалось, обрадованно ответил Борис.
— Хорошо! Тогда рекомендуем принять панангин обоим, и Леше и Валерию, — пытался я найти приемлемый компромисс.
Доктор не соглашается, и Елисеев, вздохнув, говорит мне:
— В общем, Жора, Алексей должен принять панангин. Как ты его заставишь — твое дело.
Это прозвучало для меня уже как указание руководителя полета, и я стал думать о том, как его выполнить, не встревожив Леонова.
Как потом оказалось, такие изменения в кардиограмме Алексея отмечались и ранее при тренировках на земле, и наши врачи считали это особенностью его организма. Поэтому я прекрасно понимал душевное состояние Алексея, когда на первой же пресс-конференции после полета ему задали вопрос о целебных свойствах панангина. Во всяком случае, я не хотел бы быть в этот момент на месте Бориса.
Но вернемся к первому полету Леонова.
Командовал «Восходом-2» Павел Беляев, уроженец Вологодской области. Он относился к старшей группе ребят и годами, и положением. Он даже успел сделать несколько боевых вылетов во время войны с Японией. В отряд Павел прибыл в звании майора с должности командира эскадрильи, с академическим значком на груди.
Немногословный и сдержанный, Беляев был образцом самодисциплины и никогда не терял контроля над собой. Даже тогда, когда молодая девушка-рентгенолог уронила тяжелую головку рентгенаппарата на его ногу, которую Беляев сломал после неудачного приземления с парашютом, Павел только попросил:
— Нельзя ли поаккуратнее?
Беляев хорошо разбирался в людях, ему не нужно было «есть пуд соли», как говорят, чтобы определить способности и возможности человека. Он очень любил своих дочерей, своих «кулем». Этим домашним словечком, меняя интонацию, он выражал и высшую меру похвалы, и свое крайнее неудовольствие.
Во время полета Павел проявил большое хладнокровие и умение. Когда, полностью выполнив задание, они должны были пойти на посадку, вдруг обнаружилось, что автоматическая система спуска отказала. Им с Алексеем пришлось уйти на «второй круг», то есть выполнить еще один виток. И уже с этого витка Беляев приземлил корабль вручную в пермских лесах.
У Павла побаливал желудок, и он знал, что каждая встреча с «медициной» может привести к тому, что его не допустят к следующему полету. Поэтому медицинских осмотров старался избегать, хотя последнее время чувствовал себя неважно.
17 декабря 1969 года ребята собрались на охоту. Павел вдруг решился:
— Съезжу-ка я с вами. Посмотрю, что вы в этом находите хорошего?
Кто мог предположить, что это был последний его выезд куда-либо. 25 декабря он почувствовал себя совсем плохо. Его положили в госпиталь. Потянулись тревожные дни, дни тяжелой борьбы лучших специалистов страны за жизнь Павла Беляева. Ему сделали две операции, но было уже поздно.
10 января утром нас вызвали в кабинет Леонова. Алексей стоял у окна и отрешенно смотрел на серое, хмурое небо. Когда все собрались, Леонов подошел к столу. По его левой щеке катилась слеза. Он не скрывал ее или не замечал.
— Друзья! Сегодня в ноль часов тридцать минут умер Павел Беляев… Нет больше Паши… — глухо сообщил он нам трагическую весть и опять отвернулся к окну.
Мы долго сидели молча, погрузившись в грустные мысли, затем разом встали и пошли к Татьяне Беляевой. Что нам ей сказать? Как ей помочь перенести это страшное горе?
В полетах на кораблях типа «Восток» и «Восход» была выполнена широкая программа научных исследований и технических экспериментов.
В эти годы судьба свела меня с Борисом Волыновым.
Борис — сибиряк. И как все сибиряки, обладает огромной физической силой, да и фигура у него атлетическая. Обычно эти качества делают человека покладистым и спокойным. У Бориса же возмущение или недовольство накапливаются до определенного предела, потом он «взрывается».
Волынов очень осторожен в выборе друзей и щепетилен во всех вопросах, касающихся его подготовки к полетам. И, нужно отдать ему должное, готовился он к ним весьма вдумчиво и основательно.
Мы с Борисом, который к этому времени продублировал Николаева, Быковского, Комарова и приобрел репутацию «вечного дублера», не были новичками в работе и прекрасно понимали, где главное, а где второстепенное. И буквально вышагивали каждый виток на карте, до секунд отрабатывая все основные элементы полетного задания, готовясь к старту в космос.
Мне вспоминается один из дней, когда мы, склонившись над большой физической картой мира, изучали трассы предстоящего полета, привязывая к ним всю свою будущую деятельность на орбите. По укоренившейся авиационной привычке здесь же выбираем районы для аварийной посадки. Вероятность такой посадки мала, но не исключена. И мы скрупулезно оцениваем все «за» и «против» каждого района. И просто физически ощущаем, до чего же мала наша старушка планета. Относительно одного из таких районов наши мнения расходятся. Мы спорим долго и энергично.
— Вы только присмотритесь. Разве Аравийский полуостров не напоминает вам палубу большого авианосца? Сам бог создал его на этот случай! — горячо пытаюсь я убедить своих оппонентов.
— Не знаю, Жора! Я на флоте не служил, — поддевает меня присутствующий здесь же Целикин. Он решил, что пришло время вмешаться и остудить наши разгоряченные головы. — Но лично мне этот твой полуостров по форме, цвету и плодородию напоминает кирпич!
Ребята заходятся от смеха. Разрядившись, мы опять принимаемся за работу.
Вскоре нас (да и не только нас — всю нашу страну) постигло большое горе. 14 января 1966 года умер Сергей Павлович Королев.
Несколько дней мы были в шоковом состоянии: умер Главный конструктор… Кто заменит Сергея Павловича, можно ли его заменить вообще, как пойдут дела дальше?
Новый космический корабль «Союз» конструктивно и идеологически абсолютно новая машина, в корне отличающаяся от своих предшественников. «Союз» предполагал непосредственное и широкое участие человека в управлении кораблем, и это очень радовало нас, летчиков-профессионалов. Конечно, летать прекрасно даже пассажиром Аэрофлота. Но для нас полет — это прежде всего деятельность. Причем деятельность активная, требующая больших затрат физических и душевных сил, умения и творчества, влияющая на весь ход полета, на его успех, составляющая смысл этого полета. Полет для нас — жизнь! Может быть, сказано немного громко, но зато точно.
Если серьезно говорить о практическом использовании космического пространства, то решение этой проблемы немыслимо без создания больших космических станций, которые, естественно, будут собираться поблочно космонавтами на околоземных орбитах. Одним из важных моментов в этой работе будет причаливание и стыковка блоков друг с другом. Новый корабль был приспособлен для этого. На нем мы и должны были получить первый опыт по проведению таких операций в космосе. Но эта возможность корабля может быть использована и для другой цели — спасения экипажа космического корабля или станции, терпящих бедствие на орбите.
Как показывает опыт, ни одно серьезное исследование в науке (да и в практике) не проходит гладко. На этом тернистом пути есть не только успехи и победы, но и временные поражения, отступления, неудачи и трагедии.
Не составляет исключения и космонавтика. Приведу несколько примеров.
…На стартовой позиции в корабле «Apollo» возник пожар, и астронавты Гриссом, Уайт и Чаффи, проводившие в нем тренировку, сгорели.
…Во время выведения корабля на орбиту последняя ступень ракеты-носителя теряет стабилизацию, и космонавты Лазарев и Макаров совершают аварийную посадку в алтайские горы, перенеся во время спуска в атмосфере огромные перегрузки.
…На траектории полета к Луне в служебном модуле «Аполлона-13» взрывается кислородный бачок, и экипаж оказывается в очень критической ситуации. К счастью, корабль удалось благополучно вернуть на Землю.
…После расстыковки с орбитальной станцией «Салют» происходит разгерметизация транспортного корабля «Союз», и космонавты Добровольский, Волков и Пацаев гибнут.
…Из-за отказа парашютной системы с нерасчетной скоростью приземляется «Союз», вследствие чего погибает Владимир Комаров.
…После приводнения капсула Гриссома пошла на дно океана, и он едва успевает выбраться из нее.
Я специально привожу эти примеры не в хронологическом порядке, для того чтобы показать, что на всех этапах космического полета, от старта до посадки могут возникать аварийные ситуации, угрожающие жизни космонавтов. И не случайно в последнее время остро встал вопрос о спасении экипажей космических аппаратов, терпящих бедствие. Забегая немного вперед, мне хочется сказать, что создание унифицированного андрогинного стыковочного узла (на мой взгляд, самое важное техническое достижение при работе над программой «Союз»—«Аполлон») тоже служит самым прямым образом этой благородной цели. Любой космический корабль, оснащенный андрогинным устройством, в случае необходимости сможет подстыковаться к другому, оснащенному таким же узлом, и провести спасательные операции.
Поэтому так важны и актуальны в то время были такие задачи, как ручная стыковка и переход членов экипажей из одного корабля в другой через открытый космос, которые должны были быть решены во время первых полетов «Союзов». Уже эти две задачи в достаточной степени характеризуют возможности «Союза» и требования, предъявляемые к новому космическому кораблю. Ясно, что первым испытывать такую сложную систему должен был человек, достаточно подготовленный. Выбор пал на Владимира Комарова — на летчика, окончившего инженерную академию и имеющего опыт космического полета.
Володя справился со своей задачей, но при возвращении на Землю, как я уже говорил выше, погиб.
Выступая в «Комсомольской правде» по поводу трагической гибели Владимира Комарова, Юрий Гагарин выразил наше общее мнение, наше решение: «Мы научим летать „Союз“. В этом вижу я наш долг, долг друзей перед памятью Володи. Это отличный, умный корабль. Он будет летать. Мы сядем в кабины новых кораблей и выйдем на новые орбиты. Весь жар сердец, весь холод ума отдадим делу. Володя погиб во имя жизни. И завещал нам любить ее еще крепче. Мы будем жить и работать. Мы сделаем все, что прикажут нам Родина, партия, советский наш народ. Нет ничего, что бы не отдали мы для чести его и славы».
После доработок, занявших определенное время, корабль «Союз» был снова выведен на орбиту. На пилотируемом «Союзе-3» Георгий Береговой успешно провел испытание всех систем и агрегатов корабля. И «Союз» получил право на жизнь, «добро» на работу в космическом пространстве.
Программа полетов «Союзов» была обширной, сложной и чрезвычайно интересной. Для участия в ней назначается большая группа космонавтов. В нее вошли В. Шаталов, Е. Хрунов, Б. Волынов, А. Елисеев и другие. Я был назначен дублером В. Шаталова. Должен признаться, что одна из самых тяжелых обязанностей — быть дублером. Дублирующий экипаж проходит точно такую же подготовку, как и основной, вкладывает в эту подготовку столько же души и сердца, но, когда приходит время стартовать, места в космическом корабле занимает все же основной экипаж, а дублеры остаются на земле. Они возвращаются в Центр подготовки, и для них все начинается с самого начала: учебные классы, чертежи, схемы, конструкторское бюро и цехи заводов, тренажеры, исследования и испытания, штурвалы самолетов и парашюты.
Я находился на главном командном пункте и вел непосредственные переговоры с экипажами во время основных этапов полета «Союза-4» и «Союза-5». Следя за выполнением операций по стыковке и осуществлению перехода, я думал и желал только одного — чтобы ребята на чем-нибудь не споткнулись. Готовый прийти им на помощь в любую минуту, я до боли в кистях сжимал микрофон.
Позже я спросил Женю Хрунова:
— Скажи, какой момент полета для тебя был самым напряженным в психологическом плане?
Он немного подумал и, смущенно улыбаясь, ответил:
— Пожалуй, это было перед самым переходом. Мы с Алексеем, уже одетые в скафандры, с опущенным забралом сидим и ждем команду на открытие люка. Но вот давление из орбитального отсека сброшено до нуля, и люк пошел. Я смотрю на него и вижу, как подо мной разверзается бездна, в которую мне через несколько минут предстоит шагнуть. И вдруг начинает казаться, что я не смогу себя заставить оторваться от дивана, на котором сижу. Вот этого я действительно испугался…
Но он смог. Хрунов первым шагнул в пустоту и сделал все наилучшим образом.
Женя — толковый инженер, хотя вначале ему труднее всех было постигать эту науку. Сразу после окончания семилетки пошел в техникум механизации сельского хозяйства, потом — летное училище. Отсюда и масса вопросов, которые он задавал на лекциях преподавателям, вопросов, ответы на которые большинству из нас были ясны и понятны. Над Женей подшучивали:
— Ну, ребята, штыки в землю. По домам! Хрунов развязал свой мешок с вопросами.
Женю это нисколько не смущало, и на следующей лекции он вновь развязывал свой мешок. Любознательность да плюс сатанинская усидчивость сделали его через некоторое время одним из лучших слушателей нашей группы. Он блестяще закончил академию, получив диплом с отличием. А через три года Хрунов защитил кандидатскую диссертацию и заочно окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина.
После старта корабля «Союз-5» вместе с Главным конструктором летим в Центр управления полетом. Мы, дублеры, выполнив свою работу, чувствуем себя опустошенными. Вплоть до старта основных экипажей мы понимали необходимость и важность всего того, чем занимались. Сейчас дело сделано. И мы никак не можем привыкнуть к своему новому положению. Наше состояние заметил Главный конструктор.
— Выше головы! Осенью для вас предстоит хорошая работенка. «Ведь мы, ребята, с семидесятой широты», — улыбаясь, закончил он словами понравившейся ему песни.
Работа действительно предстояла серьезная, а времени на подготовку отводилось не так уж много. Дело облегчалось лишь тем, что «Союзы», на которых нам предстояло лететь, мало чем отличались от тех, которые мы уже знали. Но были и изменения. Например, на «Союзе-6» отсутствовал стыковочный узел, но зато была сварочная установка «Вулкан», специальные приборы для автономной навигации — астроориентатор и специальный секстант, так как программой полета предусматривалось широкое маневрирование трех космических кораблей. Готовясь к этому, мы много летали, примеряясь, как лучше использовать опыт полетов на самолетах к тем маневрам, которые предстояло провести в космосе.
Весна и лето 1969 года ушли на разработку и составление программы полета трех кораблей и на отработку программы в Центре подготовки на тренажерах и стендах. В сентябре мы были уже на космодроме.
Гостиница «Космонавт», наша с Валерием Кубасовым комната… Такое впечатление, будто мы отсюда и не уезжали. Тот же режим, тот же распорядок дня. Большую часть времени проводим на технической позиции. Остальная часть отводилась на уточнение полетной документации и методик, на заполнение бортовых журналов.
А по вечерам в маленьком кинозале смотрели кинофильмы. По традиции в основном это музыкальные или комедийные картины. После напряженного рабочего дня, когда голова гудит от принятой информации, хотелось разрядиться, посмеяться и отдохнуть. После сеанса идем с Валерием в свою комнату. Засыпаем нескоро. Лежим молча, думая каждый о своем. Неудивительно! Ведь больше года мы с ним готовились к полету. За это время столько пережито и переговорено. Но, о чем бы мы ни думали, мысли так или иначе возвращаются к предстоящему старту. Мы ждем его с нетерпением и мысленно торопим время.
Наконец настал день, которого я никогда не забуду. Это было 11 октября 1969 года.
О, сколько лет мечтал я о тебе… Дорога в небо!Эти стихи Николая Криванчикова я впервые прочитал еще в училище, но только сейчас по-настоящему понял, какой огромный эмоциональный заряд заложен в этих двух строчках.
В тот день мы с Валерием встали, как всегда, в 7.00. Побрились. Не спеша прошли медосмотр. Позавтракали. Все было привычным и до обидного обычным, как день или два назад.
Я попытался взглянуть на себя и оценить свое состояние со стороны. Кажется, мне это удалось. И поразился будничности своего настроения. Мне думалось, что этот день будет праздничным с самого пробуждения. А здесь какие-то невероятно простые заботы: завел ли часы, прикрепил ли к бортжурналу карандаши, навел ли порядок в тумбочке у своей кровати… Время тянется медленно. На нас надели датчики, записали фоновые данные. Мы сфотографировались, сказали «до свидания» тем, кто не поедет с нами на стартовую площадку, и все равно осталось еще около получаса свободного времени, которое решительно не знаем, чем заполнить. Поминутно смотрим то на часы, то на поданный автобус. Наконец едем на стартовую позицию. Ехать долго, дорога до мелочей знакома, смотреть в окно не хочется — кругом голая степь. Мысли прыгают, перескакивают с одного на другое. Ребята, стараясь отвлечь нас, затягивают песню, рассказывают смешные истории, анекдоты.
Но вот и стартовая площадка, огромная, в клубах испарений ракета. Докладываю председателю Государственной комиссии о готовности экипажа к выполнению задания. Получаем разрешение занять свои места в кабине космического корабля.
…Лифт медленно доставляет нас на самую вершину ракеты. Стоя на верхней площадке, смотрим вниз на машущих руками людей. Ракета «дышит», вздрагивает, как боевой конь. Сняв верхние куртки, обувь, головные уборы — теперь все это нам не нужно, — опускаемся в наш «Союз».
Проверив оборудование в орбитальном отсеке, перебираюсь к Валерию в спускаемый аппарат, задраиваю люк. Мы остаемся одни. Приступаем к предстартовой проверке систем корабля. Время летит незаметно. А главное — трудно осознать: где мы и что делаем. Когда стартовая команда взяла управление проверкой систем корабля на себя и у нас образовалась небольшая пауза, я спросил Кубасова:
— Слушай, Валера, у тебя нет такого чувства, что все это мы проделываем у себя в Центре на тренажере?
— Да, похоже, — как обычно, подумав, ответил Валерий.
Несколько минут мы сидим молча, погрузившись каждый в свои мысли. Я знаю, что во время телесеанса, который будет через несколько минут, Юрий Фокин задаст и мне свой традиционный вопрос «О чем вы сейчас думаете?», и пытаюсь запасти на него какой-нибудь ответ. Но в голову решительно ничего не приходит. Мы подшучивали всегда над этим фокинским вопросом: «Юрий Валерьянович! Придумайте что-нибудь новенькое», но он упорно гнул свое. Лишь спустя много времени Фокин мне пояснил, что это был своего рода психологический тест.
Как бы там ни было, но ответил я, очевидно, неудачно.
— Я думаю о том, что мой сынишка Андрей просидит сегодня у телевизора, не сделает уроки и получит завтра двойку!
Да, я действительно думал о нем, о маленьком дорогом мне человечке. Ведь то, что делаю сейчас я, делаю частично и ради него. Я помню, с каким вниманием он следил по телевизору за полетами моих друзей, как ему хотелось задать мне мучивший его вопрос. И как, вздохнув, он не задавал его, чувствуя, что этот вопрос до боли волнует меня самого.
Сегодня он будет иметь право ликовать и гордиться отцом в открытую! Ну а насчет уроков и двоек действительно вышла неувязочка: только на орбите сообразил, что старт состоялся в субботний день.
— До старта десять минут! — слышим в наушниках, и это сообщение как-то вдруг меняет и наш ритм работы, и наше душевное состояние.
Я ловлю себя на том, что пытаюсь контролировать дыхание и начинающее «набирать обороты» сердце. И когда услышал команду «Зажигание!», а затем — «Подъем!», когда тело ракеты, вздрогнув, оттолкнулось от стартового стола, на какой-то момент как бы зависло в воздухе, а потом стремительно стало набирать скорость и высоту, только тогда я окончательно уверовал в реальность всего происходящего и вздохнул с облегчением: мой многолетний труд наконец получает логическое завершение — теперь-то уж я наверняка буду в космосе!
На участке выведения ничего необычного или неожиданного не встретили. Этот участок хорошо имитируется на центрифуге, а на ней мы много раз вращались, в том числе и по графику выведения. Разве только моменты отделения головного обтекателя, отработавших ступеней ракет, характер и распределение по времени вибраций были для нас незнакомыми.
Следим за окончанием работы третьей ступени. Момент ответственный. Все должно укладываться в строгие временные интервалы. Не доработай ступень какие-то считанные секунды, и нам придется, не сделав даже витка, садиться в Тихом океане.
Но вот отделение! Оно сопровождается мощным хлопком и жестковатой встряской — это пружины и пиротолкатели отбрасывают нас подальше от последней ступени. Наступает какая-то густая тишина. Все, что не имеет фиксации, всплывает: наши руки, концы привязных ремней, бог весть откуда взявшиеся в стерильном корабле пылинки…
Мы на орбите! Земля сообщает нам предварительные данные о ее параметрах. Отпускаем привязные ремни — и к иллюминаторам. Там на фоне черного неба масса белых частичек, которые движутся вместе с кораблем. Они самых различных размеров, движутся хаотически и постепенно отстают.
— Жора, с нами рядом что-то летит! — слышу возбужденный голос Валерия.
Подплываю к его иллюминатору и вижу красивейшую картину. Сумеречный горизонт. А на его фоне, поблескивая в последних лучах Солнца и оставляя за собой длинный спиралеобразный шлейф, летит, медленно вращаясь, наша последняя ступень.
Но вот мы проваливаемся в темноту. Корабль вошел в тень Земли. С трудом отрываемся от иллюминаторов — глазеть по сторонам некогда. Нужно проверить оборудование и состояние бортовых систем после выведения. Убеждаемся, что все в порядке, и начинаем работать по программе.
С интересом встречаем свой первый рассвет на орбите. Сначала на горизонте появляется небольшая узенькая полоска густого темно-красного цвета. Затем она постепенно начинает расширяться по горизонту и высоте, светлеет, верхний слой из желтовато-зеленого делается голубым, и наконец показывается четкий краешек Солнца. Красные тона отодвигаются в стороны, им на смену приходят голубые. Над горизонтом повисает диск Солнца, и наша красавица планета окутывается голубоватой шалью.
Первые два витка загружены работой настолько, что нет времени ни для переживаний, ни для эмоций. Но на третьем витке образовалось «окно», мы можем отдохнуть и как-то оценить свое состояние. Я сразу же почувствовал какой-то дискомфорт. Мне кажется, что нахожусь вниз головой. Меняю положение, но неприятное ощущение не проходит. Это начинает угнетать. К счастью, наступает сеанс связи; и подготовка к нему отвлекает от всего. Затем переговоры с Землей, и я как-то забываю о своих неудобствах.
Когда выходим из зоны видимости своих НИПов, снова появляется свободное время. И снова неприятные ощущения дают о себе знать. На этот раз, как мне показалось, с еще большей силой… Вспоминаю, Герман говорил, что четвертый виток для него был критическим. А потом его самочувствие стало лучше. «Будем надеяться», — мысленно говорю себе.
Я знаю, что такое морская болезнь, укачивание на самолетах, неприятные ощущения, возникающие на качелях Хилова, так знакомые по тренировкам, но то, что испытываешь в космосе на первых витках, не похоже ни на одно из них, хотя, несомненно, имеет с ними одну общую природу. Я мысленно ругаю себя за расслабление и начинаю присматриваться к Валерию: «Неужели он ничего не чувствует?» Он поворачивает ко мне голову. Его лицо мало напоминает обычное Валерино, и я улыбнулся.
— Прежде чем смеяться, посмотри в зеркало на себя, красавец! — пробурчал он.
Плыву в орбитальный отсек к зеркалу. Смотрю и не узнаю себя: лицо как-то неестественно распухло, красные, налитые кровью глаза. Желание смотреться в зеркало сразу пропало.
К исходу второго дня мы почувствовали себя лучше, лица наши приняли почти обычный вид (если не считать выросшей щетины), неприятные ощущения притупились.
Первое время, работая в орбитальном отсеке, я, прежде чем что-нибудь сделать, фиксировал себя к полу. Коль скоро есть сервант и диван, должен быть и пол. А если есть пол, надобно на нем стоять! Тем более что именно в таком положении мы работали все время у себя на тренажере. Но постепенно «чувство пола» исчезло, и я выполнял те или иные операции, находясь в самых различных положениях.
Но время, которое мы затрачивали на выполнение этих операций, резко возросло по сравнению с земным. Даже такие простые действия, как смена светофильтров и объективов на фотоаппарате, требовали сноровки. Чуть зазевался, и эти объективы и светофильтры «разворовываются» вентиляторами или ничтожной силой гравитации, возникающей при закрутке корабля на Солнце. Ведь все эти вещи потеряли свой вес. Вес, но не массу.
В связи с этим мне вспоминается один случай. Мы с Валерием проводили наблюдения за земной поверхностью. Он находился в спускаемом аппарате, я — в орбитальном отсеке. Внизу разворачивалась красивейшая панорама островов Зеленого Мыса. Мне захотелось снять их на пленку.
— Валера, если у тебя освободился «Конвас», толкни-ка мне его, — попросил я у Кубасова кинокамеру, которая на Земле весит около 4,5 килограмма.
Он выполнил мою просьбу, возможно, чуть энергичней, чем следовало бы. Удар в спину был настолько сильным, что я даже не сразу сообразил, кто же это меня так «обласкал».
— Ну и шуточки у вас, товарищ «Конвас», — морщась и почесывая ушибленное место, пробурчал я.
— Ничего, Жора. Могло бы быть и хуже. Например, если бы на твоем месте сидел я, — улыбаясь, утешил меня Валерий.
Программа нашего полета была довольно насыщенной, и нам пришлось трудиться не покладая рук. Для свободного знакомства с космосом времени почти не было, поэтому мы с нетерпением ждали те короткие минуты, которые отводились нам для отдыха (так называемое личное время). Когда оно наступало, я устраивался у одного из иллюминаторов, а Валерий, желая создать домашнюю обстановку, возился с приемником. Но почти все наши станции на протяжении всех пяти суток передавали одну и ту же мелодию. Дело в том, что перед нашим стартом в Сочи проходил фестиваль молодежной песни. И по вечерам мы с интересом следили за его ходом по телевизору. Нам обоим очень понравилась услышанная впервые песня «Русское поле», которая и оказалась затем нашей спутницей от старта до посадки. Когда корабль находится в зоне видимости измерительного пункта и не передает на Землю и сам не получает с Земли никакой информации, с НИПа в эфир транслируют по просьбе экипажа музыкальную программу. Ну а поскольку на НИПах сидели наши друзья, которые знали любимые мелодии каждого члена экипажа, то, где бы ни находился наш «Союз-6», стоило только включить приемник, как из него лилась мелодия «Русского поля». Ребята явно перестарались. В конце полета я пошутил:
— Валера, если я буду приглашен на твой день рождения, знаешь, какой я преподнесу тебе подарок?
— Считай, что ты уже приглашен. Какой же подарок?
— Пластинку с «Русским полем».
Как пассажир поезда подсаживается к вагонному окну, так и я, прильнув к иллюминатору, замирал, любуясь проплывавшей внизу сказочной картиной. Неважно, где мы находились: над Индонезией или Северной Америкой, над Тихим океаном или Памиром, день это был или ночь, перспектива открывалась неповторимая. Я знал, что над Землей одновременно бушуют тысячи гроз, но не мог себе этого представить. А там, в космосе, я убедился во всем воочию. Отблески зарниц сопровождали нас все время, пока мы летели в тени. С сожалением замечали, что во многих местах Земли полыхают пожары. На Аравийском полуострове, в долине Тигра и Евфрата ночью видно много ярких костров — очевидно, горят выходы нефти и газа. В джунглях Африки, Южной Америки и Индонезии горят леса. Их легко обнаружить даже днем по длинным шлейфам дыма, растянувшимся на десятки километров.
По темно-коричневым полосам на желтом песке Сахары можно было судить о господствующих там ветрах. Пустыня Такла-Макан представлялась мне сверху ровным дном высохшего моря, неведомой силой поднятым в горы на большую высоту и окаймленным скалистыми берегами. Наш Крымский полуостров в лучах вечернего солнца смотрелся почти так же, как на цветной карте учебника географии.
Порой хотелось ущипнуть себя — да не сон ли это? Только что под тобой проплыла коричневая гряда Кордильер — и вот уже буйная зелень долины Амазонки, а впереди поблескивает серовато-синий Атлантический океан. Еще несколько минут — и на его стальном фоне появляются необычайной красоты изумрудные Канарские острова. Не успев ими как следует налюбоваться, уже висишь над светло-коричневым пространством Сахары, однообразие которой нарушает лишь темная змейка извивающегося Нила. Над всей Северной Африкой ни облачка — только солнце и наш «Союз». От одной этой картины становится жарко. Затем мягкие краски Средиземноморья и… необъятные просторы нашей Родины. Их ни с чем не сравнить и ни с чем не спутать!
И все это за каких-то несколько десятков минут.
Так же быстро, как и картины Земли, менялись наши чувства. Находясь в тени, глядя на мириады звезд и множество созвездий и галактик, каждой клеткой ощущаешь эту бесконечную бездну и кажешься себе ничтожной песчинкой, затерявшейся в бескрайнем космосе.
Юрий говорил, что космос напоминает ему вспаханное поле, засеянное зернами-звездами! Очень образное сравнение. Но когда смотришь на космос долго и внимательно, картина эта из плоской превращается в объемную, и чем дольше смотришь, тем больше чувствуешь его глубину. И такое чувство, словно заглядываешь в бездонный колодец. Становится жутко перед таким величием вселенной.
Но стоит увидеть родную планету, услышать голоса друзей — сразу чувствуешь, что ты не одинок, ты связан с ними всем существом. Ведь не зря мы с Валерием взяли своим позывным имя мифического Антея! И, пролетая над главным командным пунктом, я с теплотой представлял их всех, сидящих там, далеко внизу, за своими пультами, готовых прийти нам на помощь в любую минуту. Всех, начиная с главного оператора Валентина, мечтавшего тоже о таком полете, до доктора Аркадия Еремина, который, убедившись, что у нас все о'кэй (он знает английский язык), наверняка сочиняет традиционные дружеские шаржи на своих подопечных. Забегая немного вперед, хочу сказать, что нам всем понравилась юмористическая газета, посвященная нашему полету. Она называлась «Великолепная семерка». Под моим «портретом», где я был изображен в тельняшке и в невероятных размеров морской фуражке, Аркадий написал:
Шоб я так жил, Наш Жора стал «Антеем»! За космос он с пеленочек мечтал. Мы вам сказать немножечко имеем, Шо мальчик — люкс. Герой! Шоб я пропал!Нет, все-таки это неплохо, когда люди, делая даже серьезную работу, не теряют чувства юмора.
За пять суток полета я так и не смог избавиться от одной земной привычки. Чтобы заснуть, я обязательно должен чувствовать щекой подушку. Создавая себе нечто подобное в космосе, я засовывал голову в щель между сервантом и «Вулканом», установкой для сварки. Проснувшись под потолком, я понимал, что потерял свою «подушку», опять подплывал к «Вулкану», прижимался к нему щекой и засыпал снова.
И вместе с тем уже в первые сутки полета я вдруг с безразличием стал относиться к тому, где находится Земля: под тобой, за твоей спиной, над головой, слева, справа — все равно.
Увлекшись работой, я не обращал на это внимания. И при необходимости быстро ее найти не рыскал от иллюминатора к иллюминатору, а просто спрашивал у напарника: «Валера, где сейчас Земля?»
К концу первых суток полета мы стали свидетелями необычного события. Летим над нашими станциями слежения, и нам против обыкновения никто ничего не передает и ни о чем нас не запрашивает. Молчим и мы, внимательно слушая эфир. Понимаем, сейчас не до нас: через несколько минут в космос стартует наш собрат — «Союз-7». Необычная тишина. И вдруг она взрывается! В эфир летят радостные голоса Филипченко, Волкова и Горбатко. Они подробно, перебивая друг друга, рассказывают Земле о своих впечатлениях. С позиции «бывалых» мы с Валерием снисходительно подсмеиваемся над своими друзьями, справедливо полагая, что «все это» скоро пройдет.
Еще через сутки, теперь уже впятером, мы ждем выведения на орбиту «Союза-8». В нем Владимир Шаталов и Алексей Елисеев. Они ветераны. Это их второй полет. Потому-то они сдержанны и немногословны.
Такой большой коллектив в космосе до нас еще не работал. Когда наши корабли выходили из зоны видимости НИПов, мы устанавливали связь между собой и информировали друг друга о проделанной работе, давали рекомендации по проведению экспериментов, многие из которых были общими и одинаковыми для всех экипажей. Одним из них был расчет параметров орбиты кораблей с помощью автономных, или, как мы шутили, «подножных», средств навигации. Расчет был довольно сложным, и наши бортинженеры, проводившие его, напоминали прилежных учеников, решающих трудную математическую задачку. Сколько радости было у Владислава Волкова, бортинженера «Союза-7», когда Валерий Кубасов подтвердил правильность его решения, и сколько огорчения, когда «ответы» не совпали.
Главной целью нашего полета как раз и было автономное маневрирование трех космических кораблей. Сначала эта работа проводилась «Союзом-7» и «Союзом-8». Мы с Валерием внимательно следили за их маневрированием. Слушая, с каким темпераментом и с какой образностью произносят команды и реплики Шаталов, Филипченко и Горбатко — профессиональные военные летчики, мне представлялось, что я нахожусь в небе над Курской дугой или, по крайней мере, участвую в учебном воздушном бою.
Но вот настала и наша очередь. По данным, рассчитанным на Земле, мы вручную проводим маневр дальнего сближения. В результате выполнения этой динамической операции мы должны были подойти к «Союзу-7» на расстояние, обеспечивающее визуальный контакт.
Находим над горизонтом яркую мерцающую звезду. Уверены, что это «Союз-7». В этом районе неба нет такой яркой звезды, и ее холодноватый свет нас не обманет. Она сделана руками человека. В ней бьются три горячих сердца наших друзей — Анатолия Филипченко, Виктора Горбатко и Владислава Волкова. Мы разворачиваемся и идем на сближение. Сами определяем величины и направления вектора тяги корректирующей двигательной установки и производим ее включения. Много маневрируем относительно центра масс. Мне, как летчику, эта работа доставила огромное удовлетворение. Действительно, сознание того, что семитонная конструкция, начиненная приборами и агрегатами, созданными по последнему слову науки и техники, здесь, высоко над безлюдной частью южной Атлантики и вдали от родной земли, так послушна моей воле и моим рукам, переполняло меня гордостью за ее создателей, за свой экипаж.
В последний день полета мы провели эксперимент по сварке образцов металлов различными способами на установке «Вулкан». Сварка должна была проводиться в «чистом» космосе. Для этого мы закрыли переходной люк между орбитальным отсеком и спускаемым аппаратом, проверили его герметичность и сбросили давление из орбитального отсека. Затем открыли выходной люк — «дверь» в космос. Именно через нее в январе этого года вышли Е. Хрунов и А. Елисеев на «рандеву» с В. Шаталовым.
Выждав сорок минут, Валерий с небольшого пульта стал подавать команды на «Вулкан», а я решил увековечить этот момент на пленку. Когда вся программа работы с «Вулканом» была закончена, мы закрыли выходной люк, наддули орбитальный отсек и вошли в него, чтобы снять с «Вулкана» сваренные образцы. Пока Валерий колдовал над «Вулканом», я фиксировал все его действия на фотопленку.
Закрыв люк, немного сбросили давление из орбитального отсека, чтобы убедиться, герметичен ли люк-лаз. Все нормально, герметично. Но, глядя на экран телевизора, нам казалось, что «Вулкан» понемногу дымится. Проверили по пультам его выключение. Все выключено. И все же беспокойство не покидало нас. Решили выйти к «Вулкану».
Снова выравняли давление между спускаемым аппаратом и орбитальным отсеком, открыли люк, и Валерий вышел к установке. Где-то внутри сожалея, что принял такое решение, я внимательно следил за приборами.
— Порядок! — слышу возбужденный голос Валерия.
Когда он занял свое место рядом со мной, я тщательно осмотрел прокладки герметизации и, теперь уже до посадки, с силой затянул люк. Нам пора домой, на Землю!
Скажу честно: мы с большой охотой и с чувством выполненного долга готовились к спуску. Ни необычные условия, ни космические красоты и впечатления не могли затмить нашу родную Землю. Поэтому, ставя на защелку штурвал крышки-люка, я радостно сказал:
— До свиданья, космос! — и, подмигнув Валерию, совсем уж, казалось бы, ни к чему добавил: — Мы еще вернемся за подснежниками!
— Какие еще подснежники в космосе? — уточнил мой серьезный бортинженер.
— Хорошо, не за подснежниками, так за впечатлениями.
— Займись-ка лучше делом, философ, — приняв мой тон, сказал Валерий и указал взглядом на ручки управления.
Сориентировав корабль по-посадочному, включили тормозную двигательную установку. Она отработала секунда в секунду. После этого наш красавец «Союз» прекратил свое существование как единое целое: произошло разделение. Отстрелены солнечные батареи и антенны, орбитальный и приборно-агрегатный отсеки. Даже со спускаемого аппарата убрано все, что выступает за обводы «фары» (такую форму имеет спускаемый аппарат). Все это теперь не нужно и сгорит в атмосфере. На Землю опустится только боевая рубка корабля — спускаемый аппарат, в котором находимся мы. «Затормозившись», начали плавный спуск в атмосферу. О ее появлении нам подсказали синеватые язычки пламени за иллюминатором. Чем глубже мы «зарывались» в атмосферу, тем мощнее становилось пламя. Теперь оно стало желто-оранжевым. И вот там, за обшивкой, уже бушует настоящая огненная буря в несколько сот градусов. Мы с интересом наблюдаем за ней.
— Жора, у тебя не греется спина, ты ничего не чувствуешь? — вдруг слышу несколько встревоженный голос Валерия.
Мы летели спиной к потоку, то есть как бы лежали на теплозащитном экране, который воспринимал всю основную тепловую нагрузку. До вопроса Валерия я ничего не чувствовал. А тут мне стало казаться, что моей спине и шее становится жарко. Слегка отпустив привязные ремни, включил прибор, чтобы определить температуру в кабине — 21° C!
— Эмоции, — улыбается Валерий.
Пока мы занимались температурой и своими эмоциями, перегрузка стала ощутимой. Было слышно, как «сопят» за бортом «креновые» сопла системы управляемого спуска, удерживая корабль на номинальной траектории. Мы знали, что максимум перегрузки должен лежать где-то между четырьмя и пятью единицами и что этот максимум по времени непродолжителен. Но, очевидно, сказалась пятидневная усталость — перегрузки мне показались большими, и длились они чересчур долго.
Но вот наконец сработала парашютная система, и мы, плавно покачиваясь на огромном куполе, идем к Земле. По облакам пытаюсь определить скорость снижения. Это мне не совсем удается. Перед Землей занимаем собранную позу — ждем удара о грунт. Срабатывают двигатели мягкой посадки, и наступает необычная тишина. Смотрю в иллюминатор — за ним пахота. Быстро отстреливаю одну из стренг парашюта, чтобы погасить купол. Убедившись, что корабль стоит устойчиво, расстегиваем привязные ремни. Жму руку Валерия:
— Пользуясь случаем, первым от всей души поздравляю с успешным завершением полета. Примите мои заверения… — и так далее. Одним словом, от радости несу словесную чепуху.
Пока я упражнялся в красноречии, за иллюминатором появились чьи-то ноги. Свои!
Еще в космосе получили команду: «Прежде чем покинуть корабль, надеть теплозащитные костюмы, на Земле низкая температура». Одевались мы довольно долго: вещи нам казались необычно тяжелыми. Даже взмокли. Отдышавшись, стали открывать люк. Он не подается. Я подналег и рванул его. Люк пошел. Мы увидели широко улыбающегося командира вертолета поисково-спасательной службы. Он помог нам выбраться из корабля.
Кругом простиралась вспаханная степь. Ни куста, ни деревца, ни какого бы то ни было захудалого строения. Но как я был рад этой уже слегка припорошенной первым снегом Земле! Я готов был расцеловать ее.
Земля, земля людей… Оттуда, из космоса, ты казалась нам красивой и юной, несмотря на свой трудноисчисляемый возраст. И беззащитной! Беззащитной перед холодной Вечностью, перед необъемлемым безжизненным Пространством, как маленький оазис среди раскаленных и движущихся песков пустыни. И нам становилось страшно оттого, что там, внизу, среди твоих полей и лесов, озер и рек, гор и степей мы так мало дорожим тобой. Ужас охватывал нас, когда мы представляли себе, что будущие наши коллеги, возвращаясь из черных глубин космоса, вместо долгожданной голубой планеты могут встретить безжизненный пояс астероидов. К сожалению, вероятность такой картины не так уж и призрачна. Вот поэтому, вернувшись на родную Землю, мы еще нежнее стали относиться к ней. К ее восходам и вечерним зорькам, к звонким голосам птиц в лесу и к запаху только что вспаханной борозды, к утренним туманам над речками и озерами и весенней песне глухаря, и к тому, что создано на ней руками человека, и, конечно же, к самому человеку.
Но я опять отвлекся.
К нам со всех сторон бежали люди, ехали машины. Собралось много ребятишек. Их там было около сотни. Мы пошли к вертолету. Нас покачивало. Я попросил одного из встречающих:
— Поддерживай меня под руку. А то, не дай бог, упаду, стыда не оберешься. Ребята скажут: «До чего хлипкий космонавт пошел».
Он улыбнулся, но просьбу мою выполнил. Неожиданно повалил снег и начал усиливаться ветер.
— Вы счастливые, вам повезло. За двадцать минут до вашей посадки здесь был буран. Похоже, что и сейчас он продолжится. Так что вы попали в сорокаминутное окно затишья, — пояснили нам.
И вот Караганда. В гостинице, куда нас поместили (и где до этого размещались многие вернувшиеся на Землю друзья), мы прошли первичный осмотр, побрились, приняли ванну и спустились вниз поужинать. Как говорят, стол ломился от восточных яств! Но, увы, даже боржоми, выпитое нами, доктор взял на учет. И, если быть откровенным, нам ничего не хотелось. Чувствовали мы себя еще не в своей тарелке. «А что же будет через двадцать, тридцать, пятьдесят суток полета?» — уже тогда сверлила меня тревожная мысль.
Но нам пора в дорогу. Нас ждет самолет, чтобы лететь на космодром.
И вот мы опять в гостинице «Космонавт». Заходим с Валерием в свою комнату. Я ложусь на кровать и думаю: были или не были эти пять суток, со мной или не со мной все это происходило? И начинаю до мелочей вспоминать все этапы полета…
И вдруг мне до обидного стало жаль тех часов, которые я, повинуясь программе, проспал в космосе.
Когда в космос был успешно выведен «Союз-7», мы все вздохнули с облегчением. Еще бы! В состав экипажа этого корабля входил «последний из могикан» — Виктор Горбатко. Он пришел в отряд вместе с нами, в составе первых двадцати человек.
Виктор вырос на Кубани и считает, что лучшего края в Союзе нет! Видимо, в силу своего темперамента принимает все близко к сердцу и, как большинство таких людей, обидчив, легко раним. Честен во всех вопросах: и в личных, и в деловых — до прямолинейности. Его жизненный путь вплотную переплетается с судьбой Евгения Хрунова. Они учились в одном училище. Окончив его, служили в одном полку, откуда и прибыли в отряд космонавтов. У Виктора спортивная натура. Со свойственным ему темпераментом он принимает участие во всех наших спортивных играх, а свободное время любит проводить на трибунах Лужников. Его кумир — клуб ЦСКА. И мне, с детских лет «болеющему» за футбольную команду киевского «Динамо», постоянно от него влетает:
— Как это так? Военный человек, с четырнадцати лет носишь погоны, а «болеешь» за «Динамо», — возмущается он вполне серьезно. — Николай Федорович! Между прочим, это ваша недоработка! — апеллирует он к нашему замполиту Николаю Федоровичу.
Трудный путь пришлось пройти Виктору, прежде чем занять место в «Союзе-7». Во время подготовки экипажей к полету на корабле «Восход-2» он и Хрунов назначаются дублерами Беляева и Леонова. В тот раз экипажам, как никогда, пришлось поработать физически. И вот на этих предельных нагрузках Виктора подвело сердце. Он оказался в госпитале с очень шаткими перспективами на дальнейшую работу в отряде. Но одолел Виктор болезнь, возвратился к любимой работе. Как дублер Хрунова он проходит всю программу подготовки к полету на кораблях «Союз-4» и «Союз-5». И наконец, в качестве инженера-исследователя сам стартует в космос.
Выше я упоминал одно имя и считаю себя не вправе не сказать хотя бы несколько слов об этом человеке. И вот почему.
Николай Федорович — наш первый «комиссар». Он работает в Центре со дня его основания и отдал нашему общему делу много лет жизни и труда. Небольшого роста, полный, с большой бритой головой и очень подвижными хитроватыми глазами. Он вечно в движении: что-то организует, достает, пробивает, обеспечивает. У него доброе сердце. Наши успехи и неудачи он переживает, как свои собственные. И для того чтобы все было «как учили», для того, чтобы поднять дух бойцов, он готов пойти на любую выдумку, не спать, не есть. И так уж повелось с первого полета: вся организация нашего быта на космодроме ложится на его плечи. Забот много. Но он не сетует.
— Назовите мне в Центре человека, который бы присутствовал на всех пилотируемых пусках. Не можете? А я назову! — и у него от удовольствия даже капельки пота выступают на широком носу.
Как-то мы сидели после ужина в холле нашей гостиницы на космодроме. День выдался трудный, и все мы порядком устали. Поэтому не шутим, не смеемся, как обычно. Каждый занят своими мыслями. Николай Федорович пытается разрядить обстановку, но, увидев, что все его усилия напрасны, куда-то исчезает. Появившись минут через двадцать, он радостно объявляет:
— Ребята, в кинозал! Достал вот такую кинокомедию!
— Как называется?
— А у меня их две. Вот только названия вылетели из головы. В зал, там разберемся, — интригует нас Николай Федорович.
Мы идем в кинозал.
— Капустин! Огласи весь список! — кричит Николай Федорович так, чтобы его услышал киномеханик.
— «Тридцать три» и «Ловко устроился», — доносится из кинобудки.
Оказалось, что одни видели первый фильм, другие — второй. Поэтому «голосование» затянулось. Наконец выбор был сделан.
— Капустин, «Ловко устроился»! — кричит Николай Федорович.
— Кто? Я? — обиженно спрашивает киномеханик.
Мы смеемся, и настроение наше теплеет. С удовольствием смотрим фильм. А потом все по очереди подходим к комиссару и жмем ему руку:
— Спасибо, Николай Федорович! Ловко ты нас устроил.
Или такой случай. Однажды на космодроме вдруг выдался для нас выходной день. Событие это довольно редкое, так как прибываем мы туда впритык, за семь-десять дней до старта. Ну и, конечно, растерялись: не знаем, как его занять. И тут появляется Николай Федорович.
— Поедем на рыбалку. Ушицу похлебаем, позагораем, отдохнем на лоне природы, — уговаривает он нас.
Но день обещал быть жарким, и никому не хотелось покидать гостиницу.
— Рыбы мы даже на обед коту не наловим. Нет на этот раз среди нас рыбаков. А позагорать и здесь можно — бассейн под боком. Ну а «лоно» ваше — пляж от Каспийского до Балхаша — мы увидим из окна самолета, когда полетим домой, — возражаем ему.
Но Николай Федорович не сдается:
— Рыбы мы наловим обязательно. Я даже знаю сколько: одиннадцать килограммов пятьсот пятьдесят граммов. Поехали!
Все рассмеялись и двинулись за Никерясовым.
На берегу реки он командует:
— Берите удочки и хоть подержитесь за них. А я тем временем организую главный улов.
Спустившись к реке, он вытаскивает огромный садок, полный рыбы.
— Прошу проверить! — возбужденно говорит он.
Нашлись даже весы. Проверили — одиннадцать и четыре десятых килограмма.
— Ну надо же! Сам ведь взвешивал. Было одиннадцать килограммов пятьсот пятьдесят граммов. Куда же делись сто пятьдесят граммов? — серьезно недоумевает Николай Федорович.
— Усохла! — успокаивают его ребята.
Вот такой, добрый и заботливый, наш космический талисман.
Этим рассказом я и заканчиваю записки о первом отряде космонавтов.
22 октября на Ил-62 мы прилетели в Москву. Идем по красной дорожке от самолета к трибуне, где стоят руководители партии и правительства, и я так волнуюсь, как не волновался за все пять суток полета. Еще бы! Предстоит рапортовать своему народу о завершении полета и о нашей готовности выполнить любое новое задание партии и правительства.
Подводя предварительные итоги, Главный конструктор сказал, что в освоении космического пространства начался новый этап — трудоемкая научная работа. Именно к таким подлинно «рабочим» экспериментам относился и наш групповой полет.
Более трех десятков советских людей уже побывали в космическом пространстве: летчики, летчики-испытатели, инженеры, ученые, врачи. Двое из них — В. Шаталов и А. Елисеев — за довольно небольшой срок, немногим более двух лет, стартовали в космос трижды. Впереди новые старты, и мы услышим и уже знакомые и еще незнакомые имена и фамилии.
Естественно, в своих коротких записках я не смог рассказать обо всех пилотируемых полетах и их участниках. Да я ведь и не ставил перед собой такой задачи. Я почти ничего не сказал о конструкциях кораблей и тренажеров, о методах подготовки космонавтов. Об этом много и основательно говорится в книгах, написанных летчиками-космонавтами Гагариным, Титовым, Береговым, Хруновым, Поповичем и Николаевым. Мне же, вспоминая пройденное и пережитое, хотелось рассказать о тех, кто пришел в отряд по зову времени и страны в марте 1960 года. Они были первыми!
Дописана и отложена в сторону последняя страница… Я выполнил, как сумел, свой долг перед моими друзьями. Выхожу на балкон. С десятиэтажной высоты открывается чудесный вид: от края до края, насколько хватает глаз, стелется ковер подмосковного леса. Вдали, почти у самого горизонта, по этому зеленому морю плывет несколько куполов и маковок старинных церквей — памятников древнего русского зодчества. Немые свидетели далеких событий. А рядом, буквально в трехстах метрах, высятся современные красивые здания. Двадцатый век! Это Центр подготовки советских космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина.
Юрий жил в этом доме. На шестом этаже. Здесь и сейчас живет его семья: жена — Валентина Ивановна, две дочери — Лена и Галя. Внизу, на замысловатых дорожках маленького скверика, Юра играл со своими дочерьми и со всеми другими маленькими обитателями нашего большого дома. В лесок, примкнувший вплотную к правому крылу здания, он каждое утро бегал на физзарядку. Здесь все напоминает о нем.
А вот и он сам! На гранитном постаменте, всего в каких-нибудь ста шагах от дома, стоит его пятиметровая бронзовая фигура. У ее подножия цветы. Много цветов. Они лежат здесь всегда: летом и зимой.
Присмотритесь внимательней. И вам покажется, что человек этот только что вышел из подъезда своего дома. Костюм его прост и легок. Он идет не спеша, закинув левую руку за спину, подставив открытое, смелое лицо ветрам, дующим с востока. Идет навстречу Солнцу.
Идет в бессмертие…
Иллюстрации
Об издании
Георгий Степанович Шонин
САМЫЕ ПЕРВЫЕ
Редакторы Л. Атрашенко, В. Таборко
Художник Г. Комаров
Художественный редактор Л. Белов
Технический редактор А. Бугрова
Корректоры: К. Пипикова, В. Назарова
Сдано в набор 20/I 1976 г. Подписано к печати 17/III 1976 г. А05051. Формат 84X108. Бумага № 1. Печ. л. 4 (усл. 6,72). + 16 вкл. Уч.-изд. л. 8,8. Тираж 100 000 экз. Цена 44 коп. Из них 5000 экз. в переплете — цена 66 коп. Б. 3. 1976 г. № 13, п. 35. Заказ 2439.
Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.
Примечания
1
Лучше поздно, чем никогда! Пожалуйста, мистер Браун и мистер Дэвис, не по-русски!
(обратно)




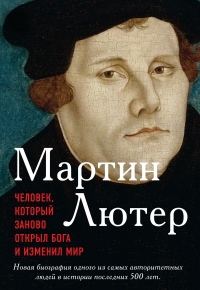


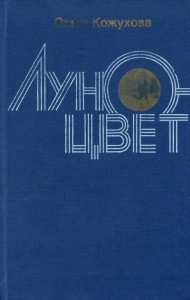
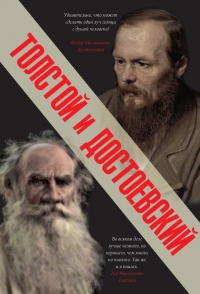
Комментарии к книге «Самые первые», Георгий Степанович Шонин
Всего 0 комментариев