Александр Александрович Васильев Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров
© Васильев А.А., 2019
© Бондаренко А.Л., художественное оформление, 2019
© ООО “Издательство АСТ”, 2019
* * *
Моим родителям посвящаю
Александр Васильев Предисловие
Я горжусь тем, что моя семья включает три столетия русской культуры.
Моим предком был морской министр Екатерины Великой, а его сын командовал сражением при Березине. Мой двоюродный дед – великий русский художник Михаил Нестеров. Дед со стороны отца, будучи титулярным советником, обладал голосом редкой красоты и управлял хором при Самарской женской гимназии. Его жена, моя бабушка, была талантливой актрисой-любительницей и выступала в жанре мелодекламации. Вместе с моей двоюродной бабушкой Ольгой Петровной Дрябиной, замечательным концертмейстером, в мир моего детства вошла музыка Римского-Корсакова и Чайковского, Мусоргского и Глинки… А уже ее супруг, тенор Иван Поликарпович Варфаломеев, пел в Одессе и Киеве, два сезона служил в антрепризе Сергея Дягилева и считал себя соратником великого антрепренера.
Моя мама, актриса, пила чай на веранде в Крыму с вдовой Антона Павловича Чехова Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой, читала стихи Анне Ахматовой, ее портрет писал Владимир Татлин. Мой папа – потрясающий художник-декоратор, замечательный портретист, пейзажист и просто интеллигентный человек. Пятьдесят лет жизни он отдал театру, работал на лучших сценах нашей страны. Оформленные им постановки с неизменным успехом шли в Большом театре, в Художественном, в Малом… Я рос в атмосфере искусства, с детства видел актеров, художников, писателей, с которыми общалась и дружила семья.
Я начал играть в театр в пять лет и играю в него до сих пор. За последние сорок лет мне довелось поработать в качестве художника во многих странах мира и оформить более ста двадцати спектаклей. Часть из них были поставлены по русским классическим произведениям Островского, Толстого, Достоевского, Чехова, Булгакова, Горького…
В нашем роду немало европейцев, чем я и объясняю свое раннее увлечение Средневековьем, эпохой английской королевы Елизаветы I и периодом правления французского короля Людовика XIV, стилем императрицы Евгении, а позднее – немым кино и творчеством короля моды Поля Пуаре. К слову сказать, современница Поля Пуаре, знаменитый английский модельер Леди Дафф Гордон, – моя кровная родственница.
Мир русской культуры вошел в меня с первыми книгами по искусству, с тургеневскими героями, с московскими музеями, мебелью русского ампира, что стоит в нашей московской квартире, с бисерными вышивками и старинным кружевом. Так постепенно родились мой интерес к старинному костюму и страсть к коллекционированию. Сегодня в собрании Фонда Александра Васильева находится более 60 000 единиц хранения. Это не только уникальные модели крупнейших парижских домов моды и вещи, принадлежавшие знаменитым актрисам, певицам и балеринам, но также творения талантливых и, увы, безвестных портних. Сегодня сложно представить, что коллекция начиналась с собранных в 1970-е годы на московских помойках старинных зонтиков, перчаток, шляпок и визитных фотографий.
Много лет продолжается моя лекторская деятельность, зародившаяся сорок лет назад в стенах Всероссийского театрального общества и распространившаяся со временем на четыре континента – от Австралии до Северной Америки. Хотя, если быть совсем честным, первую лекцию по истории моды я прочитал еще в школе, будучи учеником шестого класса. Об этом я еще обязательно расскажу на страницах книги.
Помещичьи усадьбы я знал изнутри, с молодых лет совершая поездки в Михайловское, Мураново, Остафьево, Кусково и Останкино. А в детстве во время летних каникул я жил на берегу озера Сенеж, где, по преданию, разыгрывается действие чеховской “Чайки”. В этом удивительном месте в ту пору сохранилось множество старинных дач.
Во время учебы на постановочном факультете Школы-студии МХАТ я имел возможность изучать изумительные эскизы, декорации и костюмы Мстислава Добужинского к спектаклю “Месяц в деревне” по пьесе Ивана Тургенева. Уникальное наследие Мстислава Валериановича перенесло меня в мир 1840-х годов и стало темой моей дипломной работы.
В то время, когда мои однокурсники проходили учебную практику в костюмерных и живописно-бутафорских цехах московских театров, я стажировался в Кремлевской Оружейной палате и в Историческом музее под руководством хранителя Татьяны Алехиной. Именно там я познакомился с миром старинного русского шитья, тканей, кружева. А среди древних кокошников, душегрей и вышивок проходила моя преддипломная практика в Доме-музее К.С. Станиславского. Становление в мире истории моды и театрального костюма было связано также с именами Александра Бенуа, Гордона Крэга, Федора Комиссаржевского, Эрте… Именно эти мастера стали героями моих первых лекций о художниках-декораторах. Словом, театр всегда был со мной, а я – с ним.
Эти слова отчасти являются фрагментами моей рукописи, написанной в 1982 году, в первый год моего пребывания в Париже. Мне было только двадцать четыре года, но, возможно, уже тогда я понимал, что делаю набросок предисловия для своей будущей книги воспоминаний. Пара давно забытых листочков, скрепленных меж собой, обнаружились в моем парижском архиве вместе со старыми семейными снимками и многочисленными письмами, написанными более сорока лет назад. Все эти документы нашли место в книге “Фамильные ценности”, которую можно смело назвать книгой обретенных рукописей. Помните, как у Булгакова: “Рукописи не горят”? Я бы добавил от себя: “И не теряются”. Доказательством этому стали никогда ранее не публиковавшиеся воспоминания моего отца, Александра Павловича Васильева, и его брата, режиссера Петра Павловича Васильева. Оба писали мемуары, которые при их жизни не увидели свет. И если дядины мемуары попали ко мне от его сына – Владимира Петровича Васильева, актера московского театра имени Ермоловой, то воспоминания отца я считал полностью утерянными.
Опубликовать папины воспоминания планировало издательство “Искусство”, реорганизованное, к сожалению, в 1990-е годы. Поскольку во время работы отца над книгой ксероксы еще не были распространены, а рукописи печатались под копирку, то и экземпляров существовало всего-навсего два. Долгие годы я пребывал в уверенности, что с упразднением издательства все материалы превратились в макулатуру и подверглись утилизации. Много лет спустя, встретив в Доме актера на Арбате племянницу Любови Орловой – Нонну Юрьевну Голикову, которая живет неподалеку от меня, в Оболенском переулке, я случайно узнал, что у нее хранится оригинал папиных воспоминаний. Как же эта рукопись попала к Нонне Юрьевне? Все очень просто: во время своей редакторской работы в издательстве “Искусство” она принесла домой канцелярскую папку с надписью “Дело №…”, чем и спасла от уничтожения папины мемуары, хранившиеся в этой картонной папке на завязках. Я не только обрел эту рукопись благодаря Нонне Юрьевне, но и с радостью предоставляю вам возможность, дорогие читатели, ознакомиться с этим фантастическим наследием народного художника России Александра Павловича Васильева.
Именно эти две рукописи являются для меня подлинными фамильными ценностями.
Свои же воспоминания я визуально разделил на три противоречивых жизненных периода. Первый – это мои детство и юность, которые прошли в Москве на Фрунзенской набережной. О нем я и хочу рассказать читателям на страницах книги “Фамильные ценности”. Это воспоминания о родителях и Центральном детском театре, об увлечении стариной и начале моей коллекции, о друзьях семьи и учебе в Школе-студии МХАТ и, конечно же, о первой любви, подвигнувшей меня на переезд во Францию… Два других периода моей жизни зафиксированы в записных книжках и многочисленных дневниках, которые я веду всю сознательную жизнь. Это годы моей жизни в Париже и во всем мире – с 1982 по 2003 год, а затем мое возвращение в Москву после смерти мамы и годы плодотворной работы на Первом канале, который подарил мне не только российскую, но и мировую славу у всех русскоязычных телезрителей. Их время тоже придет! А пока я хочу вам поведать историю своей семьи, теснейшим образом связанной с историей и культурой нашей огромной России.
Эта книга никогда бы не обрела ту форму, в которой она сейчас представлена, если бы не коллективная память моих родственников и друзей детства, которые помогли мне восстановить многие фрагменты мозаики моей жизни. И я особенно благодарю мою сестру Наталью Толкунову, кузину Елену Хлевинскую, кузенов Владаса и Людмилу Гулевичей, племянницу Юрату Швядайте-Уоллер, жену моего дяди Ольгу Маркичеву, а также друзей детства и юности: Марию Миловидову, Галину Истомину, Наташу Сажину, Касьяна Берендта, Александра Хому, Юлию Шифман, Машу Пойндер, Владимира Мироненко, Михаила Орлова, Татьяну Печникову, Наталью Селях, Людмилу Черновскую, Арину Шарапову, Алену Долецкую, Лину Ковенскую, Наталью Музычкину, Алину Бессарабову, Веру Абрамову, Валентину Маликову, Ольгу Глебову, Елену Масленникову, Татьяну Кузнецову, Григория Манукова, Викторию Кузнецову, Алексея Булатова, Людмилу Хмельницкую, Алагез и Айдан Салаховых, Татьяну Шер, Наталью Огай-Рамер, Елену Шевченко, Анастасию Вертинскую, Станислава Садальского, Ольгу Яковлеву, Ольгу Остроумову. Также я признателен друзьям своих родителей, которые в разное время поделились со мной своими воспоминаниями о папе и маме: Карине Филипповой, Наталье Ясулович, Татьяне Надеждиной, Марии Кнушевицкой, Ирине Карташёвой, Нателле Лордкипанидзе, Сюзанне Серовой, Маргарите Юрьевой, Тамаре Малинкиной, Валентине Тумановой, Нинели Терновской, Нинели Шефер, Марине Колевой, Людмиле Гниловой, Елене Юровой, Алле Азариной, Ольге Мелемед-Брумберг. Отдельную благодарность я выражаю моему литературному секретарю Василию Снеговскому, который с моих слов сделал литературную запись большей части этих воспоминаний. Другие страницы были дополнены мною лично во время летних каникул на моей благоприобретенной даче в Оверни во Франции.
Особая признательность – редакторам Анне Воздвиженской и Анне Колесниковой, художнику Андрею Бондаренко и всем сотрудникам Редакции Елены Шубиной, без которых эта книга не стала бы такой прекрасной.
Петр Павлович Васильев
Памяти мамы
Нины Александровны Васильевой
Какие-то запахи детства стоят — И не выдыхаются. Медленный яд уклада, уюта, устоя. Я знаю – все это пустое. Все это пропало, распалось навзрыд, А запах не выдохся, запах стоит. Александр МежировНас у мамы трое:
младший, Александр – Шура – 1911 г. р.
Ирина, Ира – 1909 г. р.
и я, старший, Петр – Петя – 1908 г. р.
Полюбив однажды и на всю жизнь мичмана Павлушу Васильева, она вышла за него замуж в 1907 году в Севастополе на Корабельной стороне, где прошли ее детство и юность и откуда пошло много славных сынов Отечества, в том числе, например, И. Папанин, полярник. К тому времени отец ее (наш дед) Александр Брызжев – герой Плевны, корабельный оружейный мастер – умер, братья ее Виктор и Павел жили самостоятельно, и в домике на Корабельной стороне осталась она с матерью, нашей любимой бабушкой Акилиной Павловной, просвирней Корабельского прихода. Павлуша вышел в отставку и по совету сестры Натальи, жившей в Петербурге, с молодой брюхатой женой и тещей, продавши домик и хозяйство, уехал с берегов Черного моря на берега Балтики в столицу – искать счастья.
В январе 1908 года, в доме на 5-й линии Васильевского острова, мама родила меня, а на 6-й линии, в Андреевском соборе, меня крестили. Через несколько месяцев отец перевозит маму, снова беременную, меня и тещу в Кронштадт на место новой службы. В апреле 1909 года семья обретает второго ребенка, девочку Ирину.
Но, видимо, и на новом месте жизнь семьи не складывается. Помыкавшись в столице около трех лет, отец принимает назначение Министерства путей сообщения на должность временно исполняющего обязанности инспектора судоходства и чин титулярного советника, переезжает с опять беременной Ниной, двумя малышами и Акилиной Павловной с берегов Балтики на незнакомые берега Волги, в город Самару.
В 1910 году губернский город Самара – значительный, развивающийся центр торговли и пищевой промышленности России, крупный речной порт и железнодорожный узел.
О жизни самарских миллионщиков-мукомолов, скупщиков скота, зерна, земель разорившихся помещиков, о жизни городских мещан и “горчишников” с гневом и горечью писали А. Горький, А.Н. Толстой, Н. Гарин-Михайловский и др.
Вот сочиненное Горьким в 1895 году объявление для пристани:
Смертный, входящий в Самару в надежде в ней встретить культуру, Вспять возвратися, зане город сей груб и убог, Ценят здесь только скотов, знают цену на сало и шкуру, Но не умеют ценить к высшему в жизни дорог.В то время в Самаре выходило несколько газет, работал и ныне существующий хорошо построенный архитектором Чичаговым театр с сильной труппой, шли фильмы в синематографе фирмы Ханжонкова, функционировал концертный зал “Олимп”.
Привлекшие отца условия: престижная, общественно активная должность начальника судоходного надзора (лоция и навигация) на участке Волги от Сызрани до Симбирска, куда входили Жигули; казенный пароход “Александр” для служебных поездок; казенная дача на высоком берегу Волги – пост наблюдения за режимом реки у Сызранского моста – с большим домом, службами, мастерскими, с фруктовым садом, огородом, купальней и лодками; значительное жалованье – все это создало материальную базу укрепления молодой семьи, создания обеспеченного дома.
В 1911 году рожден Шура. Сняли отличную квартиру. В Самаре сложилась наша семья, образовался свой домашний образ жизни, уклад, уют, устой. Ко времени переезда в Самару отцу исполнилось тридцать четыре года. Он был образованный, бывалый человек, выросший в трудовой, интеллигентной многодетной семье. Мама считала своим человеческим предназначением создание семьи, воспитание детей. Бабушка вырастила троих детей, отлично вела хозяйство.
Самарские годы – время прекрасного расцвета мамы. Счастливые годы. Особенно начальные.
Самый дивный, сокровенный фонд памяти наполнен мамой. Сперва просто сладостные ощущения… Лежу на спине, а мама смешно играет со мной… Более позднее воспоминание – мама учит меня произносить молитву “Отче наш”… Читает… Теперь я знаю, что едва ли не раньше других книг читала она нам сказки, басни, были Л. Толстого из “Русских книг для чтения” и “Новой азбуки”: “Три медведя”, “Лгун”, “Дурень”, “Старый дед и внучек”, “Филипок”, “Акула” и другие. Мы любили слушать, пересказывать. Знали и детских авторов, например К. Чуковского – “Крокодил”, но это позднее. Рано, до школы, мама научила меня грамоте – читать и писать, запоминать стихи. Думаю, что так же поступила она с сестрой и затем с братом.
Мама собрала домашнюю библиотеку – из приложений. Не повторился в жизни тот суматошный, неожиданный день, когда из переплетной мастерской привезли красивые книги. Запахло клеем, тальником от длинных корзин, в которых вносили книги незнакомые люди. Книги заполнили стол, стулья, подоконник темноватой столовой, где стояли шведские книжные шкафы. Мы толкались, дрались, помогая маме разбирать книги и ставить на полки Чехова к Чехову, Тургенева к Тургеневу – больше по цвету переплета.
В нашей семье все читали. Любили книгу. Много читала и мама. Читал запоем ее брат, дядя Паша, прокуренный штабс-капитан, часто живший у нас. Говорили, что книгочеем был их отец, наш дед, интеллигент из рабочих самоучек.
Яркое проявление духовной одаренности мамы – ее увлечение художественным чтением, как раньше говорили, декламацией. Она с успехом читала перед гостями, на публичных вечерах, в госпиталях, нам. Репетировала самозабвенно. Мы часто слышали ее голос за закрытыми дверями. Многое из прочитанного ею на всю жизнь застряло в моем сознании и действительно сыграло решающую роль. “Рожденный ползать летать не может”, – узнал я мальчишкой и с горечью понимаю Горького теперь. “Мы еще повоюем, черт возьми!” – шептал я десятки раз услышанные в детстве слова Тургенева.
Хорошо помню про щи, что “они послевоенные”. Нас воспитали в православном, мужицком уважении к еде, хлебу. Мама вдохновенно восклицала: “О великий, могучий, правдивый, свободный русский язык… Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу”. Она в это верила. Верю и я. Судя по высказываниям и творчеству, верит Шура. Мама читала много других текстов И. Тургенева и М. Горького: “Песню о Буревестнике”, “Легенду о Марко”.
Горького любили в Самаре, считали “своим”. Кстати, “Песню о Соколе” он написал здесь, в Самаре. Мама читала А. Майкова, И. Никитина, Н. Некрасова и современников – Д. Мережковского, К. Бальмонта и А. Блока, – наверное, читала, потому что научила меня стихам “Мальчики да девочки свечечки да вербочки…”. “Живое слово” – не модное увлечение, а потребность всей жизни мамы. С юношеским интересом ходила она в 1920-х годах в Москве на спектакли Театра чтеца под руководством В. Серёжникова и в Политехнический – слушать В. Маяковского. Когда я, бывало, репетировал концерты в Колонном зале (в 1960–1970-х годах), то присаживался на боковые места партера под правой ложей, где мы с мамой сидели когда-то на поэтическом вечере, проходившем под председательством Д. Бедного, и слышали его крылатую фразу о пролетарских поэтах: “Хоть три сопливеньких, да своих!”
И еще – театр!
Устойчивая привязанность мамы, захватившая и нас, детей.
Нарядных, встревоженных, нас рано начали вывозить в ложу городского театра, где через много лет будет с успехом работать Шура, а затем и я.
Смотрели “Дети капитана Гранта”, “Недоросль”, детские концерты, ходили в цирк…
Думаю, что у мамы были знакомцы в труппе театра, и нас водили за кулисы, потому что когда я приехал служить уже в Куйбышевский театр и впервые прошел из зрительской части через маленькую дверь в толще портальной стены на сцену, то обомлел, узнав место, где я когда-то бывал с мамой…
Иногда чтение ее превращалось в маленький спектакль – например, “Тарантелла” А. Майкова или “Ссора” И. Никитина. Впечатляли темпераментный драматизм и озорной юмор, внутреннее движение, постижение характеров, музыкальность. Наверное, кто-то из театра помогал ей работать над стихами. Может быть, З. Славянова, тогдашний антрепренер театра?
Как-то дома мы поставили спектакль. В детской из кроватей устроили сцену. За дверью в спальню родителей поставили кресла для зрителей, а дверь служила занавесом. Завесили окна, из настольной лампы, обложенной дровами и прикрытой красной бумагой, устроили “костер в ночном”, потому что играли пьесу, сочиненную мамой, как бы сейчас сказали, “по мотивам” рассказа И. Тургенева “Бежин луг”.
Играли не только в театр. Сочиняли живые картины, шарады, концерты, маскарады… Мы любили играть! Мама мастерски устраивала праздники семейные, календарные, церковные… Рождество и Крещение, Масленица и Пасха, Троица, Иван Купала, Петр и Павел… Обряд – та же игра! Карнавал! У каждого праздника свой сценарий, образ, костюм, планировка, персонажи, кухня…
Рождество… В гостиной огромная, под потолок елка. Двери закрыты… Тайна! Взрослые украшают ее. Мы на животах, в щель под дверью пытаемся рассмотреть подарки под елкой, уложенные на вате, обсыпанной блестками. “И в час назначенный…” для нас и гостей открывали большую дверь из прихожей в гостиную, и под звуки пианино в притемненной комнате возникала блестящая огнями и украшениями елка… Хороводы, концерт, танцы, игры, маскарад, подарки… Запах смолы, горящих свечей, запаленной хвои!
По украинскому обычаю готовили кутью, варили борщ с грибами и ушками, узвар из сухих груш. Бабушка клала под скатерть на праздничном столе сено – младенец Христос лежал в яслях с сеном.
На Крещение – ряженые, гаданье, катанье на санях с высокой точки Монастырского спуска до середины Волги. Днем и вечером, при уличных фонарях. Да я ли то мчался, крича от страха и восторга и прижимаясь к другим орущим ребятам?! “О, счастливая пора детство…” Еще яростней катались на Масленицу. Тогда выходили и взрослые, нам и пробиться было трудно. Масленица – обжорка, пьянь, разгул. Блины. Особенно бабушке доставалось: ставить тесто, печь блины…
Пасха… Трудный праздник… Шесть недель Великого поста, Страстная неделя, заутреня и наконец Пасха. Особенно трудна Страстная неделя: есть дают мало, рано будят идти в церковь, а там долго стоять и, главное, нужно напряженно слушать, чтобы понять хотя бы такую запомнившуюся фразу: “Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна”. Мама и бабушка растолковывали смысл поступка Христа, погибшего за нас, учили состраданию, воспитывали человечность – “эту дивную способность человека волноваться чужими несчастьями, радоваться радостями другого” (К. Чуковский).
Заутреня, светлая… Вечерня – плач, а заутреня – ликование… В раннем детстве родители, возвратясь из церкви от заутрени, вытаскивали нас из кроваток и, обдавая запахами весны, холодом, целуя и радостно восклицая: “Христос воскрес!”, тащили в одеяльцах к столу. Лет в пять – шесть нас брали в церковь, и мы с зажженными свечками отстаивали службу и вместе со всеми переживали взрыв радости, пели, а потом, как у Блока:
Мальчики да девочки Свечечки да вербочки Понесли домой. Огонечки теплятся, Прохожие крестятся, И пахнет весной. Ветерок удаленький, Дождик, дождик маленький, Не задуй огня! В воскресенье вербное Завтра встану первая Для святого дня.В гостиной столовый стол, раздвинутый до предела, покрыт белой крахмальной скатертью. На нем куличи с головами, украшенными сахарной поливой и цветным, как бисер, просом, и сырная пасха. В глубоких блюдах на черной-черной земле выращен изумрудный овес, а из него выглядывают крашеные яйца и писанки. Ножки запеченного окорока, жареных гусей, индеек, кур, обвязанных гофрированной белой бумагой. Пахнет вербой и гиацинтами. Гиацинты (любимые цветы мамы) – белые, сиреневые, лиловые, розовые – в глиняных горшочках на столе и подоконниках. Первой, рано утром, приходит поздравлять с праздником команда “Александра”. Вся семья выходит встречать ее. Три раза поют “Христос воскресе из мертвых” и т. д. Потом христосование всех с каждым. Бой и обмен крашеными яйцами. Чарка. Первое опробование кулича и сырной пасхи. Похвалы бабушке. Байки, хохот, песни… Запевает отец… Земля у южных стен и заборов подсохла, и можно играть в ко́зны… катать яйца…
Троица… Напечет бабушка глазастых жаворонков, украсят комнаты березками…
Очень весело на Ивана Купалу! Изобретательное обливание водой, несмотря на чин и возраст. Катанье на украшенных лодках, бой водой с другими лодками, сбрасывание в воду… Ночью – пугание привидениями, фонарики, сбор светлячков, поиск Иванова огня…
Петр и Павел… Меня назвали в честь Петра, митрополита Московского, а его день – в декабре. Папа назван не в честь апостола, а праздновали наши именины, по настоянию друзей, в июне, в день Петра и Павла. На даче. В тот день много пили, а потом пели с запева папы. Пели прекрасно, стройно, многоголосно и не “Шумел камыш”. Все заканчивали играми в саду. Играли в горелки, прятки, пятнашки, жмурки и “горячо – холодно”, испорченный телефон. Гуляли в лесу.
Акварельные краски, цветные карандаши, фольга, сухая бронза, разноцветный пластилин, бумага для рисования и разных цветов жатая, глянцевая, матовая, папиросная; пестрые лоскуты, яркие ленты и ленточки; блестящие цветные присыпки; переводные картинки; картон разный; синдетикон, гуммиарабик, мучной клейстер, клей столярный; ножницы и ножнички; кисточки колонковые и щетиновые; лобзик, пилки и станочек для выпиливания; фанера и наждачная бумага; разные нитки и иголки; проволока; линейки прямые и фигурные населяли детскую…
Все это оживало в умелых руках мамы, когда, вдохновенно импровизируя, сочиняла она нарядные бонбоньерки, цепи, фонарики, хлопушки на елку; маски и шляпы для маскарада; бальные бутоньерки и значки; цветы и бабочек для благотворительных кампаний. Бабочки – гордость мамы! С крыльями размера в ладонь и больше, необычайных форм, расцветок, фактур, они вызывали восторг детей и взрослых! Как они родились в фантазии мамы? Может быть, память об экзотических бабочках, привозимых моряками в Севастополь в качестве сувениров из южных стран, породила их?
Помню белых нежных “невестушек”, темно-красных с черным – “кармен”, серо-черных с серебром – “летучих мышей”… изумрудных… оранжевых…
Мы в детской рисовали, раскрашивали, лепили, склеивали, вырезали, выпиливали, сшивали, вышивали, сбивали, переводили картинки, выжигали… Рисовали, как Красная Шапочка встречает Серого Волка в лесу, потом – что увидели в театре: орел в когтях уносит мальчика. В войну рисовали падающие горящие аэропланы. Вырезали и клеили макетики к сказкам о золотой рыбке и ученом коте. Делали подарки. С возрастом задачи усложнялись, соединялись с уроками рисования, ручного труда и рукоделия в школе, с заданиями по географии, физике и др. Я научился работать с папье-маше, на гончарном круге, переплетать книги. Рукоделие вошло в жизнь. У Шуры – блестяще – в профессию театрального художника. И если в 1925 году выполнял я макет Фрадкиной и Вишневецкой для спектакля “Ревизор” в театре им. МГСПС, то участвовал в этом деле, используя навыки, полученные в детстве.
Сохранилось мое письмо от 13 декабря 1915 года, посланное в санаторий: “Дорогая мама! Ты пишешь, чтобы Ира училась играть на пианино. Ира на это согласна, и я, мама, тоже хотел бы играть на пианино” и т. д. И нас учили.
Музыка стала профессией Иры. Мама все делала, чтобы пробудить в нас способности к художественному творчеству, любовь к искусству: театру, литературе, живописи, музыке.
Отец же мечтал дать нам точные знания, практические умения. Папа окончил юридический факультет Киевского университета и Морской корпус в Петербурге. Библиотеку пополнял популярной научной литературой: серией книг знаменитого Н. Рубакина о природе России, промышленности и сельском хозяйстве, К. Фламмариона о строении Вселенной и др.
Отец не терпел “ответов вообще”, требовал точных знаний и сам проверял их. Учил нас учиться. Повесил в детской азбуку и “долбицу” умножения и заставил выучить. Настойчиво учил трудолюбию, дисциплине, порядку, аккуратности, бережливости, обязательности. Был врагом барства, лени… “Проснулся – вставай, лег – спи, а не валяйся”, – говорил отец.
Все делал, чтобы из хилых сделать нас физически развитыми, приучал к спорту. Заставлял бегать, плавать, нырять, грести, лазать на деревья, ходить на лыжах и играть на воздухе в горелки, лапту, городки, крокет и др. Каждое лето (за редким исключением) семья летом выезжала на природу – к морю, в лес, к полям и речкам, на Волгу…
Волга… Красавица Волга. Она возникла в жизни нашей семьи как место работы отца, а стала главной рекой всей моей жизни. Участок Волги от Сызрани до Симбирска расположен в среднем, могучем течении реки, но и он страдал от обмеления в летний активный сезон судоходства. Фарватер от наносов менялся, и главным делом отца, службы судоходного надзора, было установление изменений фарватера и открытие новых ходов или углубления землечерпалками старых, обеспечивающих безопасность и быстроту следования судов, оповещение их команд о состоянии фарватера и установка сигнальных знаков на воде и берегу. Для служебных поездок, как я уже упоминал, в распоряжении отца находился казенный колесный, однотрубный, под белую краску с черной полоской на трубе пароход “Александр”. В центре второй палубы располагалась рубка, а по бокам – правый и левый капитанские мостики. В корме корпуса жила команда, середину занимало машинное отделение, а каюты носовой части принадлежали отцу и его помощникам и были соединены лестницей с салоном на первой палубе. Салон нарядный, уютный и с огромным обзорным стеклом.
Иногда отец брал в поездку семью, а чаще одного меня. Бывало, что держал меня на режиме команды. Сказочно интересно плыть в рубке или на скамеечке перед ее передним стеклом! Смотреть, смотреть, смотреть бесконечную смену богатого ландшафта, слушать деловую беседу отца с опытнейшими волгарями, лоцманом и штурвальным, вникать в их замечания о работе реки и людей, обслуживающих ее, о встречных судах. Сколько новых, ярких слов: перекат, межень, плёс, старица, перевальная веха, стрежень… А сколько речных и морских баек узнаешь здесь! Любопытно наблюдать, как лоцман встречает гудками, а штурвальный – отмашкой флажками проходящие пассажирские “Самолет”, “Кавказ и Меркурий”, нефтеналивные самоходки, буксиры с баржами, плоты, беляны… Иногда лоцман разговаривает через рупор, обращается по имени и отчеству – он знает всех лоцманов на Волге! Привлекали встречи с бакенщиками, рядовыми судоходного надзора, работающими на реке и живущими там, подчас далеко от селений. “Александр” вставал на якорь, бакенщик поднимался в салон получать указания, взбучку и жалованье. Трогательно расписывались в платежной ведомости или, чаще, ставили крест дрожащей рукой, потея и кланяясь.
Очень скучно слушать, как вахтенный матрос однотонно выкликивает (для записи в рубке) количество четвертей на наметке, которой он промеряет глубину. Часами… Радостно слышать – “Под табак!”, что значит выход на глубокую воду и возможность следовать дальше. “Под табак!” – термин из сленга бурлаков: чтобы не замочить табак на глубоких местах, его прикрепляли на шею или клали под шапку. Жалко отца при разборе аварии. На палубе злая речная полиция, кричащий капитан аварийного судна, нервничает отец… Знали, что полиция вымогает взятки.
Как на праздник, ехали в Симбирск. Тогда его связывали с писателем И. Гончаровым и романом “Обрыв”. День-два стоянки. Подъем по почти семисотступенчатой деревянной поломанной лестнице, окруженной садами, на холм Венец с видом на Волгу и заволжские просторы. Причаливание к нашему пароходу служебного судна начальника Казанского судоходства Черепанова, дружка отца. Стерляжий обед. Вечером – концерт: у пианино Черепанов, а поет отец.
Природа наградила его редкой красоты и силы голосом – драматическим тенором. Не раз в жизни отца вставал вопрос о переходе на профессиональную оперную сцену. С предельной отдачей пел ариозо Канио и другие драматические партии русских и западных композиторов. Проникновенно исполнял народные украинские песни. Каждый раз, как будто прощаясь с жизнью, пел арию Левко из оперы “Майская ночь” Н.В. Лысенко, учившего отца петь. Верхняя, звенящая нота в словах “Мочи нет боле, душа, пропадай…” и сейчас звучит в душе с первозданной силой. Концерт слушает команда, слушают на пристани и на берегу. Отец любил петь людям.
И мама отличалась общественной активностью, темпераментом, душевной щедростью.
…Всероссийский “день ромашки” – сбор средств больным туберкулезом. До́ма – ромашковый луг. Цветы сделаны руками мамы. Окружив ее, вымытые, причесанные, в матросских костюмчиках, с опечатанной кружкой и щитками с ромашками, выходим на солнечную улицу. Мы смущены… неловко как-то… А мама – нет! Сияющая, приветливая, идет навстречу прохожим, заговаривает, прикрепляет цветок или поручает это сделать кому-нибудь из нас, и брякают монеты в кружку, а бумажные деньги проталкиваем в щелочку…
В “Олимпе” благотворительный бал с танцами, играми, почтой цветов, аукционом, концертом и прочим. В нижнем фойе – киоск, где мама продает бабочек. Дела идут не так, как хотелось бы.
Со щитом, унизанным бабочками, идет мама в зал танцев. Пока играет оркестр, оставив мне щит, самозабвенно танцует, а в перерывах, разгоряченная, прекрасная, бойко продает свои творения. В концерте читает “Тарантеллу”, а самый яркий сувенир продают с аукциона…
Война. Может быть, тяжелая осень 1916 года. В кухне идет укладка посылок. Полно людей. Бабушка и ее приятельницы монашки, соседи, прислуга. Душа всего – мама. В ящиках – вязаные варежки и носки, полотняные нательные рубахи и подштанники, махорка, мамой написанные письма и ее же печенье…
…Или сцена, как в третьем акте “Трех сестер”. Ходит по комнатам, раскрывает шкафы и сундуки и выбирает одежду погорельцам…
…Мама на молебне в день открытия созданного отцом плавучего госпиталя. Отрешенно шепчет… Молитва – ее органическая потребность. Всю известную мне жизнь. Бабушка рассказывала, что девочкой ее дочь делала из цветов каштана свечи и, крестясь, произнося молитвы, с глубокими поклонами закрепляла их в развилки вишен, переходя от дерева к дереву в садике у дома. Часто ходила в церковь. Подавала списки о здравии и за упокой, говела, исповедовалась, причастие принимала…
Было время, когда мы, дети, во всем следовали маме.
Берегла свой стиль, привязанности: любимый цвет – лиловый, сиреневый… Любимый драгоценный камень – аметист; духи – “Лориган” Коти; цветы – гиацинты, фиалки; роман – “Анна Каренина”.
Любила писать письма… Письма ее лишены эпистолярных стереотипов – писала своими словами, как говорит сердце и складывает мысль. Абсолютно грамотно…
Озорно шутила, любила юмор. Есть фотография – она подставила Шурикову голую попку под объектив фотографа и хохочет, и отец хохочет… Дразнила нас: “Косолапая!” – это Ира, а мне говорила: “Петька, от тебя псиной пахнет”. Шуру называла “рахит”. Мы хныкали. Грубовато? Выросла среди солдат, матросов… Морячка, родилась в Одессе и двадцать три года прожила у Черного моря в военном порту, в военной семье. Родилась сто лет назад, в 1884 году. Вечная ей память! Красивая, глазастая, немного полноватая, как Анна Каренина. Характер кроткий, впечатлительный, богатый внутренней жизнью, часто скрытой.
Скрыть же от мамы неудачу, огорчение, душевное расстройство невозможно. Пристально вглядится и спросит: “Петя, что случилось?” К маме обращались с исповедью, горем, за советом. Слушала проникновенно, думая, как бы видя то, о чем ей говорили. Беседовала. Успокаивала. Давала верные, как показывала жизнь, советы.
Иногда глубоко задумывалась или вспоминала что-то, уходила в себя, не видела и не слышала окружающего. Впервые я был поражен этим состоянием очень-очень давно, в шесть лет, в Херсонесе.
Близкие утверждали, что мама принимала сигналы бедствия близкого человека на очень далеком расстоянии. Проснулась ночью и, очень волнуясь, сказала, что на фронте плохо брату. Потом стало известно, что в эти минуты он погиб.
У мамы был уникальный жест: в минуты волнения ногтем мизинца правой руки гладила бровь от переносицы к виску…
Звали маму Нина, Нина Александровна Брызжева. Метка на белье, посуде – “НБ”, а при крещении получила имя Анна, но оно возникало только иногда, в официальных документах, потому что в паспорте стояло “Анна”.
Любила искусство народных умельцев. Как-то из поездки по Волге привезла повойник из лилового муара, вышитый золотой ниткой, и такую же душегрейку. Очень ей шло! Следила за модой.
Мама и бабушка – великие кулинарки. Но у каждой свое амплуа. У мамы – сладкое печенье: сдоба, вертушки и др. Михаил Васильевич Нестеров называл их “Нинины вертушки”. Вертушку мама пекла так: обеденный стол посыпала мукой, в центр клала тесто, раскатывала до возможной тонкости, потом растягивала руками до прозрачности: запустит правую руку под раскатанное тесто и, придерживая левой, осторожно поглаживая к себе, растягивает до кромки стола. Разбрасывает по тесту комочки сливочного масла, посыпает сахаром и начинкой, обрезает тесто за краем стола, а заготовку с одного края (узкого) сворачивает плотным жгутом, укладывает зигзагом на противень и запекает в духовке. Когда вертушка остынет, режет по диагонали кусочками и посыпает сахарной пудрой. Начинка – изюм, мак, миндаль, корица, клюква, ваниль. Самая вкусная вертушка – миндальная! Очень хороша с маком. Такая вот “Нинина вертушка”!
И опять о маме и море…
Нас вывезли в Геленджик летом 1913 года, когда подрос Шура. Ему шел третий год. Ире – пятый, а мне – шестой. Помню море, синее море… Помню, как ушла в море Ира. Хватились и увидели далеко в воде соломенный бриль, а под ним глотает соленую воду сестричка. Помню, что влюбился в красивую молодую женщину… Ревновал, капризничал…
Лето 1914 года жили в Балаклаве. Обычно мы купались в бухте, но часто мама брала лодку с гребцом, выходили в открытое море, плыли в виду берега, приставали, прыгали на раскаленную гальку, пищали, скакали, нам бросали под ноги простыни, а потом бежали к воде, и мама учила плавать и нырять, ловить мальков, крабов… К морской воде она относилась, можно сказать, как к среде обитания: плавала свободно, красиво, далеко.
Возила на линейке в Севастополь смотреть парад кораблей.
Приморский бульвар переполнен праздничной толпой. Нашли место у Графской пристани. На рейде – эскадра, сияющая надраенной медью, украшенная флагами расцвечивания, Андреевским флагом. На палубах выстроены команды в белой форме, оркестры. Долгие, скучные паузы… Идет адмиральский объезд кораблей. Долетают мощные ответы на приветствия. Потом играют дудки боцманов. Спуск шлюпок и команд. Блеск взлетающих весел… Причаливание, и вот – первые встречи… И кто-то узнает маму, бабушку… Они здесь впервые после отъезда в 1907 году. Нас разглядывают, угощают чебуреками, бузой…
Ночевали в гостинице, а на другой день ездили в коляске на Корабелку смотреть бабушкин дом и в Херсонес на раскопки.
А недели через две в Балаклаве – колокола, крестный ход с хоругвями и пение “Спаси, Господи, люди твоя”… Война…
Война! Вагон… Плачущие мама и бабушка: отец – военнообязанный, а дядья – офицеры… Проходящие составы с солдатами, и “Соловей, соловей, пташечка”…
Какими идеалами жила семья? Многое определяла официальная триада “Бог, Царь, Отечество”, как тогда пели: “Так за Царя, за Родину, за Веру мы грянем громкое ура, ура, ура!”
Культ Романовых вбивали в наши детские головы в связи и со столетием победы над Наполеоном в 1912 году, и с трехсотлетием дома Романовых в январе 1913 года: возили смотреть иллюминацию, дарили подарки с романовскими портретами. Культ этот стремительно разрушался неудачами в войне, разрухой, распутинской историей и наконец революцией. Это нельзя было скрыть даже от детей.
Мы с младенчества воспитывались на молитве, и религия многие годы была предметом мучительных отношений в нашей семье. Особенно когда стали старше. И только любовь к Родине, решительно видоизменившись, вошла в современное сознание. Наверное, в 1915 году мы – Шура, Ира и я – уходили на войну. Копили сухари. Однажды, когда все взрослые ушли, а прислуга работала на кухне, вышли из квартиры и спустились вниз на парадный выход. Ира заплакала. Я уговорил ее, и мы вышли на улицу. Отправились в сторону Волги. К счастью, встретили бабушку и маму с покупками…
Высшими духовными ценностями почитались правда, добро и красота. Правда – истина, правда – честность, совесть. Жить по правде, по совести – главное требование к человеку. Начиналось с требования говорить правду, отвечать за свой поступок и проступок, не лгать. Совесть – высший внутренний судья. Правда – определяющий эстетический критерий. Правда жизни – в искусстве. Вкус к правде. Нас учили, что человек, совершающий поступки для блага других людей, природы, добр, а добро – основа человеческих отношений в семье, школе, на службе, в обществе. Добра в семье не хватало, и время было недоброе. Маму помнят необыкновенно добрым человеком. И бескорыстным. Добро не терпит эгоизма, тщеславия, собственничества, накопительства. Человек, преданный Отечеству, живущий по правде, совершающий добрые поступки, красив. Красоту человека, внутреннюю и внешнюю, красоту природы, дома, одежды, произведения искусства, песни в семье ценили – “по духу времени и вкусу”, естественно. Мама о красоте писала даже в своем последнем письме. Наконец, Вера, Надежда, Любовь и Мудрость, испокон века живущие в людях, чтились и нами. Конечно, Веру отдавали Богу, но победила Вера в человека, разум, пушкинские начала. В самые тяжелые времена мы жили надеждой на победу разума. Жаль, что иногда мудрость захлестывали чувства. Даром любви одаренная полной мерой, мама хотела наделить им и нас…
Родители многое делали, чтобы семья жила высшими нравственными ценностями, однако мы рано узнали, что иной раз правду от нас скрывают, учат лгать, терпеть, учат покорности, смирению, особенно мама. Несогласие, протест были чужды ее кроткому характеру. Идеал – толстовский – Алеша Горшок. На мой вопрос “За что сослан на каторгу Достоевский?” бабушка ахнула: “Ишь, блазень!”, а мама сказала: “Ты еще маленький”.
К событиям 1917 года нас не подготовили. (Хотя родители пережили революцию 1905 года, они – свидетели трагического пожара “Очакова” на севастопольском рейде, расстрела лейтенанта Шмидта, восстания “Потемкина”.) Я помню Февральскую революцию, а Октябрьскую от нас, детей, скрыли.
В феврале народ сверг царя, монархию. Наши родители читали газеты, пересказывали слухи и рассказы очевидцев. Последними словами кляли царя, предательство царицы Алисы, министров – за развал государства, генералов – за поражения.
Помню день всенародной манифестации. В ответ на обращение губернского комитета народной власти и Совета рабочих депутатов Соборную площадь заполнили десятки тысяч горожан. После митинга пошли по городу. По нашей улице шли свободной толпой, заняв все пространство от края до края. Шли с красными флагами, песнями, радостные. Шли не быстро, махая руками и крича людям в окнах и на балконах. Кто-нибудь поднимался на каменную тумбу или скамейку у дома и говорил речь. Его поддерживали репликами, возгласами, аплодисментами. У многих на груди прикреплены красные банты, розетки, ленты. Тогда я впервые услышал песню “Отречемся от старого мира…” Оркестров не помню.
Отец, участвуя в мероприятиях народной власти, возглавил смешанную комиссию из железнодорожников, судовладельцев и членов судоходного надзора для разработки вопроса о перевозках по Волге в предстоящей навигации. Он ходатайствовал перед Министерством путей сообщения об исключительной и преимущественной перевозке хлопка из Туркестана и Средней Азии, чтобы использовать весь скопившийся в районе Самары судовой тоннаж и помочь нуждающейся в сырье текстильной промышленности Верхнего Поволжья и Москвы. Принимал участие в осуществлении мер безопасности, принятых в связи с ожидающимся нападением. Жили тревожно, напряженно.
Вернулся с Балтфлота Петька-буфетчик с “Александра”, выращенный отцом. Зашел навестить, показаться в форме военного моряка. После завтрака беседовали. Отец спросил:
– Офицеров кидали за борт?
– Кидали!
– И ты кидал?
– И я кидал!
– Как же тебе не стыдно, Петька? – спросил отец.
– Так ведь все кидали, Павел Петрович! – ответил Петька.
Стало слышно о погромах, самосудах над врагами народной власти. В доме на противоположном углу громили винную лавку. Пьяные погромщики внутренним ходом проникли в плотно закрытый с улицы двор к складу. Сорвали замки. Пили из горлышек, били посуду, ломали полки, разбивали бочки. Вино полилось из-под ворот на улицу и по булыжнику в кювет. Пили, черпая ладонями, лежа на животе, сосали из лужи. Разгоняли [погромщиков] солдаты. В другой раз, привлеченный криками на улице “Стой!”, “Держи!”, я выскочил на балкон. Серединой улицы бежал, отчаянно работая ногами и руками, тяжело дышавший мужчина в черном, без шапки. Догонявшие отстали от него на значительное расстояние. Наперерез бежавшему бросился с правого тротуара мужчина. Бежавший метнулся от него, но был задержан людьми с левого тротуара. Сделал попытку вырваться, но его скрутили. Подбежали догонявшие. На некоторое время всё застыло, как стоп-кадр. Подбежавшие осатанело заорали в лицо задержанному… Кто-то ударил его по голове. Начали бить и, сбив, страшно завопили. Больше я его не видел… Из толпы вылетели куски одежды. Толпа, крича, странно перемещалась и прыгала на месте. Потом стала затихать и расступаться, глядя в середину. Кто-то побежал. А затем все отступили к тротуарам, оглядывая сапоги, брюки, сплевывая… На мостовой лежало грязно-черное месиво с очертаниями человека… От него шли черные густые следы, исчезавшие у тротуаров… Все произошло очень быстро… И я не понял: куда делся бежавший, которого задержали? Что сделал? Кто его догонял? Было ли все это?
Как шло учение и чем закончился учебный год, я совершенно не помню.
Отец снял дачу у Волги, выше города. Свежий, нарядный дом стоял среди смешанного леса и кустарника рядом с другими такими же участками за новенькими заборами. Много тени, сыро, прохладно и комары. Перед верандой расчищена площадка для крокета, где мы и торчали с утра до вечера. Ходили к Волге просекой. Берег каменистый, с большими деревьями. Много черной ежевики. Купальни, мостки с лодками, пристань дачных пароходов. Товарищей мало. Чинная, порядочная дачная жизнь. Весело было на Петра и Павла, как я о том писал выше.
Отец в ту навигацию на “Александре” плавал редко: много дел и забот в городе.
Однажды отпустил меня в поездку под присмотром старпома. Команда на “Александре” изменилась. Старой папиной дружины не стало! Молодых призвали. Боцман и лоцман, правда, те же, а часть матросов – новая. Буфетчика не было. Повар – из пленных австрийцев. Как и прежде время проводил в рубке, машинном отделении, кубрике. Питался с командой. На обед и ужин собирались за большим столом, окруженным скамьями, на корме под тентом. Боцман читал молитву. Слушали стоя. Крест клали не все. Повар приносил общую миску с кашей. Ели деревянными ложками. Потом – суп. Миска стояла далеко, и, чтобы не залить стол, полную ложку несли ко рту над куском хлеба. После повар ставил миску с накрошенным мясом из супа, жирным и вкусным. Черпать мясо можно только после того, как разрешит боцман, стукнув ложкой о край миски. Кто лез раньше, того боцман бил ложкой по лбу.
Однажды меня стукнули так, что вскочила шишка. Нефельтикультяписто вышло, как любили говорить на “Александре”. Плавали недолго – и опять дача.
Как-то Ира, Шура и я под водительством бабушки приехали вечером в город. Поднимаясь последним маршем лестницы, я увидел, что замок на входной двери сломан, а дверь прикрыта неплотно. Сказал бабушке. “Беги, зови людей”, – скомандовала она. Я побежал вниз и слышал, что следом бежит бабушка с младшими. На улице бабушка закричала: “Помогите!” Собрался народ. Осмотрели квартиру. Воров не было, они ушли крышами через окно на лестничной клетке…
В прихожей стояли тюки с одеждой, тщательно упакованной в куски брезента, принесенного ворами. Воры оставили набор отмычек, фомок, ломиков и др. На комоде в спальне родителей лежал элегантный золотой кулон, а рядом – открытый флакон с любимыми духами мамы… Воры не успели перелить духи и оставили еще где-то украденную дорогую вещицу.
Мы не могли спать: всё ждали, что воры придут за своими вещами… Бабушка зажгла во всех комнатах свет. Уснули. После этого перепуга отец решил отправить нас с мамой и бабушкой подальше от города, на пост…
На хутор у Сызранского моста мы приехали в первое же лето самарской жизни, в 1911 году, после рождения Шуры.
Через много лет тетушка Ольга Петровна, посылая фотографии, писала: “Дорогие Васильевы, предлагаю вам полюбоваться голенькой заднюшкой заслуженного деятеля искусств Александра Васильева. Жила на посту все лето, лежа в гамаке, перечитала А. П. – моего любимого поэта. И представьте, дети не мешали”. И еще: “У Сызранского моста, чудесное лето, великолепное гостеприимство, озорное настроение и неизменно одна и та же фраза от Пети: «Тетка дуля»…”
В последующие годы бывали редко и недолго. В этот приезд мы всё там увидели по-новому. Хутор расположен на высоком, крутом, изрытом пещерами, известняковом правом берегу Волги. В центре, на краю, площадка, и от нее к воде, к лодкам идет многоступенчатая деревянная лестница. На площадке будка вахтенного матроса, флагшток и столб с колоколом – отбивать склянки по морскому обычаю. Это и есть пост! Здесь как на капитанском мостике! Это сердце хутора. Тут с мальчиками из семей работников судоходного надзора и других тружеников, облепив заборчик и перила, обсуждаем всё что видим: нашу гордость – Сызранский железнодорожный мост, один из длиннейших в мире. Пассажирские, товарные, воинские, госпитальные составы… Здесь я узнал, что длинный-длинный состав из товарных вагонов с тоскливо поющими переселенцами назван “Максимом” в честь нижегородского босяка, писателя Максима Горького. А сколько узнаем мы от вахтенного матроса о проходящих судах, перевалке грузов на пристанях видных отсюда Батраков, об изменениях на Волге! Однако тут мы бываем недолго. Мы целые дни заняты. Лодки, рыбалка, купанье, осмотры пещер, походы в лес, поездки на пески противоположного берега, поделка луков и стрел, копка червей и подготовка подкормки для рыбалки, посещение кузницы и знакомство со старым кузнецом, берущим голой рукой раскаленную подкову! Быстро пролетели последние беззаботные недели нашего детства.
К началу учебного года “Александр” ночью, погасив огни, перевез нас в Самару.
В городе шли демонстрации, митинги. Все возбужденно говорили об Учредительном собрании, спорили, за какой номер бюллетеня голосовать. И в нашей семье то же. Во дворе толстый гимназист по фамилии Карасик заявил, что будет голосовать за анархистов.
Осенью я пошел в первый класс коммерческого училища. Два года до этого я проучился в младшем и старшем приготовительных классах. Обстановка в училище отражала происходящее в жизни, в обществе: классы распались на враждующие группы; классы враждовали между собой, старшие били младших. Сосед по парте, приходивший к нам домой учить уроки, обозвал меня в классе “буржуем”. Я обиделся и обозлился. Рассказал отцу. “Протестую! – вспылил отец. – Мы живем на те средства, которые я зарабатываю своим трудом”.
Для совместного урока с первым классом “Б” нам дали большую аудиторию, выстроенную амфитеатром. Когда урок кончился, мы стоя проводили учителя и стали готовиться к большой перемене, в аудиторию вошли здоровенные старшеклассники, сгрудились у двери, начали снимать ремни и складывать их для драки. Я поднялся по крайним ступеням амфитеатра и толкнул на них прислоненную к стене большую стремянку с коваными петлями и крючьями. Стремянка, падая, неожиданно встала на четыре ноги, переступила с ног на ноги, сделав какой-то странный вольт, изменила направление и – слава богу! – грохнулась на застекленную дверь в арке, со страшным шумом ломая рамы и разбивая стекла.
Пережив ужас и стыд, я зажался и упрямо выдержал укоры любимого классного надзирателя Аринушкина, выговор директора Херсонского, приход вызванного в училище отца.
Дома тихо встретила мама, села на стул, прижала меня к коленям и, пристально глядя в глаза, стала перебирать мои волосы. И тогда я заплакал. Никогда не забуду удивленных, несчастных, укоряющих и бесконечно любящих глаз мамы!
Вскоре обстановка стала невыносимой, ходить по улицам было опасно, и я перестал бывать в училище. Все мы занимались дома с репетиторами и мамой. Гулять выпускали в каменный мешок двора. Ходили черным ходом. По ночам в парадных дежурили члены уличных комитетов.
Отец ходил на службу. Кабинет отца реквизировали, и в нем жил представитель новой рабочей власти, симпатичный интеллигентный комиссар. Иногда он вежливо просил кипяток. Приглашал нас к себе. Родители при детях говорили мало. По вечерам папа читал вслух или играли в лото. Перебрались в комнаты окнами во двор: кухня с черным ходом и комнатой прислуги, санузел, столовая, комната бабушки с чуланом. Жили скученно.
Это все, что я помню об осени, зиме и весне 1917–1918 годов. Память разбудила артиллерия, обстреливающая город со стороны Самарки… На чистом небе видны барашки разрывов… это наступают взбунтовавшиеся пленные чехи и белогвардейские части. Отец ползет по-пластунски через кабинет (симпатичного комиссара уже нет) к балконной двери, чтобы взглянуть направо, узнать, что происходит на Дворянской, главной улице… На другой день там весело играют духовые оркестры чехов… Дальше в памяти смута, какая бывает на экране барахлящего телевизора…
Страшный, кровавый смысл происходившего в те дни и месяцы я узнал, прочитав главы из книги “Восемнадцатый год” эпопеи А.Н. Толстого “Хождение по мукам”, из исторической литературы.
Появляется новое слово – “эвакуация”. Нам объясняют, что на город будут наступать большевики, Красная армия, произойдут бои и нужно уехать на некоторое время, взяв самое необходимое.
Суета сборов и укладок. Однажды ночью нас спящими увозят на товарную станцию.
Поезд движется на восток по районам, захваченным корпусом чехов и белогвардейскими частями.
Уфа. Мы в семье друга отца. Недолго… Нужно уезжать… И здесь наступают большевики…
Урал. Сутками у окон, так интересно! Туннели, ущелья… Наш паровоз бежит за своим хвостом… Потеха! Ночью скандал. Голос отца. Нас загоняют на какую-то ветку. Утром опять Урал, красивый Урал. Екатеринбург (Свердловск). Находим дом купца Ипатьева. Старик за деньги показывает узкий подвал с верхним светом в конце, выщербленную стену, клочок волос, прибитых к стене пулей. Здесь по решению Революционного трибунала уничтожали женщин царской семьи Романовых и наследника… Помню бледных, оцепеневших родителей.
От Екатеринбурга ехали на Тюмень, а от Тюмени – на Омск. За Уралом проехали столбик на границе Европы и Азии и выехали на Великую Сибирскую магистраль. Омск. Равнины, реки, мосты, леса, станции, эшелоны с такими же, как мы, беженцами, солдатами.
После долгого перегона на унылой станции вышли размяться у вагона. И вдруг навстречу с чайником – Торчинский! Самарский лев, поклонник мамы и партнер папы за карточным столом… Торчинский! Стоят элегантные, заталенные и хохочут, пожимают плечами. Ни к селу ни к городу… Торчинский приподнял котелок, поцеловал руку маме, исчез… Весь в черном… Черт из-под печи…
Новониколаевск (Новосибирск). Квартирка с открытыми в палисадник окнами с огромным иконостасом и горящими лампадами и свечами. Пьяная ссора. Расхристанные прапорщики с пистолетами в руках. Из-за невесты на помолвке. Слезы, ругань, борьба… Спокойная невеста в гимназическом.
Как мы там? Зачем? Не знаю…
Красноярск. Кем-то решено нам здесь зимовать. Город переполнен беженцами, военными… Сухой и пыльный. Совершенно чужой город. А что же мама? Полная неясность положения, жизнь слухами, существование на колесах не вызвали проклятий, истерик, злобы… Похудевшая, почерневшая, сдержанная, как всегда элегантная и простая, пристально смотрела в наши глаза, чаще прижимала к себе и делала свое материнское дело: берегла наши жизни и души, не ссорила с жизнью. Среди хаоса, при самых непривычных обстоятельствах, с помощью бабушки отвоевывала пространство и делала его чистым и уютным. Мыла нас, лечила, кормила и, не теряя времени, учила.
В Красноярск семью привезла мама. (Отец задержался по делам в Новониколаевске.) Нашла жилье. Несмотря на значительное опоздание, определила в знаменитую в Сибири Красноярскую губернскую гимназию. Учителя – в мундирах и крахмальном белье. На первом месте – Закон Божий. Парами, взявшись за руки, ходили мы в гимназическую церковь на молитву. Были с мамой на приеме у тощего, седого, стриженного бобриком директора.
Мама находила время, надев фартушек, подавать какао в каком-то благотворительном беженском кафе, водила в кинематограф.
Приехал отец, и мы зимовали, работая и учась, привыкая к замечательным морозам, неожиданным обычаям сибиряков, надеясь на возвращение в Самару.
Город жил в тревоге. Шла Гражданская война. Облавы, обыски, перестрелки. Буднично, на застеленной сеном крестьянской телеге, привезли во двор дома, где мы снимали комнаты, труп сына хозяйки, офицера, застреленного крестьянами в карательной экспедиции где-то под городом. К трупам привыкли. На большой перемене бежали на гимназический двор и сквозь щели в заборе, совпадавшие со щелями барака, примыкавшего к забору со стороны госпитального двора, рассматривали и обсуждали уложенные штабелями, кривляющиеся и жестикулирующие трупы в драном солдатском бельишке, а то и нагишом. Пахло карболкой. Жили среди “живых трупов”.
Старик, адмирал в отставке, дядя Федя (похожий на Артёма[1] из МХТ) и его “утешительница” (юная, хорошенькая, кудрявенькая, со смелым декольте) устраивали нашей семье на Рождество и Пасху приемы. Для такого торжества дядя Федя надевал шитый золотом адмиральский мундир, все кресты, ордена, медали и знаки, золотой именной кортик и пел под гитару “Я встретил вас”… Уютно и трогательно.
Заперев дверь, зашторив окна, при свечах неделю пили водку симбирские миллионеры: Пузанков – стриженый, бритый, коротконосый, огромный и толстый и Баулин – седой, кудрявый и чем-то похожий на Бакунина. Пол заставлен пустыми бутылками, а один угол завален стандартными слитками золота с двуглавыми клеймами. Золото светит сквозь драные черные чулки. Показала этот гротеск Зинка, любовница Пузанкова, кассирша его симбирского синематографа.
И еще один труп.
На масленичной ярмарке с балаганом в распряженных розвальнях растянулся труп огромной прекрасной бурой медведицы. Два медвежонка теребят мертвые соски матери. Сначала сдержанно, похрюкивая, а затем все нервнее, злее, с рычанием и писком рвут их. Устанут, скуля, замрут – и опять все сначала. Толпа хохочет.
Весной белые армии, колчаковские и иностранные, предприняли поначалу довольно успешное наступление на Западном фронте, и тысячи беженцев, погрузившись в вагоны, двинулись домой, на Запад, в Европу!
Двинули и мы… Опять Транссибирская магистраль. Но как же она изменилась весной 1919 года! Перегоняя эшелоны возвращавшихся беженцев, шли на Запад составы с воинской техникой, продовольствием, кавалерийскими лошадями, солдатней под флагами Америки, Польши, Японии, царской России…
Станции кишели военными. На какой-то станции я остановился, засмотревшись на нарядные конфедератки и кунтуши польских легионеров. Усатые паны заметили меня, и один, прошипев “Пся крев!”, больно хлестнул кожаной плеткой.
На другой какой-то станции меня заманили жестами к себе веселые солдаты, выглядывавшие из двери на буферной стороне длинного пульмановского вагона. Внутри картина непривычная. Пол вагона покрыт светлым ковром. На стенах много вешалок. Нар, скамеек, стола, кроватей я не заметил. Солдаты сидели на низких сиденьях или на полу у низких столиков. Занимались чисткой пуговиц на френчах. Работали в рубашках защитного цвета. Каждый солдат держал в руках френч и металлическую пластину с прорезью. Загонял в прорезь тесным рядом медные пуговицы френча, мазал их из тюбика белой пастой и чистил щеткой, а затем замшей до сияния.
Угостили краюхой белого, как бумага, хлеба, покрытого маслом и густым слоем клубничного варенья. Запивал из высокого стакана теплой водой с разведенной сгущенкой.
Ребята что-то говорили на своем языке, скалили зубы в улыбке и часто хохотали. Может быть, надо мной? Нищетой, голодом? Запомнил слова – “бойз” и “Амэрика”.
Дальше Омска, столицы Верховного правителя России адмирала Колчака, нас не пустили. Эшелон поставили на запасные пути, там мы и жили. Все пристанционные пути забиты.
Разгром Красной армией колчаковцев на Урале вызвал панику в Омске. Магистраль нужно было освобождать для орд, хлынувших теперь на Восток. Так как отец все еще возглавлял какую-то эвакуированную волжскую службу, нас погрузили на баржу, и буксирчик потащил ее по Иртышу мимо Тобольска вниз, а от Самарова (Ханты-Мансийск) по Оби мимо Нарыма вверх, в объезд, чтобы доставить все на ту же Великую Сибирскую магистраль.
Но с Оби пришлось завернуть на Томь и, проплыв до Томска, там зазимовать. Проделанный нами в июле – августе 1919 года путь водой по Иртышу, Оби и Томи от Тобольска до Томска – это часть пути, которым проходили осужденные на каторгу декабристы, народники, социал-демократы, уголовники. Они, как и мы, плыли на баржах. Здесь проплыли сотни тысяч арестантов, ссыльных и их семей. Наша баржа походила на пристань. Трюм застлан половыми досками, палуба застроена каютами, а на корме работала большая кухня.
Гибель мечты о возвращении в свой дом, абсурд бесцельного бегства смутил всех и особенно поколебал дух мамы. В одноместной каютке какого-нибудь водолива[2], с дверью на палубу и окном без переплета, уходящим в обшивку, на узенькой деревянной койке, уткнувшись в стену и поджав ноги, лежала наша мама с платком в руке… часами… сутками… Иногда на свободном конце койки в ногах у мамы, облокотясь о стенку, сидел поседевший сероглазый мужчина… Они тихо переговаривались, глядя один в окно, а другая в стенку. Отец пил и играл в карты в гареме машинисток, живших в одной из комнат.
В старинном губернском Тобольске мы выходили на берег. Поразил белый кремль на высоком берегу и вид из кремля на заречные дали. Посетили богатых купцов. Забор из камня, ненамного ниже кремлевского, с железными воротами, окружал белый каменный с фигурной кладкой двухэтажный большой дом. Комнаты большие, невысокие, с глубокими окнами, заставлены мебелью под ситцевыми светлыми чехлами и скатертями и многочисленными бочками и горшками с цветами. Поили чаем с горячими шаньгами. Какие-то старухи, тоже в ситце. Кажется, мы гостевали у староверов. Как-то я пролез в сад за стеной.
Иру и Шуру берегла бабушка, а я болтался по палубам, каютам и трюму, забитому людьми и перегороженному тряпками, слушал проклятья, сплетни и созерцал болезни, любовь, покрасневшие пенисы старших гимназистов, посетивших бардаки красавца Тобольска. Собирал на песчаных отмелях бивни мамонтов.
В Самарове все поселенцы баржи сошли на берег выменивать или покупать у этнографически необыкновенно колоритных остяков (остяками называли народность ханты[3]) рыбу, ягоды, туеса, художественные поделки, костюмы. Все население баржи хоронило умершего немого по морскому обычаю: в саване и с грузом на ногах на неоглядных просторах Оби и Иртыша. Все пели “Вечную память”, и с необыкновенным драматизмом звучал тенор отца на этом диком вечном просторе.
На какой-то остановке все трясли вековые гиганты в готической кедровой тайге, шишки калили в кострищах и грызли жирные вкусные орешки, перемазавшись в смоле и гари.
Мало кто из бывших на барже знал, что в этих диких местах жили, творили, коротали ссылки великие сыны России, и, конечно, никто не мог предположить, что на этих тюменских берегах через сорок лет произойдет величайший энергетический бум – найдут нефть и газ в тех самых местах, которые мы проплывали (Сургут, Нижневартовск, Нарым).
После баржи, в Томске, мама ожила и посветлела. Красота ажурного города, жизнь среди университетской ученой интеллигенции всех нас духовно обогатила, нравственно осмыслила. И хоть прожили в Томске месяцев пять, он остался в памяти каким-то духовным оазисом.
Мы с Шурой поставили спектакль или, лучше сказать, аттракцион. “Черная комната”. Одну комнату завесили черными тканями. Дверь в другую комнату служила порталом, и в ней мы поставили на полу обратную рампу, слепившую зрителей. Я в белом изображал кудесника, а Шура, одетый во все черное и черную маску, сливаясь с черным фоном, подавал мне блестящие предметы. Они летали, исчезали и т. д. Ира играла на пианино.
Гимназические занятия проходили в университетских аудиториях, лабораториях и кабинетах. В палеонтологический кабинет я подарил бивни и другие части скелета мамонта. В биологическом узнал эволюционную теорию Дарвина, и это стало началом атеизма.
Однако агония белого движения продолжалась. Сорвали с древков знамена и распустили отряды бойскаутов. Высоко над Томью, на задах какого-то длинного казенного здания, выстроили наш гимназический отряд бойскаутов. Мы стояли в форме перед голубым развернутым знаменем. Пробили барабаны. Зачитали приказ о роспуске отряда. С треском оторвали полотнище от древка…
В первой половине декабря под напором соединений красных партизан и большевистских подпольщиков, погрузив остатки вещей в теплушку, в составе других эшелонов бежали в сторону станции Тайга. Зачем? Куда? Трещали могучие декабрьские морозы, и падали снега. Паровоз топили дровами с порубок в тайге и ими загружали тендер… стояли часами… забивали котлы снегом… расчищали заносы на путях… В теплушках ехало по нескольку семей, и все время кто-нибудь что-нибудь варил, сушили сырую одежду… пар, чад… жара вокруг раскаленной буржуйки и лед в углах вагона под нарами… Иногда нас обстреливала конница партизан.
Наконец на станции Тайга вышли на вожделенную Транссибирскую магистраль и включились в бесконечную вереницу следующих на восток поездов. На загаженных обочинах полотна лежали взорванные, сгоревшие паровозы и вагоны, разбитая военная техника, бродили осиротевшие лошади, ища корм на ветвях или под снегом, и ветер носил несметное количество каких-то документов. На станциях растаскивали имущество из ничейных вагонов. Буржуйку топили томами юбилейного издания “300 лет дома Романовых”. Толстая мелованная бумага не горела, и мы сворачивали в жгуты цветные портреты царей и их именитых сподвижников.
За Ачинском, на подступах к Красноярску, эшелон попал в зону боев. Наш вагон прямой наводкой с ближней дистанции обстреляли из пулемета (мы видели его через оконце с верхних нар). Пули застряли в сундуках, плотно набитых имуществом. Движение прекратилось.
Какой трагический балаган! Полтора года бегали, чтобы прибежать к последним боям Красной армии, уничтожившей остатки разбитых колчаковских частей, к отречению Колчака от верховного главнокомандования, к его аресту и расстрелу.
Нас взяли в плен части регулярной 5-й армии Восточного фронта. Во время боя в вагон забежал, придерживая окровавленный живот, военный без опознавательных знаков. Не назвался… Потерял сознание… Его устроили на нижние нары. Бредил, но не давал осмотреть себя. Придя в себя и узнав, что находится в расположении Красной армии, попросил сообщить о себе. Началась агония. Пришли политработники с врачом. Долго пробивались к сознанию… он узнал одного из пришедших… освободил грудь от одежды… открыл пачку окровавленных бумаг и сник… Смерть героя, благодарность комиссаров неожиданно поразили благородством…
Бег кончился. Продукты доедали, воду пили снеговую; одолевали вши… Следовало определяться. Отец решает идти пешком в Красноярск искать жилье для переезда семьи и берет меня с собой. Мы прощаемся, присев на дорогу, и мама крестит нас. Выходим. Эшелоны стоят в бескрайнем снежном поле. Идем вдоль бесконечных вагонов, погашенных паровозов или просто по шпалам. После долгого пути показался разъезд красноармейцев. Один из бойцов подъехал и приказал мне снять белую с длинными ушами шапку из ангорки. Отец вступился. Увидев происходящее, старший разъезда подскакал и отогнал мародера.
Дальше эшелоны стоят в два ряда. В уходящем пространстве между непрерывными глухими составами у раскрытого товарного вагона с бочками лежит труп с распоротым животом, набитым комьями янтарного топленого масла. По маслу, в рядом стоящей бочке, идут глубокие кровавые следы от пальцев, черпавших его. На груди замученного – дощечка с надписью кровью: “За продразверстку”…
Мы вернулись. Картина изменилась. У населенных эшелонов шла торговля. Наехавшие из ближних сел в бараньих тулупах, медвежьих дохах, волчьих малахаях, лисьих папахах и платках мужики и бабы доставали из мешков, продавали и меняли замороженные пельмени, замороженное молоко и масло со щепочкой, горячую еду.
Отец нанял извозчиков до Красноярска. Мы погрузились с остатками вещей в розвальни. Когда выходили из вагона, туда с матом лезли пьяные чалдоны. По заснеженному тракту, закутанные в тулупы, в санях, а где бегом, в сумерки добрались в Красноярск. Круг замкнулся. Так мы встречали новый, 1920-й год!
В небольшой комнате Шура и я спали на двухэтажных нарах; три койки стояли по стенам и стол посередине. Согревались дымящей капризной буржуйкой, освещались коптилкой, ходили по дорожкам, проложенным по рассыпанной подмерзшей картошке.
Контрреволюция долго держала в своих руках Красноярск, и теперь ЧК наводила порядок. Отца арестовали. Увели при нас. Пережив удар, мама, оставляя нас на попечение бабушки, утепляясь как только можно, уходила спасать отца. Превозмогая страх, узнала, где отец, доставляла необходимые следствию сведения, передавала передачи, добивалась свидания, узнавала новости у жен арестованных. В шинелишке, как из рогожи, заросший, какой-то косноязычный охранник принес записку. Отец писал, что скоро придет домой, и просил дать охраннику белье… В записке другой рукой было приписано: “и брук”. Мама отдала и брюки.
Однажды мы услышали в коридоре стук замерзших подошв. Вернулся отец. Счастье пришло в дом, гордость за маму…
Семья прошла важнейшую проверку, получила права гражданства. Скоро папа пошел на советскую службу. Семья привыкла к существованию в условиях военного коммунизма: получала карточки, стояла в очередях, выходила на субботники чистить помойки и сортиры, заготовлять дрова. Хорошо начав учебный год в томской гимназии, здесь мы его не закончили.
Весна пришла тяжелая. Грязь, вонь во дворах и на улицах, тиф, минувший нас благодаря яростной борьбе мамы и бабушки, голод…
А я с необыкновенным душевным подъемом вспоминаю Красноярск 1920 года.
Однажды соседский мальчик сказал, что городскому театру требуются статисты. Захотелось увидеть, узнать иной мир. Родители не возражали. Пошли с соседом в первый красноярский советский театр (ныне драмтеатр им. А.С. Пушкина). Впервые в жизни вошли через неведомую дверь в задней стене в рабочую часть театра и коридорчиками и лесенками подошли к комнате на втором этаже, где среди развешанных костюмов – картузов, шляп и брошенных на пол сапог – расположились другие мальчики, взрослые мужчины и даже старики в бородах. Узнали, что нам предстоит участвовать в массовке пятого акта пьесы Октава Мирбо “Дурные пастыри”. Первые акты, прячась в кулисах от всевидящих глаз помощника режиссера, подсматривали и слушали спектакль. В антрактах шарахались от рабочих сцены, быстро таскавших декорации, наблюдали за артистами. Захватила бурная сцена ссоры отца, хозяина фабрики, с сыном, защищавшим права рабочих и проклявшим отца. Эту сцену я видел через дырочку в холсте павильона совсем близко… совсем рядом.
В антракте перед пятым актом помреж собрал нас на сцене и в сутолоке перестановки велел мне лечь на брезент среди других статистов, изображавших убитых полицейскими участников стачки – рабочих и их детей. Нас подпудрили. По полу сквозило холодком, пахло пылью от брезента… Шумел за занавесом зрительный зал. Прозвучали звонки. Стихло на сцене. Успокоился зал. Первый раз в жизни прошелестел взлетающий занавес, и я услышал тишину зала, разрываемую глубоким хриплым кашлем…
Бездвижный, с закрытыми глазами, я решил, что все смотрят только на меня… испугался… Мучил вопрос: поверят ли, что я мертв? Выдержу ли бездвижное лежание? Из услышанного диалога я понял, что нас будут выносить на носилках и что к воротам во двор, где мы лежали, подходят матери, жены, сестры, ищущие своих близких. Стало слышно, что женщины вышли на сцену и приближаются к нам… Зал оцепенел. “Что же будет?” – ждал я. Тишину прорезал вопль… зарыдали женщины совсем близко… Я решил посмотреть сквозь прищур, что происходит. И… о ужас! Против меня, у ног, вытаращив глаза на мое лицо, стояла красавица Чарская! Я делал все, чтобы стать площе, незаметней, но она двигалась ко мне, нагнулась, и я увидел сильную подводку вокруг глаз, густой крап на ресницах и большие, колышущиеся, почти выпадающие из огромного декольте груди. От стыда и ужаса я зажмурился…
Наступила пауза… но… слава богу! Артистка ушла от меня направо и с воплем рухнула на кого-то… ближе к рампе… Вскоре меня унесли за кулисы. Помреж, давая кепку, сказал: “Мальчик, надень и выходи с этими” – и указал на группу других бывших мертвецов. Я запротестовал: только что был на сцене, без грима узнают! И тут впервые услышал сакраментальную фразу: “Публика – дура!” Что было делать? Я вышел. Нет-нет… Ни смеха, ни реплик в мой адрес не было.
Так я впервые узнал счастье перевоплощения, счастье быть другим на сцене.
В спектакле “Василиса Мелентьева” я стоял рындой у трона Ивана Грозного, которого играл кумир зрителей Сабуров-Долинин. Я был очень мил в белом кафтане, шапочке и красных сапожках. Перед собой на весу держал секиру. Когда царь в бешенстве запустил жезл в опального боярина и стал как-то странно озираться, я решил, что он ищет, чем бы еще в него запустить, и так зажал свою секиру, что потом реквизитор с трудом выдирал ее из моих рук, и они долго болели.
Статистом выходил в пьесе “Соколы и вороны” и других.
Многим я обязан милому гортеатру. Там впервые увидел иноязычный спектакль – любительская еврейская труппа играла бытовую комедию. Увлекли народные еврейские мелодии, позже услышанные в Государственном еврейском театре от гениального С.М. Михоэлса и всего замечательного коллектива.
Люська, дочь хозяйки дома, где мы жили, девочка старше меня, затащила на галерку гортеатра посмотреть бал городского гарнизона. Театр заполнили военные с девушками и дамами. Звучала музыка, танцевали. На концерте погас свет, и в луче угольного прожектора из пролета занавеса возник Пьеро и простуженным голосом запел: “Ваши пальцы пахнут ладаном”, “Ах, солнечным, солнечным маем” и др. Аплодисменты, топот, вопли восторга, стрельба… Пел любитель – Валерий Валертинский, брат известного в городе чекиста. Играли оркестры. Гас свет. Вспыхивали зажигалки. Люська хватала меня резко и целовала взасос. Проверяли документы…
Помню 1 мая 1920 года и шеренгу артистов: красавицу Чарскую, Пармского в клетчатых узеньких брючках и черной круглой шляпе, Сабурова-Долинина. В гортеатре же я увидел спектакль, перевернувший мои представления о правде нашего искусства.
Молодежная студия из Томска играла “Гибель «Надежды»” Германа Гейерманса. Жизнь рыбаков артисты передали с сердечным теплом, живой искренностью, непринужденной свободой, а разговаривали так просто, словно текст сочиняли здесь же, на сцене. Зрителей покорила, потрясла правда жизни. Это была неизвестная нам вера, иная, чем та, которой следовали мы. На встрече с коллективом мы увидели, что все артисты молоды, общительны, веселы и умны, а держат себя так же просто, как играли.
Через много лет я узнал, что они повторяли рисунок постановки 1-й студии МХТ, созданной Л. Сулержицким, сподвижником К.С. Станиславского, а руководителем томской студии был воспитанник А.Д. Попова. Запомнил фамилию – Зверев.
Среди статистов гортеатра привлек внимание расторопный и, видимо, всё здесь знающий красивый, черноглазый, причесанный на пробор мальчик. При знакомстве назвался Яном Колибри. Сказал, что у него есть “свой театр”, и пригласил участвовать в спектакле, который он ставит. Ян собрал девочек и мальчиков и поставил с нами сочиненную им пьесу-сказку с музыкой и танцами. Я играл фантастического принца.
На пасхальной неделе на сцене, построенной в старом, из толстенных бревен сибирском сарае во дворе дома, где жила семья Яши Фридлянда (Колибри – псевдоним), смастерив причудливые костюмы и декорации, мы играли этот спектакль. После спектакля зрители и исполнители танцевали, играли… Отличался Ян со своей очаровательной партнершей, бравшей призы за исполнение бальных танцев не только на детских балах.
Позднее Яша уехал учиться в Ленинград. В 1930-х годах, продолжая образование в Москве в киноакадемии учеником С. Эйзенштейна, бывал в нашей семье, ухаживал за моей сестрой. Мама любила кормить не слишком сытого в те годы студента. Ныне Яша – известный кинорежиссер Ян Фрид – живет в Ленинграде, работает на “Ленфильме”. Он автор любимых зрителями музыкальных картин “Двенадцатая ночь”, “Собака на сене”, “Летучая мышь”. Профессор консерватории. Мы встречаемся, дружим шестьдесят пять лет!
Однако вернемся в 1920 год. Весной шел мимо нарядного особняка Общественного собрания и остановился, услышав несущуюся из больших открытых окон полуторного этажа незнакомую дружную песню о молодой гвардии. Ребята, сидевшие на подоконниках, позвали меня зайти в особняк. Я вошел и… прижился. Стал ходить на репетиции театральной студии. Ставили современную политическую агитку. Может быть, “Призрак бродит по Европе”. Исполнителю роли буржуя нужен был цилиндр. В убогой костюмерной студии цилиндра не оказалось. Обратились в гортеатр. Не дали – слишком много заявок. Решили организовать “тройку” для реквизиции цилиндра у местных богатеев. Меня в нее включили. Старший, бывший военный, велел нам затянуть ремни поверх верхней одежды, прицепил к своему ремню кобуру с бутафорским наганом, взял мандат и строевым шагом повел нас серединой улицы к дому известного заводчика. Улица смотрела, я был смущен. Поднялись на второй этаж. В прихожей суетились перепуганные женщины. Цилиндра у буржуев не оказалось. На верхней полке вешалки, среди шапок и шляп, я заметил котелок. Забрали его. Так я оправдал свое назначение в “тройку”.
Круглые сутки, не умолкая, жил зал особняка, тот, из окон которого неслась остановившая меня лихая песня о молодой гвардии. Девушки заполняли его. Одни уходили, другие приходили, сидели на подоконниках, случайных стульях, на полу, толпились в дверях. Многие курили самокрутки с махоркой.
Собирали группы на трудфронт. Проводили митинги, возникали дискуссии, читали сводки, пели частушки под гармошку. Стоило кому-нибудь заиграть на пианино, как возникали танцы, мгновенно, как будто только этого и ждали. Бесконечная “Барыня”, кадрили, тустепы и падеспань, вальс… Как тогда любили танцевать! Это было счастливое ощущение свободы, победы. Читая красноярские газеты тех лет, часто встречаешь заметки о танцах после собраний, митингов, о любви к танцам в селе и городе…
А когда буйно цвела и одуряюще пахла на всю Сибирь черемуха, ездил в культпросветвагоне обслуживать пристанционные сёла. Культпросветвагон организовал дорпрофсож Красноярского узла. Жители сёл – одни по темноте, враги по злобе – называли вагон “куль с просветом”. Программа наших выступлений состояла из двух отделений. Пьесу Л.Н. Толстого “От ней все качества” играли в первом отделении. Второе отделение – концерт: чтение стихов Д. Бедного, пение, гармонь, танец.
Отвечал за передвижение вагона, безопасность людей и питание комендант “из кавказцев” – маленький, тощий, черный, ходивший в туго запахнутой под ремень кавалерийской шинели, волочившейся по земле, косноязычно говоривший по-русски. Он преданно любил нас, самозабвенно смотрел от корки до корки все выступления. Однажды во время танцев заиграли “Танец Шамиля” – комендант сорвался с места по кругу в дикой лезгинке, шинель распахнулась, и мы увидели, что у бедняги выше обмоток болтаются обрывки сопревших, перелатанных солдатских штанов… Такой вот “вещизм”! Выступал перед зрителями, проводил с ними политбеседы классически красивый, аккуратно одетый, в кожаной фуражке комиссар, человек замкнутый, необщительный, все свободное время находившийся в купе, где ехали он и комендант. Творческое руководство осуществлял профессиональный актер, доходчиво, нервно игравший главную роль пьесы Толстого – Прохожего. Он и его жена, тоже профессиональная актриса, были душой нашего коллектива. Все любили за веселый юмор, хозяйственность, находчивость другую семью – молодоженов, актеров-любителей, игравших Михаила и Марфу. В концерте он читал сатиры Д. Бедного, а она пела революционные песни. Самые младшие члены коллектива – суфлер Коля и я. Мы под мелодию “Норвежского танца” Грига танцевали в концерте негритянский танец, надев на головы черные чулки с прорезями для глаз и черные перчатки. Я еще играл в пьесе роль Парашки, дочери Михайлы и Марфы. Звезда – гармонист – соло в концерте, и неутомимый аккомпаниатор, и организатор танцев и игр. Еще двух членов коллектива я не помню.
В места предполагаемых выступлений посылали нарочного “рубить сцену”, если нет подходящего места для спектакля. Вагон прицепляли к редким поездам или катили сами, вручную, от станции к станции, часто среди первозданной тайги, подходившей прямо к полотну, среди тех самых черемуховых рощ, о которых я упоминал. Оказалось, что трудно столкнуть вагон, еще труднее не дать ему раскатиться… особенно под горку.
Сильнейшее впечатление оставило одно выступление. В огромном селе с богатыми рублеными избами и дворами, с нарядной, расписанной деревянной церковью к нашему приезду мужики валили лиственницы, распиливали их продольной пилой, из янтарных досок построили коробку сцены на сваях, скамьи на врытых столбиках и ограду из слег с калиткой. Сооружение светилось и далеко пахло смолой. Вход за ограду оплачивался натурой: краюха хлеба, кринка молока, плошка орехов, пирог с черемухой… Народа – тьма. Думаю, что пришло все село. Семьями. Пришли бывалые зрители (они и сцену строили), люди, прошедшие дорогами войны и революции. Но для большинства театр – тайна, они видят его впервые в жизни.
Нельзя забыть лица этих людей во время спектакля. Толстой написал пьесу в 1910 году о современной ему деревне, глубоко зная ее и раскрыв больные стороны: пьянство и горькую долю женщины. У зрителей полная поглощенность происходящим, абсолютная вера, что видят свою жизнь… На лицах – тень удивления, сочувствия… Матерятся, подают реплики… плачут…
После спектакля пришлось убеждать, что видели они не жизнь, а представление, показывать артистов. Прохожего, вопреки автору, почитали героем, борцом за свободу людей, жертвой царского произвола. Он вызывал сочувствие, и опытный исполнитель активно использовал это.
Потом концерт. И танцы! При луне… Пока не заиграет на рассвете пастушеский рожок! А в стороне, на скамьях, шла горячая политическая беседа, что кончаются Гражданская война, военный коммунизм и что предстоят большие перемены…
Хорошо я жил в голодном 1920 году! Ходил со студийцами на знаменитые Столбы, купал в Енисее коней детской добровольной пожарной дружины и “протыривался” в цирк на “всемирный чемпионат французской борьбы”. Наша прозорливая мама знала обо всем, поддерживала, не ссорила с новой жизнью.
Мы давно могли возвратиться в Самару, но служебные, деловые связи отца распались, квартиру заняли другие. Интерес к Самаре пропал… Родители решают ехать в родные края, на Украину, в Киев.
Наши деды – русские: Васильевы – коломенские, а Брызжевы – тульские, но работали, семьи создавали, дома строили на Украине – как раньше говорили, в Малороссии. Мама родилась, детство и юность провела в Крыму, а папа – киевлянин – родился рядом, в Мотовиловке, детство и юность провел с семьей в Казатине. И он, и братья окончили Киевский университет; сестры – выпускницы Киевского института благородных девиц, две вышли в Киеве замуж: Наталья – за хирурга Козловского, а Катерина в 1902 году – за знаменитого художника Нестерова. В сфере судоходства на Днепре отец рассчитывал получить работу. Началась переписка, ожидание подходящей обстановки (только в июне изгнали из Киева белополяков), а затем поездка отца на место. Между тем приближалось начало учебного года.
Все мы, дети, отстали в учебе. Мои одногодки закончили четвертый и даже пятый классы, а я из-за пропусков топтался во втором, и в третий меня не зачисляли. Что было делать? Отец решил, что я должен догонять свой возраст, заниматься дома и сдавать весной за второй, третий и четвертый классы.
Осень 1920 года, зима и весна 1921-го прошли в напряженной домашней учебе с репетиторами и родителями по новой программе советской трудшколы.
В ожидании назначения отца мы переехали ближе к Европе – опять в Омск, в четвертый раз по Транссибирской магистрали. Повезло в Омске! Добрую память берегу́ я о замечательном учителе, добром и ласковом человеке Крамарском. Он умело готовил нас к будущим экзаменам.
Покидая Сибирь, скажу так: я не ощутил бы себя в полной мере счастливым человеком, посетившим сей мир в одну из его роковых минут, не выстрадай вместе с родной семьей беженства, Гражданской войны, военного коммунизма в Сибири! Без них моя жизнь была бы убогой.
Всякий раз, подъезжая к Киеву почему-то всегда рано утром, хочу увидеть Днепр, откосы Печерска и Владимирской горки, золотые купола Лавры и Андреевской церкви, какими увидел их в апреле 1921 года… в ранней весенней дымке. Мама и бабушка крестились и плакали… С неизвестным, непривычным вниманием, лаской, разглядыванием встретили нас незнакомые папины друзья и их семьи. Привезли в квартиру на Большой Владимирской, рядом с фундаментом древнейшей Десятинной церкви у Андреевского спуска, где в “доме Турбиных”, может быть, еще жил Михаил Булгаков. Помогли определить нас в школу № 64, до революции бывшую частной женской гимназией Жекулиной, где девочкам преподавали по полноценной программе замечательные учителя. Школа эта и в советское время считалась одной из лучших в Киеве. Нам разрешили в последние недели перед каникулами посещать уроки, пройти проверку знаний (например, моих – за второй, третий и четвертый классы) и зачислили меня на осень учеником пятого класса. Разрушенный, побитый город поразил нас, изголодавшихся сибиряков, базарчиками, базарами, огромными базарищами – Еврейским и Подолом, свободной торговлей – первыми успехами новой экономической политики, нэпа. Все можно купить, нужны деньги, а в семье их мало, не хватает – работает один отец.
Нас с Шурой отдают в Художественное училище, на лето уезжающее в знаменитое село Звонковое (хохляцкий Барбизон) собирать лекарственные растения. Там мы живем в заброшенных халупах в дубовой роще на высоком берегу Ирпеня под присмотром воспитателей. Каши и супы – общие, а хлеб получаем по выработке: сколько собрал, скажем, липового цвета, зверобоя, столько и получи хлеба в соответствии с нормой и расценкой. Работа трудная, кропотливая, но у нас с Шурой выработка была хорошая. Хлеб ели, на хлеб меняли, хлеб сушили впрок. Мы отощали так, что раны, царапины не заживали и наши костлявые тела украшали золотушные струпья. Ели дикие ягоды, воровали овощи на огородах, фрукты в садах, ловили рыбу и варили в таганке. Мужики устраивали облавы и избивали нас дрючками. Мы, мстя, угоняли хозяйские челны вниз по Ирпеню и загоняли в камышовые дебри. Иногда у мельничихи Зозули ночами бражничали прятавшиеся в лесах недобитые “зеленые”. Появлялся разъезд красноармейцев, возникала перестрелка.
В конце пребывания за нами приехала мама. Наменяли продуктов. От станции до Киева ехали на крыше вагона. Слышим, ищут Васильевых. Мы откликнулись. Это по просьбе отца железнодорожная охрана нашла нас и доставила в вагоне в Киев.
Отец получил повышение. Много работал. Часто уезжал. Материальные дела поправились. Пел в капелле “Думка”, и мы слушали концерты замечательного украинского коллектива.
В августе Шура, Ира и я под водительством мамы пошли впервые вместе в советскую единую трудовую смешанную школу к первому звонку, каждый в свой класс. Впервые в жизни узнал я, что школа может быть властителем дум, а учителя и одноклассники – необходимыми, интересными людьми. Наши учителя создавали атмосферу интеллигентности, требовательности и творческого соревнования на каждом уроке, при каждом выходе к доске, в письменных, домашних заданиях. Появились лидеры. Я вспомнил уроки мамы, красноярский театральный опыт и выскочил в первые артисты, театральные лидеры.
Каждый был лидер. И личность. Тридцать четыре личности переходного возраста с судьбой, опаленной Историей. Говорили на русско-украинском языке, сдобренном словечками базарного сленга и иудаизмами.
Две трети класса составляли девочки – привлекательное и своеобразное племя киевлянок, выросших и в старинных польских семьях, и в зажиточных еврейских, семьях русских и украинских интеллигентов, и даже одна голландская аристократка.
В классе шла подспудная, загадочная и таинственная жизнь, уходящая далеко за стены школы.
Соблазнов было очень много. Купались с лодок на Днепре, встречались вечерами у Аскольдовой могилы, обследовали пещеры киевских оврагов, наблюдали темную жизнь Подола и Еврейского базара. Начали бить чечетку и петь “Лимончики” и другой нэповский фольклор. Например:
Сонька, важная персона, Закричала для фасона: “Ты иди своей дорогой, За лимон меня не трогай”. Ах вы лимончики, мои лимончики, Ах вы растете у Сони на балкончике!Мама пристально следила за нашим духовным ростом, дружескими связями и принимала наших товарищей дома. Естественно, она жила не только заботами. Всей семьей не раз бывали в Лавре, даже в дальних пещерах. Неожиданное, сильное впечатление осталось от слаженной мизансцены службы и стройного звучания в сияющем теплым светом сотен восковых свечей, высоком, нарядном, богатом Успенском соборе (взорван фашистами), от блуждающих огоньков в таинственных переходах и тупиках пещер, от собравшихся в роще у святых источников жаждущих исцеления больных в колясках и ползком, поющих и просящих нищих слепцов, уродов, калек, богомольцев, торговцев сувенирами, любопытствующих и, конечно, монахов, деловито снующих, обслуживающих, объясняющих, торгующих… Здесь мы узнавали историю аж от времен Нестора.
Воспитываясь в Самаре, скитаясь по Сибири, мы не приобрели культуры и привычки созерцать образцы архитектуры и живописи, мы знакомились с ними по репродукциям в журналах. Великие художественные богатства Киева открыли такую возможность: смотрели картины в собраниях, строения и древние фрески в соборе Святой Софии, в Кирилловской церкви – культовую живопись Врубеля, а во Владимирском соборе – Васнецова и Нестерова. В собор ходили между службами, чтобы найти Бориса и Глеба и другие творения Михаила Васильевича. Сознание, что их писал родной, близкий, хоть и незнакомый еще человек, очень поднимало наше униженное гражданское достоинство. Думаю, что все это должно было иметь особое, может быть, неосознанное значение для Шуры.
Полюбили спектакли знаменитого театра Соловцова, уже носившего другое название. Особенно запомнились “Лесные тайны” Евгения Чирикова. Восхищались игрой артиста Соснина в роли Лешего, особенно в трогательной сцене прощания с лесом. И тема пьесы – человек и природа – сильно запала в душу.
Живя в Киеве, бывая в Звонковом, Каневе, на Днепре, мы узнавали Украину. Наши детские понятия и представления о нации, национальном были наивными, пошлыми: сарт (обидная кличка узбека) в тюбетейке и полосатом халате торгует по дворам чесучой; китаец показывает фокусы с гуттаперчевым мальчиком и глотает огонь; татарин кричит “Старье берем!”; хохол пляшет гопака. И это всё, хотя знали о Киеве по рассказам папы и теток, пели украинские песни и украинские обычаи бытовали в семье. С бо́льшим уважением относились к французам и англичанам. Мадамка учила французскому языку, жила у нас и, кажется, была предметом семейной драмы. Знали, что французы – союзники против немцев, Эйфелеву башню, сказки Перро и др. Папа хорошо рассказывал про Англию, куда плавал. Читали Диккенса. Наши понятия о нациях неожиданно и бурно расширились в Сибири во время интервенции Антанты. И только здесь, на Украине, мы узнали, что такое другая нация, другой народ со своим языком (мы его учили в школе), историей и народными героями, культурой, обычаями, географией. Изучали Т.Г. Шевченко, читали М. Коцюбинского.
Наша жизнь опять круто изменила течение. Высокое начальство увидело, что отец не только замечательный специалист-практик, но и знаток научных основ и законов речной лоции и навигации, и перевело его в Москву, консультантом в Центральное управление речного транспорта Народного комиссариата путей сообщения СССР. Весной 1922 года отец уехал на новое место работы.
Мама и бабушка, чтобы прожить в отсутствие отца, наладили продажу домашних обедов дома и навынос. Часами составляли подробные калькуляции, закупали продукты по сходным ценам, делали заготовки, варили, жарили, парили и пекли, принимали гостей или выдавали на дом, мыли и чистили посуду и опять калькулировали… закупали… выдавали… мыли… Мы помогали как могли. Мама брала меня, когда с другими мешочниками ездила в Канев (где похоронен Шевченко) за дешевым луком, фасолью, мукой и др. Мама, выменивающая иголку на шматок сала, мама среди мешочников на крыше вагона, мама, подсчитывающая расходы клиентов за обед… вызывала чувство обиды. Однако всякое дело мама совершала увлеченно, с достоинством и юмором, если оно необходимо семье, детям! Жертвовала всем!
Пришло время собираться в дорогу и нам – время проводов и прощаний. Грустно расставались с Багорскими. Мы дружили семьями. Багорская в молодости стала известной певицей, но, когда ехала в автомобиле подписывать контракт в петербургский Мариинский театр, накинутый на ее шею модный газовый шарф запутался в колесе, изуродовал шею, и она потеряла голос. Ее дочь, Женя, наша сверстница и друг, позже стала известной актрисой в театре им. Мейерхольда, а затем в Малом. Очень привлекал всех Женин отчим, изобретательный, компанейский дядька. В 1920-х годах они тоже переехали в Москву.
Последний раз в театре Соловцова мы с мамой в июне 1922 года смотрели новую нашумевшую пьесу Н. Евреинова “Самое главное”. Опять замечательно играл роль Поликлета Н. Соснин, в 1930-х годах ставший артистом МХАТа. Игра Соснина захватывала, поражала каскадом ярких, мастерских перевоплощений. Пьеса, пронизанная придуманной автором идеей театрализации жизни, далекой от нашего нелегкого существования, все же заставляла думать, оценивать “самое главное”.
Цвели любимые мамой каштаны. После спектакля мы медленно сошли к Крещатику, пересекли его, поднялись по зеленой улочке вдоль стены Михайловского монастыря к Богдану Хмельницкому… Прощай, Киев!
В день отъезда нас провожали дома, по пути на вокзал, у вагона… Впервые в жизни. Не забывай! Помни!
Москва… Думал ли отец о жизни в Москве? Папа умело и прозорливо выбирал города для жизни. Самара… Киев…
В 1916 году он вез меня из Самары учиться в Петроград и остановился в Москве. Помню почему-то белую, высокую, двустворчатую, с медной ручкой, плотно закрытую дверь в квартире Нестеровых и Красную площадь. Памятник Минину и Пожарскому на другом месте и лобное место не там, где сейчас, – ближе к центру. Больше ничего на площади нет. Поразило обилие голубей. Они на мостовой, кремлевских стенах, башнях, церквах, Историческом музее… Лотки с кормом, толпы кормящих… Непрерывное перемещение голубей… И козыряющий отец в форме офицера Генерального штаба.
И вот Москва.
Жаркий июль 1922 года.
Угол Садовой-Спасской и Орликова переулка, дом 2, квартира 12, восьмой этаж.
Наши комнаты в многосемейной коммунальной квартире. Угловой эркер большой комнаты выходит на Садовое кольцо, и вдали видна стройная, нарядная красавица Сухарева башня – наша национальная гордость. От ее подножия, заполняя широченную улицу и тротуары, мимо больницы Склифосовского, знаменитых Спасских казарм шумит, кипит, разливается многолюдный Сухаревский рынок.
Спустя пятьдесят лет эту стихию покажет на сцене Малого театра в нашем спектакле “Пучина” Шура.
Через левое окно видна деловая и торговая Мясницкая (ныне Кировская), прямая дорога на Красную площадь, а если сильно высунуться из него, налево по Садовой стоят великолепные Красные ворота, а вокруг них располагается биржа труда: сотни артельных – владимирских, калужских, тульских лапотников с пилами, топорами и котомками, готовых вербоваться в дальние края.
Комнаты почти пусты. Самая необходимая, случайная, сборная мебель, прикрытая яркими плахтами, привезенными мамой с Украины.
Мы только сегодня приехали. Сидим в комнате с эркером за обеденным столом в “самарской” мизансцене – отец во главе. Опять все вместе! Счастливые, встревоженные и смущенные…
Сидим за столом и еще не осознаем, что в Кремле работает Владимир Ленин; на Мясницкой вышагивает стихи Владимир Маяковский; еще не взрезал руки́ Сергей Есенин; в здании на Театральной площади играет Михаил Чехов; за углом в Камергерском аплодируют Константину Станиславскому; здесь выставляется Кузьма Петров-Водкин; играет в городки Иван Павлов; на Капри пишет Горький, а где-то тоскуют Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин…
Сидим за столом и не знаем, что семья наша, прожив в этих комнатах 1920-е и начало 1930-х годов, на высоком подъеме душевных сил, распадется. Все мы уйдем из этих комнат… Останется только Ира. Она проводит каждого из нас, примет на себя тяготы и радости и создаст новую семью. Мы будем приезжать сюда, как в родной дом.
Любимая бабушка, отдав все силы нашей семье, каждому из нас, прожив подвижническую жизнь, умрет от тяжелой болезни. Она уйдет с обидой на нас. Мы похороним ее и забудем ее могилу…
Живописный талант Шуры будет замечен в средней школе и родителями. Закончив, по совету М.В. Нестерова, художественное образование в 1930 году, Шура, захваченный новыми идеями современного театра, ринется по Транссибирской магистрали штурмовать сценические пространства театров Сибири и Дальнего Востока.
Отец напишет и издаст учебное пособие по лоции рек, свободное время отдаст участию в профессиональном оперном коллективе и руководству вокальной самодеятельностью. Грудь его летом 1930 года украсит значок участника Первой Всесоюзной олимпиады театров и искусств народов СССР, и мы благодаря ему обогатимся знанием искусства многих национальностей Союза. Зимой 1931 года отца уведут отсюда, осудят на три года, досрочно освободят без права жить в Москве, он будет работать в Костроме и там умрет от тяжелой болезни.
В августе 1962 года я в ответ на запрос получу из Верховного суда РСФСР справку о реабилитации “за отсутствием в его действиях состава преступления”.
Я буду учиться в средней школе, где в сплоченном драмкружке от артиста 2-й студии МХТ В.С. Канцеля (он знаменит спектаклем “Учитель танцев” в ЦТСА) узна́ю основы новой театральной веры. После окончания школы по требованию отца поступлю на литературное отделение педагогического факультета 2-го Московского государственного университета. Через год обучения наукам языка и литературы по предложению В.С. Канцеля уйду в молодой экспериментальный театр – Государственную профклубную мастерскую. Проработав два года среди талантливых артистов и режиссеров – О. Абдулова, А. Лобанова, Н. Волконского и других, поступлю учиться на актерское отделение Центрального техникума театрального искусства (ныне ГИТИС). Окончив его весной 1932 года, уеду во главе курса на индустриальный Урал в Свердловск организовывать молодой театр. Провожая меня, мама подарит книгу “Владимир Маяковский – художник” с надписью: “Дорогому моему сыну Петру от счастливейшей и несчастнейшей матери. 18/X 1932 года. Москва”.
Мама… Наша мама…
Она найдет в Москве отличные школы: Ире – музыкальную, а Шуре и мне – среднюю трудовую (бывшую частную гимназию), где, кроме академических, мы получили уроки советской гражданственности – со школой хоронили Владимира Ильича Ленина – и развивали творческие способности: художника – Шура и артиста – я.
Мама вернет семье праздники и гостеприимство, переживет глубокое увлечение личностью Михаила Васильевича Нестерова, лучшего друга семьи, оказавшего неизгладимое воздействие на наши души.
Мама увлеченно постигала культуру Москвы от галереи Третьякова до Художественного театра и новую, создаваемую на наших глазах титанами, гениями и талантами 1920-х и начала 1930-х годов.
Счастливейшей называет себя мама потому, что осуществилась ее самая сокровенная мечта, владевшая ею, когда она рожала нас: работниками духовной культуры стали ее дети.
Арест и осуждение отца, последовавшая нищета, общественные осложнения и удары судьбы прошедших лет подточили силы мамы, и, когда весной 1933 года был произведен еще один акт произвола – маме предложили покинуть Москву, – она не выдержала унижения и покончила с собой…
Да святится имя твое!
Но все это произойдет потом, потом, а пока…
Пока мы сидим за столом, полные веры, надежды и любви, стекла открытых окон мелко дрожат при каждом проезде трамвая по Орликову переулку, и мы доедаем первый обед, сваренный бабушкой и мамой на московской земле. А на подоконнике ждет большой полосатый надрезанный арбуз, купленный на Сухаревке…
Александр Павлович Васильев
Про детство, юность, родителей, войну и работу в провинции
Как все было с самого начала? Наше начало – детство. Для меня оно началось в Самаре, на самой середине Волги. Я там родился в 1911 году. Теперь этот город называется Куйбышев… Да нет, мы начинаемся еще раньше, с наших родителей и даже до них. Ведь есть же понятия генеалогического дерева, “корней”, предков.
Семья отца была большой – шестеро детей: Наташа, Катя, Оля, Алеша, Юра и Павел. Как они располагались по старшинству, я не помню. Наталья Петровна вышла замуж за хирурга царской армии, профессора Козловского. Жила и умерла в Ленинграде. Екатерина Петровна была второй женой Михаила Васильевича Нестерова, родила от него двоих детей – Алешу и Наташу. Алеша умер в молодые годы, почти юношей. А его сестра Наталья Михайловна живет и здравствует, замужем за Федором Сергеевичем Булгаковым, художником, сыном церковного философа Булгакова. Ольга, моя тетка и крестная мать, – музыкант. Много лет, до конца жизни, была концертмейстером Саратовского оперного театра, мужем ее был главный режиссер этого театра.
Вообще корни мои – в среде русской интеллигенции, для которой искусство если не становилось профессией, то было необходимой и органичной частью ежедневной жизни.
Мой отец в Самаре был много лет инспектором судоходства Волги, знал это дело отлично. Это не мешало ему серьезно заниматься музыкой вплоть до того, что позже, уже в конце жизни, бывший царский офицер преподавал в Костромской музыкальной школе.
Дома в детстве мы все играли в домашний театр. Я делал декорации, пытался зарисовывать впечатления от прочитанных книг. Петр, мой старший брат, режиссировал. Он и стал потом театральным режиссером. Заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии Петр Павлович Васильев – это он и есть. Самое интересное, что и потом, уже в нашей взрослой профессиональной жизни, мы тоже вместе работали и сделали, как мне думается, несколько хороших, очень хороших спектаклей, особенно “Царя Федора” в Чехословакии и “Пучину” Островского на сцене филиала Малого театра. Приволжский мир и быт пьес Островского уже тогда, в нашей родной Самаре, был перед нашими глазами…
Петр, и только он, чем я ему бесконечно благодарен, “заразил” меня театром. Отвлек от “чистого искусства” – живописи. Его жизнь, с юности до преклонных лет (он на три года старше меня), связана с театром. Он работал в Свердловске, в Ярославле, был главным режиссером Ермоловского театра, в котором поставил замечательный спектакль “Пролог” Штейна и ряд других. Был некоторое время главным режиссером Театра сатиры.
Но это все потом, а тогда мы были еще совсем детьми, но детство наше было кратким. Мне было всего семь лет, когда наша семья в потоке беженцев, спасаясь от боев и бурь послереволюционного времени, стремилась на восток… Мы поселились в Красноярске. Это было тяжелое для всех время. 1919 год. Лютый мороз, голод. Почему-то неким символом бесприютности и нищеты стал для меня образ лошади, беспризорной лошади. Их много тогда бродило по городу, шатающихся от истощения, бесконечно жалких, тянущихся к людям в надежде на защиту… Помню, на рынке продавали замороженное молоко и борщ. Красные куски борща висели на веревках. А молоко продавали в мешках! Да, да! Оно было заморожено в мисках, и можно было взять в руки эти белые ледяные диски в соломенной трухе. Летом же город превращался в сплошное болото, и пройти по улице можно было, только держась за забор. Даже подводы вязли, грязь доставала лошадям до брюха…
Потом мы переехали в Омск, в Томск. В 1921 году отец получил служебное назначение в Киев, а в 1922-м мы поселились в Москве…
Отец в конце 1920-х и в начале 1930-х годов работал в НКПС (Народный комиссариат путей сообщения), в угловом здании у Красных ворот. В то время вышла его книга, которая называлась “Лоция рек”, – о правилах и особенностях плавания судов по рекам. А я, по его просьбе и по строгим деловым указаниям, делал иллюстрации к книге. Рисунки поясняли, где, когда и какие устанавливать огни на пароходах, лодках, баржах и бакенах.
Жили мы в московском восьмиэтажном “небоскребе” того времени, угол Садовой и Орликова переулка. А в Колпачном переулке, что у Покровских ворот, была прекрасная школа, которая в 1920-е годы называлась 41-я школа БОНО (Бауманский отдел народного образования), а по старой памяти – бывшая женская гимназия Л.О. Вяземской.
Пеший путь в школу лежал через Мясницкую, Харитоньевские переулки, Чистые пруды и – в Колпачный переулок.
Ранец за спиной… Летом – темно-синий, довольно большой берет и курточка с якорем на левой руке. Зимой – башлык с длинными “ушами”. Ими в мороз заматывалось все лицо, только ресницы индевели. И обязательно носили калоши! Это теперь их не стало, а прежде… Специальные ящички имелись для калош под крючками вешалки, или же гардеробщики писали номер мелом на подошве. Калоши терялись, забывались, обменивались, рвались, оставались в луже и пр. Шутники прибивали калоши к полу, и можно было упасть, “войдя” в них. Существовала целая “индустрия” уличных заливщиков калош, то есть сапожников, ставящих резиновые латки на дырки. Часто латки были красные. Ведь резину брали тоже от старых, рваных автомобильных или велосипедных камер, а они бывали и красными. Вопль “Где мои калоши!” преследовал нас в те годы. Особенные мучения они доставляли театральным гардеробщикам. Ведь каждую пару надо было взять в руки и поставить под пальто. И в грязь – чистое мучение.
Гардероб, или вешалка, как мы говорили, была и в нашей школе. “Хозяином” вешалки был дядя Миша, старый казак; он нам показывал и учил, как развивать силу рук (для рубки шашкой) с помощью двух круглых толстых палочек сантиметров по двадцать длиной. Он зажимал их крепко в ладонях, опускался лицом вниз на пол и, переставляя по очереди палочки, как бы шагая на них, таскал по полу свое вытянутое тело. Главное, чтобы руки с палочками находились перед головой! Очень трудно! А он гордился своей силой, давал щупать “каменную” мускулатуру.
Директором был Евгений Иванович Сахаров, высокий, полновато-стройный, холеный, в золотом пенсне. Синий костюм, белая рубашка с темным галстуком и поскрипывающие черные узкие ботинки. Он был очень строг, и мы его ужасно боялись.
Арифметику преподавала Варвара Аракеловна, маленькая пожилая терпеливая женщина в вишневом шерстяном платье. Русский язык – Зернова. С нами учился и Миша Зернов, ее сын.
Был у нас и предмет “хоровое пение”. Вел его худощавый брюнет с гипнотизирующим взглядом и весьма строгих правил. Он заставлял нас петь, стоя в две шеренги, заложив руки за спину и обхватив пальцами запястье. Так простоять урок было очень трудно, и некоторые слабенькие вроде меня падали в обморок. Но он был непреклонен: только так правильно стояла диафрагма!
Была учительница танцев. Мы учили мазурку, краковяк, польку, падекатр, вальс, падеспань…
Был драматический кружок. Вел его Владимир Семенович Канцель. От него я впервые услышал слово “биомеханика”. В школе была сцена с освещением и реостатом, с помощью которого можно было делать рассвет. Мне, будущему театральному художнику, это особенно нравилось.
И наконец, изумительный учитель рисования Николай Филиппович Шершаков. Невысокий, с русой бородкой клинышком, в очках в железной оправе, с мягким, негромким голосом. Он был, как я это сейчас помню, типичным апологетом прекрасной русской натурной школы рисунка и живописи. Жил Шершаков (а я у него бывал) в знаменитом доме для художников против храма Христа Спасителя. Дом и сейчас цел. Комната была увешана натурными этюдами маслом: маленькими, с серенькими небесами, синеватой далью, золотистой зеленью пригорков. Было и множество набросков сангиной и карандашом: колют лед на Москве-реке, торговка горшками, парень в картузе, извозчик в ожидании седока и т. д. Рисунок он считал основой искусства.
Николай Филиппович часто выводил на этюды с натуры группу ребят, подающих надежды. У Покровских ворот был рынок. До денежной реформы “мусорные” – бумажные – деньги исчислялись миллионами, на уличном жаргоне – лимонами. Стакан семечек или одна скрюченная сухая вобла стоили не менее тысячи рублей. Деньги, после того как все карманы на одежде торговца были забиты, запихивались в стоящий между его ног мешок. И весь рынок был заполнен возами или дровнями, подводами, впряженными в оглобли лошадьми. На мордах – торбы с овсом. Они и были моими первыми моделями.
В Москве лошадей тогда было несчетное количество. Это они были основным видом рабочего транспорта – гужевого. И множество извозчиков. На площадях имелись стоянки извозчиков, так называемые биржи, как теперь у такси. Нанимался первый извозчик (соблюдалась строгая очередность), торговались о цене – “овес нынче дорог” – и под жалобы извозчика отправлялись в путь.
Грузовые извозчики назывались ломовиками, а их лошадки – ломовыми лошадьми. Тяжела была их доля! У Красных ворот со стороны Трех вокзалов был крутой подъем. А это была одна из наиболее “рабочих”, привокзальных улиц, по которой нескончаемым потоком, под гиканье, понукание и удары кнутов, изнемогая от яростных усилий, лошади тянули в гору свой тяжеленный груз. Возчики были разные. Одни впрягались в работу, помогали изо всех сил лошади, подталкивали подводу или полок (как тогда называли). Другие же били лошадь. Нещадно хлестали под пузо, по морде, по ногам, как можно больнее, и лошадь, как бы в истерике, забиралась на эту проклятую гору, где ей давали немного постоять и отдышаться.
Мостовые Москвы были покрыты в основном булыжником, а копыта этого конского сонмища подкованы – по четыре подковы на лошадиную душу. И в летнюю пору с раннего утра Москва звенела легким, высоким звоном – цокотом копыт!
Второй составляющей звучания московских улиц были трамваи – главный и очень разветвленный вид пассажирского транспорта. Трудно поверить, что, например, по центру довольно узкой улицы Кирова и по Арбату были проложены две колеи рельсов, а на оставшихся пространствах в обе стороны ехали извозчики, ломовики и автомобили.
Правда, автомобилей было маловато. В 1930-е годы появились первые черные таксомоторы фирмы “Рено” с радиаторами специфической изогнуто-приплюснутой формы.
На улицах была теснота ужасная. Пешеходы не имели понятия о правилах уличного движения, так как таких правил еще не существовало. Когда же их ввели, некоторые граждане потешались: как это я буду переходить улицу под прямым углом, откуда, дескать, я узнаю, прямой он или нет?
Трамваи ходили парами – ведущий и прицеп. С помощью веревки, протянутой через оба вагона, кондукторы звонили в кабину водителя: мол, посадка окончена и можно ехать. Вагоновожатый, чтобы просигналить, должен был колотить правой ногой по торчащему из пола металлическому “грибочку”, который, в свою очередь, колотил по колокольчику, издававшему глухой, короткий, но довольно высокий звук. Да, Москва звонила! Прибавьте еще к этому трамвайно-подковному звону церковно-колокольный, и картина звучания города закончена.
В часы пик так же, как и теперь, в автобус и троллейбус, в трамвай сесть было трудно. Ведь дверей, автоматически закрывающихся, то есть изолирующих пассажиров от улицы, не было. У каждого вагона – постоянно открытые тамбуры, площадки. Поэтому войти и выйти из вагона можно было и на ходу. Вернее, вскочить и выскочить в том случае, если площадка и ступени к ней не были густо завешаны людьми и не напоминали гроздь черного винограда.
Особую касту представляли трамвайные кондукторы. Обычно пожилые люди, зимой тепло одетые, в черных валенках и калошах, в перчатках с отрезанными кончиками у большого, указательного и среднего пальцев, чтобы удобней было отрывать билеты. На груди на ремне висела сумка – кошель для денег – и сброшюрованные билеты. А их было пять сортов. До восьми утра билет на любое расстояние стоил 5 копеек, а дальше так: одна станция – 8 копеек, полторы станции – 11 копеек, две станции – 14 копеек и даже 19. Но станция – это не проезд от остановки до остановки, а остановок пять-шесть, точно не помню.
Кондуктор отрывал пассажиру билет и во избежание штрафа надрывал на билете местечко с указанием станции, где тот вошел в вагон. Жутко трудно. На полу валялись огрызки израсходованных билетных книжечек, которыми кондуктор протирал себе “глазок” в заиндевелом окне. Когда я каждый день ездил на трамвае в техникум, то запоминал выразительные лица кондукторов, дома рисовал их; получилась целая серия рисунков. Теперь я знаю, почему и сейчас иногда портреты пишу без натуры. Образную память мне помогли развить любовь и любопытство к жизни, ко всем ее чертам и формам и, конечно, к людям. Благодарю вас, дорогие пожилые кондукторы московских трамваев. Особенно 8-го номера, возившего меня от дома до Сущевского вала, где был наш техникум. Кондукторы в черных полушубках, валенках и перчатках с обрезанными пальцами!
Внизу Орликова переулка, поближе к вокзалам, существовала Ермаковка, четырехэтажное здание Ермаковского ночлежного дома. Ночлежка впускала в себя (в определенное время: зимой – часов в шесть-семь вечера, а летом – позже) тех, кто не имел крыши над головой, не имел профессии, денег, родни. Больно было видеть очередь странных и страшных людей. Завернутые в тряпье калеки, старцы, старухи, почти дети. Беспризорные, сомнительные женщины, воры всех мастей. Молодая страна еще не успела навести порядок.
Питательной средой для этих отверженных была Сухаревка. Сухаревский рынок, гигантская “торговая точка”, которая начиналась от Домниковки и заканчивалась на подступах к Цветному бульвару. Цветной же бульвар, справедливо пользовавшийся дурной славой, упирался в Трубную площадь, в Трубу, как ее тогда называли, где был рынок живности и цветов. Настоящее конско-людское месиво. Все прилегающие к этому пространству здания, особенно их первые этажи, были заняты магазинчиками, трактирами, пивными с фирменными вывесками: фон и верх выкрашены желтым хромом, а нижняя часть – зеленым. Название “Пиво” выведено черным, а с правой стороны каждой буквы – обвод белой “толщинкой”.
Одежда, парикмахерские, скобяные лавки и все что угодно – ведь начинался нэп. Хозяева стояли у входа и чуть ли не силком затаскивали покупателей, во всяком случае, усиленно рекламировали свое заведение. Самодельные ларьки и палатки, лотки с навесами, полки на собственной груди, двухколесные тележки и пр., и пр.
Бесконечное количество фокусников, игроков в лото, карты, домино и кубики. Гадалки. Торговцы ветошью, опорками и головными уборами. И горе зазевавшемуся: его моментально обворует карманник. А их было множество, от “мэтров” до жалких беспризорных ребят.
И всеобщее лузганье семечек. Мостовая вся была засыпана шелухой. И тут жe, через это людское море, с беспрерывным звоном пробирались трамваи – “Б” и “восьмерка”.
Центром этого кипения была величественная Сухаревская башня с часами, в которой жил когда-то ученый Брюс.
Поразительно, что, когда в 1960 году я впервые попал в Лондон, один известный английский актер повез меня на их старый рынок. Боже мой! Одним из распространенных видов торговли оказалась продажа сырой воды. Это была та же Сухаревка и плюс еще Диккенс. Мальчик носил медный чайник, стакан и громко кричал: “Кому воды холодной?!”
Вот звуковая и живописная картина Москвы того времени. Но было и другое. 1920-е годы – время невиданного расцвета нашей культуры, искусства. Годы бурных поисков и экспериментаторства, соревнования художественных идей. Станиславский, Мейерхольд, Таиров, Охлопков, Завадский создали полифоническую картину театральной жизни. Великая плеяда послереволюционных художников и скульпторов – Кустодиев, Кончаловский, Бродский, Головин, Кандинский, Малевич, Фаворский, Юон, Федоровский, Шадр, Андреев, Матвеев. Стоп! Да их просто невозможно перечислить. Маяковский, Есенин, Хлебников, Белый, Брюсов! Эксперименты в опере, в балете, зарождающийся кинематограф. Весь XX век мира начинался там, в 1920-х годах.
Атмосфера революционного творческого подъема, постоянные поиски нового глубоко волновали и нас, еще мальчиков и девочек.
Даже школа, где я учился, искала новые методы обучения и остановилась на Дальтон-плане. Что это такое, я так и не понял. Знаю только, что вместо зубрежки, заданий на дом “отсюда и досюда” задавались темы, усваивались понятия, и ты сам должен был понимать и выполнять задание.
Проводились литературные диспуты и “суды” над героями литературных произведений: например, суд над Молчалиным, Скалозубом и т. д.
И в нашем московском доме тоже царил мир художественной творческой интеллигенции. Я уже говорил, что папина сестра Ольга Петровна была пианисткой и через нее шли наши связи с музыкальной столицей. Ну и, конечно, Нестеров! Я часто рисовал его в детстве, сидя в своей темной комнате, видя его через дверь в другой, освещенной…
Мне посчастливилось общаться с Нестеровым, наблюдать за его работой, встречаться у него дома с известными русскими художниками. Встречи, беседы Нестерова и его друзей оказали на меня большое влияние. “Больше смотри, – говорил мне Нестеров. – Жизнь, природа – верные помощники художника”. В доме Нестерова я многое узнал о Художественном театре, о мире художников, об их творчестве.
Но и брат мой Петя – он ведь и к изобразительному искусству тоже меня подтолкнул! В нашей продолговатой комнате головой к окну, которое “смотрело” с седьмого этажа на Мясницкую улицу, стояли у противоположных стен две железные кроватки: одна Петра, другая моя. Над кроватями висели всегда “свежие” картинки, акварелью написанные. Петя в детстве много рисовал, ходил, помимо французского, который нам преподавали в школе, на уроки английского языка.
Петя был лидер среди нас, детей. Он уже мальчиком ощущал стиль времени и – я это ясно видел – рисовал и писал как-то иначе, чем я. Он делал смелые, как мне казалось, немного угловатые рисунки, раскладывал площе, брал цвета локальней. “Творить – значит изменять”. А я, потрясенный картиной Третьяковской галереи “У колодца”, картинами Левитана, был, как понимаю теперь, ярым реалистом. Особенно после одной короткой фразы Нестерова, который, увидев мои “мазюльки”, сказал, показав пальцем за окно: “Учись у природы”. И я был между двух огней: отчетливо понимал и разделял позицию Нестерова, но вместе с тем побаивался Петра. Он был “прогрессивней” меня. И старше.
Мы ведь дети того времени – даже в нашей семье немного подтрунивали над Нестеровым. Над его искусством, разумеется. “Все пишет елового схимника”. “Елового” походило на “лилового”, а в колорите Нестерова, бывает, встречается лиловатый тон. К тому же мы пели “Долой, долой монахов, буржуев и попов, мы на небо залезем, разгоним всех богов!” И схимников заодно… Так что я верил хихиканью.
Хорошо, что с возрастом люди умнеют.
Я любил делать акварелькой на слоновой бумаге иллюстрации или картинки по поводу прочитанного стиха. Например:
Тиха украинская ночь, Прозрачно небо, звезды блещут, Своей дремоты превозмочь Не хочет воздух. Чуть трепещут Сребристых тополей листы, Луна спокойно с высоты Над Белой Церковью сияет… И тихо, тихо все кругом…Вот тема. Что же я нарисовал? Я “Полтавы” толком не прочел (очевидно, “Полтаву” мы проходили в школе), а запомнил только эти первые строфы, которые мгновенно породили в моей голове ясный зрительный образ! Вот он: на серебристом, на темно-синем небе раскиданы звездочки в умеренном количестве. Я уже знал, что при полной луне видны только большие или средние, да и по́шло все небо залепить звездами, я же “натуральщик” (не путать с натуралистом). Сияла полная луна, левее середины листа. Под луной стояла белая церковь с колокольней, шпилем и маленьким куполочком и крестиком. За колокольней виднелась архитектура самой церкви. Справа – диагональ “серебристых тополей”. Зеленая земля с дорожкой.
Меня, отлично помню, беспокоил вопрос: можно ли оставить стены церкви белыми, яркими, то есть освещенными светом луны? Ведь луна над белой церковью сияла, а значит, свет падал сверху и не мог ее хорошо осветить. Жалко было – такая красивая картинка получилась! И я оставил ее не переделывая. Это было начало длинной цепи “нарушений” правды жизни, которая опутывает большинство из нас, художников. И если бы я не допустил этого первого нарушения правды жизни, если узнал бы, что Белая Церковь – это название украинского города, то не было бы картинки. И я бы, чего доброго, стал бы ортодоксальным последователем фактических истин. И стал бы “фактическим натуралистическим реалистом”! Что-то вроде “фиксатива”!
Родители видели и поощряли мое увлечение рисованием.
Весной 1926 года я окончил седьмую группу (классов тогда не было) и с весьма сомнительным образованием осенью был отведен мамой в Московский техникум изобразительных искусств памяти восстания 1905 года. Сделать это посоветовал Нестеров. Техникум тогда находился на Сущевской улице.
Организаторами и педагогами этого училища были Евгений Николаевич Якуб и Сергей Арсеньевич Матвеев. Конечно, были и другие педагоги, но душой и нашим любимцем был Евгений Николаевич. Сам тонкий и разносторонний живописец, он бережно относился к характеру дарования ученика. Через год, кажется, мы переехали в новое помещение на Сретенке. Там я и проучился четыре года, до осени 1930-го. В дипломе, напечатанном на машинке с лиловым шрифтом, указано, что я являюсь “художником-декоратором – клубным инструктором”.
Своеобразный, яркий педагогический метод, практиковавшийся в техникуме, дал возможность встать на ноги известным ныне мастерам изобразительного искусства разных жанров: живописцам, графикам, театральным художникам. Один из постулатов педагогической веры Якуба был такой: “Не навязывай ученику свою манеру, свои привычки – пойми каждого ученика, загляни в его душу”.
Быть может, именно это уважение к индивидуальным художественным склонностям ученика и дало возможность нам, его воспитанникам, оставаться такими, какими мы были и есть.
Что же еще помню я об этих годах, что согревает сердце? Не уроки, не постановки, не отметки, нет – друзья! Те несколько человек, чьи характеры и жизненное поведение невольно формировали меня. Сначала о девочках, этом сильном поле. Они, эти милые создания, были активней, способней, сообразительней, опрятней нас, мальчишек. Это заметно и сегодня. Художественные выставки театральных работ 1970–1980-х годов дают возможность воочию увидеть взлет, как сейчас говорят, феминистского искусства. И не только в театральном деле – женская “ветвь” в живописи необыкновенно мощна.
Так вот, девочки нашего техникума. Конечно, звездой была и осталась на всю жизнь Вера Ипполитовна Аралова[4]: высокая, красивая, длинноногая, очень талантливая. Образ летящей стрелы необыкновенно подходил к ней. Рисовала она стремительно, большими кусками, обобщенной линией, видя всю натуру целиком. Единственным ее недостатком была любовь к карандашным огрызкам. Новый карандаш она разрезала на четыре части и только тогда, огрызком в четыре сантиметра, принималась рисовать. Держала его в щепотке пальцев у самого графита. “Мне так удобно”, – говорила она.
Когда, чем, как формируется это чувство – удобно? Какие силы внутри нас, без спроса у нашего сознания, во сне и наяву отбирают, сортируют, закрепляют наши привычки?
Воспитание троих сыновей, ранняя смерть мужа могли стать подспорьем для слабой воли, чтобы оправдать потерю темпоритма художественных усилий. Но не тут-то было! Добрая созидательная воля Веры решала иначе, и Аралова нашла в себе “лишние” силы (ни за что не напишу “мужество”, поскольку принадлежность к мужскому полу не обязательно обеспечивает то, что подразумевается под словом “мужество”), чтобы ярко и продуктивно работать в театре и в живописи, быть активным, приветливым, веселым и искренним человеком.
Своеобразный живописец вырос из Ирины Вилковир. В юности авторство ее пейзажей или натюрмортов можно было моментально определить по фактуре живописи. Она клала мазки справа налево, немного по диагонали. Их словно гнал ветер от правого верхнего угла картины к левому нижнему. Ирина рисовала странно, как-то расплывчато, как будто бы ей трудно было удержать границы формы. Возможно, что эти “отклонения” от некой нормы и есть наше творческое лицо?
Интересно работала, особенно в плакате, Вера Любовская, Ливанова по мужу. Ольга Эйгес, Тамара Дьякова, ставшая потом блестящим художником-декоратором в Большом театре. Хорошо начинала Ляля Коркина, но очень рано умерла.
Сегодня пасмурно и ветрено. Листья падают, да нет, не падают, а улетают с потоком воздуха, кувыркаясь и взвиваясь вверх стремительно, улетают далеко в сторону от своей родной березы. Но большая часть листьев еще зеленая, как в июле. Разные судьбы, даже у листьев.
Из мужской половины нашего курса запомнились, оставили добрый след Николай Сосунов, Борис Попов, Аркадий Свищев, Владимир Зимин, Иван Трояновский. Попов вырос в незаурядного “чистого” живописца, не связанного с прикладной формой искусства. Свищев работает в театрах периферии. Зимин (муж Дьяковой) – классный художник-исполнитель – работал в Большом театре. Сосунов стал самым большим моим другом, примером в труде, нравственности и силе духа.
Тогда же, во времена техникума, зарождались и мои связи с театром. Вернее, с людьми театра – студентами и педагогами ЦЕТЕТИС. Мой брат Петр пригласил меня поучаствовать в создании декораций для курсовых спектаклей, которые ставили “настоящие” режиссеры. Первым из них был режиссер, актер и педагог Борис Михайлович Сушкевич. На маленькой учебной сцене он ставил пьесу “Страх” Афиногенова. Главную роль профессора Бородина играл Петр. Слышу сейчас, как будто не было этих пятидесяти лет, фразу из его монолога: “Уничтожьте страх, уничтожьте все, что рождает страх, – и вы увидите, какой богатой творческой жизнью расцветет страна!”
А на оперном отделении я сделал декорации для “Русалки” Даргомыжского.
Но самым мощным воспоминанием тех лет осталась поездка студенческой агитбригады в деревню в помощь организации колхозов. Нас послали в Бежецкий уезд Тверской губернии зимой, очевидно, в каникулярное время. В бригаде было человек десять веселых ребят. Главным был, конечно, баянист Федя, ведь без него и его виртуозной игры нам там делать было нечего. Вася Гусев, будущий Василий Фомич, сначала актер, а в дальнейшем – административный деятель ВТО. И наконец, Петя Васильев.
Добирались мы до Бежецка трудно. Почему-то нам пришлось сделать в пургу ночной “марш-бросок” в несколько километров, неся на себе скарб, до какой-то станции, с которой уже поездом доехали до провинциальнейшего, глубинного, архирусского города Бежецка и оказались на классическом старинном постоялом дворе, находившемся вблизи пожарной каланчи.
В конце концов нам подали санный обозик в четыре – пять лошадей, мы уселись, а кто-то и разлегся на дровнях, и поехали в село по названию Моркины горы.
Ехали в синий солнечный день по едва заметной, с отполированной полозьями колеей дороге, вьющейся меж белоснежными, чистейшими снегами. На облучках сидели, правя лошадьми, ладные молодухи в черных романовских или рыжих полушубках, цветных шалях, бахромой осыпающих полспины, и белых валенках с малиновым орнаментом. Помню и разговорчивых мужичков в армяках, а бывало, и в овчинных тулупах до пят с гигантскими воротниками шалью, спасающих от любой метели.
В Моркиных горах нас встретили местные власти и разместили всех в теплой, большой, со светлыми стенами избе. Бревна избы каждый год к Пасхе мылись известью с золой, и избы становились по цвету словно только что построенными, немного розоватыми, что ли. Известно, что слова описать цвет не могут, иначе не было бы живописи. Слова ведь экономичней зрительных образов. Поэтому я привез в Москву на память об этом цвете щепку, отколотую от такой светлой стены.
Веселыми стайками мы объездили несколько деревень. А по пути разъясняли, сами толком не понимая, преимущество общего (“обчего”, как говорили крестьяне) хозяйства. “Всё обчее”!
В одной из деревень мы застали сцену, когда вернувшееся с пастбища стадо коров пытались препроводить, силком загнать в новый, “обчий”, наскоро построенный хлев. Коровы, не понимающие значения колхозного строительства, не шли в этот хлев, а норовили вернуться в свой дом, к ласковому голосу хозяйки и теплой ее руке с корочкой пахучего хлеба. На деревне стоял плач и вой женщин, не хотевших расставаться со своими буренками. Тяжелая картина. Были и хуже.
Так как в те времена еще клубов или общественных помещений не было, то встречи с будущими колхозниками мы проводили в церквях. Церковные черные печи хорошо протапливались. Вносилось множество разношерстных лавок, сидений, получался зрительный зал, закулисной частью которого был алтарь. Народу набивалось видимо-невидимо. Сначала доклад. Затем художественная часть – с частушками “на злобу дня” с упоминанием имен и фамилий крестьян, не желающих коллективизации. Все это в стихах и под баян. Называлось “продергивать”. Однажды печи вдруг сильно задымили. Это подкулачники вредили нам – набросали в дымоходы снега…
В 1930 году, окончив техникум, я отправился отдыхать на Украину. После летних каникул, подсолнухов и тополей пора было устраиваться в театр. Куда? Коля Сосунов уже нашел город – Камень-на-Оби. Вы слышали о таком городе когда-нибудь? До реки поездом, а дальше – по льду замерзшей реки несколько верст в возке с ямщиком до города. Борис Попов уехал во Владивосток. А я – в Читу. Вот как это произошло.
В Москве на Софийской набережной находилась актерская биржа труда, где актеры, режиссеры и другие деятели сцены нанимались на работу в тот или иной провинциальный театр. Здание буквой “П” охватывало двор, квадратный, мощенный крупной булыгой. В его конторах и коридорах заключались сделки. Над воротами – колокольня или башня. Она и сейчас стоит, и двор тоже. Из арки ворот – прекрасный вид на решетки набережной Москвы-реки и стены Кремля.
На бирже, как во всякой купле-продаже, один хотел взять больше, другой – дать меньше. Владельцы “товара” – то есть самих себя, актеры, – хорошились, часто привирали о сыгранных ими ролях и были одеты во все лучшее. Особенно актрисы. Эта живописнейшая толпа, громко разговаривающая, жестикулирующая и целующаяся (встречи друзей), была полна своеобразной экзальтированной прелести.
Не помню, как я встретился там с актером и режиссером В.А. Андреевым, членом АНР – Ассоциации новых режиссеров. Андреев меня пригласил “на сезон” в Читу. Как он мне, девятнадцатилетнему юноше, поверил? Быть может, благодаря моему ответу? На вопрос “Как вы представляете современную стилистику декораций?” я ответил: “Я не прочь сломать портал сцены”. Он: “To есть как?” – “Вынести действие в зрительный зал”. – “О!” И мы поладили.
На вокзале меня провожал отец. Впоследствии я видел его всего дважды: у гроба трагически погибшей матери и на больничной койке в Костроме в 1936 году, за несколько дней до его смерти.
Дело в том, что прошлая служба отца в царском флоте в офицерском чине, хотя и невысоком – он был мичман, послужила причиной его арестов. А нашу маму в связи с этим лишили прав и предложили выехать из Москвы. Она покончила с собой, оставив детям посмертное письмо, которое Ирочка показала прибывшим милиционерам.
Они не вернули письмо Ире. “Это же не вам, а братикам!” Но тщетно.
Ирочка, талантливая пианистка, так была потрясена смертью матери и кражей письма, что на всю жизнь осталась вне трудовой и общественной жизни. Муж ее – музыкант, педагог Московской консерватории по классу хорового пения Серафим Константинович Казанский. Она воспитала чудного сына, теперь профессора, доктора химических наук Константина Серафимовича Казанского.
После войны отец по ходатайству моего брата Петра Павловича был реабилитирован посмертно. Умер он в Костроме в ссылке в 1934 году. Когда отца отпустили из Костромы на похороны мамы, мы скрыли от него причину ее скоропостижной смерти, сославшись на сердечный приступ.
…А в Читу я ехал восемь суток вместе с режиссером Владимиром Александровичем Андреевым и его женой. Он – лысеющий блондин, нестарый, в меру холеный и начинающий полнеть. Жена – актриса на главные роли, худощавая блондинка с прямыми, ровно по плечи отрезанными светлыми волосами и длинноватеньким носиком. Я лежал на верхней полке с пьесой Безыменского “Выстрел” и набросками декораций к ней – первой моей профессиональной работой в настоящем театре, после которой последует еще двести.
Сохранилась фотография макета декораций. Действие происходило в трамвайном депо, и пафос пьесы был в новом, “сознательном” отношении к труду и борьбе с бюрократами.
Оформление было выдержано в конструктивистском вкусе. Все актеры одеты в комбинезоны. Положительные персонажи – в синие, а отрицательные – в коричневые. Серый наклонный пол, киноэкранчик со зрительными цитатами из хроники Гражданской войны, с “натуральным” фасадом трамвая. В общем, очень строго, в “левом” ключе – не стыжусь.
Шипели два угольных прожектора с лиловатым светом. Вообще-то освещение сцены состояло из двух жестяных корыт софитов с ввинченным в них рядом разноцветных ламп, окрашенных постоянно выгоравшим спиртовым цветным лаком. Когда изображалась ночь, горели только синие, а день – все. И еще была рампа, любимая мною по сей день.
В афише к открытию сезона из честолюбивых соображений я попросил перед своей фамилией поставить “художник-конструктивист”. Вот так!
Этот спектакль мы готовили долго, недели две-три. А дальше шпарили каждую субботу по премьере.
Конечно, наши новаторские идеи зачахли, их победили жуткая наипровинциальнейшая театральная рутина, состав труппы и культурный ценз города и горожан. Но мы с Андреевым продолжали бороться. Вот видите, я стал говорить “мы”! Это ведь по-театральному, по-коллективистски: мы, наше, нам и т. д.! (Я так говорил, работая полвека в театре, пока не стал делать живописные или графические работы по собственному разумению и в одиночестве. Теперь можно говорить только о себе: “Моя работа мне удалась”. Или “не удалась”.) Труппа составлена была по классическому принципу амплуа: основной герой, героиня, инженю, фат, простак, комик-простак, комик-буфф, характерные старик и старуха, пожилая героиня, герой-любовник, неврастеник и пр. Актеры знали, что от них ждут, за что им платят. Каждый имел свою палитру штампов, которые и употреблял по мере надобности. Комик-буфф, например, не считал возможным уйти со сцены без аплодисментов зрителей. Он их “выжимал” любыми средствами.
Премьеру играли “с листа” – первый раз в костюмах, гриме и, конечно, под отчетливого суфлера. Одевались актеры сами – либо в свое (со своим гардеробом!), либо в подобранное в жалкой костюмерной, расположенной под грим-уборными. Что означало “в свое”? По-разному. “Пожилая героиня” Ленина привезла сундук с костюмами: сарафан, шали, душегрейка, кика и кокошник для боярыни, черное и белое платье в пол для гранд-дамы, шляпы и пр. Ее муж, характерный герой Шестаков, имел фрак, сюртук, костюм, жилетки, жесткие воротнички, ботинки на пуговичках с серым верхом. Это хорошо!
Инженю Пучинина, бедненькая одинокая молоденькая актриса, имела только два куска (метра по два) крепдешина – белого и черного, из которых и создавала в разных комбинациях платья, подходящие к случаю. То все черное, то белое, то в комбинациях. На руках шила, едва скрепляя, чтобы легко было распарывать.
Или выходили в своей повседневной одежде с добавлением какой-либо детали, подобранной в костюмерной. Ни о какой цветовой гамме или единой стилистике не было ни речи, ни возможностей. Хорошо помню актеров. Старик, “артист императорских театров” Кисель-Загорянский, жил в гостинице, что было исключительно почетно. Была у него припевка: “Лата-фата, катадру-катадру”. Седой, с отвислой большой губой (Фамусов). Коробки с гримом у него не было. Он гримировался остатками грима, которые оставили предыдущие актеры на нижней стороне крышки гримировального стола, вытирая подушечки пальцев после гримирования. Зато у него была заячья лапка, большая пуховка и коробка пудры. Несколько мазков по провазелиненному лицу позаимствованным гримом и веселое опудривание пуховкой. Лата, фата, катадру!
Был актер Туров с рваной ноздрей – ему на сцене, в бою на шпагах (возможно, в Гамлете), “противник” точно всадил кончик шпаги в ноздрю.
Были Баратов, Мальшет, Рассохин, Паша Дербин… Оказывается, всех помню!
Расскажу, как мы сделали “Горе от ума”. “Ключом” к оформлению стала строфа из монолога Чацкого (которого играл Андреев): “Старух зловещих, стариков, дряхлеющих над выдумками, вздором!” На пустой сцене в кулисах развесили портреты этих самых “зловещих”. Вдохновленный чувством “социального гнева”, я лично выполнил эти портреты.
Удивительных людей собирает театр! Машинистом сцены был очень толковый работник, мадьяр (венгр), бывший пленный. Китаец, старший рабочий сцены, владел тайнами узлов и вообще возможностями веревок. Например, фурки – а уже без фурок нельзя было – передвигались на особым образом прилаженных веревках. Роликов ведь не было.
У высокого веселого парня, рабочего сцены Николая, был “коронный номер” – умение забивать здоровенные гвозди с двух ударов по самую шляпку. Вообще, гвозди, веревка, железный театральный молоток, совмещавший в себе гвоздодер и отвертку, были “главными персонажами” театральной техники. Каждый рабочий носил молоток и через плечо холщовую сумку для гвоздей. Глухой перестук молотков сопровождал перестановки и антракты.
Приметными фигурами были сторож, рябой татарин, его жена Айша и дочь на выданье, помогавшая в зрительном буфете и везде, где понадобится. Жили они при театре на втором этаже, в квартирке, которая по совместительству была картежным притоном или, мягче говоря, карточным клубом. Есть же такие люди – картежники!
Эти несчастные создания после спектакля собирались там и дулись в самые азартные игры: “шмендефер”, “железку”, “очко”. В играх активное участие принимал кассир театра. Многие играли в долг, он записывал и давал взаймы, потом удерживал из невеликой зарплаты – жалованья, как тогда говорили. А я и до сих пор никогда не играл и не играю, всегда презирал это. Но смотреть на игру было интересно, как на театр ужасов или паноптикум. Пальцы игроков, задающие “свирепое тремоло”, малиновые уши, белые лица, блуждающий взор. Я все это видел из фойе, примыкающего к квартире сторожа, где мы с маляром расписывали и раскрашивали декорации.
Буфетчица зрительского буфета ко второму антракту готовила кастрюлю пахучих сибирских пельменей, а так как она была женой помощника режиссера (они были читинцы), распоряжавшегося звонками к началу действия, то второй антракт был самым длинным – пока не съедят пельмени!
Свой “бизнес” был и у электрика. Он со двора, по сходной цене, впускал в трюм под сценой нескольких зрителей, проводил, согнувшись, в оркестровую яму и после третьего звонка большим медным рубильником “вырубал питание” – гасил свет во всем здании. За эту минутку темноты “зайцы” должны были перескочить через оркестровый барьер в зрительный зал и там с невинным видом рассредоточиться.
Был “бизнес” и у администратора. Во втором антракте устраивался аукцион на две-три бутылки вина. В городе с алкоголем, как и с питанием, было сурово. Ведь на Дальнем Востоке только что отгремела Гражданская война. Но театральный администратор все может! Hа столик перед закрытым занавесом ставились бутылки, и администратор провозглашал, держа на вытянутой руке одну из них: “Малага – столько-то!” И дальше – “Кто больше?” по всем известному ритуалу. Часто эти аукционы устраивались в пользу бенефицианта, актера или актрисы театра.
“Прочие” актеры, как и я, жили на частных квартирах. Город был “темный”, полон слухов о домовых, чертях и прочей нечисти. “Я только погасила лампу, а он как застучит!” Актеры с упоением пересказывали эти байки.
Я жил в одной комнате с актером И.Н. Ершовым, “простаком”. Два окна на набережную реки Читинки, на окнах – ставни, в комнате – две кровати. Стол, фикус в деревянной кадке, два стула и печка с чугунной дверкой, куда хозяйка ставила нам казанок с супом. Мы снимали “комнату с питанием”.
Хорошо, что я жил не один. Во-первых, не страшно. Ведь домовые, ветер в трубе, скрип ставень! Иван Никитич был лет на двадцать старше меня, он по опыту знал, как надо жить в провинции, и рассказывал множество интереснейших историй из жизни провинциального актерства. Он был так добр, что писал моей маме в Москву письма с описанием нашего житья-бытья.
К концу зимы наша труппа переехала в Никольск-Уссурийский, пограничный с Китаем город, а весной 1931 года перебралась во Владивосток. Город-порт, стоящий на холмах, с разноплеменным населением. Внутри – китайский город. Контрабанда, вкусные дары моря, крабы, ресторан “Золотой рог”, названный в честь залива. Корабли на рейдах.
Самой интересной моей работой во Владивостоке считалось оформление “Первой конной”. Еще я ездил в Хабаровский оперный театр для какой-то работы, но что-то не вышло. Итак, за восемь месяцев моей службы на Дальнем Востоке я оформил десять спектаклей. Среди них были и очень серьезные, во всю мою тогдашнюю силу.
В 1931 году я вернулся в Москву, работал в ТРАМе с Богатыревым и Лучишкиным, известными деятелями театра. После мучительного сезона в Камне в Москву вернулся и Коля Сосунов. Каким-то образом мы нанялись вдвоем (мы были друзьями!) на одну должность художника и одну зарплату на двоих в Самарский (Куйбышевский) Крайгосдрамтеатр. Это было в тот счастливый сезон 1932–1933 годов, когда из Ленинграда в поисках “своего” театра съехались в Куйбышев замечательные актеры: Н. Симонов, Ю. Толубеев, В. Меркурьев, Соловьев, Киселев, Антокольская. Главным режиссером был выдающийся талант – Николай Михайлович Холмогоров. В этом театре мы часть спектаклей делали вместе с Сосуновым, а часть – врозь.
Очень хорошо Николай Сосунов оформил “Егора Булычева”. Все жилище Булычева было вроде бы отлито из оплавленного серебра. Я всегда буду помнить счастье нашей совместной работы над “Мстиславом Удалым” Иосифа Прута. Я оформил еще “Свадьбу Кречинского” Сухово-Кобылина. Работы эти для меня незабываемы.
Позволю себе маленькое отступление. Хочу рассказать о совершенно необыкновенном слепом мастере – обойщике мебели. В спектакле “Свадьба Кречинского” были два выгнутой формы дивана, стоявшие симметрично, справа и слева от просцениума. На них, собственно, и развивалась вся пьеса. Смена места действия происходила с помощью замены цвета и фактуры обивки этих диванов. Мы разработали хитроумные приспособления и методы быстрой их смены. А выполнил эту работу (кроме деревянных частей) вот этот слепой мастер. Он, не видя, вдевал нитки в ушко иголки (правда, довольно большой – обойной), сшивал куски им же выкроенной ткани, драпировал, простегивал сиденья, прибивал, где надо, обивку гвоздиками с медной головкой. А таких обивок было три, и все разные. Он был мастером! Или чудо-мастером. Это даже пугало. Но вместе с тем говорило о величайших человеческих резервах духа и воли, равных подвигу, да еще растянутому во времени. Он нигде не ошибался, только в начале работы долго-долго, на ощупь, уточнял формы диванов, их расположение и т. д. Великое качество – трудолюбие, оно творит чудеса. Это тоже талант. Презираю бездельников! Лентяи опасны.
Николай Николаевич Сосунов потом много лет проработал в ЦДТ в Москве с режиссером О.И. Чижовой, В.С. Колесаевым, А.В. Эфросом как художник-постановщик и главный технолог театра, прекрасный организатор производства.
Вспомнился один трудовой эпизод, характерный для Николая. Мы с ним, помимо работы для театра, выполняли сложные диорамные работы по проектам и эскизам дивного художника, живописца А.А. Лабаса, что, между прочим, было очень увлекательно. И вот однажды нам для какой-то диорамы понадобилась крупная фактура, напоминающая вспаханную отвальным плугом пашню.
Мы долго искали, экспериментировали. И вдруг Коля, глядя на рукав своей сероватенькой, машинной вязки фуфайки, воскликнул: “Так вот же она!” И немедленно, не рассуждая, не снимая ее с себя, отрезал левый рукав выше локтя и употребил в дело. Умер он в расцвете творческих сил.
У меня после Куйбышева был Ростов-на-Дону, Драматический театр имени Горького. Первый спектакль был “Егор Булычев”. Булычева играл артист Лаврецкий.
Сложная трехэтажная декорация – дом Булычева в разрезе. Я сделал объемный подвижный, как теперь говорят, суперзанавес, изображающий фасад дома: красный, кирпичный, с белыми колоннами и со львами. Скульптуры львов бутафоры “украли” с фасада городского банка. Это здание существует и сейчас. Как они сделали это? Ночью облепили львов серой в цвет скульптур бумагой с клейстером (папье-маше), дали им два-три дня просохнуть, а затем, ночью же, сняли эти оттиски и привезли в театр. Подогнали, подделали немного, сплющили – и все вышло.
Делал я там и “Достигаева”, и “Гавань бурь” Бальзака, где ловко получилось море из натянутых веревок. Меня стали приглашать и в Ростовский ТРАМ, очень интересный театр того времени. Там я сделал оформление для “Власти тьмы” Л. Толстого.
После Ростова-на-Дону я работал в Архангельске, в Москве у А.Л. Грипича, в Кирове, в новосибирском “Красном факеле”. В 1939 году я познакомился в Москве с Ю.А. Завадским, и снова – Ростов. Для меня это был переломный момент в творческой жизни. Это был “другой этаж” творчества. Работал в Ростове в театре у Ю.А. Завадского до самой войны…
Война… Навалились воспоминания. Просвета нет, нет им начала, нет им конца – помнится всё вместе, всё одновременно. Это пока лишь чувство того незабываемого, странного и прекрасного времени, которое называется “Великая Отечественная война 1941–1945 годов”.
Сегодня воскресенье конца октября 1974 года. Тишина. Из окна моей мастерской через желтую Москву-реку я вижу крутой берег Нескучного сада, красивый, осенний. По аллее бегут бегуны. Наверное, они сдают нормы на значок ГТО. Бегут, как мне кажется, не очень – не выкладываются, вроде понарошку. А ведь это – Готов к Труду и Обороне!
Многие ли из молодых людей понимают это? Наверное нет. И если бы я не разбередил свою душу воспоминаниями о войне, то тоже бы… бегал “трусцой” своим сознанием по видимому, по происходящему перед моими глазами и видел бы, не понимая…
Прекрасная, огромная, серая с белым и красным самоходная баржа “Елец” везет аккуратно уложенные штабеля сосновых бревен. Везет, наверное, на стройку. Гуляют дети в ярком. Синие, красные, белые. Гуляют пожилые – медленно, многие с собаками. Ребята удят рыбу. Получается ли у них – не знаю, но сидят. Вообще-то должно получаться. Москва-река сейчас чистая, и рыба в ней опять есть. Во всяком случае, у нас на Фрунзенской…
Чайки, тишина, мир.
…Да ведь это Елец! Тот самый Елец, дальше которого враг не прошел. Елец, который в морозный декабрь 1941 года надо было брать обратно, отнять у захватчиков, вернуть Родине. Декабрь. Началось контрнаступление и общее наступление советских войск под Москвой. И вот сейчас я плачу… от чувства той невероятной радости, которую приносили нам радиосводки. Слышу дивный голос Левитана: “Товарищи, сегодня взяты Елец, Можайск, Наро-Фоминск, Ржев…”
В эти месяцы я работал сначала строгальщиком, потом токарем на заводе в Москве, где вытачивал всякие железные штуки. Но до завода я напилил много сосновых бревен, чтобы сделать толще накаты на дзотах и блиндажах… Вот вроде этих самых бревен, только что мирно проплывавших мимо моего окна куда-то на стройку. А было это в Карелии, в районе станции Лоухи, среди мхов, коричневых чистых речушек, прекрасных сосен и берез. На красных коврах из брусники и черно-синих из черники. В эту золотую осень 1941 года пейзаж Карельского перешейка был ослепительно прекрасен…
Я все думал… Кончится война – обязательно приеду сюда, напишу эту красоту. И эту красоту нам надо было пилить, рубить, делать “завалы” из стволов, рыть землю – окопы, землянки, дзоты, – взрывать валуны, если они мешали обзору из огневой точки. А валунов там было много, ведь там когда-то был ледник.
Наши трудовые подразделения работали в глубине обороны. Мы готовили рубежи для отступления. Бой мы слышали, но не видели. Пули до нас долетали, но на излете. Один бедолага кричал: “Пуля мне в грудь, пуля!” И действительно показывал пулю и синяк на груди и говорил: “Только что горячая была, еще теплая!”
Пошел снег, потом мороз ударил. Плохо было. Всегда хотелось согреться. Очень холодно.
Рубежи нашей обороны не понадобились: в конце октября мимо нас прошли на запад по первому льду сибиряки! В белых полушубках, белых цигейковых теплых шапках, в валенках, в меховых рукавицах и с новыми короткими автоматами. Здоровые, розовощекие ребята. Это они остановили немцев.
А нас рассортировали: кого оставили, а тех, кого морозом попортило (вроде меня) или еще как, отправили по своим военкоматам.
Эшелон. Теплушка. Печурка в центре. Спим в очередь. Тесно. Ночью, на ходу, такой эшелон на огненного дракона похож. Из каждой трубы от печурки – шлейф красных искр, особенно когда шуруют в топке. В углах холодно, лед. Кашляем. Возле печурки – байки. Обо всем. О женщинах – не очень, хотя одни мужики. Слишком серьезное время, об этом нельзя. Философствуем. Я об искусстве – очень слушают, любят про “знаменитых” художников. Ну а Репин? О! Ну а Шишкин? О! Айвазовский! Вода! Волны какие! А из чего такие тонкие кисти делают, что каждый волосок “как живой”? Всех поражало…
О еде – много. Один бывший продавец из гастронома все донимал: “Чудно сейчас вспомнить, бывало, весь день около ветчины и колбасы, и ни кусочка в рот не положишь”. “Да ну!” – это мы, хором.
В конце декабря, ночью, приехали в Москву, вышли где-то на линиях, не доезжая вокзала. Шесть утра – первое метро. В вагоне светло и тепло. Нас сторонятся. Вид неважный, мы стесняемся, держимся кучкой… “Ну, будь здоров, пока, звони. Мне до «Кировской»… а мне дальше…”
Москва с мешками песка перед витринами магазинов. Улицы в осколках стекла. Надолбы на западе столицы. Красная площадь застроена фанерными домами, крышами, улицами. Камуфляж. Карточная система. Карточки – это маленькие, в полстранички, клетчатые листочки. В каждой клеточке – число месяца или номер талончика. Оторвешь или отрежешь такой талончик, размером с ноготь, и получишь, что тебе на него полагается. Терять карточки было нельзя ни при каких обстоятельствах, они не выдавались вновь. В конце месяца потеря не так неприятна, а в начале – беда. Таких растерял кормили миром. А в гости ходили со своей едой. Так с сумочкой и шли. А в ней – кастрюлька, немного хлеба, сахара. Кто что мог. В гости ходили очень часто, да это и не в гости, это друг к другу. Сколько всего надо было обсудить, что-то спросить, рассказать.
Ночью (нет, вечером, ночью ходить было нельзя) город был совершенно темный: ни искорки, ни точечки света. Зима снежная, огромные кучи снега завалили улицы и переулки. В особо темные ночи ходили буквально ощупью. Курили на улице в рукав или за пазуху. Вот сейчас мода на женские брюки. А ведь тогда почти поголовно женщины носили молескиновые или байковые, вроде лыжных, штаны, обычно гладких ярких расцветок. Но сверху – платье или юбка, как и полагалось женщине.
Почему это пишу – не знаю. Наверное, потому, что все это стоит перед глазами, да так ясно, что хоть рисуй с натуры. Я вроде вошел в собственную память и теперь не знаю, как оттуда выбраться, а количество информации, как теперь полагается говорить, не уменьшается, а разрастается…
В мае 1942 года ехал я ночной сменой домой на задней площадке трамвая. Площадки тогда были открыты, не имели дверей. Из встречного вагона с такой же площадки кричат: “Васильев! Ты в Москве?” – “Да!” – “Звони!” Так совершенно случайно ВТО[5] нашло меня в Москве, отозвали с завода как специалиста, художника театра. И в начале лета я уже сидел на зачехленных диванах фойе пятого этажа ВТО. Меня назначили художником фронтового театра. В первый момент кажется нелепостью. 1942 год – и театр. Зачем? Почему?
Потом приходит радость: значит, все будет хорошо, если сейчас нужен театр. Да не “если”, а именно сейчас. И не самодеятельность, а настоящий театр.
Теперь передо мной лежат эскизы декораций, наброски с актеров, чертежи, которые я вынул из желтой папки, старой, обтертой, пролежавшей более сорока лет. Вот красочные, тщательно написанные масляными красками эскизы к “Фролу Скобееву” Д. Аверкиева. Вот “Осада Лейдена” И. Штока, “Парень из нашего города” Симонова с подписью: “Утверждаю, Лобанов”. Вот “Укрощение укротителя” Флетчера в постановке А. Гончарова. Эскиз костюма с надписью: “Упростить, Колесаев”.
Легко сказать… Ну ладно еще “Парень из нашего города” – современная пьеса. Обстановка зрителю знакомая. По малейшей примете его фантазия сама дорисует место действия. Другое дело “Осада Лейдена”. Нужно увидеть средневековый замок, в котором вряд ли жили и отдаленные твои предки, или празднично-яркие терема на фоне заснеженного пейзажа “Фрола Скобеева”.
И как это сделать? Даже в Большом театре это непросто. А тут – фронтовой театр. Сцены нет. Практически все это надо возвести на пустом месте. Декорации для фронтового театра должны быть удобными и портативными. К счастью, у меня уже имелся опыт. В Центральном доме Красной армии в Москве в 1939–1940 годах существовал передвижной театр музкомедии для обслуживания Красной армии. Руководил театром И. Донатов. Для этого театра мною была разработана система сборно-разборных декораций с применением бамбука и апплицированных мягких декоративных полотен.
Несущая бамбуковая конструкция (в середине войны замененная дюралюминиевой, потому что бамбук трескался на морозе) состояла из вертикальных стоек высотой 2 м 60 см (высота, до которой достает человек, стоящий на табурете) и разновеликих поперечных бамбуков, крепящихся в П-образную систему. П-образный пролет, затянутый или завешенный тем или иным полотнищем, и был основным элементом декораций, то есть ее модулем. Вторым элементом было сочетание “стойка-трос”. Мы очень ловко и быстро научились растягивать тросы для задников и, главное, для занавеса.
Какой театр без занавеса! Люблю занавес. Сначала он закрыт и зритель не знает: что за ним? Сидят, переговариваются, а потом вдруг замолкают – это тронулся занавес, пошел, началось!..
Все части декораций перевозились в соответствующих их размерам ящиках. И сами ящики использовались как части декораций: диваны, возвышенности, шкафы и прочее. Мебель, стулья, столы мы с собой не возили, а имели матерчатые чехлы в размер стандартного стула, на котором были апплицированы нужные нам формы стильной мебели. Костюмы изготовлялись по эскизам лучшими специалистами из самых нужных и хороших материалов. Парики, грим. Всё как в лучших домах. Хуже было с электричеством, хотя и прожектора с собой возили. Но уж зато если попадали на приличную сцену, то держись. Мы как-то играли на сцене Кремлевского клуба для курсантов-воинов. Кажется, “Осаду Лейдена”. Это было просто прекрасно! Утверждаю: это были прекрасные, яркие спектакли. Но если уж дул ветер, то была беда! Эти занавеси, задники летели по поляне, а мы ловили их, как взбесившихся жеребят. Ничего! Театр! А как наши актрисы в морозный день поверх зимнего пальто надевали кисейное платьице времен Островского, а сверх вязаного теплого платка – кружевной чепец, в валенках и в рукавицах обмахивались веером: фу, как жарко! Вы думаете, кто-нибудь смеялся над их видом? Нет, никогда! Кстати, это закон театральной условности: мы видим только то, что хотим увидеть, разумеется, если мы действительно хотим.
Функциональность наших декораций оказалась на самом высоком уровне. Ведь одним из важнейших их качеств была быстрота сборки и разборки. Закончили, упаковались и быстренько, быстренько освободите место… Немец-то летает, а театр собрал людей, войсковые объединения с воздуха видно. Но быстро – это еще не все. Надо, чтобы было и надежно. В стационарном театре перед спектаклем придет машинист сцены, все проверит, укрепит. А тут после двухсоткилометровой тряски по фронтовым дорогам тотчас начинается спектакль. Проверять некогда.
Хорошо помню, как готовили к постановке “Женитьбу Фигаро”. Там есть знаменитая сцена с Керубино, когда он прячется за кресло в покоях графини. В ней участвуют и графиня, и Сюзанна, и граф, который хочет найти таинственного незнакомца, проникшего в спальню его жены.
Если б кресло было ненадежно, то весь эффект сцены, ее смысл исчезали бы. И вот актеры несколько раз в моем присутствии репетируют эту сцену, репетируют для меня, чтобы выявить необходимую конструкцию этого кресла. О том, что внешне оно должно соответствовать эпохе, быть креслом из графских покоев, я уж не говорю – это само собой разумеется. Кстати, это тоже достигалось с помощью расписанного, апплицированного чехла.
Мне кажется, что спектакль “Женитьба Фигаро” вообще очень интересно был оформлен. Все эскизы, к сожалению, утеряны, остались лишь два костюма “фигареток” – это слово выдумал А. Ефремов для определения участников сопровождающего спектакля хора. Костюмы были выполнены в стиле цветных фарфоровых статуэток конца XVIII века, что хорошо передавало дух эпохи. Этот спектакль 1-й фронтовой театр показывал в освобожденном Берлине. Сейчас, когда прихожу в ВТО, вижу зал пятого этажа нарядным, торжественно-тихим, чистым, уютным – и с трудом верю, что в то тяжелое, голодное и голое время, когда не было ткани на повседневную одежду, мы не имели отказа ни в бархате, ни в шелке, ни в красках и холстах для театра.
Но главным, конечно, в нашем театре и самым действенным было слово. Мысль пьесы. Патриотический ее смысл. Такие пьесы, как “Жди меня” и “Так и будет” К. Симонова, “Осада Лейдена”, “Фрол Скобеев”, глубоко волновали военного зрителя, помогали переносить тяготы войны, укрепляли веру в победу.
Не могу не вспоминать наших актеров. Они встают у меня перед глазами юными, окрыленными своей необходимостью делу и времени, любовью к искусству.
Как сейчас вижу Антонину Михайловну Максимову, Тонечку. Она пришла в театр после того, как работала в настоящих фронтовых условиях радисткой. Многие запомнили ее в роли матери в кинофильме “Баллада о солдате”. Как ясно и просто сыграла она эту роль. Она много знает о войне.
Прелестная актриса Таня Ветрова, блистательная Тамара Беляева, Ниночка Сытина… Само присутствие этих прелестных девушек творило чудо.
Из актеров запомнился Юра Медведев, ныне работающий в театре имени Ермоловой. Теперь он народный артист РСФСР. Многие знают его и по фильмам.
Иван Воронов. Рослый, красивый. Ах, как хорошо он играл Тиля Уленшпигеля! Он тоже народный артист РСФСР, работает в Центральном детском театре.
Вот появляется Михаил Семенович Никонов. Его негромкий хрипловатый голос гасит гомон спора, вот он уже размышляет вместе с нами, как будет лучше… Официально Никонов – заместитель председателя ВТО. Для нас он настоящий друг, товарищ, сердце нашего коллектива.
А. Лобанов, А. Вовси, В. Колесаев, А. Гончаров, Е. Дзиган, А. Ефремов, П. Федотов – вот фамилии тех замечательных режиссеров, которые отдавали всю душу, все сердце и свой огромный талант театру для бойцов, для защитников Родины. С ними мне выпало счастье работать вместе.
В 1944 году я был назначен главным художником всех фронтовых театров ВТО. Мне приходилось передавать систему декораций 4-го фронтового театра другим нашим коллективам. Я уже не выезжал на фронт со своим театром, а работал, сидя в Москве.
Потом было великое 9 мая 1945 года. Всенародное ликование и печаль о наших братьях, отдавших свои жизни за этот день. Окончилась война, наступил мир. Фронтовые театры были расформированы. С тех пор прошло тридцать лет. Нас все меньше остается – участников Великой Отечественной. Иных уже нет.
Спасибо вам, друзья, что вы были, что мы вместе прожили те напряженные, грозные, но счастливые дни и годы…
Мирная жизнь началась для меня службой в Оперно-драматической студии имени К.С. Станиславского. А с 1947 по 1954 год я работал в качестве главного художника в театре имени М.Н. Ермоловой у А.М. Лобанова. Тогда же и МХАТ с замечательным Кедровым. А потом, с 1954-го, – двадцать лет беспрерывной работы главным художником в Театре им. Моссовета. Опять Ю.А. Завадский!
В 1974 году я оставил штатную работу в театре и перешел к станковым формам искусства. И началась новая жизнь – в шестьдесят четыре года от роду. Кукуриси!
Мои спектакли
Назад к Островскому!
Каждый большой драматург создает свой мир. Говорят: “театр Чехова”, “театр Гоголя”, “театр Леонова”, “театр Булгакова”…
Театр Островского… Каким он нам кажется, мерещится, представляется мне сегодня?
Театр коптящих свечей, потертого бархата и позолоченных богинь и амуров – символов искусства и одновременно человеческих страстей…
Театр рампы, кулис, суфлерской будки, нарисованных на холстах декораций. Тот “старинный”, немного провинциальный, но торжественный театр, на сцене которого нам еще раз будут представлять историю несчастной любви, человеческой корысти и власти золота. Что, опять “назад к Островскому”? Нет. Дело сложнее.
Это только первое чувство, если можно так выразиться, в цепи чувств, охватывающих вас при работе над пьесами Островского. Только кажущаяся, традиционная, театральная оболочка могучей жизненной силы и правды, заключенной в произведениях этого гениального драматурга. Правды, которая волнует нас и сейчас.
И однажды по ходу спектакля эта оболочка, этот позолоченный театр-колыбель, в которой вырос богатырь – Островский, отойдет на задний план в буквальном смысле слова, отодвинется в глубину сцены, как бы уйдет в прошлое, растворится за световой пеленой.
А на первом плане опустевшей сцены останутся главные герои театра – актеры, которые расскажут о том, что живо волнует нас сегодня в Островском. Что не ушло в прошлое, что еще есть. Перед нами явится, так сказать, “современный” театр с его привычными для нашего времени приметами.
Таковы принципы, которые были положены Ю. Завадским и мной в основу декорационного решения “Последней жертвы”, первой из цикла постановок театра им. Моссовета, посвященных юбилею драматурга.
Последующие спектакли предполагались в этой же “театральной оболочке”, но с разным внутренним оформлением. Возможности для трансформации автор предоставил бесконечные.
У Завадского были широкие планы относительно Островского. Он мечтал поставить целую серию его пьес, создать свой “театр Островского”, который, по его мысли, должен был стать школой дальнейшего роста профессионального мастерства труппы.
“Когда я вспоминаю пьесы Островского, то мне кажется, что они недоиграны. Он же близок к Достоевскому, Чехову и Горькому… Он гигант, который вскрывает огромную силу человеческих характеров, огромные страсти и столкновения. Все это хотелось бы показать, но именно через актера, подчеркнуть в решении театра, что мы именно на том стоим, что мы театр актера, что режиссер идет через раскрытие актера”, – говорил Завадский на одном из художественных советов театра в 1970 году, когда кругом еще царил театр режиссера, так называемый постановочный театр.
Этому обширному замыслу Завадского не суждено было осуществиться.
Однако наши совместные мечтания, несомненно, послужили для меня толчком для решения спектаклей по пьесам Островского: “Последняя жертва” в театре им. Моссовета, “Волки и овцы” на Малой Бронной, “Пучина” и “Лес” в Малом театре. Все – 1973 год. Это был юбилей великого драматурга, и каждый из нас по-своему высказывался на эту тему. М. Китаев тогда оформил “Грозу”, Д. Боровский – “Бесприданницу”, Д. Лидер – “Горячее сердце”. Да по всей России на сценах заговорили герои Островского, и мы, художники, вместе с режиссерами помогали им прийти в наше время…
Нет, мои спектакли тогда, в 1973 году, не шли в одном и том же обрамлении в буквальном смысле слова. Но все же это был один и тот же принцип. Это был мой театр Островского – тот самый, с атрибутами театра его времени, бархатом и позолотой, тяжелыми занавесами и кистями. Открытых страстей и открытых красок. Может быть, после сумрака Достоевского мне так обостренно захотелось распахнуть мир сочного алого, красного рядом с глубокой зеленью, золотом, бездонным коричневым, осенним трепетом желтого?
Островский – жизнелюб. Чувства его героев напряжены до предела, язык сочен и ярок. Хотелось, чтобы спектакли были наполнены соками жизни и ее красотой. Хотелось рассказать и о возможностях Театра с большой буквы, этого “колдовского места”, где все возможно. И доказать право театра на красоту!
В годы перед тем на некоторые наши декорации скучно становилось смотреть. Рационально. Сухо. Краски поблекли, чувства не прочтешь. Так захотелось все это вернуть с помощью Островского, его чувственности, страстности. Захотелось доказать, что живопись в театре не устарела и таит в себе неисчерпаемые возможности эмоционального воздействия и утверждения красоты на сцене. И я не стал строить конструкции и “изгонять быт”. Нет! Для “Леса” я придумал панораму, которая вся была неким обобщенным воспоминанием о прекрасной русской пейзажной живописи времен Островского, выражала мое восхищение и приглашение восхититься этой красотой всех, кто ее увидит и вспомнит. И интерьеры не решали только конкретные задачи “обслужить” действия актеров, они тоже должны были вызвать восхищение человека конца XX века этой уходящей красотой. Белый особняк Гурмыжской с изысканной мебелью. Вряд ли помещица могла иметь такое роскошное жилище. Но это была концентрация всей прелести стиля быта той эпохи. И пейзажи, и интерьеры существовали немного отдельно от актеров – они, например, не могли “войти” в рисованный лес и парк. В “Последней жертве” интерьеры вдруг отодвигались, оставляя актеров наедине с современным зрительным залом, как бы “освобожденные” от отвлекающего зрелищного великолепия прошлого. В “Волках и овцах” я тоже постоянно, при всех подробностях быта и костюмов, напоминал: это театр! По зеркалу сцены были натянуты золотые струны-шнуры. По ним поднимался занавес, но они еще и давали некое свечение, мерцание, которое не позволяло забыть о празднике театральности. И – современный актер, страдание и счастье человеческое. Вечное всегда современно…
Оформление я сделал по фотографиям, снятым в Москве в годы Островского. На сцене при помощи двух трехгранных вращающихся призм по мере смены места действия появлялись во много раз увеличенные фотомонтажи коричневого, как и полагалось дагерротипам, цвета. С мотивами Замоскворечья, где находится филиал Малого, и с Сухаревским рынком и прочим. Недавно я передал в дар музею Островского, что в Щелыкове, отреставрированный мной чудом сохранившийся эскиз как раз с Сухаревой башней!
Я оформлял Островского всю жизнь. Уже в 1930 году в Чите, в мой первый в жизни театральный сезон, я встретился с “Грозой”. За три дня пришлось в нечеловеческих условиях “слепить” декорацию этой бессмертной пьесы. Бутафор для сцены в овраге, например, в бочках с водой расставил варварски погубленные кусты живой сирени. Они стояли рядом с бутафорскими. Костюмы тоже не из чего было делать. Просто черт знает что и одни страдания!
Мы ведь все тогда увлекались конструкцией на сцене и что только не изобретали, осваивая трехмерное сценическое пространство, делая его, по-моему, чуть ли не двадцатимерным. Я уже рассказывал, что мы с художником Н. Сосуновым сделали оформление пьесы Иосифа Прута “Мстислав Удалой”. На сцену поставили подлинный вагон настоящего бронепоезда – нашли же где-то! И боже мой, как было увлекательно! Сверху броню мы сделали обожженной, внутри вагон выкрасили в голубой цвет – там обитали люди. Вагон этот, по нашему велению, следуя авторскому сюжету, вдруг раскрывался, как раковина, и там – красные бойцы с пулеметами. Части вагона снова смыкались, отъезжали вглубь, в финале из оркестровой ямы поднималась настоящая пушка. Дым из паровозной трубы через всю сцену, гигантский красный стяг, который закрывал всю сцену в финале! Эффект был потрясающий! Чисто конструктивные решения, возможность мгновенных перемен декораций очень меня увлекали.
А вот Островский, даже в то время, подвел меня к совсем другому, к тому, что стало потом самым что ни на есть “моим”. Вот так драматургия и диктует свои законы, которые, совпав с твоими, твоими и останутся. В 1931 году в “Правде хорошо, а счастье лучше” я применил свою любимую живопись. Расписал занавес в виде жанровой картины в золотой раме: Замоскворечье с его купеческими особняками, с генералом в карете, с рыболовом у прудика. Занавес поднимался, и оформление конкретных картин пьесы воспринималось как объемный и укрупненный фрагмент живописной композиции на занавесе. Благодаря Островскому я, совсем еще начинающий художник, нащупал то, что всегда меня потом интересовало в театре: органическое соединение зрелищности, обобщенных пластических образов и того, что мы называем повествовательностью, – интерес к реальной жизненной среде, к быту, его подробностям. А это тоже заложено в Островском в избытке. Вот уж поэт быта – сочного и живого, “говорящего”. Думаю, что не без его влияния я сумел увидеть в себе эту страсть к молчаливым, но таким красноречивым атрибутам нашего бытия, к их изображению на холсте, к настоящему “театру вещей”, в который можно играть бесконечно.
Оформлял я и “Не было ни гроша, да вдруг алтын” – в ЦДТ в Москве, и “На бойком месте” в Московском театре имени A.C. Пушкина, и “Шутников” в Областном, и “Свои люди – сочтемся” в Малом. А “Без вины виноватые” даже дважды – в Кирове в 1937-м и через год – в Ворошиловграде. И вот что интересно. Автор один, художник один, а принципы оформления менялись. Они совпадали с теми изменениями, которые происходили тогда во всем нашем театре, во всей сценографии. Нами руководило Время! В 1940–1950-х годах всем было интересно максимальное совпадение с жизнью, подробности, правдоподобие. И для меня это было потребностью, необходимостью. Для спектакля “На бойком месте” мне важно было точнейшее воспроизведение на сцене русской северной избы. И для предельной сценической убедительности в оформлении я ездил специально под Кострому и привез оттуда куски настоящих досок старых домов, светлых, великолепно отмытых, неповторимых оттенков дерева. А в 1960-е годы театр, ощущая тупик, угрозу воцарения на сцене унылой копии жизни, натурализма, рванулся к образности и обобщению, к освобождению сценического пространства ради царства актера. И уже в спектакле “Свои люди – сочтемся” меня интересовали лишь детали быта, его лаконичное обозначение среди обобщенного нейтрально-белого пространства. Нет, в этом тоже тайна.
Как это так – в одно и то же время мне лично становится интересным то, к чему вдруг направляется и общая мысль, и поиск? Никто не дает это так ощутить, как гений неумирающей классики. Ощутить, как меняется время! Вот оно, магическое “кукуриси”, нигде не ощутимое так, как в театре.
“Лес” в Малом театре я выпустил в 1974 году. А в 1986-м мне позвонили от имени Игоря Владимировича Ильинского и пригласили на трехсотый – юбилейный – спектакль. “Лес”! Триста раз!!! Три восклицательных знака! Этот театр так и называют “Домом Островского”. Перед его фасадом на постаменте в светло-сером кресле сидит сам светло-серый Островский, без шапки – зимой и летом. Нет, он не серый даже, а покрыт зеленоватой патиной времени. Я пришел в театр с радостью. Меня подвели к Игорю Владимировичу. Подвели и сказали: “Вот Александр Павлович”. И он крепкой маленькой рукой пожал мою. Он был почти слеп. Когда в конце спектакля мы под руку вышли на поклон к бурно и стоя аплодировавшему зрителю, я обратил внимание, что Игорь Владимирович все время смотрит в самые огни прожекторов, установленных над первой ложей зрительного зала. Этот свет он видел, и ему было это приятно. Когда он уходил со сцены в относительную темноту, его встречали добрые руки, чтобы направить на трапик, ведущий к двери со сцены за кулисы…
Чехов. Помещичья трилогия
Помню послевоенный Таганрог. В этом городе родился Антон Павлович Чехов, его имя носит таганрогский театр. Сюда часто приходил он гимназистом, и чудится его присутствие здесь. В партере? В одной из лож?.. Сюда, где все еще напоминало о войне, где все болело ее ранами и болью, приезжал знаменитый первый послевоенный выпуск Московского ГИТИСа, который на многие годы сделал таганрогский театр истинно чеховским. Чехов занял главное место на этой сцене, придя к исстрадавшимся людям со своей великой и спокойной любовью к ним, к их жизни со всеми мелочами, бытом, уютом, светом ламп и тенями от луны и солнца, с вечерним светом в саду… Ведь недавно еще все мы не могли и мечтать о том, что красота самой обычной жизни откроется нам в тишине и мире. Может быть, поэтому так обостренно хотелось вызвать у зрителя желание снова увидеть и залюбоваться самым, казалось, привычным, ежедневным, будничным, от чего так отвыкли мы все за войну. А кто, как не Чехов, давал такую возможность – “поэт будней”, как называли его теоретики, объяснившие, что этот гений умел “извлекать поэзию из быта”. Но это я размышляю теперь, а тогда, в 1946-м, так важно было, чтобы в кабинете Иванова стоял черный кожаный диван, и не какой-то шикарный, нет – уже постаревший и просиженный. Чтобы на стенах висели портреты, а в окна глядела сосна. Чтобы у Лебедевых из гостиной через дверь был виден ночной сад с голубой звездочкой на черном небе. И никакого театра! Никакой условности! На сцене – сама жизнь во всей ее поэтической достоверности, во всей тщательности подробностей.
А в 1960 году, уже в Москве, в театре им. Моссовета Юрий Александрович Завадский вместе с Ириной Сергеевной Вульф решил поставить пьесу Чехова “Леший”. Тогда я очень увлекался поисками новых современных средств выразительности на сцене, да и вся советская сценография жила в атмосфере бурных открытий. В спектакле был применен изобретенный мною способ светописи, который позволял буквально за десять-пятнадцать секунд менять на сцене цветные изображения: лес, сад или другой пейзаж, причем большого размера, примерно 10 × 10 метров. Я сделал из просветной пленки легкий, в сероватых тонах, с охристой осенью большой задник с нарисованными березами и стволами сосен.
Первый план дублировал цвета и формы порталов театра. Таким образом я словно бы углубил просцениум, лишив его всякого бытового и часто ненужного правдоподобия, сделал пространство чеховской пьесы частью современной сценической архитектуры театра, объединив его с современным зрительным залом 1960-х годов. Планшет сцены был затянут темно-серым сукном, на котором менялась лишь мебель в зависимости от места действия. А сзади соответственно течению действия возникали и менялись пейзажи: весенняя роща, облака, туманы, лес… Светоживопись была легкая, немного графичная, как пенсне с черным шнурком Антона Павловича. И все русское. Само же действие выносилось на первый план.
Написал, что лишил просцениум “ненужного правдоподобия”, и заволновался. Но ведь в 1946 году в Таганроге меня только правдоподобие и занимало! И в обоих случаях я старался, как мне казалось, точно выполнить чеховские ремарки. А у Чехова, как ни у кого другого, они совпадают. В “Лешем” место действия первого акта точно такое, как в “Иванове” и в “Дяде Ване”: приусадебный сад-лес, вход в дом, терраса перед домом, стол с самоваром на аллее. Вот так, оказывается, и гении могут “заштамповаться”. Сознательно ли Чехов повторялся? Наверное, он не об этом думал, просто писал о драматических ситуациях, происходящих рядом, вокруг него. И все же я первые акты чеховской “помещичьей трилогии” (сейчас выдумал это выражение) оформил по-разному. Сейчас я это очень ясно понимаю. Поразительное доказательство того, что художники, и я в том числе, меняются не в понимании даже, а в не фиксируемом сознанием ощущении качества своего искусства, оценки его. Когда подсознательно, эмоционально художник отвечает на вопрос, что такое хорошо, а что такое плохо.
Совсем не странно, что размышления об изменчивости искусства возникли в связи с Чеховым. На нем как-то особенно виден круговорот наших общих размышлений над жизнью, спираль нашего существования. Все равно всё по кругу, всё повторяется, но в неизбежных изменениях. Вот ушел театр – и я вместе с ним – от бытия, от предельной достоверности, вернул сцене условность, театральность, обобщенно-концептуальное мышление. Как, скажем, в моих чеховских спектаклях 1940-х и потом 1960-х годов. А “Вишневый сад” для Малого театра? Это уже 1974 год. И в нем снова запахло прекрасной стариной!
Меня пригласил на эту постановку Игорь Владимирович Ильинский. В 1970 году он приступил к работе с художником и, кажется, дважды отказывался от декорационных решений, предложенных крупными мастерами, среди которых был и В. Рындин. Наконец пригласил и меня. И я счастлив, что мое решение подошло и было принято. Оно задумано и выполнено в традициях театра прошлого, поскольку спектакль посвящался столетию Малого театра. Красный бархат, подборы и бахрома с кистями. Все оформление ориентировалось на традиции живописной декорации. В те годы я с особой силой ощутил потребность, жажду живописи. Да и не только я – вся сценография начала поворачиваться к живописному началу.
Итак, эскизы были одобрены, начались репетиции, а я заканчивал макет и уже приступил к работе над костюмами, как вдруг узнал, что Игорь Владимирович ведет переговоры с одним, надо сказать, талантливым молодым художником, перебравшимся в Москву из Сибири. Я взбеленился и забрал эскизы декораций. Теперь на них есть этикетка с приписочкой: “Не осуществлено”. А осуществлены декорации по эскизам к идущей в Малом постановке “Вишневого сада”.
Корпоративной этики в вопросе приглашения на работу в театр ведь не существует. Нужно всего лишь сказать: “Ой, я ошибся!” Даже не так определенно – перед словом “ошибся” можно сказать “кажется”!
Но зато “Дядя Ваня” на сцене театра имени Ермоловой ожил в моем оформлении. Этот спектакль я делал на фоне воспоминаний – почти неосознанных, это мне теперь ясно – о МХАТе, о В. Дмитриеве[6], о Тарасовой, Гремиславском, Татьяне Борисовне Серебряковой (слава богу, живой и здоровой), Баркове, Кедрове и многих-многих людях, так много значащих для всей моей жизни. Столько света, чистого чувства сохранилось в моей душе от этого “дома”, в котором так часто говорили: “Не верю!” – разумеется, ради правды жизни.
Был ли я “сдвинут” на МХАТе, на творчестве Дмитриева? Конечно! Сознавал ли я это? Нет. Следовал за ремарками Чехова! И всё.
Меня интересует, как, какими путями художник становится схож в своем искусстве с другим мастером? Как, каким образом “сподвигается” в сторону, например, Пикассо? Человек как бы приобретает походку другого человека. Чертовщина! Мы ведь все видим одно и то же! Но рассказываем об увиденном все разное! Вот поэтому существует в среде художников фраза “Я так вижу”, претендующая на оправдательный вердикт в искажении или, мягче, нарушении объективной верности черт видимого, будь то форма или цвет. Но, оказывается, существуют очки Пикассо, Веласкеса, Сезанна, Герасимова, Моисеенко и др., которые пользуются “спросом”.
Я до сих пор в “тисках обаяния” В.В. Дмитриева – его творчества, его понимания действительности. Хочу выразить это мое изумление фактом “заразительности” личности или результатом творчества этой личности – работами, картинами. Вот штука-то!
И конечно же, “Дядя Ваня” был продолжением моей жизни живописью. Изобразить красками мир вокруг меня стало главным смыслом моего существования. Я влюблен в это занятие. Я не пишу “в живопись”, потому что над этим словом светится вроде бы священный нимб. Есть табу на это слово. Не всё, что красками, – живопись. Слово “живопись” произносят чуть-чуть протяжно, тихим голосом, одновременно поднимая указательный палец и брови. Такой “транскрипцией” этого слова и обрисовывается тип живописи – благозвучной, то есть консонансной, где наслаждение мы получаем и от мазков, и от характера их наложения.
К сожалению, хороший спектакль – да и театр вообще – очень хрупкая вещь. Разрушается он быстро, а возникает редко. Очень хороший спектакль – это чудо; чтобы он возник, необходимо совпадение, пересечение десятков человеческих воль, умений, желаний в нужный момент, в нужное время. Это почти так же необъяснимо, как возникновение жизни на земле. Нередко театральное представление – вещь довольно противная: штампы, штампы и штампы, да еще с “ячеством” и назойливым указующим перстом. Боже мой, сколько на моем веку “создано” спектаклей, жизнь которых измерялась длиной дороги от сцены до декорационного сарая! Поэтому я с таким трепетом берегу память об исчезнувших шедеврах В. Дмитриева, великого художника.
Его “Три сестры” с первой секунды после открытия занавеса включали маятник правды. Возникал мир, в который вы безотчетно верили. Возникала правда жизни, верная атмосфера солнечного тихого провинциального утра, с букетиком ландышей на черном рояле, с бликами солнца на сероватых обоях. И эта картина была прекрасна, ведь жизнь прекрасна даже в провинции, даже в захолустье. Слова героев – слова А. Чехова – естественно жили в этой атмосфере правды.
В зале было тихо-тихо. У зрителей исподволь возникал глубоко волнующий, тревожный образ спектакля.
“Дядя Ваня”, “Анна Каренина” и другие дмитриевские спектакли поражали умением показать на сцене реальный мир. Дмитриев прекрасно знал быт – быт как социальное явление, быт как след человеческой деятельности, как след характера времени. Дмитриев работал в эпохе и не пренебрегал ею. И это было присуще МХАТу в целом, школе К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
Трудно ли на сцене создавать такие “атмосферные” реалистические декорации? Да. Очень трудно. Они требуют большой культуры и таланта всех, кто участвует в их создании. Это целая школа, очень серьезная, очень эрудированная школа, где важно всё, где точность детали – закон.
“Да у вас ностальгия”, – сказали мне однажды. Возможно. Значит ли это, что я отвергаю все сегодняшнее в сценографии? Нет. Создано много прекрасного и подлинно серьезного в так называемой новой образности, которую я утверждаю и отстаиваю. Мне только чудится, что спираль художественной истории приближается на новом уровне к позиции Дмитриева, позиции высочайшей художественности и правдивости, особенно в оформлении пьес русского классического репертуара. И художники, способные на это, уже появились.
Хочется, чтобы старое мхатовское определение театрального как квинтэссенции жизненного, существующее подспудно, подчас подсознательно в нашем театре и ныне, особенно в актерской работе, вернулось в сознание некоторых наших сценографов.
Разрыв или, скажем, разночтение в методах “показа” авторских текстов у актеров и художников разительны. Если актеры обязаны говорить, играть весь или почти весь текст, то художники вместо разных мест действия, предлагаемых автором, теперь строят одну общую декорацию, “единую установку”, как бы вбирающую в себя признаки всех мест. А чаще художник создает некий “третий мир”, “новую среду” для актерских образов. Здесь бывают удачи и неудачи. Меня беспокоит не только это. Да не разучился ли наш театр вообще делать перестановки, быстро менять декорации, воспитывать монтировщиков – магов, виртуозов своего дела? Не закрадывается ли кому-то мысль: а зачем, собственно, делать эти смены, брать на себя эту муку? К тому же дорого. Так экономней… Беспокоит и иная режиссура, для которой “театрализмы” удобней, привычней, чем рамки правдоподобия.
Вот как далеко увели меня размышления о Чехове. На то он и гений. И всегда разный – у разных режиссеров, разных художников, актеров – в разное время!
А что, если три эти пьесы Чехова – “Иванов”, “Вишневый сад”, “Дядя Ваня” – сыграть в одних декорациях? Может выйти очень интересное принципиальное решение на тему о рутине жизни. Менять свет, реквизит, что-то подстарить! Шикарная трилогия могла бы получиться, в трех сериях. Оформлять сразу для трех постановок, учитывая мизансценическое обеспечение. Можно менять время – время года, погоду. Костюмы – те же, с небольшими вариациями. Вот за это бы я взялся – под рубрикой “Большой Чехов”.
“Петербургские сновидения” по Достоевскому
Работа над русской классикой – всегда испытание на мастерство, на уровень мышления, профессионализма для всех: режиссера, актера, художника; даже для читателя и зрителя. Мне посчастливилось много раз встречаться с русскими классическими пьесами, но истинным испытанием для меня как для художника стала работа над Достоевским. Я имею в виду оформление спектакля по роману “Преступление и наказание” в постановке Ю. Завадского на сцене театра им. Моссовета. Премьера состоялась в 1969 году, а работали, думали, искали мы с режиссером шесть лет. Я так и назвал свою статью об этом периоде – “Испытание Достоевским”.
Шесть лет! Первые эскизы появились в 1963 году. Я оформлял другие спектакли – “На диком бреге” по Б. Полевому, “Дядюшкин сон” Достоевского, “Мазепа” Чайковского, “Ревизор” Гоголя, “Шторм” Билля-Белоцерковского. Разные авторы, эпохи, жанры, сцены… Я продолжал заниматься живописью: десятки пейзажей, натюрмортов, композиций… Но Достоевский, его Раскольников, его Петербург не оставляли меня.
“Петербургские сновидения” – так стал называться спектакль. Эти сны тревожили и мучили…
Представлял ли я себе ясно реальную, конкретную материальную среду 1860-х годов, в которой жили и действовали персонажи романа “Преступление и наказание”? Да, представлял. Это представление сложилось за многие годы работы в театре. Постоянная тренировка памяти-фантазии на образном материале воспитывает способность к более или менее ясному, конкретному видению в воображении вроде бы реального мира, реальной действительности, где происходит то или иное событие.
“Память-фантазия”. Эти слова хорошо, как мне кажется, определяют тот начальный этап работы художника, когда он перед внутренним взором воссоздает картину “объективной действительности”. И от силы этой картины во многом зависит дальнейший ход работы над спектаклем. Правда, эта “объективная картина” будет окрашена индивидуальностью художника, будет зависеть и от его гражданской и нравственной позиции. К сожалению, художник обычно видит не очень много – только то, что ждет и хочет увидеть, то, что способен изобразить. Но Достоевский слишком велик, огромны проблемы, поставленные им перед человечеством, своеобразен тип его мышления и видения, чтобы вот так, просто, со своим “багажом” или, лучше сказать, художественным скарбом, “прицепиться” к этому могучему, трагическому кораблю, плывущему из прошлого через настоящее в будущее по соленому от слез житейскому морю.
Тревожило, беспокоило собственное несовершенство или в лучшем случае возможность этого несовершенства.
И хотя я уже дважды работал над произведениями Достоевского (“Село Степанчиково” в Малом театре и “Дядюшкин сон” в театре им. Моссовета), работа над “Преступлением и наказанием” вызвала особые чувства. Характер их не берусь описать. Все знают, как назойливы и даже нахальны в своей услужливой готовности стереотипы мышления! К тому же Достоевский, к сожалению, в слабых душах породил “достоевщину” и – в связи с ней – некие формулы и рецепты, “как это делать”.
Нужно было, во-первых, обнаружить в себе эти стереотипы, что не так просто. Они юркие, умеют прятаться, уверять, что родились только что. Во-вторых, обнаружив штампы мышления, нужно было их “пригвоздить”! А ведь тогда они были мне милы, эти известные образы.
Булыжная мостовая с выплеснутой на нее пивной пеной, засыпанная сеном и конским навозом.
Жаркий запах Сенной площади, белой пыли. Неразбериха возов, жующих лошадей, мух.
Зеленая вода канала с лениво плывущими по ней щепками.
Мне виделись подворотни, глубокие и темные, ворота-решетки, фонари, горбатые мосты, гранитные конусные тумбы у ворот. Дворы-колодцы, растоптанная известка и обвалившаяся штукатурка. Старые железные перила с висящими на них половыми тряпками. Мрачные стертые лестницы, пропитанные кошачьей вонью, уходящие ввысь и во мглу. Мятые цилиндры-шляпы, стоптанные каблуки, заношенные подолы юбок, заплаты. Знаменитое окно с чахлой геранью, которое было видно из комнаты Раскольникова – комнаты, похожей на гроб. Желтые, отставшие, рваные обои. Доходные дома, трактиры, вывески…
Все просилось на сцену, все воспринималось мною как непреложные объективные истины, вполне надежные. Да они почти такими и были!
И вот даже сейчас, когда я их описал, вроде бы разжалобился, умилился, стало немного жаль этих милых, добротных, довольно верных и все же штампованных ощущений.
Вот ведь как! Со штампами очень удобно, нехлопотно жить.
Будущий спектакль или, вернее, его дух, еще не родившись, находясь, так оказать, в эмбриональном состоянии, обладал строптивым характером – он не принимал ничего!
В Ленинградском литературном музее Достоевского мне дали адреса всех домов и маршрутов, связанных с писателем и его героями. Я в растерянности слоняюсь по Сенной площади и прилегающим к ней улицам, переулкам и дворам. Захожу в узкий, странный дом клином, где “жила Соня”. Поднимаюсь на пятый этаж, к “комнате Раскольникова”, топчусь некоторое время на верхней площадке с неясным чувством, будто играю в какую-то игру, правил которой не знаю, спускаюсь вниз, поднимаюсь опять – теперь уже к Алене Ивановне, процентщице. Все интересно, но не совсем то, не очень отвечает “работе” памяти-фантазии. Спускаюсь. Уныло, с затухающим любопытством заглядываю в очередную подворотню и фотографирую. Я снимаю все убогое, старое, странное, что можно еще отыскать в щелях этого прекрасного города. Но нашелся человек, которому все это ужасно не понравилось, и, несмотря на попытку объяснить цели фотографирования, на просьбы не мешать заниматься делом, он “сдал” меня (как и обещал в самом начале нашего знакомства) военно-морскому патрулю. Меня доставили “куда следует”. После объяснения я был тотчас же отпущен, к великому огорчению моего нового приятеля, дожидавшегося “результата” у входа. Я на него не сержусь. Мы ведь с ним похожи: у него свои штампы, у меня свои.
И вот после всех рассуждений, размышлений, изучений мои творческие закрома напичканы знаниями, видениями и прочим сырьем, из которого надо теперь что-то выбрать, превратить в сценические образы, приспособить их к основной идее нашей постановки, сформулированной Завадским как трагико-пророческий балаган. Название же спектакля стало таким: “Петербургские сновидения”.
В первых проектах будущих декораций я попытался последовательно расположить на поворотном круге все основные места действия в соответствии с хронологией романа. Сделал макеты и серии эскизов, в которых более или менее удачно прочертил путь Раскольникова в трагическом лабиринте.
Это был лабиринт, хитроумно расположенный во всем объеме сценического пространства. Крутые лестницы, причудливо пересекающиеся, вели к убогим каморкам Раскольникова, процентщицы и Сони. Здесь были подворотни, горбатые мостики – все то, что так прекрасно жило и “работало” в романе, но, увы, не могло существовать на сцене без слишком большого количества компромиссов. Нужное не получалось…
Однако, как ни удивительно, это не привело меня в отчаяние, а заставило больше работать и размышлять, что же мешает мне подойти ближе к тому, что прекрасно виделось, но не давалось в руки.
Мы выпускали очередные спектакли и в который раз откладывали “Петербургские сновидения”.
В 1964 году я некоторое время работал в столице Афганистана Кабуле – удивительном городе с чертами современной архитектуры, где все еще властвуют те социальные отношения и ситуации (правда, в “восточном исполнении”), которые рождают странный трагический мир. Я бродил по старому Кабулу и видел в его облике причудливое отражение трущоб Петербурга – мира социальной несправедливости, корысти, наживы, алчности, горя и скорби. По существу, так же выглядят трущобы Монреаля, Глазго, Токио: та же ржавчина, ветошь, уродства. Я почувствовал что-то общее, главное для этой темы, общий закон трущоб. Выражается он примерно так: следует найти способ показать, как минимальное изолированное пространство заселяет максимальное количество людей. Здесь не важны детали вроде окон, дверей и пр. – важна социальная суть явления.
Написал несколько серий новых эскизов и выполнил ряд макетов. В них появились черты единой, постоянной пластической среды, которая, едва меняясь в деталях, создает то или иное действие, то или иное настроение.
Понадобилось много времени, чтобы прийти к простой декорации. Теперь-то я знаю: мне мешала чрезмерная конкретизация, слишком бытовое понимание образа. Мешали слишком реальные двери, подворотни, окна. Особенно окна. Я не мыслил дома без окон, я никак не мог себя спросить: “Почему окна? Почему я так думаю?” И когда я ответил себе: “Это штамп!” – мне сделалось легко… и это стало не нужно на сцене.
В спектакле зрители видят ржавый, неопрятный железный колодец, забрызганный известкой, разделенный на камеры-жилища без окон и дверей, в которых ютится несчастный люд, ничего не видящий, кроме своей безобразной нищеты. Здесь обитают горе, подлость, уродливое тщеславие. Но здесь же – большая всеочищающая любовь. По отношению к первым эскизам эта декорация “отвлечена”, она “не соответствует реальной действительности”, но этот сценический вымысел помог осуществить режиссерский замысел.
Перед ржавым колодцем, внутрь которого по мере надобности “въезжают” две лестницы, ведущие в каморку старухи-процентщицы, висит ветхая тряпка-занавес. Убогая мебель комнат Раскольникова и Сони появляется на первом плане, совсем близко от зрителя. Стены колодца затянуты ржавой металлической сеткой – способность ее работать на просвет широко нами использована. Решительно все костюмы тщательно и очень сильно прописывались. Мы их “вгоняли” в единый буроватый колорит. Много работы потребовало и освещение.
Финал, каким он существует сейчас, возник у Ю.А. Завадского уже в конце работы над спектаклем. Появление распятия на фоне слов чтеца, рассказывающего о последнем сне Раскольникова, в сочетании с музыкой становится последним эмоционально-образным аккордом спектакля…
Работа над произведением Достоевского – “испытание Достоевским” – требует огромнейшего напряжения всех творческих, нравственных и духовных сил. Требует строгости, честности, заставляет по-иному взглянуть на свою работу в искусстве.
Жизнь после театра
Кукуриси!
…Итак, наступил момент, когда я ушел из театра.
Я всю жизнь отдал театру. В прямом смысле слова: я служил во многих театрах страны как художник-сценограф сорок четыре года, с 1930-го по 1974-й. За это время мною оформлено около двухсот спектаклей. И я ушел из театра. Почему? Чтобы долго не теоретизировать, расскажу об одной из моих последних театральных работ. В Малом театре я делал оформление для спектакля “Человек, который смеется”. Задник спектакля – крупный декорационный объект. Высота – 14 м, длина – 10 м. На нем изображена Темза в Лондоне, берег с городом, крепостями, башнями, на воде – лодки, шхуны, Темза буквально забита ими. Мне повезло, я в библиотеке нашел замечательную гравюру того времени – XVII век – и по ее мотивам написал задник.
А вот прихожу я в театр, наверх, в мастерскую, и вижу: это ужас! Этого не может быть! В силу своего опыта ошибки я вижу моментально, мне не надо для этого вставать на стремянку, видеть все целиком, я вижу прямо с уровня пола, хотя это и огромная площадь. Ведь в России пишут на полу. Это в Англии пишут декорацию в рост. Накатывают полотно на вал и опускают постепенно перед тобой огромную ленту, на которой пишут в рост. Но я и на полу сразу увидел, что приблизительно 10 метров похоже по цвету на то, что нарисовано мной на эскизе, а вторая половина – блекло-серых тонов и поблескивает. А блестящая живопись на театре совершенно не годится, она должна быть строго матовой, иначе будет отражать прожектора и казаться мятой. Я не верю своим глазам, спрашиваю: как это могло произойти? Меня успокаивают, что там подкрасят, здесь подмажут. Известно, что на плохом грунте или на холсте с разными грунтами записать картину нельзя. Она будет разных тонов. Так, оказалось, что полотнище справа из чистого хлопка, а слева – с добавлением лавсана. Потому получился разный тон.
Сидят три человека, один мне все это показывает, двое смотрят с равнодушными лицами. Мне жалко времени, я возмущен тем, что художник-исполнитель тут же, как только это увидел, не принял меры. Весь день я выяснял взаимоотношения художника и режиссера, а у них – с постановочной частью и так далее. Выяснял, есть ли опыт работы у человека из постановочной части, умеет ли он рисовать, какое у него образование, должен был давать объяснение по своим чертежам – день пропал ни на что! В постановочной части оправдывались, что они не могли отличить в большой груде белого материала по сути разные фактуры. Но ведь они специалисты, профессионалы! А если доктор перепутает лекарства?
Творчество театрального художника связано с коллективным трудом, все должны настроиться на коллективный лад, понять идею произведения. Это очень трудно.
Игорь Владимирович Ильинский, пригласивший меня на работу и задумавший спектакль “Человек, который смеется”, практически осуществить его уже не мог. Он часто сидел на репетициях – ряду в восьмом-девятом, в кресле вблизи с правым проходом. Так что вся масса сцены приходилась как бы слева от него. Помогал режиссер Мартенс, постоянно работавший с ним. Кроме того, был приглашен и некоторое время работал в “постановочном штабе” мой брат, режиссер Васильев.
В силу ряда причин, которые я ясно себе не представляю, через какое-то время после начала работы и после показа макета Петр Павлович отказался от дальнейшего участия в работе. В Малый театр пришел новый главный режиссер и тоже вмешался в эту работу; думаю, в конце концов он и станет ее постановщиком. Слишком много режиссеров! Пока еще режиссерский коллектив ничего путного не поставил. Режиссирование – это, как я понял за долгую жизнь, “персональный террор”!
Коллективность театрального творчества и необходимость заканчивать работу, как правило, в определенные сжатые сроки делает спектакль, или, как теперь говорят, “конечный результат”, практически непредсказуемым. Иногда долго вынашиваемый тобой и режиссером замысел решительно меняется – вдруг и не в лучшую сторону – из-за того, что… не достали материал, вышла из строя необходимая техника, срезали смету! Срочно меняешь костюмы, так как заменили актера, а премьера через три дня! Вот словарь знаменитых театральных фразочек:
“А ничего, так тоже хорошо”.
“А ведь, кажется, получилось!”
“Ах, опять не хватило трех дней!”
“Сашенька, это неважно”.
“Не расстраивайтесь, кто это, кроме вас, знает”.
Забыли поставить половину декорации – реакция: “А так даже лучше” и т. д. Театр – цепь компромиссов.
Сотня, нет, сотни разных людей, разных характеров, каждый из которых “все знает” и ему “все ясно”, делают в первый раз дело, строят невиданное доселе “сооружение” – спектакль с не очень ясными очертаниями – “там посмотрим”. Вот эти самые объективно сложные “технические условия” создания спектакля и являются причиной плохой театральной продукции. Я считаю, что хороший спектакль – это чудо! Счастливый случай!
И вот что удивительно: в современный театр приходит (но это очень дорого и сложно) техника с кибернетикой, запоминающими машинами и прочим, а ошибки и накладки остались все те же, только исправляют их другим способом. И я не выдержал всего этого. Я ушел в живопись. В живопись, где запретил себе думать о времени, где можно часами, днями сидеть над исполнением маленького кусочка живописи, где ты (а не режиссер) передвигаешь фигуры людей, где “пьесу” своей картины сочинил ты сам и вправе ее переписывать. Тебе некому жаловаться на плохо нарисованную руку, кроме себя, бархат на платье героини будет всегда тот, что тебе нужен, свет будет падать точно туда, куда надо, и Николай Иванович его не передвинет, и я не узнаю, что роль девушки в бархатном платье вымарана из спектакля, и я не услышу по театральному радио: “Александр Павлович, вас просят в дирекцию”, и я не услышу от директора: “Дорогой Александр Павлович, бросайте все и срочно принимаетесь за пьесу H.H., а не М.М” и прочее в этом роде!!!
И все жe! Я никогда не изменял своей любви к театру.
Театр без всякого преувеличения – университет культуры для каждого, кто с ним связан. Ты живешь где-нибудь в Чите или Самарe, а театр берет пьесу из французской жизни Средних веков, и ты мчишься в библиотеку, листаешь ворох книг и альбомов. Русская девочка конца XX века из театрального института – и вдруг у нее пластика и манеры, характер и страсти знатной благородной испанки. Она же завтра на эти же подмостки, приехав в метро с другого конца города, выпархивает с кокетливым веером французского салона. И еще через пару дней она жe, в ватнике и с автоматом, пойдет на бой и муки за свою землю… Это ли не чудо? Это ли не таинство великой игры человеческой жизни?
Пафосом театра является дерзание, поиск нового, “движение из вчера в завтра”, как говорил Ю.А. Завадский. Это связано с репертуаром, чрезвычайно разнообразным. Пьесы разных народов, стран и времен. Разных художественных систем, различных авторов. Разные режиссеры, разные художники. Каждая постановка – задача со многими неизвестными. Надо изучать и понять эти народы, страны, времена, художественные системы и характеры. Я с благодарностью и любовью вспоминаю “учебу” в этом университете. Театр оставил мне страсть к творчеству, большой игре фантазии. Почти не было рецензий на мои выставки, где не было бы отмечено влияния театра, театральности, театральной игры на мои живописные работы. Даже натюрморты, даже портреты овеяны, окрашены театром. Вот это “Кресло”, сумрачно и судорожно забившееся в угол, – yж не из комнаты ли оно Раскольникова? А этот “Коридор”? С лежащей лестницей? Он тоже мог быть одним из интерьеров петербургского дома эпохи Достоевского, над романом которого мы работали с Ю.А. Завадским. А мои натюрморты? “Актер”, “Актриса”, в которых просто сейчас отсутствуют их хозяин и хозяйка? Если бы я не работал в театре, зачем мне были бы, например, “двери театра” (моя работа темперой 1968 года)? А Островский? Он тоже не оставил меня где-то там, в подсознании, когда я писал, скажем, свои “Самовары”. Если хотите, то вся моя серия с балбетками – это тоска по театру, мой театр на дому. Персонажи этого театра придуманы мною, хотя и существуют в реальности, это такие деревянные толкушки, похожие на человечков. Я их одеваю и дорисовываю так, как мне велит моя фантазия, помещаю их в любой пейзаж и в любой сюжет и разыгрываю с ними разные сценки. У меня много таких картин. Ведь и краски во многих моих станковых работах – театральные, те клеевые краски, которыми обычно расписывают живописные задники на сцене. А то, что искусствоведы обозвали в ряде моих нарисованных букетов и натюрмортов словом “стереоскопичность”? Объемность? Не трехмерное ли пространство “заразило” меня в живописи? Чтобы стебелек, чтобы подсохший гранат или золотая луковица на фоне синих складок были обязательно объемны, их форма – осязаема. А мои портреты? Я переодеваю людей, меняю им прически, делаю немыслимые шляпы из других эпох, постоянно задаю себе знаменитый мхатовский вопрос: “А что, если”? А что, если перо, а что, если в латах? В суровом холсте? В черном? И мои оригиналы на портретах лицедействуют, оставаясь собой, совершают чудо перевоплощения,
Но все-таки, чтобы до конца познать себя, – правда, до конца себя познать вообще невозможно, – очень важно остаться один на один с искусством и пережить, перемолоть тот груз, который навален на меня знанием жизни через театр.
В 1970 году я был в Японии. Встреча с этой страной оставила во мне большой след. Тогда я придумал якобы “японское” слово, которого на самом деле в японском языке не существует: “кукуриси”! Что значит “меняться”. Я написал это слово на притолоке над дверью в мою мастерскую. Меняйся! Не стой на месте, это равносильно духовной гибели. Йоги в своей священной книге Бхагават-гита записали, что способность к изменению себя есть высшее проявление духовности. Казалось бы, очевидная вещь. Однако все банальные истины до конца постигаешь лишь на своем опыте.
Кукуриси! Но разве так просто найти в себе силы? Мне было, повторяю, шестьдесят четыре года. Надо было начинать все сначала.
Я – художник, а ни одного путного портрета не написал. Пейзажи? Два-три в год. В отпускное время писал маслом этюды с натуры и по памяти. Зрительная память у меня (простите мою нескромность) прекрасная. Это я получил в награду за долгий труд от театра. Ты можешь неважно нарисовать, но помнить ты обязан досконально. Хоть на пальцах, а объясни!
Тянуло меня к живописи страшно. К живописи моего детства, когда я, Шура Васильев, прикалывал кнопками к стене над железной кроватью свои акварели. Очень мне не нравилось, когда меня знакомили так: “Познакомьтесь, декоратор Васильев”. Хотелось стать просто художником.
Начало самостоятельной жизни в живописи я бы сейчас назвал “Шура! А ты попробуй!”. И я пробовал! Искал и нашел. Шестьсот шестидесятым номером в списке моих работ оказался пейзаж – я его “раскопал” в одном из своих пеналов-складов. Пейзаж изображал берег Волги, сосну с ободранной внизу корой, стоящую почти у самой воды. Затопленная прохудившаяся лодка, а вдали – ширь реки, суда, дымок и дальний берег. На обороте работы стояло: “660, К., темпера, 79,2 × 49,5”. Указаны материалы и размер. Вот оно, мое начало. Самое главное – это слово “Начало”. Начало не отрывочной, случайной работы над пейзажем по памяти акварелью или гуашью, а темперой на загрунтованном мною картоне или холсте. To есть так, как у “настоящих” живописцев-темперщиков.
И только через двадцать лет упорной работы я осмелился, будучи уже членом-корреспондентом Академии художеств СССР, пригласить к себе в мастерскую президента Академии во главе выставочной комиссии, чтобы показать им свои работы. Было человек пять, я волновался, но показал много работ. И мне предложили выставку в Академии художеств. Было это в 1980 году. А состоялась выставка к осени 1981 года. По каталогу я насчитал пятьсот десять работ – это фантастически много! На самом деле “повисло”, как я посчитал на месте, в двенадцати залах и коридорах триста двадцать работ. Это тоже много. Но часть не вошла, был бы перегруз.
Выставка посещалась хорошо, ей даже продлили срок существования. А в последние дни бывали и очереди на нее. Книга отзывов полна похвал, но были и упреки в подражании мастерам прошлого. Несколько раз встречался со зрителями: водил их по выставке, беседовал, объяснял, например, что такое балбетки. Хорошие статьи в прессе были. Затем выставочный отдел Академии послал выставку “гастролировать” по стране. Она была показана во многих городах.
Мастерская. Как я работаю
Надо сказать, что жизнь моя резко изменилась еще в 1960 году, после получения мастерской. Хотя я продолжал работать в театре Моссовета и для других театров, у меня появилось место, где можно было в одиночестве и в относительной тишине основательно, без скидок на условия, исследовать вопрос о своих творческих возможностях. Мне было только пятьдесят лет, недавно родился мой сын Саня, и я, полный сил и энергии, принялся за самого себя.
Ах, какое есть чудо на свете, спасительное чудо – надежда и вера! Но вера – определеннее, скажу пошло: рентабельнее. Вера – это охранная грамота жизни. Я говорю о вере не в религиозном аспекте, а о вере в себя. И эта вера всегда стоит рядом с вопросом: а кто ты? Имя свое знаешь, фамилию; адрес и возраст – это весьма многозначащие “цифры”, и профессию, и характер жены и детей вроде знаешь, а только себя – не очень. Или не хочешь, или не можешь. Такая трудная буква – Я! “Я” всегда в единственном числе – остальные “он” или “они”. Коллектив говорит: мы! Но я – единственный. Процесс самопознания, как и познания мира, бесконечен.
Теперь я никогда не изменю кисточкам, краскам и грунту. Моему фантастически прекрасному грунту, который я эмпирически создавал долго, лет десять. И наконец создал! И счастлив, что наконец-то я пишу не темперой, а клеевыми красками! То есть сухими пигментами, разводимыми со связующим прямо на стеклянной палитре с белой подкладкой непосредственно в момент живописи. Любой густоты, любых сочетаний. Если я вижу, что по высыхании, а высыхает через считаные минуты, пигмент “мажется”, я это местечко слегка фиксирую этим же связующим. Получается матовая, но любой цветовой напряженности живопись. Как фреска! Грунт делаю с гипсом и охрой – получается золотой или золотистый тон. Когда он начинает подсыхать, я его “углаживаю” мягким крупным мастихином. Получается поверхность, близкая к левкасу. Оставшиеся на палитре после работы краски я большим железным малярным шпателем счищаю с палитры, чуть-чуть (опять!) разминаю, если понадобится, фарфоровым пестиком и ссыпаю в банку, в которой храню эти отходы, так называемую фузу. Фуза – это принятое у художников название смеси красок, собранных с палитры.
Фуза после моих работ всегда примерно одна и та же – что-то вроде обобщенного цветового “паспорта” моей живописи. Кроме того, фузу можно сыпать в грунт. Полностью безотходная технология! Пишу я сразу красками, без предварительного рисования углем или карандашом. Это называется “от пятна”. Если не понравилось, можно мокрой губкой за минуту снять ошибку, а не записывать, зарисовывать ее. Грунт несмываем. Грунт сохраняет любые тонкости. Бывает, что работаешь колонковой кисточкой № 1. Волосяная тонкость! И так как при высыхании краски светлеют (влага их темнит), приходится в мокром виде цвет брать несколько потемней, чтобы, когда он высохнет, стал бы как раз! Это трудновато, но со временем и опытом приходит умение.
Боже мой, сколько же лет можно учиться? Я учусь всю жизнь! Не делаю предварительных эскизов, наминаю сразу тот холст, который и будет картиной, плохой или хорошей – это уже ее дело. Это ее дело! Если пишешь с эскиза, то вроде ты ешь вчерашний или позавчерашний обед. Начинать можно при самом приблизительном или при ясном ви́дении: все равно творчество как процесс – самоорганизующееся действие. Даже великий Пушкин написал: “И даль свободного романа… еще не ясно различал”. Вот правда! Только с последним мазком ты, быть может, поймешь и выразишь то чувство и мысль, которая заставила тебя приступить к работе. И здесь интересен момент импровизации. Совсем недавно я написал две работы, в которых мною не были определены (ни в эскизах, ни в воображении) композиция и колорит и даже мысль, о чем они. Просто: дай попробую! Ведь при слове “композиция” или “идея будущей вещи” на тебя наседают, как черти, штампы! Вот я и попробовал писать то, что сейчас вижу внутренним зрением. Искать прямо в процессе движения.
Беру холст, ставлю на мольберт и начинаю класть краску в левом верхнем углу, вправо и вниз до конца. Смотрю – картина “Лики времени”. Вторую написал. Что? “В Амстердаме”. Попишу еще так, а в случае чего – перестану.
Бывает, что план устанавливаю на день, а выполняю его через много времени. Все вроде делаю “по плану”, заканчиваю, а работа не получилась. План художника есть тот первый импульс, та ворона на снегу, которую увидел Василий Суриков, прежде чем написал великую картину “Боярыня Морозова”! А жизнь А. Иванова, с его “вечной” идеей написать лучше себя самого и побольше, мне досадна. Некоторые эскизы к его картине были и есть выше по качеству, первичнее. “Явление Христа народу” – то есть вся цель его прекрасной жизни – только гигантская ее копия!
Боюсь, что слишком жесткое, неукоснительное соблюдение первоначального замысла композиции будущей картины, да еще при длительной работе над ней, может стать наручниками на творчестве художника. “Все течет, все меняется”, меняемся и мы сами. Кукуриси! Могучий фактор импровизации в творческом процессе не должен исключаться. Это не есть “предательство” замысла, это его развитие во времени. Неукоснительно надо лишь соблюдать технологию. Даже великие художники импровизировали. Последние исследования знаменитой картины Леонардо да Винчи – “Джоконда”, над которой художник работал в течение четырех лет, – обнаружили под слоем краски на шее Джоконды следы жемчужного ожерелья и браслета на руке. Ошибся великий?! Нет! Творить – это изменять!
В начале 1970-х годов я увлекся рисованием углем с натуры. Вышло все тоже как бы случайно. В те годы я грунтовал картоны гипсовым грунтом, белым и немного шершавым. Тогда добывался очень хороший гипс в Куйбышевском карьере. К сожалению, он иссяк. Так вот, я попробовал. Это магическое действие – попробовать! И сделал серию работ с натуры об интерьерах наших мастерских. Есть, конечно, более поэтичные названия: “студии”, “ателье” и даже “мансарды”. Кстати, наши мастерские, выстроенные на чердаке семиэтажного жилого дома на Фрунзенской набережной, и были мансардами. Потолки у нас косые, повторяют наклоны крыш и, увы, протекают. Образуется много “живописных” разводов. В них при желании можно разглядеть “осмысленные” изображения – особенно много бородатых, отечных стариков. Несколько из этих работ были на выставках, и их репродукции вошли в антологию “Советская графика”. Получалось у меня сразу, без всяких “мук творчества”, “с листа”!
Так же “легко и просто” у меня получаются и рисуночки пером. Есть ощущение, что я мог бы быть неплохим графиком. Но к этому виду искусства меня не влечет. Хотя в моих живописных работах многовато черноты, жестковаты контуры. Я очень люблю линию – черту. А цвет? Я всегда слежу за проблемой теплого и холодного в цвете и за соблюдением объективного закона цветовых отношений к природе. Теплохолодность колорита особенно определенно выразили в своих пейзажных работах импрессионисты. Может быть, кто-то и не знает об этом, напоминаю.
Свет, пропущенный через стеклянную призму, преломляется на цвета радуги или разлагается на свои составляющие цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, лиловый и фиолетовый. Этих цветов достаточно, чтобы “раскрасить” весь наш мир – всю вселенную! Теплыми цветами считается первая половина спектра, холодными – правая. Но и красный может быть и холодным, и теплым, в зависимости от того, какой цвет рядом. Цвета рядом рождают зону, которая по оттенку как бы противоположна этому цвету. У живописцев есть выражение: рядом с красным ищи зеленый. С синим – желтый, с фиолетовым – оранжевый.
Колоссальное значение в живописи имеет рефлекторный цвет. Например, в голубой комнате лица людей будут приобретать холодноватый колорит, особенно в тени. Цвета освещают. И если вам трудно определить оттенок того или иного неярко выраженного цвета, посмотрите, какой цвет его освещает. Особенно это заметно в тенях или полутенях. Так, ярко-голубые перила на балконе своей теневой стороной “видят” сквозь окно желтоватость стен моей комнаты – и сами немного пожелтели.
Я сейчас описываю элементарные и объективные физические законы, которые учитываются или нет художником в своей работе, смотря по характеру и стилю его искусства. Он может положить цветовую рефлекторность и теплохолодность в основу своего искусства, как это сделали импрессионисты. Есть другая, тоновая живопись, где важнее увидеть силу тона, чем оттенок цвета. Вот черно-белая фотография хорошо это делает: тон передает верно, а цвет “не видит”. Поэтому мне, человеку с “фотообъективным” глазом, рисунок удавался легко. С чувством пропорций, что считается очень важным в школе рисования, кажется, у меня довольно хорошо – и рисунки мне удались.
Я так подчеркнул и поставил в кавычки слово “фотообъективный”, потому что ведь на самом-то деле человеческие глаза далеко не фотообъектив. Они в постоянном стремительном движении. Есть единственная точка, в которой резко фокусируется объект наблюдения, и эта точка посылает наиболее четкую информацию в мозг. На сетчатке же объект мы видим расплывчато, несфокусированно. Есть еще боковое зрение, с помощью которого мы почти на 180° видим перед собой, правда, тоже более или менее расплывчато. И мы, глядя, скажем, на березу, не проделываем лишней, ненужной работы – не фокусируем зрение на каждом листочке, каждой веточке, сучочке, чтобы сказать: это береза. Мы видим общее. Более того, мы можем, видя, почти не видеть, не фиксировать мозгом работу глаз. Во сне глаза наши бездействуют, они закрыты. А мозг может “видеть” удивительные картины. Мозг представляется мне гигантской емкостью, гигантской копилкой зрительной информации, полученной через глаза. Это реальный жизненный опыт. И литература, и, в наибольшей степени, искусство – это вторая реальность, вторая действительность нашего существования, оставленная нам всей историей человечества.
Я думаю, что есть еще и генетическая образная память, скрытая в тайниках нашего подсознания. То есть мы смотрим нашим мозгом, нашим сознанием, нашим опытом, нашей культурой, нашей любовью или ненавистью – нашим “я” – лишь при некоторой помощи прибора, называемого глазом. Скажу, что эта образная память, к сожалению, приблизительная. Попробуйте воссоздать во всех подробностях хотя бы кусок двора, в котором вы живете, допустим, тридцать лет. Не очень-то вам это удастся. Память весьма несовершенна, образы “тают” со временем, и очень быстро. Большинство людей, и среди них художники, не в состоянии удержать в зрительной памяти только что виденный простейший предмет. А это чревато. Ведь рисование с натуры есть, по существу, тоже рисование по памяти, правда, краткосрочной. Вот вы смотрите на объект вашего рисунка, но, стоит вам отвести глаза к листу бумаги, вы объект перестали видеть… включается краткосрочная память, которая, увы, за время поворота глаз к бумаге уже “растеряла” только что виденный образ. Поэтому рисунки и бывают странно расплывчатыми, объект искривляется, пропорции нарушаются.
Удельный вес фотоспособностей нашего глаза, или, проще сказать, нашей фотопамяти, в рисовании с натуры ничтожен по сравнению со значением знаний, понимания ассоциаций и аналогий, заложенных в копилке вашей долговременной памяти. Поэтому всякий рисунок есть отражение не только объекта, но и субъекта, автора этого рисунка. Во всяком произведении искусства, как в зеркале, отражается художник, создавший это произведение, – весь, без остатка. Можно определить, какое направление в искусстве он предпочитает, в чьем искусстве он ищет опору, культурен он или нет. А школ, направлений, манер великое множество, и большинство из нас вступает в то или иное “братство” последователей художественной идеи, иногда сознательно, а часто и нет.
А так как пластические искусства никогда не имитировали действительность, а были поэтической реакцией на нее, смерть или угасание искусству не грозит, пока жив человек.
Театр вещей
Я потрясен действительностью, ее неповторимым многообразием. Я убежденный натуралист, меня одинаково потрясают картины Матисса и коричневая бабочка с оранжевыми “глазами” на крыльях. Меня потрясает куча осенних листьев, и не все, а каждый. Что-то они мне напоминают. Ох эти аналогии! Объеденная косточка – целая судьба. Я уверен: вещи одушевлены. Они будто бы знают, для чего они созданы, что-то чувствуют, за что-то благодарят. Например, гвозди любят, когда их забивают или выпрямляют. Я всегда выпрямляю гвозди. Веник сердится, когда его уткнут в угол и он загибается, а не висит на гвоздике. Я уж и не говорю о кистях – я просто слышу “тексты”, которые они мне шепчут, если я их плохо вымыл после работы.
Вещи отражают человека, его потребности, причуды, вкусы, время, моды, материальный уровень, мастерство. Вещи – символы времени. Поэтому они тяготеют друг к другу в своем временном “регионе”.
Вещи – характеристика их обладателя. Человек привыкает к вещам, он их может любить или не любить, беречь или выбрасывать из своей жизни. Как в отношениях с себе подобными. Для меня лично окружающие меня вещи, предметы многое значат. За каждым – своя история, неизбежно связанная с историей и историями моей жизни.
Вот, например, моя мастерская на Фрунзенской набережной с окном на Москву-реку – близко, через два дома от моего – очень это удобно! Любой час – твой. Мастерская, правда, маленькая, всего 18 метров. За водой (а я “водяной” художник) приходится выходить по коридору в ванную комнату. Но, получив ее, я не верил своему счастью! Зато, пожалуй, впервые поверил, что я настоящий художник.
Мольберт еще в военное время по моему эскизу изготовил столяр в городе Слободском под Кировом – мы там были с фронтовым театром, играли в госпиталях для раненых. Это мольберт-тренога, он уборист: сложил – и к стенке. Мольбертик для начинающих, его “фасон” я заприметил еще в 1926–1928 годах, когда учился в техникуме на Сретенке. В 1980 году я купил у жены Иогансона дубовый мольберт, двухсторонний, на роликах, с механизмами для установления наклона картины и для подъема и спуска. Но работать за ним не смог. Я представил себе, как обидится мой старикашка-мольбертик. “Да ни за что!” – сказали мы с ним вместе. И на душе стало легко. Мольбертик я только периодически чищу, красочную грязь соскабливаю. Сейчас ему сорок пять лет. А большой использую для показа на нем своих работ.
Так вот, мольберт я ставлю так, чтобы свет на картину, стоящую на нем, падал как бы через мое левое плечо и не создавал тени от головы на холсте. А относительно мольберта создавалась прочая меблировка мастерской. Рабочий стол – большой, с ящиками, на котором делались чертежи при планировке спектаклей, в которых много смен декораций: надо хорошо знать возможности каждой сцены и “мечтать” на их основе.
Здесь же хранится множество красок. Масляные краски, гуашь в десятках стеклянных банок и баночек, наборы темперы, казеиновой и поливинилацетатной, коробки и россыпи акварели, пастели и уголь прессованный и жженый, сангина и мелки. Бесконечное количество флаконов и пузырьков с лаками, растворителями, маслами, тушью и фиксативами. Бешеное, безумное количество кистей: колонковых, беличьих, щетинных – разных размеров, разной “сработанности”. Сработанная кисть в большинстве случаев предпочтительней новой.
Линейки, муштабели, карандаши всякой твердости, резинки и пр. Бумага разных размеров, сортов и цветов. Картон. Ткани – холсты, простынное полотно и цветные куски ткани – фоны для натюрмортов. Бесконечное количество папок. Что в них лежит – в большинстве случаев я не знаю. Газеты, журналы и блокноты в огромном множестве! Вот в блокнотах, которые ношу в боковом кармане пиджака, очень много замечательных и забытых сведений о жизни, зарисовок и записей. Цены им нет!
Кисти стоят в керамических банках, пучки кистей торчат из них, как взрыв. На трех простенках мастерской я повесил довольно крупные зеркала – метр на восемьдесят сантиметров. Они “раздвигают” пространство мастерской.
И наконец собственные работы, число которых постоянно растет. Если верить книжке В.И. Березкина[7] о моем творчестве – а в ней пронумерованы все более или менее значительные работы, – то их на 1977 год было тысяча четыреста восемьдесят шесть. Ну, часть работ, как принято говорить среди художников, ушла. Уходят они в музеи и другие собрания. Но уходит-то их не очень много. А остальные просто берут тебя за горло. Где их хранить?
Акварель и рисунки на бумаге – это еще куда ни шло! Ну а если работы написаны на холстах, натянутых на подрамники, минимальная толщина которых три-четыре сантиметра? Сто работ, стоящие на полу друг за другом, займут не менее пяти метров. А ведь их сотни, а не сотня. Кроме работ – засилие рам для них, в основном белых со стеклами. А они еще менее “убористые”, чем сами работы. Вот мы и громоздим в мастерских всяческие полки и антресоли.
А ведь художнику обязателен, категорически обязателен “отход” от работы, то есть возможность посмотреть на нее не вблизи; желательно, а для меня обязательно отойти метров на пять – восемь. Я из своей первой маленькой мастерской частенько выносил работу в коридор, ставил ее у двери соседа, художника Преображенского, а смотрел на нее от двери художника Никича. Только маленькие работы не требуют отхода. И смотрят работы сначала издали, а потом очень близко, как бы “нюхают” их. Технология, мазок, фактура – все интересно.
Так вот, чтобы спастись от половодья работ, я их срезаю с подрамников и приклеиваю к картону в размер работы. Храню в пристенных ящиках-пеналах, как колоду карт. Одна стена, которая при работе находится за моей спиной, вся завешана множеством памятных сувениров. Они не имеют никакой цены, кроме цены памяти. Всякие пустяки, своеобразный предметный дневник моей жизни.
Вот фотографии моего детства: дед, бабушка, мы – дети, тетки, одетые по моде начала нашего века. Парусиновая женская рукавица с приставшим к ней куском оплывшего черного вара, которую я подобрал на стройке Камского автомобильного завода. Черный парижский автомобильный номер с тиснеными цифрами, подобранный на уличной свалке в Париже. В это время там бастовали мусорщики и город был завален мусором. Кусочек фанерки от макета ракеты работы Н.А. Шифрина с написанным на нем пейзажиком, рисуночек и фотография замечательного художника театра Бориса Волкова, который ко мне захаживал. Фотография Завадского, сухие цветы и масса всего прочего, нужного только мне. Да, вещи, предметы – это такие же маленькие новеллы о твоем прошлом, язык которых можешь понимать, к сожалению, один ты.
Краски, работы, сувениры – вещный мир мастерской. Но ведь есть же еще инструменты, без которых не сделаешь макет. Ну это фантастика! Вот тут и начинается: сверла, коловороты, зубила, отвертки, молотки (разные), клещи, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, напильники, рубанки маленькие, металлические и деревянные, столярные ножи и ножницы, шпатели, пилы-ножовки, пилы со съемным полотном, лобзики и пилки к ним, струбцины, шила, инструмент для резьбы по дереву и точильные камни… Наверное, еще не все. И тут ничего нет лишнего. Можно, конечно, все “наковырять” одним, допустим, ржавым гвоздем, но это не работа. Работа – это когда все ладится и ты любуешься сделанным. И это не зазнайство или самолюбование – это награда за труд.
Вот в таком вещном мире и приходится жить. И надо знать, где что лежит! Как учил нас, детей, отец: “Во всем должна быть система”, “Взял – положи на место”. Иначе начнется такая игра в прятки, что рано или поздно попадешь в сумасшедший дом. Для вещей это любимая игра! Они мастера “уходить в бега”, а страдает лоб хозяина – он звонко хлопает себя по нему и сокрушается: “Ну куда я ее дел?”
“Анатолий Юрьевич, вы не брали у меня пилочку с черной ручечкой, которую я привез из Праги?” “Нет, Александр Павлович, не брал”, – отвечает с вежливейшей, но не без скрытого ехидства улыбкой мой друг и сосед Никич. Ведь вещи “умеют прятаться” на годы! И потом случайно, неожиданно ты ее со стыдом находишь и тихо, приподнимая брови, произносишь: “Вот она”. И вспоминаешь заветы юности: “Клади на место”! Простите за столь подробное описание “мелочей жизни”, но они очень важны.
Всё документ. Всё интересно. Есть правда времени, есть тема. Сознательно скомпонованный натюрморт превращается в театр вещей.
Рассказами о вещах, а значит и о людях, считаю некоторые свои натюрморты. Лучший из них – “Актер”. Я его “собрал” из вещей, будто бы принадлежавших оперному певцу – тенору. Он был очень хороший певец и актер. Вот цилиндр и кожаная коробка для него, на которой наклейка из миланского отеля и открытка с фотографией театра, где он, очевидно, гастролировал. Вот ноты оперы “Паяцы” Леонкавалло. Фотографии любимых актрис и актеров, костюмы – фрак и визитка, головные уборы и, конечно, знаменитое канотье. Белое кашне, белые перчатки, трости, крахмальные жесткие воротничок и манжеты. Свечи в бронзовых подсвечниках, часы, гримировальная коробка, шкатулка, баллон для газирования воды и маленькая рюмочка с коньячком и долькой лимона. Все это сгруппировано возле, над и на гримировальном столике актера. В глубине просматривается зеркало – какой же актер без зеркала. Сейчас утро; очевидно, этот натюрморт остался после успешного вчерашнего спектакля. Закулисный мир актерский я хорошо знаю и люблю.
Так же собраны и “поставлены” натюрморты “Актриса” и “Реквизит”. В натюрморте “Актриса” мне нравится, как у меня получилась коробка с гримом – очень верно. Реквизит же для натюрморта этого же названия я откопал, почти буквально откопал, в запасном складе реквизита в театре на Малой Бронной. Оттуда и скрипка с оборванными струнами, и “кушанья” из папье-маше…
С тех пор как я стал избираться и назначаться в общественные организации Союза художников, Художественного фонда СССР и Министерства культуры, мне приходится часто и подолгу убивать время на всяческих заседаниях, долгих и, правду сказать, чаще всего скучных. Большинство присутствующих тоже не способны выдержать всю программу заседания. Повестка дня как бы пробуксовывает, выпадает, не доходит до внимания. Начинают засыпать, перешептываться, сидят с отсутствующими лицами. Художники в большинстве случаев рисуют. И чертей каких-нибудь, и просто полосочки, квадратики, профили или наброски с окружающих, а то и целые графические композиции – хоть сейчас в раму! Иногда дарят их друг другу, а заседание идет! Но если обсуждают “жгучие” вопросы – какие страсти разгораются! Как люди сидят, как держат руки и пальцы рук, как подпирают голову, как курят! Одна пепельница с окурками чего стоит. И то, что я пишу сейчас, – не ехидство, а правда жизни. Люди есть люди…
Я увлекся этим “жанром” и написал серию работ на тему заседаний – и буду ее продолжать. Работу, которая называется “Множество вопросов”, считаю одной из лучших своих. Реквизит заседаний: микрофоны, бутылки “Боржоми”, стаканы, листки бумаги, часы, карандаши, букет цветов, зеленая, синяя или красная скатерть, мебель. Как стоят стулья, позы людей, взгляды, очки – очень все интересно. И чем это не театр?
Балбетки
В 1976 году я увидел как-то среди “натюрмортного барахла” точеную деревянную толкушку, пестик – кухонное приспособление, с помощью которого из, например, целых вареных картофелин делают пюре. Какое деликатное слово – “пюре”. Первый раз в жизни пишу его.
Толкушки существуют повсеместно. Видел я их и в Италии, и во Франции, и в Афганистане. Уверен, что есть в Японии и в Африке. И конечно, в Греции, ведь “в Греции всё есть”! Толкушки высотой обычно двадцать – тридцать сантиметров, они “умеют” стоять. Такая толкушечка напомнила мне фигурку женщины в широкой юбке до пят. Батюшки, да это какие-то человечки, племя какое-то! Деревянное племя! Назвал я их балбетками. Есть же слова “баклуши”, “бирюльки”, “баклажка”. Наверное, производное от них! Слово это вскочило мне в голову вдруг, в одну секунду, когда я подходил к своему комодику, в котором держал инструменты и краски. Я тогда их уже рисовал – и вот, пришло ко мне их имя.
Теперь, мне кажется, имя “балбетки” известно большему числу людей, чем мое собственное имя и отчество. Конечно, не сразу к ним привыкли. Но если бы вы знали, какое наслаждение, бескорыстное, чистое, доставляет воображение, поселяя тебя в бесхитростный мирок балбеток. Это мой личный театр. У К.С. Станиславского есть замечательная посылка – “предлагаемые обстоятельства”. И я, драматург, режиссер и художник – всё в одном лице, сам определяю обстоятельства, место, время и смысл действия и рисую, “оформляю” свой спектакль. А балбетки – моя труппа.
Я почти как ребенок играю в эту игру. А что, если они в Сибири? А что, если в приморском парке? Перед казнью? А что, если балбетки – модницы или “живут” в русской избе, или в старом провинциальном городе, или на курорте Средиземноморья, или они монахини старинного итальянского монастыря? Какая же это прелесть – “поселиться” в мире воображения. Так хорошо бродить по этому тихому миру образов, красок, вымышленных персонажей!
Например, “Балбетки в деревне”. Вот они на столе в деревенской избе. Рождается ряд соответствующих ассоциаций. Петух на заборе квохчет, герань на окошке, куст сирени, на столе – мельница для кофе, потому что и в деревне пьют кофе. Полуструганый старый стол, зеркало, в котором открывается отражение. Кровать с розовым пикейным одеяльцем и подушечками, аккуратно прибранными. Кот. Страшно интересно, когда фантазию пробуждают вот эти предметики. Куколки начинают жить живой жизнью.
А вот “Балбетки в приморском парке”. Я же четко знаю, что балбетки непьющие, что они вегетарианцы. На зеленой лужайке они расстелили под старыми деревьями белую скатерть. На ней апельсины и яблоки. Балбетки стоят вокруг, а в стороне двое: он и она, и он закрывает балбеточку от солнца, и они идут по зеленому лугу. В конце аллеи – пляж и море…
А недавно ко мне пришел режиссер и сообщил, что ставит спектакль, где статистов решили сделать балбетками. Вот какая произошла вещь – вымысел мой оказался “заразным”! Искусство творит саму жизнь, и художественный образ в сознании людей становится иногда новой реальностью.
Почему же существует такая словесная связка, как “правдивая фантазия”? Как это так? Чувство правды мы черпаем из нашего жизненного опыта, из памяти о нем. Слово ПАМЯТЬ пишу большими буквами. Это экстраординарное явление в человеческой психике. Это “приспособление”, работающее помимо нашей воли или с ее участием – неважно. Важно, что мы выборочно, не всё подряд, фиксируем, откладываем впечатления в какой-то сектор мозга и души.
Каким образом?! Кто там сортирует, кто командует, что класть туда, а что нет? Память! Важнейший, кардинальный фактор в жизни художника, позволяющий при его наличии творить и – при плохой памяти – тормозящий творчество.
Для театрального же художника память-фантазия решительно, обязательно необходима в работе. Одной памяти недостаточно, по-моему. Воображение, вскормленное реальной действительностью (а иначе не бывает), становится неким существом, живущим самостоятельной, не связанной с нашим сознанием и волей жизнью. Я не знаю, когда отдыхает воображение. Например, когда мы спим, оно показывает нам сны. Правда, они часто забываются. Трудоспособность воображения и фантазии невероятна! Обладать фантазией необходимо не только художнику, но и всем, кто будет воспринимать его творчество. Живопись, театр, да и литература всегда рассчитывают и на фантазию зрителя.
Живописные портреты
Самым сложным жанром в живописи я всегда считал портрет. Первый портрет (бабушки) я написал в 1926 году, а второй – артистки Агамировой – уже в 1976-м! Перерыв ровно в полвека! Вот только когда я смог с нужным запасом умения начать писать портреты.
Сейчас 1986 год – десятилетие работ о людях. Итак, портрет. Чаще всего, как мне кажется, художники начинают писать их с себя – меньше риска опозориться при свидетелях. Я несколько автопортретов написал, штук шесть. Удобно: модель всегда с тобой!
Больше всего ценю автопортрет 1976 года – “Автопортрет с балбетками”, которыми был увлечен в те годы. На нем написано с натуры только одно мое лицо. Все остальное: красное кресло, стол, ширма, ветвь яблони, дальние березы, виднеющиеся позади ширмы, и конечно, балбетки, морда моего скотчтерьера Гамлета, в быту Гамки, погибшего под колесами мотоцикла с коляской, – все-все написано по воображению. Этот немного иронический портрет я люблю. Я там с бантиком, в белых перчатках и в черном сюртуке.
В 1985 году создан автопортрет под написанным в углу работы латинскими буквами названием “Мы в загранке”. Там я стою во весь рост в модном пиджаке, в шляпе и в светлых замшевых перчатках, правой рукой обнимая балбетку, “выросшую” до моего роста. Фон – “заграничный”, написанный с рисунка пером, сделанного в Югославии. На берегу небольшого бассейна, обложенного светлой плиткой, сидит рыбак во фраке и цилиндре и ловит удочкой рыбу. Вот такая странная фантазия. На шляпе у меня за лентой перышки, как принято, кажется, у швейцарцев. В правой руке – кисть со следами краски на кончике. Дескать, смотрите, я художник! Озорство, шутка? Hо без умения, без ви́дения этой шутки как бы в действительности написать ее нельзя! Да здравствует воображение!
Сейчас увидел сизого голубя у себя возле ног и понял, что надо его приписать! Хорошо будет. Хорошо ли? Не получился бы символ.
Только один автопортрет – кажется, первый – написан на “нормальном” фоне, то есть на темно-коричневом, ничего не изображающем. Фон – он и есть фон.
Писать портреты других людей я начал с молодежи, особенно женского пола. Какая прелесть – юность и молодость! Интересно, что человек, его тип, манеры, выражение лица и само лицо вызывают по неведомым путям ассоциаций некий образ, конечно, похожий на позирующего тебе человека, но или одетого иначе, или живущего словно бы в другой эпохе или в другом месте, в другой обстановке. Опять театр, его закон о перевоплощении.
Так, молодая актриса Т. Ромашина, работающая сейчас на телевидении, превратилась в боярыню в кокошнике. Портрет этот находится в художественном музее Ульяновска. Зав. кабинетом декорационного искусства ВТО в Москве Анаит Оганесян “превратилась” в очень дорогую гадалку: я изменил все ее одеяние и реквизит вокруг нее, поставив перед ней керамическую курильницу и другие предметы. Я датировал эту работу 1878 годом вместо 1978-го, когда на самом деле она была написана. Это, конечно, ироническая, всем очевидная шутка. Было и много портретов документальных – скажем, портрет Т. Гутник. Он передает все верно, прибавлено только перо на шляпке.
Особняком стоят портреты, выполненные по памяти. Я, собственно, не знаю, как это делается. Не использую ни наброски, ни фотографии, только память. Но это не значит, что я всех могу нарисовать, кого видел. Нужен какой-то толчок, что-то в человеке должно поразить, чтобы привести в действие механизм запоминания.
В принципе, ведь мы все друг на друга похожи, как в детском стишке: “Точка, точка, запятая, вот и рожица кривая”. И все же чуть-чуть разнимся друг от друга. Но, оказывается, это гигантское различие! Да, мы схожи по характерам и темпераментам: пикники, астеники, сангвиники и т. д. Но природа разрешает каждому сказать: я единственный. Казалось бы, звучит тщеславно. Однако не обязательно на дне каждого спит, свернувшись калачиком, гений – надо лишь до него добраться и разбудить. Там может “дремать” и мошенник, и враль, и лентяй.
Так или иначе, работа над портретами всякий раз возвращает меня к мысли об уникальности каждого человека. Мы ведь в большинстве случаев, глядя на портреты конкретных людей, узнаем не только их имена и лица, но и манеру художника, написавшего этот портрет. А мне не хотелось бы “разбавлять” портрет собственным “я”. Хочется максимально бережно передать внутренние и внешние особенности человека.
На первом написанном по памяти портрете я запечатлел художника Большого театра Валерия Яковлевича Левенталя – человека необыкновенно интересного, педагога, живописца и художника сцены. Он как-то раз подбросил меня на своей машине к мастерской, и лицо его стояло у меня перед глазами.
Пришел я в мастерскую, взял холст 60 × 50 на подрамнике, поставил его на мольберт – и начал писать Левенталя с букетом цветов, будто подаренным ему в день удачной премьеры. Писал его часов шесть – восемь, в два сеанса.
Однажды, много времени спустя, он был у меня, и я показал ему его портрет. Реакция оказалась очень сильная и очень лестная для меня. Портрет этот висел в Академии на моей выставке. Никто и не усомнился в его сходстве с оригиналом.
Так же я написал и портрет одной из одареннейших женщин нашего времени – Татьяны Ильиничны Сельвинской, дочери замечательного советского поэта Ильи Сельвинского.
Татьяна Ильинична исключительно одарена в живописи, поэзии, прозе и педагогике. Самое сильное, что она делает в живописи, как мне кажется – не кажется, а я в этом уверен, – это портрет! Поразительно, что она подчиняет портрет своей творческой воле. А эта творческая воля такова, что сумела сотворить легенду о нас, людях. Не людские “дубли” на плоскости – поэтическое иносказание о человеке. Как поэма, как балет, как опера являются иносказаниями о жизни людей, так портреты работы художника Сельвинской являются поэтическими иносказаниями о портретируемых! Замечательна ее трактовка цвета человеческой кожи, цвета лица. Кажется, что они, лица эти, вырезаны из кости какого-то сверхмамонта рукой мощной, твердой, уверенной. Эта рука опускает мелочи рельефа, ее интересует главное. И цвета этой кости то темнеют, то светлеют почти до белого тона, оставаясь плотными, как плотна сама фактура кости!
И мой портрет этой художницы, написанный по памяти, отражает в какой-то мере не только ее внешние черты, а и манеру живописи, потому что я писал его, словно бы взяв взаймы ее “руку”.
Итак, моя память, воспитанная театром, верно мне служит в образном мире.
Есть у меня серия работ под названием “Отшельники”. Встречаются люди, чьи лица, их выражение не соответствуют ситуации, в которой они в данный момент находятся. Отсутствующее выражение лица, безразличие к окружающему, пассивность. Что это, отсутствие энергии или “принципиальная” позиция? Мне они не по душе, хотя и очень интересуют.
“Отшельник Боб” живет теперь на “необитаемом острове” и, раскладывая пасьянс, вспоминает бурное прошлое. “Зоя” живет за забором, торгует цветами. Отшельник Боря бескорыстен, любит зверушек, и они его…
Много портретов я написал с натуры. Но окружение портрета, его фон всегда были разные. Вот портрет мадам Кройер, жены посла Исландии в Советском Союзе. Я написал на ее на фоне исландского пейзажа, как я его себе вообразил.
Артиста Ростислава Плятта, с которым я проработал много лет в одном театре им. Моссовета и отлично знал, написал на пустой сцене во время репетиции, внимательно, с лукавинкой внимающего кому-то.
Мне нравится мой портрет крупного нашего режиссера, главного режиссера театра им. Ленинского комсомола, с которым я сделал несколько спектаклей, Марка Захарова. Он сидит за столом, подперев подбородок сцепленными руками. На столе – наручные часы и стакан с водой. Глаза его светлые, зеленоватые, думающие, смотрят перед собой.
Нет, нет, не одни радости приносит занятие искусством! Есть же “муки творчества”! Но я работу в искусстве вместе с ее муками не променяю ни на какие иные дела и всегда думаю: какое счастье быть художником!
Люблю портрет моего брата Петра. Сейчас он бородатый и часто носит синюю джинсовую куртку. У меня он сидит за столом, как бы за натюрмортом из очаровательных цветастых вятских глиняных игрушек, лошадок, баранов и матрешек. Он собрал большую коллекцию этих замечательных творений народного искусства, необыкновенно радостных, светлых, наивных, будто сделанных руками ребенка.
К сожалению, как я теперь понимаю, вспоминая себя в прошлом, я перед многими образами, неясно возникшими ощущениями закрывал дверь, не пускал их на порог, предпочитая “визитера” от логики и рассудка. Вот он частенько и судил согласно “своду законов” на “данном историческом этапе”. И вижу я себя перышком в русле ручейка, плывущим, подскакивая, по течению. А так оно и есть! Кажется мне, что жизнь – это узенький ручеек с каменистым дном и со стремительным течением! Вот и несет тебя… Однако в лучших случаях удается противостоять течению.
Каждое лицо – событие! Каждое! И мне бы хотелось написать миллионы портретов, и все разные! Человеческое лицо – это целая страна!
Вот что касается моих живописных портретов. Но в памяти моей – люди, вошедшие в меня и мою жизнь навсегда. Я их не писал, но я написал о них. И первый среди них – Юрий Александрович Завадский.
Портреты памяти
Ю.А. Завадский
Первая моя официальная встреча с Юрием Александровичем Завадским состоялась в здании театра Революции (теперь театр им. Маяковского), где тогда гастролировал ростовский театр[8]. В театре не было в то время в штате главного художника, и Ю.А. искал подходящего человека. Меня рекомендовал ему главный бухгалтер ростовского театра Миша Рабинович, знавший меня по работе в старом ростовском театре. С Завадским прежде я не был знаком – и дрожал. Ведь с ним уже работали такие выдающиеся художники, как Пименов, Тышлер, Сарьян и другие.
Мы встретились в полутемном зашторенном директорском кабинете, и он задал мне вопрос: “Что вы считаете главным в работе театрального художника?” Примерно такой же вопрос мне задал мой первый главный режиссер, приглашая на сезон в Читу. Я ответил: “Образ!” “Верно”, – сказал Завадский и тут же дал мне пьесу Б. Войтехова и Л. Ленча “Павел Греков” с просьбой через два дня принести эскизы.
Это было лето, а эскизы я делал в комнате моего соседа по жилью, артиста МХАТа В.М. Дамского, который уехал с театром на гастроли.
Стояла ужасная жара, и меня донимали мухи. Окна выходили во двор, а двор глубокий аркой ворот глядел в Банковский переулок, сообщающийся с улицей Кирова. Два верхних этажа этого дома были общежитием МХАТа. В нем жили актеры и другие работники театра, так что спасения от театральных разговоров не было. А спасения никто и не хотел! Так было интересно: Грибов, Яров, Блинников, Конский, Рыжов, Готлиб, Пятецкая… Очень много хороших актеров и интересных людей.
В первом этаже дома был магазин “Рыба”. Это было очень удобно, но его черный ход выходил в наш двор (между прочим, с фонтанчиком, который никогда не работал). А из черного хода на помойку выбрасывались горы всякого торгового мусора, воняющего рыбой, и отходов самой рыбы. Ну а мухам – лучшего не ищи.
Эскизы я тогда делал быстро, акварелью, маленького размера. От размера спичечного коробка до папиросной коробки.
Планировка сцены, полученная от театра, ошеломила своими размерами. Шутка сказать – от портала до портала восемнадцать метров. Почти вдвое больше обычных сцен драматических театров. В пьесе были сцены, требующие сжатого пространства, например купе вагона. Как “купировать” это большое пространство? Трудно было поначалу освоиться с ним. Но эти “неудобства” рождали и неожиданные решения.
Ю.А. понравились эскизики, и он распорядился сделать макет. Я его сделал дома, на Кировской, и отправился в Ростов, к новому месту работы. Мука была с огромным макетом – как я его всунул в вагон, один бог знает.
Труппа театра была великолепной: Марецкая, Мордвинов, Герага, Леонидов, Левицкий, Максимов, Алексеева, Денисов, Шатуновский, Валевская… Молодые, честолюбивые! Составленный из актеров московской студии Завадского и части труппы ростовской, театр помещался в огромном новом здании в районе, называемом Нахичевань. С парком, с площадью перед фасадом. Чудо! Из-за специфических очертаний фасада театр получил прозвище Трактор, которое бытует и по сей день.
Роскошные гримуборные с умывальниками. За парком, прилегающим к театру, находилось здание, где в хороших квартирах жили актеры.
Итак, макет. Первой картиной в пьесе была сцена на строительстве какого-то крупного объекта. Изображался глубокий обширный котлован с огнями сварки, кранами и прочим. Эффектный макет, освещенный лампочками от карманного фонаря. Когда я сдавал его художественному совету театра, В.П. Марецкая спросила: “А что строят здесь?” Я совершенно серьезно ответил: “Стройка секретная, и поэтому я вам, Вера Петровна, ответить на этот вопрос не могу, не имею права”. Очень понравилось!
На сцене все получилось хорошо. И я оправдал рекомендацию Миши Рабиновича. Мне было двадцать восемь лет, я был полон сил и энергии, страстной любви к театру и творческого бесстрашия. Великий вопрос искусства “а что, если?” с наслаждением подхватывался фантазией, и воображение пировало за столом творческого изобилия.
Завадский был в прекрасной форме. Репетировал яростно. Его столик в центральном проходе огромного зрительного зала стоял довольно далеко, чтобы лучше видеть всю сцену, ряду в двенадцатом-пятнадцатом. Он очень выразительно жестикулировал при разговоре, и, чтобы это вспомогательное слову средство не пропадало в полутьме зрительного зала, Ю.А. распорядился изготовить и поставить позади себя белый квадратный экран. На столе лампа с направленным на его фигуру пучком света. На экран падала четкая тень. Таким образом, актеры видели всю динамику чувств режиссера как бы в графической форме.
Ю.А. был очарователен, в расцвете сил и красоты. Стройный, высокий, любезный. “Какие у вас будут соображения по этому поводу?” – говаривал он, сохраняя и не забалтывая великое слово “идея”. Идею произведения как понятие, как мысль находят довольно легко. Трудна конкретизация этой мысли на сцене, ее воплощение. Вот он и отыскивал в этих соображениях способ конкретизировать идею. Мог ответить: “В сущности, это ни о чем не говорит”. Сущность произведения – понятие чрезвычайно сложное, быть может, лежащее вне его. Это окружающее его, “кормящее” его пространство реальной жизни, действительности. Неужели в слове “действительность” его корнем является “действие”?! Тогда вообще потрясающе! Тогда всё театр! И знаменитый действенный анализ пьесы самый истинный, самый правдивый. Действие есть следствие потенций материи и человека.
Наши декорации к спектаклю были эмоциональной реакцией на события пьесы и на среду ее обитания в действительности. Реакцией, опосредованной опытом театра. Мы делали то, что заставляли нас делать время и уровень нашей культуры и наших способностей.
Ю.А. Завадский по своему характеру и психофизическому устройству был лидером. Ему верили легко, с удовольствием подчинялись, выполняли его волю. Я верил ему очень. Ведь он, кроме своих режиссерских талантов, обладал талантом художника. Прекрасно рисовал с натуры, особенно головы людей. Со всех сторон: анфас, профиль, сзади. Рисунки небольшие, сантиметров десять. Рисовал он тонко заточенными и новыми карандашами (редко цветными). Огрызками – никогда. Приходил на репетицию с пачкой новых желтых карандашей в левой руке и пачечкой нарезанной бумаги (половинки стандартного листа) в правой. Рисовал легко и изящно. У него было два наиболее типичных стиля. Строго линейный рисунок очень тонкой линией (поэтому ему нужно было иметь под рукой много остро заточенных карандашей). Или же он рисовал мягкой, более или менее широкой линией. Тогда держал карандаш всеми пятью пальцами, как бы сверху, и рисовал не кончиком графита, а всей его плоскостью. Прекрасное чувство натуры, сходство, изящество и верность пропорций – вот отличительные черты его рисунков.
Рисовал он и по воображению, особенно лица – гримы будущих персонажей. Превосходно гримировал и явно любил это делать, особенно в предпремьерные дни. Дальше грим уже повторял либо актер, либо гример.
К большинству актеров и актрис Завадский обращался на “ты”. Ко мне – на “вы”. Никогда не делал замечаний, во всяком случае серьезных, при посторонних. Если хотел высказать что-то, поругать, поспорить, то отводил куда-нибудь в сторонку, обычно в конец зрительного зала, и, взяв мягко за локоток и указывая на сцену, говорил: “В сущности, это у вас не очень получилось”. Это уже был гром. Или – разгром. Так, помню, было с декорациями к “Первой весне”, уже в Москве.
Мне кажется, что Завадский не любил светло-зеленый цвет, а может быть, это мне спасительно кажется. К спектаклю “Первая весна” был сделан по моему эскизу из легкой ткани светло-зеленый суперзанавес. Он словно олицетворял весну и ее краски. При контражурном (сзади на просвет) освещении и подсвете спереди он, ей-богу, выглядел хорошо. Но, очевидно, банальная прямолинейность “идеи”, слишком “легкое” ее восприятие так взбесило Ю.А., что он и сказал: “Это у вас не очень получилось”.
За год с небольшим, от конца 1939 года до начала страшного 1941, театр в Ростове осуществил (с моим участием) постановки “Павел Греков”, “Лев Гурыч Синичкин” (водевиль XIX века), “Чужой” (современная пьеса), “Богдан Хмельницкий”, “Дети Ванюшина” (пьеса Найденова из купеческого быта), “Захватчики” Г. Вангенхейма (об оккупации фашистами европейских стран), “Фельдмаршал Кутузов” В. Соловьева и “Весна в Москве” В. Гусева. Кроме того, театр выезжал на гастроли в Сочи и Кисловодск. Каково!
На этой гигантской сцене в “Богдане Хмельницком” – множество костюмов, оружия, знамен, кольчуг. Кольчуги – ну как их сделать, чтобы в них поверили? И чтобы в них поверил я?
Одна женщина, хорошо вяжущая на спицах, взяла две щепки, довольно толстые, немного подстрогала их ножом и из толстого сурового шпагата на моих глазах быстренько связала кусок “кольчуги” размером с носовой платок. Я ахнул. Побрызгал коричневым, протер серебром, и… кольчуги вязал “весь” театр. Актрисы, буфетчицы, бухгалтерия, уборщицы. Разумеется, безвозмездно. Дивно вышло. Ребровы, отец и сын, исполнили оружие: пищали, шашки, пики, пороховницы и пр., и пр. Обувь с загнутыми вверх носами, шапки, свитки, парики “под горшок”, вышитые рубашки, кобзарь с бандурой, множество шаровар, кушаков – на все надо дать рисунки, размеры, цвета.
Приподнятый планшет сцены был покрыт огромным, сплетенным из лозы половиком – плетнем. Его сплели тоже в театре. На окружающем сцену заднике была написана перспектива Днепра, а длина этой панорамы – двадцать восемь метров!
“Захватчики” потребовали изучения мундиров гитлеровцев. Где взять? Всё трудно. Покрой специфически задранной вверх гитлеровской фуражки замучил.
Декорации из современной действительности Запада. Как ее узнать? Где найти?
“Фельдмаршал Кутузов” – казаки, драгуны, гусары, генералы, маршалы, треуголки, шинели с пелеринами, перья, кокарды, оружие, фуражки зеленые – русские, синие – французские, ранцы. Бородинское сражение, пожар Москвы, бегство французов через снега и леса, партизаны, Наполеон в кремлевском тереме, Кутузов, совет в Филях… Совет в Филях мы сделали по картине А.Д. Кившенко. На переднем плане сцены был установлен белый, под камень, дорический (с колоннами по бокам) монументальный портал, над карнизом которого шел фриз из барельефных сцен о войне 1812 года: битва под Смоленском, под Красным, Бородином, пожар Москвы, Березина. Все вылепили мы с Ребровым.
Я думаю, что трудовое законодательство всегда было недействительным в театрах. Никто ничего не “приписывал”, не “нагонял” часы в табеле. Просто – трудовой порыв, легкий, естественный.
Бывали еще гастроли, мучительные для постановочной части. Гастроли на маленьких по сравнению с ростовской сценах, где декорации не вмещались. Их резали, кромсали. Зрители-то не знали, как должно быть на самом деле! Курортная публика, запах духов, полон зал, актеры, актрисы, слова, музыка, аплодисменты, милая соседка… Почему мы не падали с ног, “проворачивая” такие объемы труда? Где бралась кипящая энергия – у молодых, пожилых и стариков?
Центром и лидером всего этого кипения, главным направляющим нашей творческой энергии всегда был Юрий Александрович.
Счастливая жизнь в Ростове была прервана войной. С Завадским, уже в Москве, я проработал еще двадцать лет в театре им. Моссовета главным художником. Помню, с каким увлечением мы работали над своего рода трилогией – “Дали неоглядные”, “Битва в пути” и “Летом небо высокое”. Это были спектакли о современности, о ее людях и их героических деяниях в труде. Последний из спектаклей рассказывал о советских ученых, работавших в области науки, связанной с космосом. В оформлении спектакля хотелось создать чистую, светлую и в то же время строгую атмосферу, в которой трудятся наши ученые. Вместе с тем в стилевом отношении мы продолжали развивать и углублять художественные принципы, положенные в основу двух предыдущих спектаклей. Стиль этот присутствовал везде в нашем театре: в режиссерской манере Завадского, в красках и формах нового прекрасного здания театра, в современных синтетических материалах, применяемых на сцене, в приемах театральной светописи. Он был, наконец, в борьбе с натуралистической тяжеловесностью, иллюстративной многословностью – с театральной рутиной. Новые материалы для оформления мы создавали в творческом содружестве с друзьями нашего театра – сотрудниками научно-исследовательского института пленочных материалов и искусственной кожи. Просветная пленка, использованная в оформлении спектакля “Летом небо высокое”, давала широкие возможности режиссуре.
Одна из значительнейших работ Завадского – спектакль “Шторм” по пьесе В. Билля-Белоцерковского, посвященный 40-летию Октября. Это была третья редакция пьесы на сцене театра. В спектакле были заняты великая Раневская, Плятт, главную роль – председателя Укома – играл талантливый Леонид Марков.
Я сделал эскизы костюмов в стиле пореволюционной эпохи, их утвердил Завадский. Они у меня и теперь хранятся. Костюмы уже отдали шить. Оформление было предельно лаконичным – минимум мебели обозначал место действия. Моя миссия, в общем-то, была закончена, надо было просто следить за тем, как все осуществляется. И вдруг у меня возникает мысль, что спектакль должен начинаться с торжественного заседания труппы, которая сидит в своих костюмах, не на стульях, а на ступенях небольшого амфитеатра, на серебристом светящемся фоне – я тогда увлекался обратной проекцией. Создавалось такое странное светящееся пространство, ровный фон, просвечивающий насквозь.
Спектакль должен был бы зарождаться прямо на этом собрании. Вставал актер, начинал прихрамывать, уходил за кулисы, там надевал бескозырку. А Раневской было достаточно накинуть рваный собачий хвост, чтобы превратиться в спекулянтку. Я очень увлекся и решил предложить это Завадскому. С ним такие вещи надо было оговаривать наедине, иначе он нервничал. Юрий Александрович мгновенно загорелся. Я быстро сделал подвижной амфитеатр, который отъезжал от зрителя в глубину сцены и там исчезал, как бы растворялся в странном светящемся фоне. Но только десять спектаклей прошли на фоне иллюминированного задника. Потом Завадский попросил заменить его простым холстом, на фоне которого и играли артисты. Таким образом все внимание предельно переключили на актера. Ушли и исторические костюмы: на одну из генеральных репетиций Марков пришел в своем обычном костюме, и Завадский так это и оставил. Так достигалась особая современная интонация спектакля, выход “напрямую” от событий давних лет и их смысла – в наши дни.
Я это рассказываю, чтобы было понятно, как мгновенно заражался Завадский тем, что уточняло его творческое намерение, как органически он ощущал и понимал суть того, что называется на театре “коллективным творчеством”. Кроме того, этот случай еще раз говорит о том, как сложен и неожиданен бывает путь к спектаклю. Это сложнейший процесс, когда первоначальный замысел вдруг взрывается новыми мыслями, ощущениями, которые раньше ты не мог предугадать. Правда, изменения бывают не всегда к лучшему.
Я никогда не расстаюсь с Юрием Александровичем. В мастерской висит его фотография. Он верил в силу искусства – в бессмертие театра, верил в людей – любовался талантливыми актерами. Труппа театра им. Моссовета, воспитанная Юрием Александровичем, была исключительно талантлива и трудоспособна.
М.Н. Кедров
Не знаю, по каким законам, по каким “предписаниям свыше” складывается творческий характер человека, его способность решать выдвигаемые искусством задачи именно так и только так, как свойственно этому характеру. Знаю лишь, что эта удивительная особенность, отличающая высокоодаренных художников, и есть первейший признак подлинного таланта.
А следствием таланта является и неспособность художника пользоваться “проверенными” и вполне “качественными”, “образцовыми” ответами на многие вопросы искусства, хотя он великолепно их знает. Просто эти ключи-ответы не подходят к скважине его творческого замка. И получается такая ситуация, когда всем все ясно, а ему почему-то нет.
“Михаил Николаевич, так ведь это же очевидно, бесспорно”. “Вроде бы очевидно, а вроде бы и нет…” – отвечал он.
И стоило потерпеть, стоило не спешить с затыканием пробоин незнания – и действительно, очевидное начинало выглядеть штампом, в лучшем случае – приблизительным ответом, приблизительным решением. Вот тут-то и начинается “кедровское”. Приблизительное, как фальшивый пятак в автомате метро, не принималось его интуицией, настроенной на точность. Точность определения цели, ясное ее видение, а быть может, ощущение цели и бескомпромиссная работа для достижения ее – вот, как мне кажется, главная черта его творческого характера. А сила его таланта заключалась в верности поставленной цели, правильности стратегического замысла спектакля, ошеломляющей убедительности его творческих свершений. Тонкий психолог, знаток человеческих поступков, видящий человека, как говорят, “насквозь”, он обладал огромной творческой памятью и таким же огромным творческим воображением, дающим ему возможность предсказывать тончайшие оттенки, нюансы психологических и действенных поступков. Он видел очень подробно и в движении. Секунда за секундой, поступок за поступком, малое действие за малым действием, последовательно, терпеливо вел он актера (да и художника, об этом позже) по стезе действия к художественной цели-образу. Образу как следствию действия, как следствию мелких последовательных действенных реакций на окружающую среду для ее коррекции в нужном для персонажа направлении. Вроде бы даже запрещалось или, во всяком случае, не рекомендовалось заранее предугадывать, “кого я играю”. Оппоненты Кедрова – а они были – активно не принимали и не понимали его. Например, театральный художник И. Гремиславский считал, что действовать можно по-разному, то есть в соответствии с характером и индивидуальностью, и что разные характеры действуют по-разному в одних и тех же обстоятельствах, что вроде бы и верно. Но, к сожалению, определение характера с маху, волево чаще всего бывает очень приблизительно, штампованно.
Выверение образа через маленькие правды, действия-поступки – как просеивание муки через мелкое сито, освобождающее ее от случайных примесей ненужных вкраплений. Так вот, оппоненты метода Кедрова и внутри МХАТа, и вне его не понимали, “чего он хочет”. Метод его казался странным, и сам он некоторым из нас казался мелочным, придирчивым: “Сам не знает, чего ему надо”.
Раздражал своим “вроде бы подходяще”. Только “подходяще”. А этого казалось мало, нужны нам похвалы, мы их любим, а тут – “подходяще”! А он и рад бы похвалить, да не мог – мешало его ви́дение. Образ! Образ! Вот самолет летит, говорил он, как просто, летит себе, шумит, быстро, красиво! Да чтобы он полетел, одних винтиков, проволочек, рычажков, трубочек и всяких деталей нужных сколько необходимо! Вот тогда и образ получится, когда все маленькие винтики завинчены, гаечки, трубочки на местах. А если этого нет, то бутафория, пустой вид один, а ковырни – там и нет ничего.
Позволю себе подробно остановиться на кедровском положении о том, что форма предмета, характер человека или предметной среды, им созданной, вообще все материальные структуры и их сочетания обусловлены тончайшими, всё определяющими действенными связями, побудительными токами.
Казалось бы, старая истина: все имеет свои причины. Но у Михаила Николаевича эта вроде бы банальность выглядела чрезвычайно привлекательно. Вот примеры конкретизации этой мысли. Кедров утверждал, что нештампованный, своеобразный, неожиданный, интересный характер того или иного человека возникает в том случае, если актер пройдет по внутренним действенным нитям бытия играемого им персонажа. Характер образуется сам, даже вроде бы и помимо воли актера.
Все это относилось и к работе художника. “Декорация – прежде всего удобная площадка для действия”. Эта его фраза точно мною записана. Вот, например, самовар: какая удивительная, характерная, глубоко индивидуальная форма! И ручечки, и ножка, коронка на “голове”, краник – все блестит-сияет! Не выдумаешь! А ведь его внешняя форма родилась как бы сама – по причине внутренних, действенных, рабочих связей, как их следствие. Надо вскипятить воду – вот “сквозное действие” самовара, суть его “характера”. Михаил Николаевич говорил: внешняя, видимая часть поведения человека симметрична его невидимой части. Сравнивал с деревом. У него ведь две кроны, видимая и невидимая, – корни и ветви. В ветвях, как в зеркале, отражаются корни. Только ветви понаряднее.
Эта мысль о симметрии внутреннего и внешнего очень заразительна, действенна и мне, например, здорово помогает в работе. Она исследует, проникая в суть, как лучи рентгена, в глубину социальных явлений и человеческих поступков.
Но вот тут-то и начинается “закавыка”. Ведь “лучом рентгена” должен стать ты, художник, со своим опытом и способностями, со своей наблюдательностью, эрудицией и памятью. Проникать-то надо действительно глубоко в этот самый внутренний мир – увидеть его ярко, интересно, что не всегда получалось. Это очень сложно, требует особой сосредоточенности и правдивости, быть может, дарования особого склада. В минуты усталости, ослабления творческой воли хотелось послать все “анализы” к чертям и вопить: а где же здесь “свобода творчества” – творческого воображения?! Многие так и вопили!
На самом же деле следовать “кедровскому” можно было лишь при подлинной свободе творческого воображения – свободе от штампов и стереотипов мышления, которые обнаружить в себе чрезвычайно трудно. Они сидят в углах, в тени твоего сознания, как привидения, а затем незаметно выходят, как только ты потерял творческую бдительность.
А чтобы избежать серого документализма, бескрылого правдоподобия, надо видеть и верить в необыкновенность жизни! В ней все фантастически удивительно, даже скука, если она – правда!
Кедров любил жизнь и правду. В “скучных” по теме декорациях к “Глубокой разведке” А. Крона они, режиссер и художник, крупнейший художник В. Татлин, добились необыкновенного ощущения яркой подлинности, правдивости места действия. Дело происходит в Средней Азии. Герои пьесы – нефтяники. В деревянный дощатый затененный барак сквозь щель проникает ослепительный луч солнца, отразившись от таза с водой, в котором стирают белье, он пляшет по потолку и стенам, поразительно точно передавая ощущение жары, зноя. Когда открывалась входная дверь в тамбур, он заливался холодным синеватым дневным светом, будто синее небо заполняло барак. Очень сильно и просто. И точно.
В комнате, уставленной стеклянными банками, пробами нефти и освещенной тусклой лампочкой, открыто настежь окно в черную, как нефть, ночь. Душно. В проеме окна видна одна неяркая звезда. Волнующе правдиво. Точный анализ ситуации, точные экономные средства выражения.
Я до сих пор люблю эту их работу и скучаю, не встречая на современной сцене простых, правдивых, даже бесхитростных декораций, создающих естественную среду обитания для актера. Среду, помогающую воспринимать самое главное в театре – правду.
И “кедровское” в оформлении не противоречило постижению правды – мешать мог недостаточный уровень одаренности того или иного работника, в том числе и художника. “Кедровское” ставит перед художником не только профессиональные проблемы, но проблемы поведенческие, то есть морально-этические, и решать их сложно. Это уже фактор нравственный.
Функциональность требовалась. Ну что ж! Зато не было празднословия, украшательства, “ячества”. Декорация мыслилась как социальная пространственная структура. Результат суммы действий, социальных действий. В декорации кухни “Плодов просвещения” Кедров просил меня показать перила лесенки, ведущей наверх, к господам. “Зачем вам, Михаил Николаевич?” – “А как же, господа-то наверху”.
Постоянная требовательность к точности творческих поступков, осознанность дел, которые ты делаешь, бывали порой тяжелы. Но зато, когда получалось по его, это бывало здорово. Конечно, и актеры были великие. Но и они боролись с этой проклятой театральной приблизительностью, с этой “цепью компромиссов”, как называют театр в интеллектуальных сферах. Кедров добивался от А. Грибова в тех же “Плодах просвещения”, чтобы тот разглядел на плече у С. Блинникова, игравшего второго мужика, микроба. Это был специальный кусок действия, он ошеломлял – своей конкретностью, правдивостью и яркостью. Ведь правда ошеломляет. Во всяком случае, меня.
Это лишь пример. Большинство спектаклей Кедрова были прекрасны. Были. Как ужасен театр. Было – и нет. И никому нельзя ничего передать. Через кино – не то, через радио и телевидение – тоже.
Прошло много лет. Я работаю, к счастью, много. И “кедровское” во мне оставило глубокий след. Потребность в творческой дисциплине, презрение к приблизительности, изумление и почтение пред идейной и философской ясностью, точностью замысла и его воплощения. По-моему, Михаил Николаевич слова “да” вообще не говорил, а вот “нет” – очень часто, и, когда все свои “нет” он скажет, оставалось “да”. Бескомпромиссное “да” и его знаменитое: “Ну, вроде подходит”.
Трудное кедровское искусство. Великое искусство.
В.Ф. Рындин
Когда внутренним оком пытаешься охватить творческую натуру Вадима Федоровича Рындина в ее движении и изменчивости, с ее страстностью, неизменной романтичностью, эрудированностью и гигантской трудоспособностью, то вырастает яркая, я бы сказал, звонкая, очень характерная фигура человека-художника ясно очерченной художественной индивидуальности, сына своего времени.
Вот я пишу “сына своего времени”, а сам думаю, время ли определило творческие склонности Рындина, или, наоборот, яркое созвездие таких художников, как Дмитриев, Вильямс, Рабинович, Волков, Шифрин, Тышлер, Рындин, определило лицо времени этих примерно тридцати лет – c 1930-х по 1960-е годы.
И, не боясь “смешать все в кучу”, ясно различая своеобразие лица каждого из этой плеяды, более того, любуясь по сей день их лучшими творениями, пережившими свое время, нельзя не сказать, что дерево, которое они вырастили все вместе, дерево декорационного искусства одной трети XX века, было деревом романтическим!
Упоминаю искусство Дмитриева с опоэтизированным им миром старой России в декорациях для произведений Островского, Пушкина (опер “Пиковая дама”, “Руслан и Людмила”), Чехова, Горького, Грибоедова. Вспоминаю красивого Вильямса с его “Ромео и Джульеттой”, Рабиновича, выразившего будто бы саму душу Эллады в возвышенной духовности, бестелесности своей великой “Лизистраты”. Вспоминаю летящие ввысь, вдаль, в пространство взволнованные декорации Б. Волкова к пьесе “Рельсы гудят”, казалось бы, такому “земному” произведению. А разве Н. Шифрин в “Укрощении строптивой”, “Сне в летнюю ночь”, даже в “Сталинградцах” и “Поднятой целине” не оставался художником, с изумлением, с высоким поэтическим излучением создающим свои протяжные торжественные композиции? А. Тышлер, позже несколько отошедший от работы на сцене, в те годы создал знаменитую “Тышлериану” – комплекс спектаклей, оформленных им в едином ключе романтического вымысла, прямо связанного не столько с типом драматургического материала, сколько с типом субъективным, свойственным его творческой индивидуальности. И наконец, Вадим Федорович Рындин. Его произведения украшают крону этого творческого дерева. Ветви Рындина нарядны, порой торжественны, заметны издалека. С его уходом была перевернута последняя страница интереснейшей главы книги нашего декорационного искусства. Еще живы старые художники (и я в том числе), творчество которых связано с рассматриваемым мной временем. Но наше творчество уже испытывает влияние нового или диффузию, оно растворяется в ином потоке декорационных идей, в ином типе сценического искусства.
С огорчением скажу, что искусство художника театра несколько противоречиво. Основа противоречия в том, что художник театра работает над темами, спектаклями, приходящими к нему извне, – от театра, режиссера. Художники, как князь в “Русалке”, “не вольны жен себе по сердцу брать”. Конечно, художник, как и актер, обязан вдохновиться новым материалом, как говорят, “зажечься”, “перевоплотиться”. Но ведь можно и не зажечься? Короче говоря, не часто, скорее редко (а бывает, что никогда) происходит полное слияние материала с внутренним “я” художника, то счастливое совпадение интересов, которое и рождает драгоценные произведения искусства, обусловливает тот “пик” душевных сил художника, который и становится вехой его творческой жизни. У театральных художников таких пиков немного, даже “самые-самые” оставляют ряд средних или, деликатно говоря, менее удачных произведений. Вадим Рындин же счастливо и вдохновенно творил. Им создан ряд произведений, совершенно исключительных по своему значению. Он способен был создавать образцы для подражания. Он умело мог начинать. За свои примерно сорок лет творческой деятельности он создал более ста постановок. Это не так уж и много (есть художники с гораздо более внушительным “багажом”), но зато творческих вспышек, озарений было как ни у кого много. В самом деле!
“Оптимистическая трагедия” Вс. Вишневского в Камерном театре. Это совершенно замечательное по многомерности образа решение, связанное одновременно и с драматическим напряжением греческого театра, и с палубой военного корабля, и серыми ступенями Петрограда. Строгое и мужественное пластическое решение, ставшее прототипом для многих сценических постановок. Эта декорация стала типом.
“Много шума из ничего” У. Шекспира – необыкновенно ясная и чистая по решению декорация. С жестко отобранным элементом-аркадой, которая образует легкую прозрачную перспективу с кристальным воздухом. Ничто не мешает актеру быть героем этой прелестной сценической ситуации. Эта декорация тоже стала типом. “Абессалом и Этери” З. Палиашвили: торжественная, очень хорошо архитектурно мотивированная и безусловно романтическая декорация – и она стала типом. “Двенадцатая ночь” Шекспира полна изящества и красоты, спектакль переливался красками. “Молодая гвардия” по А. Фадееву – гимн несгибаемому мужеству советского человека, гимн всепобеждающей силе красного советского знамени. И эта декорация стала типом. Быть может, она предвосхитила еще тридцать лет назад такое декорационное мышление, которое сейчас мы называем действенной сценографией.
“Гамлет”. Это замечательная работа. Лейтмотивом послужили слова Гамлета “Дания – тюрьма”. Объемные, подвижные, окованные металлом гигантские ворота. Эта декорация вошла во все энциклопедии и справочники по театральному искусству. “Ярмарка тщеславия” по У. Теккерею. Декорация, выполненная в виде ярмарочной карусели с замечательно интересным занавесом, изображающим площадь английского города того времени, заполненную шумной, движущейся, жестикулирующей толпой. “Война и мир” С. Прокофьева. Постановка поражала величественностью, эпичностью, чувством величайшего народного подвига. “Дон Карлос” Дж. Верди – оперный спектакль в Большом театре, где Вадим Федорович был до 1970 года главным художником. Декорации к этому спектаклю просто ошеломляли своей грандиозностью, монтировочной изобретательностью. Здесь воплотилась вся сумма энциклопедических знаний Рындина о материальной культуре прошлых эпох. Помню, когда он принес эскизы костюмов к китайской пьесе “Цюй Юань”, мы были поражены глубиной его познаний в области китайского костюма, орнаментики, весьма сложной, затейливой. “Мать”, оперный спектакль по М. Горькому, в котором была создана композиция как бы отлитых из металла знамен, стала приметным явлением в советской декорации. “Октябрь”, “Сказание о невидимом граде Китеже” и другие – все это примеры больших художественных удач. Только этих перечисленных работ достаточно, чтобы прославить не одного театрального художника.
Вся жизнь Рындина была связана с театром, но он никогда надолго не расставался с рисованием и с живописью “для себя”. Он оставил много прекрасных рисунков. Здесь и иллюстрации к Овидию, рисунки на темы произведений Данте. Романтические, в развевающихся плащах всадники на вздыбленных арабских скакунах с крутыми крупами и тонкими храпящими мордами. Серия же ранних рисунков делает ему честь как изысканному графику. Одной из любимых тем Рындина были деревья, особенно сосны. Он создал свое понимание природы дерева – рындинское. Это тревожные, сложно переплетенные пластические композиции. Много выезжая за границу, в Америку, Испанию, Японию, он всегда привозил оттуда законченные рисунки. Конечно, его творчество было творчеством романтика. Если горы, то они должны уходить в дымящиеся облака, если кони – то вздыбленные, если ветки – то ветром перепутанные. Лирический свой дар он воплощал в серии прекрасных акварельных натюрмортов, изображающих полевые цветы в простых глиняных кринках. Он был большим знатоком театральной живописи. Людей он любил и жил в людской гуще, среди людей. Профессор кафедры театральной живописи в Суриковском институте, много лет председатель секции художников театра и кино Союза художников, активный пропагандист нашего искусства в академии и печати…
Е.Б. Ладыженский
Заметил я во время многочисленных поездок за границу, что чуть ли не большинство пассажиров – восточного или юго-восточного происхождения. Арабы, африканцы, азиаты из Южной и Юго-Восточной Азии, молодежь, пожилые и дети. Очень это заметно утром в гостинице, за “казенным” завтраком. Дети – диво, с агатовыми глазами, яркими, изумленными, и с очаровательными мамами со множеством тугих косичек на голове. Так и хочется сказать: человечество стронулось с места! Впрочем, оно всегда мигрировало, сколько я знаю, на восточном полушарии. А появление не так уж давно совершенно новых стран! Я имею в виду Америку и Канаду. А заселение Австралии, где до сих пор живут коренные народы этого континента!
Вспомнился и Ермак Тимофеевич с его казачьими полками в Сибири. Стоит перед глазами великолепная и грозная картина Сурикова, которая так и называется, без обиняков, “Покорение Сибири Ермаком”. То же произошло и со Средней Азией, так называемым Туркестаном. Как оказалось – во благо. Об этом обстоятельно, убежденно и правдиво поведал нам художник Верещагин. В серии работ, посвященных этой теме, – и генерал Скобелев со своей атакой на “Иноверцев”, и “Апофеоз войны” со скорбной пирамидой из черепов, и “У дверей Тамерлана”. Эти таинственные, прекрасные, запертые резные двери – как символ входа в страну со своей стилистикой искусства, нравами, обычаями и историческим прошлым.
Вот эта самая постоянная людская “передвижка”, общение людское, поиски лучших мест и лучшей доли, осознанный “посев” новых, более человечных, прогрессивных идей, как социальных, так и художественных, – неотъемлемая часть жизни нашего прекрасного мира. Такого интересного и такого трагически пугающего.
Где чаши добра и зла на весах жизни постоянно находятся в состоянии зыбкого равновесия. Когда не только злая воля, но и несчастный случай, случайная ошибка – и не будет ни Ермака, ни Осипова, ни нас с вами. И вот пример следствия “охоты к перемене мест”.
Жил в Москве художник Ефим Бенционович Ладыженский, член МОСХа по театральной секции. Театральная жизнь, пожалуй, не сложилась у него: несколько малоизвестных спектаклей в филиале Малого театра и несколько свободных композиций на театральную тему. Главным образом он занимался темперной живописью и графикой. У него была семья: мама, жена и двое детей. Он был хорошим семьянином, мать он очень любил, семью берег.
Работал в прекрасной, светлой, с антресолями мастерской в пятиэтажном доме, специально построенном для художников и скульпторов, с выставочным залом, мастерскими и квартирами.
Человек он был общительный, имел много друзей, работал много, продуктивно. Основной темой его живописи была Одесса его молодости. Городские пейзажи Одессы с извозчиками, ярко одетой толпой, дворами, ресторанчиками, трамваями; попадались и старые евреи в ермолках, базары, пожарные, собаки, кошки, птицы. Он нашел свой стиль – с уплощенным пространством, почти в обратной перспективе. Цветом он владел замечательно. Не имея фундаментальной школы, особенно в рисовании, он все же нашел свой, несколько напоминающий примитивистов, стиль, имел свое творческое лицо и часто выставлялся на наших театральных и других художественных выставках.
Друзей или приятелей у него было много, были и поклонники. Им интересовались и зарубежные купцы, которые и по сей день закупают у нас работы, так как многие наши художники имеют высокий художественный авторитет за рубежом.
Один из таких коммивояжеров, кажется именитый итальянец, которому очень понравились работы Ладыженского, что вполне естественно, обещал выставку в Италии и прочие блага. “У кумушки с похвал вскружилась голова!” Я думаю, что честолюбие в данном случае захлестнуло здоровое самокритическое начало. Ладыженский подал заявление и через определенный отрезок времени, получив разрешение, вместе с семьей и всеми своими работами уехал в Израиль. Остался в Москве только его сын.
Прошло несколько лет, и я получил письмо о смерти Ефима Бенционовича и перевод из газеты “Интернэшнл геральд трибьюн”, комментирующей это событие. Вот он.
International Herald Tribune, вторник, июнь 14, 1983.
ОТ МРАКА К ОТЧАЯНИЮ
Работы мастера, которые он писал в России, не волновали никого в Израиле.
ДАВИД ШИПЛЕР,корреспондент “Нью-Йорк Таймс”Иерусалим. Более года назад Ефим Ладыженский, семидесятилетний художник из Советского Союза, пошел, как обычно, утром в свою маленькую студию на окраине Иерусалима и, вместо того чтобы начать работать, повесился на лестничной клетке.
Он проделал долгий путь от мрака к отчаянию, не сумев найти себя в жизни как в советской системе, так и на Западе.
После самоубийства его живопись темперой, картины, запечатлевшие детские воспоминания об Одессе, которые были горячо встречены на здешних выставках, вместе с его акварелями и рисунками в плохих рамках и неумелых окантовках, оказались свалены в крошечной спальне двухкомнатной квартиры, где была студия художника.
Осталось около семисот его работ; ни одна из них не выставлена в галереях или музеях, и едва ли кто-нибудь, чтобы их увидеть, приходит в эту квартирку.
При жизни Ладыженский искал признания и не достиг его. Оно ускользнуло от него и после смерти также.
Его дочь Вика пытается это исправить. “Я хочу, чтобы папа был известен, – говорит она. – И здесь, и по всему миру”. Но она не имеет представления, как способствовать этому; как и ее отец, она ничего не знает о западном мире искусства, мире, который выглядит предельно коммерциализованным для людей, воспитанных в советском презрительном отношении к рыночным отношениям. “Мы нуждаемся в хорошем агенте”, – признала она беспомощно.
До эмиграции в 1978 году в Израиль Ладыженский работал в Москве как театральный художник-декоратор. Но, подобно многим советским мастерам, он вел двойную профессиональную жизнь. В просторной студии, предоставленной ему Союзом художников, он писал для себя.
<…>
Одесса Ладыженского – радостный, праздничный, суетливый город… танцы в ресторане, свадебные пиры, религиозные зрелища и другие картины на еврейские темы, которые советские худсоветы никогда не разрешали экспонировать.
“Он мастер цвета, он мастер композиции, – говорит Марк Шапс, директор Тель-Авивского музея. – Первое впечатление, что это работы художника-примитивиста. Но это только кажется, это лишь обычный для художника в России способ держаться подальше от официального реализма. Меня живопись Ладыженского очень впечатлила.
Художник мудро сказал: «Еврейскую жизнь я хочу изображать как сказку, которая почти совсем мне в жизни не встречалась, и как мечту, которая пришла из моего детства». Он так применял перспективу, как ее в своих рисунках используют дети”.
Меир Ронен, искусствовед, писал в “Иерусалим Пост” во время персональной выставки Ладыженского в Израильском музее в 1979 году об одесских картинах: “Они ни вполне реальны, ни вполне фантастичны, но высоко организованы стилистически, они написаны в наивной манере весьма искусно и сделаны мастером с глубоким пониманием образной и цветовой гармонии”.
Его последняя выставка в феврале-марте 1982 года показала его сильное, выставленное напоказ страдание. Он вывесил две огромные работы, которые продемонстрировали предел его неспособности приспосабливаться к жизни и добиваться процветания. От каждого из пяти концов красной советской звезды, стоящей на ржаво-красной кирпичной Кремлевской стене, идут черные лучи, перекрещивающие его собственную голову, висящую в петле. На другой картине от каждого из шести концов синей Звезды Давида, поставленной на камни Стены Плача, его собственная голова висела в петле и лицо перекрещено так же.
<…>
“Это всегда большая проблема, – сказал Шапс. – Он не хотел продавать работы, а хотел только выставлять их в музее, и он не добился славы. Даже сегодня существует только один путь для того, чтобы его работы стали известны: это реклама и продажа картин Ладыженского. Если его дочь будет придерживаться линии поведения отца, он останется неизвестным”.
Трагично. Но первый шаг к этой трагедии Ефим сделал еще в Москве, когда пошел подавать заявление о выезде. Я был в то время председателем секции художников театра и кино и знаю, точно знаю: Ефим Ладыженский никогда не имел причин или поводов для ощущения себя изгоем, преследуемым за свою национальность. В нашей стране нет антисемитизма! Он наравне со всеми, а в силу своего таланта, быть может, еще стремительней и бурней жил и развивался как мастер. Он убил себя дважды: первый раз, когда его самолет оторвался от взлетной полосы в Москве, и второй – на лестничной клетке дома в Иерусалиме…
Последние две его картины, как я понял из газетного описания, результат отчаяния от не сбывшихся даже на земле обетованной честолюбивых ожиданий славы, скорой славы – славы сейчас, немедленно! Не надо было клепать на звезды пятиконечные и шестиконечные, надо было жить, продолжать писать свою любимую Одессу и верить в свою звезду!
Все ведь мы, художники, имея запасы скромных работенок, вместе с ними имеем, как нам кажется, и шанс, что ценность наших работ оценят хотя бы после смерти…
Наш учитель – мой учитель
Пишу на самой лучшей бумаге, какая только у меня есть, на самой белой, на самой чистой. Пишу несколько слов о нашем учителе, старшем товарище, нашем друге-художнике Сергее Филипповиче Николаеве.
Сорок лет назад (даже немного больше), высокий, стройный, опрятный, светловолосый, голубоглазый и сияющий, входил он к нам в класс, чтобы внушить нам то, что остается незыблемым по сей день в нашем отношении к искусству, в нашем жизненном поведении. Конечно, мы росли вместе с жизнью, что-то отбрасывая, что-то приобретая, падали и поднимались, теряли и вновь находили. Философия наша окрепла, мастерство возмужало, многое в наших творческих обликах изменилось.
Но главное осталось.
Вот и сейчас, проверяя себя, я не могу вспомнить случая, который опроверг бы или поколебал жизненные и художественные принципы, ставшие нашими, моими. Поэтому так желанны нам и интересны были встречи с Сергеем Филипповичем.
Вот почему он всегда, и в шестьдесят, и в восемьдесят лет, и до последнего дня, был среди друзей, среди своих учеников-художников, в коллективе. Ему было легко, совесть его была чиста – он “не подвел”.
Назову здесь некоторых из его учеников, ставших теперь очень крупными мастерами разных видов изобразительного искусства. Это В. Аралова, И. Вилковир, Т. Дьякова, В. Зимин, М. Богданов, Н. Золотарев, В. Моисеенко, В. Попов и другие. И все они, все мы – разные!
Дело в том, что Сергей Филиппович не пек из нас пироги, не месил тесто – он закладывал дрожжи.
Его интересовал не скороспелый эффект мастерства, его заботил весь человек. Воспитывал он художника-человека, художника-гражданина, которому предстояла долгая и сложная жизнь.
Он знал, что художник во времени, в неустанном труде, преодолевая свои недостатки (если он, конечно, сумеет их увидеть), станет самим собой, надет свою форму, манеру, свое мастерство.
С подлинного художника время же и снимет “модный костюмчик с чужого плеча”, который мы так любим примерять смолоду. Если, конечно, художник не станет вечным манекеном.
Поэтому Сергей Филиппович всегда говорил о чем-то на редкость фундаментальном, устойчивом, жизненном. Не надо думать, что это были менторские лекции, нравоучения типа “принцип номер один, номер два” и пр., – нет! Он просто был таким, он думал так, так жил – это его натура. Таким он был всегда.
Все воспринималось нами исподволь, постепенно, естественно. “Модником” он никогда не был, но “модников” не одергивал, нотаций не читал, понимая: тесто бродит. Скажет к случаю два-три слова – и на всю жизнь запомнишь.
Привез я после летних каникул акварельные этюды и очень одним похвалился: вот как хорошо, а написал не кистью, а пальцем. “Мыслью надо писать, – сказал Сергей Филиппович. – Почему вы это пишете, для чего, что главное, какая мысль, что вас заставило взяться за кисть – всегда помните об этом, не растекайтесь мыслью по древу”. И еще произносил магическую фразу: “Раз, два, три” – что значило: первое, второе, третье. Главное, второстепенное, сопутствующее. Этого, между прочим, всегда достаточно: четвертое – уже лишнее.
Это относится к внутреннему композиционному строю и в живописи, и в сценическом решении. Раз, два, три!
Когда дело касалось цвета и тона, он приводил в пример творчество Шаляпина. Голосов сильнее Шаляпина было много (громче пели). Но только Шаляпин мог создать у слушателя ощущение, что сейчас обрушится потолок: таким могучим казалось форте Шаляпина. Высшее мастерство, тактика распределения силы тона, силы звука (огонь от спички в темноте слепит, на солнце – почти темный силуэт).
“Не кричите – пойте”.
“Любите или ненавидьте то, что вы пишете. Безразлично? Не пишите”.
“Наслаждайтесь цветом, пусть он говорит у вас: «Смотрите, какой я желтый, а какой я зеленый, а ведь я розовый-розовый, а меня почти не видно, но зато я голубой»”.
Поэтическое видение во всем.
Он любил людей, любил лес, туманный воздух, утро, повадки птиц и зверей (которых блестяще рисовал), белорусские лесные края, в которых провел многие весны своей жизни. Его пейзажи полны трепетного, возвышенного ощущения красоты природы. Я не знаю второго художника, который бы с такой глубиной, правдивостью и вместе с тем с какой-то удивительной нежностью передал в живописи таинственную душу белорусского Полесья, родины купринской Олеси.
Мы часами слушали его рассказы об этом прекрасном мире. Он не говорил о себе. Он говорил о людях, интересных людях, с которыми ему приходилось встречаться. О Шаляпине и Коровине, дирижерах и актерах, о героях, охотниках, театральных малярах и рабочих. Говорил он образно и всегда выше обыденщины, вроде будил тебя, на ступеньку выше поднимал – оттуда лучше видно.
А ненавидел он внутреннюю запущенность в человеке, мастеровщину у художников – топтание на месте. Духовные будни.
Родился он в 1889 году в семье служащего Малого театра. Вся его молодость, а потом и вся жизнь была связана с театром. Начал он работать в Большом театре еще при таких мастерах декорационной магии, как К.Ф. Вальц и Г.П. Гольц. Затем – ученик К. Коровина, который и раскрыл в Сергее Филипповиче всю глубину его дарования. Коровин на всю жизнь остался его “героем”.
С 1938 года Николаев работал в Белорусском государственном Большом театре оперы и балета. Здесь им были утверждены в практике театра лучшие традиции русской декорационной реалистической школы живописи. Этот период в жизни Сергея Филипповича по интенсивности творческого напряжения, по размаху и грандиозности тем, над которыми он работал, надо считать уникальным.
Особое место принадлежит русскому оперному репертуару. Посмотрите, над какими грандиозными произведениями о русской истории и русской народной поэзии он работал: “Борис Годунов”, “Садко”, “Снегурочка”, “Конек-горбунок”, “Иван Сусанин”, “Царская невеста”, “Князь Игорь”, “Хованщина”, “Сказание о невидимом граде Китеже”, “Псковитянка”, “Чародейка”, “Лебединое озеро”, “Пиковая дама”, “Тихий Дон”, “Дубровский”, “Олеся”, “Кастусь Калиновский”, “Русалка”, “В пущах Полесья” – историко-революционная опера, в декорации к которой Сергей Филиппович вложил всю свою любовь и знание могучей природы Белоруссии. Грандиозно!
Это только часть его дел! Были еще “Кармен”, “Аида”, “Травиата”, “Чио-Чио-сан”, “Фауст” и др. Художник создавал огромное количество эскизов костюмов к своим постановкам и сам выполнял в натуре наиболее ответственные полотна-занавесы, задники. Это он делал потому, что умел, и потому, что хотел создать и создал в Белоруссии школу театральной живописи.
Когда внутренним оком окидываешь весь этот гигантский труд, творческое горение, становится очевидным: жизнь Николаева была подвигом. Народный художник БССР С.Ф. Николаев учит нас полноте и красоте жизни своим примером. Манерой жить. Верой в человека, верой в его движение, в силу общественного долга.
Его уже нет с нами, но пример его жизни жив. Вся эта жизнь была направлена на постижение высшей цели искусства – служение своему народу. Мы всегда будем помнить этого красивого, высокого, цельного человека.
Мои соседи по мастерской
Большую роль в моей “новой жизни” живописца имели соседи по “ателье” Никич и Преображенский.
Борис Владимирович Преображенский – военный художник, он прошел Отечественную войну в военной форме, с альбомом и этюдником с красками. И дошел до Праги. Его фронтовые рисунки и этюды, безусловно, имеют художественную и историческую ценность как документы трагического и прекрасного победного времени. Он воевал в гвардейском кавалерийском корпусе, был связан с легендарным Буденным, который уже много лет спустя после войны бывал в мастерской Б.В. Преображенского, где тот и написал дивный портрет маршала.
Преображенский – очень общительный, любознательный человек. Он “дружил” с Домом дружбы и писал портреты деятелей разных стран, в том числе и африканских. Он говорил: “Совсем другие краски!” Многие портреты дарил.
Замечательную серию графических работ – рисунков карандашом и фломастером, акварелей – он сделал в поездке по сибирским рекам, запечатлев людей, пейзажи Сибири, строителей нового в этом “непочатом” крае. Затем, уже в 1980-е годы или чуть раньше, он создал большущую серию крупных, написанных маслом, почти в рост и в натуральную величину портретов наших военачальников – маршалов и видных генералов. Это именно серия. Военачальники – на сдержанно-красном фоне при всех регалиях и наградах, в парадных мундирах.
Он очень хорошо знал и умел рисовать лошадей в движении. Помню выставку его работ в выставочном зале на улице Горького, 46.
Сосед он был хороший, добрый. И своим мастерством, рисовальным опытом, трудоспособностью показывал пример. За двадцать-то лет можно было хотя бы раз повздорить? Нет, всегда на “вы”, всегда любезен, и разъехались мы друзьями.
А с другим соседом, Анатолием Юрьевичем Никичем, мы соседствуем двадцать шестой год! Очень интересный человек, тоже прошедший войну и создавший выдающуюся картину “Военные корреспонденты”, которая вошла в золотой фонд нашей послевоенной живописи. Картина изображает стоящего к зрителю спиной фотокора с камерой в руках на фоне прекрасно написанного пространства со страшным сизым, “измученным” дымом, облачным небом. Его спина, вся поза выражают непоколебимую решительность, упорство и волю. Кажется, ты видишь выражение его глаз, сжатые зубы и тонкий рот. Лаконичный образ, мощный, емкий, полный неизбежности нашей Победы!
Очень люблю я его “Продавщицу цветов” – сердечная вещь. Светлая и удивительно московская. Я не смею определять или оценивать лучшие его работы, но позволю себе сказать, что вершиной его искусства являются натюрморты. Именно Никич создал особый вид натюрморта, “персонажами” которого становятся предметы реквизита мастерской художника: такие выразительные вещи, как подрамники, холсты, кисти, сами картины, мольберты, тюбики с краской плюс быт – газета, горшочек с цветочком. Цветов у него на окне огромное количество. Подоконник и междурамное пространство окна все в цветах. Вводит он в натюрморт фрукты, овощи и срезанные, покупные цветы. Оказывается, и здесь, на этой “свалке” работ, холстов, рам, подрамников, таится красота! Нужно только иметь глаза художника Никича. И вторая тема – классическая, которая привлекала художников всех времен, – это обнаженная женщина. Ее обычно называют обнаженной натурой.
Никич делает дивные рисунки карандашом с обнаженной модели. У него на двери частенько висит лист бумаги – торс обнаженной и текст: “У меня модель”. Есть и еще две таблички: “Я прилег” и “У меня гости”. Это чтобы я не вламывался. Я не очень доволен этими “предостережениями”, поскольку перед тем, как к Никичу войти, тихонько косточкой среднего пальца постучу при всех случаях, и без таблички…
Рисует он на цветной бумаге (есть такая, делают во Франции) тонко заточенным карандашом. Тонко-тонко, едва подтушевывая в тенях, он создает ощущение живого движения линии, ощущение жизни. Он мало пишет пейзажей – те чаще всего фоном, за окном. Но несколько картин-пейзажей он написал в мастерской, вернувшись из зарубежной поездки. Плотные, цветные, напряженные. Никич писал их с этюдов, сделанных на месте. Особенно он любит переписывать работы. Кажется, вещь готова – назавтра смотришь, Анатолий Юрьевич ее переписывает. Не доделывает и подправляет детали, а меняет цвета, формы, расположение предметов, то есть вроде бы пишет новую вещь. В силу высокой требовательности к себе он, видимо, ищет истину чувства, владеющего им сейчас! Он хороший сосед по мастерской, возбуждающий чувство ответственности перед работой, правдивости перед холстом.
Никич – член правления Союза художников СССР, секретарь правления. Под его руководством проходят связи Союза художников с зарубежными фирмами по продаже им произведений советского искусства – живописи, графики, скульптуры – через так называемый Салон по экспорту. Салон занимает первый этаж в угловом доме на Смоленской площади. Интересно там бывать. Это длиннющий зал с десятком выгороженных стенок и перегородок, на них развешены работы самых разных художественных направлений, художественного темперамента и цветового звучания. Полы возле стен заняты штабелями работ, не поместившихся на стенах, и большущими картонными папками с листами графики. Стучат пишущие машинки и каблучки сотрудниц Салона. Светлые, огромные стеклянные витрины. Большой подвал подсобных мастерских со столярами, стекольщиками и складами. Везде тесно…
Повезло мне с соседями!
Сны наяву
…Изумление перед жизнью не оставляет меня. Говорят, “скучно жить на этом свете, господа!” Нет, выиграть возможность посещения планеты Земля, вытянуть этот билет, правда, с обязательством ее покинуть, – это крупный выигрыш! Я как бы прилетел с другой планеты, и все, что скрывается здесь, – потрясает.
Вот я сижу за столом в своей комнате в доме творчества “Сенеж”. И в окне передо мной – береза.
Через густую крону редкими жемчужинками сверкает небо. Первые дни первого осеннего месяца августа, и она еще во всей красе. Цвет некрупных листьев холодный – окись хрома с ультрамарином, а те листья, которые видят солнце, сияют сиренево-золотыми бликами. Ствол безупречно белый и, как рейсфедером, исчерчен строгими параллельными штришками. “Не смотрится, слишком скромно!” – сказала природа и пригласила некоего экспрессиониста, который, орудуя острым ножом, стал рассекать белую кожу вертикальными надрезами – где крупней, где мельче, где чаще, где реже. Затем он, этот темпераментный экспрессионист-декоратор, пастозно (толстым слоем) набросал в эти “раны” черную краску. “Раны” эти, между прочим, не были болезненны, и береза, тихо шелестя листьями, шептала вместе с природой: “Вот теперь хорошо!” А рядом черный, словно замшевый, ствол липы – вроде монашки! Золотая сосна и лиловатая ель. И травы, и воды, и птицы. Какое счастье жить. Какое счастье все это видеть и изумляться тороватости природы.
У меня в мастерской на окне три-четыре горшка с растениями. Они учат меня жизни больше, чем любая книга. Искусству быть самим собой, добиваться формы в листе, в цветке, расти и жить, невзирая ни на что, на то, что я забыл их полить, что жжет солнце или его мало. Как они стараются не погибнуть, как поворачивают листья к свету, какая умелая экономия жизненных ресурсов! На это нельзя смотреть без слез и волнения. Какая воля к жизни, к творчеству! Из маленького ростка, из зернышка, земли и света может развиться фантастически прекрасное дерево, каждый лист которого неповторим. Какая фантазия, преобразующая и творящая!
Я произнес слово “фантазия”, творческая воля. И у меня, что естественно для человека, всю жизнь связанного с театром, возникают театральные ассоциации. Творческая воля. Об этом писал К.С. Станиславский в своем учении об актерской этике. Великие мысли всегда шире своего первоначального узкопрофессионального назначения. Так и положения этики К.С. Станиславского, по существу, суть нравственный кодекс интеллигентного человека, то есть человека, обладающего мужеством и духовностью.
“У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный, высший культурный тип, которого нет в целом мире, – тип всемирного боления за всех”, – писал Достоевский. Но ведь болеть за всех не на словах, а на деле – для этого нужно много сил и знаний, энергии доброжелательства и требовательности к себе. Это К.С. Станиславский и называл творческой волей. Именно творческой, так как духовно высокая жизнь человека – всегда творчество. И прежде всего – сотворение самого себя, своей личности, индивидуальности. Творческое накопление той силы, которая станет потом опорой дли других.
Все это не падает с неба, не рождается вместе с человеком. Огромная работа над собой предстоит каждому, кто вступает в жизнь, кто намерен жить осознанно и не бесплодно. И это вне зависимости от того, в какой профессии себя развивать. Ведь на любом месте всегда лучше проявиться как личность, как индивидуальность, чем как нечто бездуховное и безликое.
К.С. Станиславский провозгласил принцип доброжелательности как основополагающий в процессе организации подлинно творческого самочувствия и правильного восприятия окружающего. Он говорил об актере, но это равным образом касается и всех нас.
“Если вы вообще не обладаете доброжелательством к людям, работайте над ним… Нет… несчастных волею судеб. Есть несчастные, носящие в себе унылое упорство воли вместо любви к жизни и к человеку, ставя себя центром жизни… Следите за собой, и вы постоянно будете расти в своих талантах… Самый тяжелый камень преткновения для творчества… – это склонность так направлять свое внимание, чтобы всегда видеть в соседях плохое, выпирающие недостатки, а не скрытое в них прекрасное, это вообще свойство малоспособных и малоразвитых натур – всюду видеть плохое…”
Эти слова К.С. Станиславского, вероятно, всем хорошо известны, однако далеко не все им следуют. Силы прекрасного, потребность в прекрасном, умение различать его в жизни и вбирать в себя и породили тот особый мир, созданный только человеком, его мощной творческой энергией, его беспредельной фантазией, мир, который существует на земле столько же, сколько живо человечество, и который мы называем искусством. Ведь почему-то захотел человек создать, например, не просто круглую чашу для питья, а и украсить ее орнаментом, рисунком, особым изгибом ручки. В искусстве люди всегда находили источник веры в добро и красоту жизни, источник воли к жизни – и его творцы, и те, для кого творят художники.
Уверен, что мало какой вид деятельности человека можно в этом смысле поставить рядом с искусством, которое незаменимо в процессе самостроительства человеческой личности, ее нравственного мира. Я не хочу говорить всем надоевшее слово “воспитание”. И ни в какой другой деятельности так мощно не проявилась доброжелательная и сострадательная созидающая сила человека – фантазия. Это она лежала в основе всех творческих свершений человека. Это она “спроектировала” материальную культуру и искусство, конечно, согласно материальным и социальным потребностям человечества.
Фантазия человека – его сны наяву, какие-то таинственные вспыхивания человеческого мозга и души. Поразительное свойство человеческого сознания. Достаточно быть обыкновенным человеком, чтобы столкнуться с самыми настоящими чудесами. Чудеса начинаются и в снах наших. Иногда вы их помните, иногда не помните; сны бывают невероятной силы и странности. Но зачем-то нам их показывают? Кто их показывает? Какой в них смысл? Есть сны, которые становятся действительностью. Откуда они, эти сны, которые я не могу забыть? Что это за тайна? Искусство – это дневные сны человеческой фантазии, которая стала жить своей жизнью, как жизнь природы, как реальность человеческого бытия. Творения искусства, существующие тысячелетия, стали второй природой, второй объективной реальностью и вторым хлебом насущным. За этим “хлебом” и приходят люди в театры, кино и на выставки.
Есть такое понятие – ви́дение художника, правда воображения, правда вымысла. Видение художника, писателя, который создает свой, им вымышленный мир и заставляет нас жить этим вымыслом, который весьма опосредованно и условно соотносится с реальностью.
Искусство – некое иносказательное выражение существа мира, своеобразная знаковая система. Искусство – непрерывное исключение из реальной действительности целого ряда факторов. Недаром говорят, что творить – это изменять.
И все же, как ни условно искусство по отношению к действительности, как далеко ни уводила бы нас сила воображения, в самых фантастических наших снах наяву мы все равно оперируем знаками реальности. Могущество творческой фантазии так или иначе питается реальной жизнью, конкретным жизненным опытом. Вот и еще один удивительный парадокс.
И вот сейчас, в Доме творчества “Сенеж”, перед лицом желтеющей густой березы за окном, тихо падающих желтых листьев, ритмом легких волн на озере в березовых просветах мое прошлое пробивается через тяжеленный “культурный слой” толщиной в шесть с лишним десятков лет.
Каждого из нас формирует вся наша жизнь, люди, встречавшиеся на пути. Я художник. И моя память хранит свои впечатления, свои источники творчества, осуществление себя в профессии. Ведь с самого детства жизнь щедро предоставляла мне право выбора “натуры”, питала мою фантазию.
С чувством большого интереса, нет, страсти к видимому я живу и сейчас. Страсть к живому телу жизни, изумление перед ее фантастической грандиозностью и в большом, и в малом заставляла и заставляет меня пытаться отразить ее, эту страсть, в моей работе – и в театре, а теперь – главным образом в живописи.
Александр Александрович Васильев
Мой отец: в тени большого дерева…
Мой папа был замечательным человеком, большим мастером и вечным тружеником. Искусство было для него смыслом, а не средством существования. Работая всю жизнь только ради него, он был художником искренним и плодотворным. Начав свою творческую карьеру в качестве театрального художника, он оформил около двухсот спектаклей на сценах больших и малых. Он любил театр всем сердцем, как любят его лишь святые, одухотворенные люди. За полвека в русском драматическом театре, с 1930-х по 1980-е годы, отец прошел через множество художественных стилей и методов решения сценического оформления пространства, соединив в своем творчестве Запад и Восток, Север и Юг. От конструктивизма к реализму, от диапроекции к поворотному кругу, от павильонной конструкции к сценической живописи – он в совершенстве овладел всеми секретами сцены, которую знал как свои пять пальцев, и ТЕАТР отплатил ему успехом, аплодисментами и славой.
Нет в искусстве ничего более эфемерного, нежели театральное зрелище. В момент действа сотни и тысячи людей мечтают хоть одним глазком увидеть на сцене творящееся артистами, режиссером и художником волшебство. Но вот тают огни рампы… Закрывается занавес, пустеет зал, и лишь иллюзорное воспоминание об увиденном остается жить с нами. Покуда мы дышим! Когда же пробьет наш час земной, мы уходим вместе со своим поколением, и о спектакле остаются лишь восторженные воспоминания современников, стопка пожелтевших фотографий, несколько выцветших костюмов и в лучшем случае что-то из реквизита. Всё тленно.
Театр – это живое искусство, часто говорил папа и, памятуя об этом, сумел воссоздать в безликом социалистическом СССР особый тип театральных декораций, новаторских, но и традиционных, тесно связанных с искусством и духовной атмосферой XIX века. Он обожал Россию и ее замечательное, великое прошлое. Свое пристрастие к людям ушедшей эпохи, их одеждам, изысканным интерьерам, к усадебной и столичной архитектуре и поэтичным пейзажам он сумел передать современникам, сумел заставить зрителей с любовью и состраданием вспоминать о давних временах. Трепетное прочтение художником А.П. Васильевым творчества Гоголя, Тургенева, Островского, Достоевского, Толстого, Чехова и Горького стало хрестоматийным и непревзойденным. Секрет его неповторимого ви́дения русской сцены хранился, на мой взгляд, в принадлежности отца к большой традиционной русской культуре, которую передали ему по наследству его родители и семья. Воспитанием, примером и поощрением!
Мой папа был совершенным продуктом царской эпохи. Он родился 11 января 1911 года (29 декабря 1910 года по старому стилю) в Самаре в семье титулярного советника и инспектора Императорского судоходства Волжского и Симбирского бассейнов, начальника судоходного надзора на участке от Сызрани до Симбирска при Министерстве путей сообщения Павла Петровича Васильева и его жены, Нины Александровны Брызжевой. Моя бабушка была дочерью тульского офицера, героя Плевны, изобретателя нового вида ружья для царской армии, отставного надворного советника Александра Павловича Брызжева, скончавшегося в 1908 году. Нина Александровна родилась 13 июня 1884 года в Одессе и была близка морю, духу портовой жизни. Родители моего папы были честными и добрыми людьми, влюбленными в искусство, и особенно в театр. Они венчались 16 июля 1907 года в Севастополе, на Корабельной стороне, где прошло детство моей бабушки. Поручителями (эквивалент современных свидетелей) с дедушкиной стороны были коллежские секретари Борис Евгеньевич Раздольский и Владимир Иоаннович Фомин, а со стороны бабушки – врач Александр Александрович Козловский и потомственный дворянин Станислав Иоаннович Годецкий. Это был второй брак бабушки, ранее она была замужем за поручиком Михайловым.
Предком моего деда Павла Петровича Васильева, а значит, и моего папы, был знаменитый морской министр в царствование Екатерины Великой Василий Яковлевич Чичагов. Его сын, прапрадед моего отца Павел Васильевич Чичагов, с 1802 по 1809 год занимал должность морского министра Российской империи. Женой Павла Васильевича была англичанка Елизавета Карловна Проби, происходившая из старинного аристократичного рода. До нашего времени дошли ее портреты, один из которых хранится в ГМИИ имени Пушкина, куда попал в 1928 году из Эрмитажа. Их дом в Петербурге на набережной Невы являлся одним из центров светской и политической жизни. Граф Жозеф де Местр писал в одной из депеш, что ему удалось попасть в дом Чичаговых, хотя он считается одним из самых труднодосягаемых. Он сообщал, что был поражен холодным взглядом Элизабет и страстной привязанностью к ней Павла Васильевича. Умерла Елизавета Карловна 24 июля 1811 года в Париже. Забальзамированное тело жены адмирал перевез в Петербург и похоронил в мавзолее на Смоленском кладбище. Переживший жену на тридцать восемь лет, Павел Васильевич хранил память о ней до последнего вздоха.
Предки Елизаветы Карловны, как я узнал позднее, когда появились сайты, позволяющие восстановить генеалогическое древо, были сплошь представителями английской и французской знати. В частности, ее дед, сэр Питер Проби (1582–1624), то есть мой шестой прадедушка, в XVII веке был мэром Лондона. А моим восьмым прадедом был Уильям Молине (1481–1548), лорд Сефтона и Клифтона. Через него прослеживается дальняя связь со знаменитым парижским кутюрье 1920–1930-х годов Эдвардом Молине. Даже императрица лондонского кутюра начала XX века леди Дафф-Гордон состоит с нами в кровном родстве. Среди предков моего отца были рыцарь сэр Томас Даттон (1421–1459), барон Джеймс Одлей (1397–1459), лорд-казначей Уильям де Рос, лорд Хелмсли (1369–1414). А еще ранее – несколько графов, виконтов и маркизов раннего Средневековья из Англии и Франции. Таким образом, по этой английской ветви моих предков я могу проследить свое происхождение до XIII столетия. Конечно, я не носитель фамилии Проби, но генетически во мне течет кровь и англичан, и французов. И только теперь я понимаю, что именно зовом крови и объясняется мое желание жить во Франции. Но в ту пору, когда я был ребенком, конечно, истории своего происхождения я не знал.
Однако пора вернуться к моему деду, Павлу Петровичу Васильеву. Он был сыном дворянки Ольги Васильевны Чичаговой, родившейся в Костроме в 1836 году, жившей в Воронеже, потом в Москве и на Украине и скончавшейся от чахотки в Ментоне, возле Монте-Карло, в 1892 году. Старинный дворянский род Чичаговых владел в Костромской губернии имениями Влагино, Обалкина пустошь, Шигорево, Корнеево и Кустово. Ее отцом был генерал Василий Павлович Чичагов, матерью – Аксинья Ивановна Зворыкина, а мужем – Петр Павлович Васильев, ревизор движения на Императорских железных дорогах.
Род Васильевых идет от семьи купцов второй гильдии, от почетного гражданина Коломны Петра Павловича Васильева, бывшего начальником 1-го отделения по движению Московско-Курской железной дороги в 1869–1874 годах. Ольга Васильевна Чичагова венчалась с моим прадедушкой в Туле в 1869 году, там они и начали свою семейную жизнь. У них было шестеро детей. Старший, Алексей Петрович, родился в 1873 году, второй, Георгий Петрович, в 1874-м. Мой дедушка Павел Петрович родился 28 января 1875 года в Мотовиловке, его сестра Наталья Петровна – в 1877-м, Екатерина Петровна – 14 октября 1879-го, а последней была Ольга Петровна, родившаяся 28 августа 1886 года. Вся эта большая семья жила в своем особняке в Казатине на Украине. Овдовев 28 ноября 1907 года, Петр Павлович вышел в отставку и переехал жить в Умань.
Мой дедушка Павел Петрович Васильев был морским офицером, мичманом Добровольческого флота, а в свободное время – драматическим тенором-любителем с голосом редкой красоты и силы. Он был регентом хора в Самарской женской гимназии, а бабушка, замечательная, заботливая мать, – актрисой-любительницей. Она предпочитала жанр мелодекламации, столь модный в эпоху модерна, выступала на благотворительных концертах, на публичных вечерах, в госпиталях, о чем свидетельствуют программки, сохраненные семьей.
Чтение и книги свято чтились в доме Васильевых, где с почти религиозным пылом относились к литературе и русскому языку. Берегли его. Бабушка учила детей читать и писать задолго до школы, затверживать наизусть стихи и молитвы. Обязательным было знать на память “Боже, царя храни”. Впоследствии папа учил этому старинному гимну и меня, и, когда я ребенком сказал, что мелодия очень трудная, папа ответил: “Не трудная, а народная, для русского народа сочиненная!”
Бабушка Нина Александровна водила детей в Самарский театр, и в зал, и за кулисы, а театральное здание его с башнями в красно-белые шашечки, увенчанные изящными флюгерами, творение “театрального” архитектора М.Н. Чичагова, и тоже в русском, вернее псевдорусском, стиле, – великолепные ворота в тот волшебный мир, куда ушли и мой папа, и мой дядя. Куда ушел и я сам. И вот поворот судьбы: в этом театре потом будет работать художником мой папа, а главным режиссером с 1938 по 1943 год – мой дядя Петр.
Семья Васильевых состояла из шести человек, а работал только дедушка Павел Петрович – этого было достаточно, чтобы содержать семью, а детям бабушка для домашнего образования брала еще и бонну. Жили Васильевы в отличной большой и уютной квартире на Предтеченской улице в доме 46 на втором этаже, кв. 7. К нашему счастью, и дом в Самаре, и квартира деда пережили революцию и остались целы до сегодняшнего дня. Это красный кирпичный дом в виде терема псевдорусской постройки с острыми башенками на крыше, которые часто затем появлялись в папиных сценических декорациях – то в “Снегурочке” в Большом, то в “Человеке, который смеется” в Малом театре, ведь увиденное в детстве навсегда западает в подсознание.
Боковая стена дома 46 до сих пор хранит остатки старинной рекламы товарищества “Треугольник”, производившего резиновые изделия в начале XX века. Об этой рекламе папа рассказывал мне еще в детстве. По ней мне и удалось найти это дорогое моему сердцу здание уже после кончины папы, когда в середине 1995 года меня пригласили в Самарский академический театр оперы и балета для переговоров относительно оформления оперы “Сказки Гофмана”, так и не увидевшей света рампы.
После революции семикомнатная квартира с окнами на улицу и во двор превращена была в нищую коммуналку. Подъезд был заколочен, люди ходили по черной лестнице для прислуги через кухню. Меня сначала не хотели впускать, потом сжалились и позволили. Я пошел по комнатам и сразу узнал квартиру по чертежам и планам, которые рисовали мне папа и Ирина, его старшая сестра, запомнившая больше. Время и рушит, и хранит одновременно, выборочно, по своему усмотрению.
В прихожей той квартиры в 1910-е годы стояла клетка с большим попугаем, серым и говорливым. Как часто папа в своих спектаклях или живописных работах рисовал попугаев! Запали эти чудные птицы в его детскую память. В кабинете деда был большой кожаный диван и шведский шкаф для заново переплетенных книг русской классики из приложений к “Ниве”. Был там и балкон на улицу, который сохранился до сегодняшнего дня, – туда дед по-пластунски выполз, когда на Предтеченской улице начались революционные беспорядки. А папа, тогда еще ребенок, запомнил самосуд. Соседа из дома напротив выволокла на улицу толпа пьяной черни, разгромив винную лавку на углу, и била ногами, пока он не превратился в кровавое месиво. И папа рассказывал мне в детстве про эти ужасы революции. Он помнил, как в феврале 1917 года какие-то люди вдруг стали снимать больших золоченых двуглавых орлов с аптеки, находившейся на первом этаже под квартирой Васильевых. Знали ли они, невежды, что в 1990-е им придется их вновь ковать и золотить?
Музыка жила в доме Васильевых. В большой зале с красивой и стильной мебелью конца XIX века, обтянутой гладким золотистым штофом, стояло пианино, лежал горчичного цвета ковер и всегда благоухали цветы, чаще всего – гиацинты, любимый цветок бабушки. Это была музыкальная гостиная. Там играла бабушка, пел дед, который даже прошел пробу в Большой театр. Там учились музыке дети. При них была бонна Соня, получавшая жалованье 15 рублей в месяц.
Потом шла спальня родителей с венским креслом-качалкой и детская с тремя кроватками для Пети, Иры и Шуры. Войдя в детскую, я увидел почти совсем обвалившийся потолок, подобрал кусочек штукатурки и привез его тете Ире, будто кусочек ее детства. Как она радовалась! Гений места сохранил лестницу.
Здесь же, в детской спаленке, началось для папы вхождение в театр. Старший брат папы Петя, впоследствии замечательный театральный режиссер, именно тут поставил первые детские спектакли. Инсценировали они рассказ Тургенева “Бежин луг”. Занавесили окна, из обтянутой красной бумагой настольной лампы сделали костер в ночном… Удивительная вещь – генетическая память! Я тоже в детстве играл в театр, строил декорации из диванных подушек и делал костюмы из маминых шалей…
Младшие Васильевы увлекались не только театром – они играли в шарады, устраивали карнавалы на Масленицу и “издавали” журнал “Детские грезы”, куда моя бабушка написала им пожелание: “Милая редакция! Меня трогает Ваше стремление к прекрасному. Живите и дальше так: ищите Красоту всюду и наполняйте ею свою жизнь. Красота, искусство облагораживают человека и дают ему самые светлые моменты в жизни! Нина Васильева”. Ах, как любили искусство у нас в семье. К счастью, этот рукописный журнал сохранился.
А еще в детской в Самаре стояла игрушечная лошадка-качалка. Когда в 1917 году в семье ждали обысков, в лошадку через хвост спрятали мамины фамильные драгоценности. Большевики при обыске ничего не нашли. А папа мой перед их уходом смело заявил: “Я вам никогда не скажу, что в лошадке спрятано!”
Ванна у Васильевых была большая, на львиных лапах, и папа в декорациях всегда ставил львов – я помню по эскизам к “Провинциалке”, хранящимся у меня в Париже, по “Сказке о девочке-неудаче” в театре им. Моссовета. Рядом с кухней располагалась комната для прислуги-кухарки и ледник, доживший на своем старом месте до конца XX века! Ну не чудо ли?
По другую сторону коридора шла большая столовая, где пили чай и обедали, за ней “бабушкина” комната с чуланом, куда Иру посадили на карантин, когда она заболела. Бабушка (а для меня прабабушка) Акилина Павловна Брызжева, урожденная Розанова, была строгих “викторианских” правил, но замечательная “скопидомка”, великая кулинарка. На старости лет она была просвирней в Предтеченской церкви в конце той улицы, где жили Васильевы, а прежде была просвирней Корабельского прихода в Севастополе. В свой любимый Севастополь моя прабабушка часто возвращалась и в 1915 году уже останавливалась в “Грандъ-Отеле”. Бабушка Акилина Павловна была женщина педантичная: газеты прочитывала от корки до корки, включая все объявления. Пенсию она получала в 6 рублей, но часто ездила на извозчике и привозила внукам булочки с маком и изюмом. Хватало, значит!
Наступало лето – дачное время, когда все окна в квартире белили мелом, чтобы вещи не выгорали. Летом семья перебиралась на казенную дачу в местности, называемой Барбошина поляна, которую большевики безлико переименовали в Поляну Фрунзе[9]. Глупо! У меня сохранилось несколько дачных фотографий. Круг общения Васильевых в дореволюционной Самаре был обширен. Среди близких друзей – семья будущего известного литератора Виталия Бианки, после революции, переехавшая в Петроград.
На дачу к Васильевым приезжала сестра деда, изящная и кокетливая петербургская красавица пианистка Ольга Петровна Васильева. Первым браком она была замужем за скрипачом Дрябиным. Впрочем, этого милого музыканта она находила человеком скучным и в годы революции променяла на тенора дягилевской антрепризы Ивана Поликарповича Варфоломеева. С ним она позже уехала в Харбин, где Иван Поликарпович руководил Русской оперой при Китайско-Восточной железной дороге. Под его началом дебютировал Сергей Лемешев и колоратурное сопрано Вера Михайловна Афромеева.
Замечу, что у моего деда было три сестры – почти чеховский сюжет, – и все они вышли замуж за удивительных людей. Наталья Петровна была замужем в первом браке за офицером Хлевинским, а во втором – за хирургом-остеопатом Александром Александровичем Козловским. Он лечил ноги наследника престола, цесаревича Алексея, а потом в 1916 году был хирургом в Императорской ставке в Могилеве. Сын от этого брака, Саша Козловский, кузен папы, стал известным джазменом в оркестре Клавдии Шульженко.
Третья сестра, Екатерина, породнилась с миром большого искусства русской живописи, выйдя замуж 7 июля 1902 года в Кисловодске за художника Михаила Васильевича Нестерова. Ей было двадцать два года, а ему – сорок лет. Нестеров был уже отцом двух дочерей – Ольги и Веры. Екатерина Петровна и Ольга Михайловна вместе учились в институте. Нестеров неоднократно писал жену: в русском костюме, в маньчжурском кимоно, за вышиванием, – и в Третьяковской галерее есть огромный великолепный масляный портрет Екатерины Петровны Васильевой в белой блузке в горошек с рукавами жиго. А у меня есть фотография ее в том же туалете во время позирования. Много других ее портретов находится в музее Нестерова в Уфе.
Хотя родство с Нестеровым было и не по крови, а по браку, эта связь сильнейшим образом отразилась на творчестве моего отца. Будучи ребенком, он показывал свои рисунки Михаилу Васильевичу, тот всячески одобрял и поощрял его увлечение рисованием. Именно под влиянием Нестерова папа проникся любовью к русской природе и писал потрясающие по красоте пейзажи. Созданное им оформление к спектаклю “Лес”, поставленному Игорем Ильинским на сцене Малого театра, стало настоящим гимном русской природе. Шестидесятиметровая панорама с изображением русского леса плавно двигалась, по мере того как по сцене шли Счастливцев с Несчастливцевым. Я был на премьере этого спектакля. Когда открылся занавес и передо мной предстала эта замечательная декорация, как будто повеяло лиственным запахом русского леса! Это было такое потрясение, и не только для меня, но и для всей публики, что в зале прогремели оглушительные овации!
Кроме пейзажей, одним из самых любимых предметов живописи для отца на протяжении всей его жизни оставались полевые цветы: ромашки, васильки, лютики, колокольчики… Он часто рисовал их во время отдыха в Доме творчества художников, расположенном под Солнечногорском на озере Сенеж, куда мы несколько раз приезжали на летние каникулы. Дом находился в ведении Художественного фонда СССР и работал круглогодично. Там в мастерских собирались выездные группы пейзажистов, монументалистов и графиков, а летом дом наполнялся детским визгом и голосами многочисленных семейств художников и искусствоведов. Именно в этом доме я познакомился со знаменитой балериной Большого театра Надеждой Капустиной, которая в ту пору уже была пенсионеркой, пережившей инсульт. Эта степенная и благородная дама, когда-то близкая подруга Улановой, выбрала меня, мальчика, своим конфидентом. Она первая окрестила меня дамским угодником и была, в сущности, права. Анализируя сегодня свою жизнь, могу с уверенностью заявить, что больше всего на свете меня любят животные, дети и женщины. А мужчины мне симпатизируют меньше, видя мой успех среди представительниц прекрасного пола.
Я с большой теплотой вспоминаю время, проведенное на Сенеже. Это было удивительное место, где сохранилось множество старинных дач. Одну из них даже называли прообразом имения Петра Николаевича Сорина и утверждали, будто именно в сенежских местах происходит действие бессмертной чеховской “Чайки”. В Сенеже мы с мамой собирали для папы огромные букеты полевых цветов, которые он писал. Там же был написан мой портрет в косоворотке, который сейчас висит в спальне моей парижской квартиры.
Папа был очень дружен с дочерью Нестерова Натальей Михайловной, родившейся в 1903 году и жившей на Сивцевом Вражке в исторической квартире своего великого отца. Наталья Михайловна занимала в квартире только две из четырех больших комнат; вторая часть принадлежала дочери Нестерова от первого брака – Ольге Шретер, знаменитой “Амазонке”, родившейся в 1886 году. В юности я неоднократно бывал в этой квартире. Ольгу Михайловну в живых уже не застал, но познакомился с ее дочерью, Ириной Шретер, которая была художником по костюмам. Проработав всю жизнь на “Мосфильме”, она создала костюмы для десятков кинокартин, в числе которых “Свой среди чужих, чужой среди своих”, “Хозяин тайги”, “Гранатовый браслет”, “Девчата”, “Неподдающиеся”… Зная о моем увлечении стариной, Ирина Викторовна подарила мне несколько вышивок своей мамы, ее зеркальце и саше с вышивкой по мотивам картины Нестерова “На горах”, а также цилиндр-шапокляк самого Михаила Васильевича. Несмотря на то что Наталья Михайловна и Ирина Викторовна приходились друг другу тетей и племянницей, отношения их нельзя было назвать теплыми: совместное житье-бытье в коммунальных условиях сделало их непримиримыми врагами.
Квартира Нестерова произвела на меня, ребенка, большое впечатление обилием цветастых чехлов. Эти чехлы укрывали всю мебель, создавая гарнитур из совершенно разных предметов. По стенам были развешаны большие работы Нестерова; одна из них, “Пустынник”, сейчас хранится в Третьяковской галерее. Заметив мою заинтересованность, Наталья Михайловна сказала:
– Не обольщайся, дитя мое, это всё копии. Подлинники я уже давно продала в Третьяковку.
Там же, кстати, хранится ее знаменитый портрет под названием “Девушка у пруда”.
После большевистского переворота Васильевы, собрав ценные вещи, но оставив пианино, мебель и книги, следы которых я ищу в Самаре, бежали за Волгу, в Уфу, потом на Урал и в Сибирь к Колчаку… Дома своего в Самаре они уже больше не увидели. По окончании Гражданской войны семью носило от Красноярска до Киева, и лишь в июле 1922 года Васильевы осели в Москве по адресу Орликов переулок, дом 2, квартира 12. Папа по совету Михаила Нестерова решил стать художником. Дедушку Павла Петровича вновь арестовали в январе 1931 года, осудили как “врага народа” и “бывшего титулярного советника” и отправили в мордовский лагерь “Потьма”, а затем на строительство Беломоро-Балтийского канала. Бабушка, убитая горем, затравленная бездушными большевиками, вынуждавшими ее уехать из Москвы, примет яд и умрет в страшных мучениях 25 мая 1933 года в сорок девять лет – как раз в тот день, когда деда, после хлопот Е. Пешковой, освободят “за ударный труд на лесоповале” и он приедет в Москву. Шекспировские страсти с трагическим концом! Дедушка скончается в горе и тоске в ссылке в Костроме от рака печени 23 октября 1935 года. Могила его будет забыта и уничтожена. Впоследствии дедушка будет реабилитирован “за отсутствием состава преступления”. На него не было даже заведено дела, а судила его “тройка” коммунистов. Обида за родителей осталась в семье на всю жизнь, и “боль эту заглушить ничем невозможно”, как написала в своих мемуарных записках моя тетка Ирина Павловна.
Мои папа и мама никогда не вступали в Коммунистическую партию, а тогда это очень вредило карьере. В отличие от многих других, они не стушевались под гнетом страха и всегда вели себя независимо. Первым браком мой папа был женат на актрисе Московского Художественного театра Нине Базаровой, от которой он ушел к моей маме только в 1958 году.
О том, что мой отец – художник, я знал уже в годовалом возрасте, как только начал что-то соображать. Я понимал, что папа работает в одном театре, а мама – в другом. Мамины спектакли я помню с раннего детства, потому что они были доступны малышам. А папины спектакли увидел гораздо позже, уже в сознательном возрасте. Скажу больше: я так никогда и не посмотрел “Петербургские сновидения”, одну из лучших папиных работ, созданную им в соавторстве с Юрием Александровичем Завадским по роману “Преступление и наказание”. Звездой спектакля был знаменитый Геннадий Бортников, а Сонечку играла неповторимая и искренняя Ия Саввина. Родители не пустили меня на этот спектакль, строго сказав, что мне слишком рано его смотреть. Я видел только, как папа работает над эскизами и макетами в своей мастерской. Когда я стал взрослее, постановка уже сошла с афиш. Но такие папины шедевры, как “Лес” в Малом театре, “Мамашу Кураж” в Театре сатиры, “Последнюю жертву” и “Сверчка” в театре Моссовета, я помню прекрасно.
Папа очень много работал. Сейчас его назвали бы трудоголиком. У него был собственный распорядок дня. Завтракать он садился в девять часов утра, кофе пил на английский манер, из особой чашки, очень ругался, если яйцо было сварено недостаточно или, наоборот, слишком переварено. В половине десятого папа уже уходил в мастерскую. Возвращался он неизменно к началу программы “Время”, поскольку самым живейшим образом интересовался всем, что происходит в стране и мире. Приходил со словами: “Сегодня написал новый портрет!” И действительно, будучи фанатом своего дела, папа перерисовал, кажется, всю родню, друзей, соседей, маминых студенток… Меня он писал пять раз. Три портрета остались у меня, а еще два находятся в Самарском музее и в Академии художеств. Он писал маму, мою любимую сестру Наташу, актрис, каких-то чудаковатых старушек…
Кроме того, папа сам делал макеты, очень любил это занятие. Помню, для “Петербургских сновидений” создал сразу несколько совершенно разных вариантов решения спектакля в макетах: с вращением, без вращения, с таким занавесом, с другим… К слову сказать, оформление спектакля было замечательным, в особенности стена дома с открывающимися окнами, в которых были видны персонажи. Полноправными участниками этого действа являлись две колоссальные лестницы, шедшие друг к другу под углом, – по их ступеням шагали герои. В определенный момент спектакля эти лестницы должны были сойтись в одной точке – это была адова работа. На генеральной репетиции лестницы никак не сходились: рабочие сцены то сдвигали их раньше, то вовсе не успевали приблизить друг к другу. Папа стоял за кулисами, рядом находились актеры, которые должны были по этим лестницам пройти. Он стоял и одними губами произносил: “Ну! Ну! Ну! Пошли!” И когда наконец лестницы сошлись вовремя в одной точке, он не смог сдержать облегченного вздоха: “Слава Богу!” Не знаю, кто больше способствовал движению лестниц – рабочие сцены или Александр Павлович…
В 1965 году театр им. Моссовета отправился на гастроли в Париж. Одна из старейших актрис театра и близкий друг нашей семьи Мария Святославовна Кнушевицкая, тетя Мира, как я ее называю до сих пор, подробно рассказывала мне об этой поездке. Я записал ее воспоминания.
Театр собирался на гастроли в Париж. И нас, актрис, вошедших в эту делегацию, перед поездкой привели в знаменитую секцию ГУМа, где одевались жены высокопоставленных начальников, чтобы мы могли там себе купить сумки, туфли, перчатки, – в то время ведь ничего ни у кого не было, а в грязь лицом в Париже ударить не хотелось. Среди женской части труппы ходила такая формула:
– У тебя перчатки есть?
– А зачем тебе перчатки?
– Ну, из самолета выйти!
– А у тебя сумка есть?
– Ну есть…
– Да нет, такая, чтоб из самолета выйти!
Ведь гастроли в Париже являлись неслыханной редкостью.
В столицу Франции отправилось три спектакля: “Маскарад”, “Дядюшкин сон” и “В дороге”. Естественно, с нами летел и Александр Павлович. Да еще, поскольку его оформили как члена туристической группы, ему тогда разрешили взять с собой жену.
Конечно, мы безумно волновались! На лицо намазали все, что только было можно. Причем, что интересно, у нас не было прямого рейса с Францией, мы летели с пересадкой в Праге. Перед посадкой все женщины как по команде вытащили зеркальца и принялись причесываться, красить ресницы, подводить глаза. А у стюардесс в то время была такая мода – синие костюмчики и пилотки, придерживаемые белыми полупрозрачными косынками. Хороши они были, эти стюардессы, просто невероятно. И вот мы прилетаем, нам подают трап. Выходим. Александр Павлович впереди, а внизу, у самого подножия трапа, стояли две стюардессы. Красавицы невообразимые: талии как у ос, фигурки как у моделей, синие пилотки, косыночки… Васильев сначала посмотрел на одну, потом перевел глаза на другую, обернулся к нам и сказал:
– Ну что, артистки, видели женщин? То-то же!
Во время нашего пребывания в Париже Александр Павлович повел нас в Лувр. Были Танечка, Инна Александровна Данкман, Людмила Викторовна Шапошникова, еще кто-то… Все мы вцепились в Александра Павловича и отправились в Лувр, где Васильев сказал: “Значит, так, от меня не отходить ни на шаг. Я знаю, что надо смотреть, поэтому идем по точкам, иначе не увидим ничего”. И он оказался прав! Полдня мы могли потратить на Лувр и ничего не увидеть.
Я помню до мельчайших деталей момент, когда он подвел нас к лестнице, где наверху стоит “Ника”. Я не могу сказать, что разбираюсь в скульптуре, скульптура для меня всегда оставалась чем-то холодным, театральным… Но вы знаете, эта “Ника”, то, как она стоит, – это абсолютно непередаваемые ощущения. Александр Павлович говорил: “Разве вы не чувствуете ветер вокруг? Не слышите, что морем пахнет?” И действительно, пахло морем – я запомнила это на всю жизнь!
Потом он нас повел к Гойе, затем к “Джоконде”, которая сейчас висит в большом зале, а тогда висела одна на стене. Чтобы ее увидеть, нужно было войти в одну дверь и как бы пройти в другую мимо нее; правда, напротив Джоконды стояла длинная банкетка, на которую Александр Павлович нас всех усадил. “Вот посмотрите, – говорил он, – она же все про нас знает. Она же внутрь к нам заглядывает”.
Следом он нас повел к “Давиду” и к “Венере”. А “Венера” находилась в центре ротонды, обтянутой черным бархатом, вокруг которой ходил полисмен. Я тогда сказала Александру Павловичу: “Подумать только, мрамор ведь даже не совсем гладкий”. Он говорит: “А ты ее потрогай”. “Как?!” – изумилась я. На что Васильев ответил: “Вот в тот момент, когда охранник повернется к нам спиной, чтобы идти в противоположную сторону, быстро протяни руку и дотронься”. Как только полисмен отвернулся, я сделала все, как велел Александр Павлович, – кончиком пальца дотронулась до “Венеры”. Она оказалась теплой! Мрамор был теплым. Это невозможно было себе представить! К слову сказать, Татьяна Ильинична не стала руку протягивать к скульптуре – все-таки жена художника, ну а я – шпана шпаной – дотронулась, интересно же!
Далее мы оказались в зале, где лежит знаменитый бриллиант с каким-то безумным количеством карат. Кажется, назывался он “Орлеан”[10]. Все смотрели на него, обалдев. Я тоже постояла, посмотрела – ну, красивый булыжничек лежит, ну, вот природа сотворила такой огромный камень. Но ничего особенного! Александр Павлович сказал: “Правильно. А теперь оглянись”. Я оглянулась. Напротив стояло невероятного изящества и красоты зеркало Екатерины Медичи. Небольшого размера, на двух аметистовых колонках, которые в свою очередь стояли на изумрудной основе. Вот тут эти камни играли! Александр Павлович подвел нас к зеркалу и сказал: “Вы только подумайте: сейчас вы в него смотритесь, а в него много веков назад смотрелась Екатерина Медичи. Смотрите, может быть, что-нибудь увидите”. Представляете, как мне повезло! Ведь никакой экскурсовод нам бы ничего подобного никогда не сказал. Ну а когда мы стояли перед какой-то картиной и он вслух разбирал, какой мазок что дает для восприятия, – это было незабываемо.
Это была невероятная личность и человек, одаренный так в своем искусстве, что все это он хотел передать окружавшим его людям.
Десятилетие работы моего папы в театре им. Моссовета совпало с расцветом театра, на сцене которого в те годы царили три великие актрисы: Вера Марецкая, Фаина Раневская и Любовь Орлова. Самые непростые отношения сложились у папы с Верой Петровной. Их знакомство датировано концом 1930-х годов, когда оба работали под руководством Юрия Завадского в Ростовском театре драмы. Отец признавался, что у Марецкой был невыносимый характер, особенно ярко проявлявшийся во время примерки костюмов. Руководствуясь своим мещанским вкусом, она постоянно требовала украсить ее костюм то каким-то дурацким бантиком, то пошлым воротничком, то аляповатым цветочком. Папу это раздражало настолько, что в какой-то момент он вообще отказался работать с Марецкой и приглашал для нее другого художника, лишь бы та не попадалась ему на глаза.
Вера Петровна Марецкая была модницей, любила шляпки и платья из крепдешина с набивным цветочным рисунком – она не снимала их даже на пляже. Когда Марецкую спрашивали, отчего она не загорает, Вера Петровна отвечала: “Мое загорелое лицо и загорелые руки увидят тысячи зрителей, а все остальное – два-три поклонника. Но ради них я стараться не собираюсь!”
С Фаиной Георгиевной Раневской отец поддерживал приятельские отношения. Я помню ее на всех вернисажах его персональных выставок. Раневская также очень симпатизировала моей маме и могла часами разговаривать с ней по телефону. Одевалась Фаина Георгиевна нелепо: носила вязаные кофты, трикотаж, бесформенные юбки, беретки. Она была выше моды, совершенно не обращала внимания на свой внешний вид, а ее острый саркастичный ум и блестящее актерское дарование напрочь затмевали этот маленький изъян.
Любовь Орлова была для папы образцом элегантности. Поговаривали, что за новыми перчатками она летает в Париж. Мне трудно судить, так ли это, но одевалась Любовь Петровна действительно с большим вкусом, предпочитая в одежде синие и коричневые тона. Выглядела всегда очень моложаво благодаря многочисленным пластическим операциям, на людях с ее лица не сходила улыбка, при внешней расположенности и доброжелательности к окружающим была очень сдержанна.
В молодости Любовь Петровна была всего лишь дублершей Ольги Баклановой – звезды Музыкального театра В.И. Немировича-Данченко. После того как Бакланова в 1925 году во время гастролей театра в США решила не возвращаться на родину, все ее роли перешли Орловой. Наша соседка по дому Этель Ковенская, которая тоже служила в театре им. Моссовета, рассказывала, что, когда она объявила Орловой о своей эмиграции в Израиль, та демонстративно всплеснула руками и во всеуслышание заявила: “Эточка, как можно покидать родину?!” А потом, обняв ее, добавила шепотом: “Как я за вас рада!” Тогда же Любовь Петровна подарила Ковенской свои туфельки из серебристой парчи, чтобы той на первых порах было в чем выступать в Израиле. Спустя двадцать пять лет Этель Львовна передала эти туфельки в мою коллекцию.
Мне запомнилось, как однажды папа с мамой ездили на дачу Орловой и Александрова во Внуково, где Любовь Петровна подарила маме рецепт фаршированного сыром перчика, ставшего нередким блюдом на нашем столе. Меня познакомили с Любовью Петровной в театре, еще ребенком. Сейчас многие спрашивают: “Что она вам рассказывала?” Да что она могла мне, малышу, рассказать? Погладила по головке и сказала: “Какой милый мальчик!” Да, я встречался с этой живой легендой, но она меня не сажала к себе на колени, не рассказывала свою жизнь от начала до конца, ничего такого не было.
Цементирующей основой театра был его художественный руководитель Юрий Александрович Завадский, с которым папа начал работать в Ростове-на-Дону еще в довоенное время. Седой и величественный Ю.А., как его называли за глаза артисты, создавал впечатление человека, мало приспособленного к бытовой жизни. Он был большим эстетом: носил светлые твидовые пиджаки и хрустящие накрахмаленные сорочки, зафиксированные под воротничком элегантными бабочками, обожал принимать изысканные театральные позы, усиленно жестикулировал, вертел в руках остро отточенные карандаши, с которыми не расставался. Несмотря на то что папа постоянно жаловался на капризный характер Завадского, именно содружество с Юрием Александровичем стало пиком его театральной карьеры. Вместе они создали десятки великолепных постановок.
О Завадском я вспоминаю забавную байку, связанную с экзаменами по политподготовке, через которую проходили все советские деятели культуры независимо от званий и регалий. Народных артистов экзаменовали отдельно от прочих. Вот идет экзамен в театре им. Моссовета. Отвечает Юрий Александрович. “Расскажите нам о работе Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»”, – задают ему первый вопрос. Завадский задумчиво вертит в руках карандаш и величественно кивает головой: “Знаю. Дальше”. Экзаменаторы в растерянности: “А теперь – о работе Энгельса «Анти-Дюринг»”. Завадский вновь снисходительно кивнул: “Помню. Дальше”. Экзаменаторы переглянулись: “Собственно, у нас все”. “Ну, тогда я пошел”, – поспешил откланяться Юрий Александрович.
К слову сказать, на том же экзамене Вере Марецкой достался вопрос “Контрреволюционная сущность троцкизма”. Марецкая начала: “Троцкизм – это… – Вдруг она в ужасе заломила руки и заголосила: – Ах, это кошмар какой-то! Ужас какой-то, этот троцкизм! Это так страшно! Не заставляйте меня говорить об этом! Я не хочу! Не хочу!” Опасаясь продолжения бурной сцены, экзаменаторы ее отпустили с миром до следующего года. При коммунистах многие экзамены были профанацией.
Всякий раз, когда я приходил в папину мастерскую на Фрунзенской набережной, меня охватывало чувство счастья. Дверь в мастерскую была очень тяжелой, открывалась со вздохом. В прихожей стоял запах краски, висело узбекское блюдо, стены были обшиты деревом… Здесь нашли приют папины многочисленные коллекции: старинные фотографии семьи, изразцы XVII века, разнокалиберные рога животных, которые он писал, книги… Получилось очень уютно. Рос посаженный мной лимон, после папиного ухода доставшийся в наследство главному художнику МХАТа Владимиру Серебровскому. Серебровский утеплил стены, и лимон зацвел. Мастерская сохранялась до самой кончины Серебровского.
Папа писал сухими пигментами, какими в эпоху Ренессанса писали фрески. Пигменты эти разводились яичным желтком – отсюда и характерный аромат темперы, который я вдыхал, еще только поднимаясь по лестнице, и предвкушал, как вот-вот войду в этот особый мир, созданный папой. Он никогда не пользовался палитрой, предпочитая разводить краску на стекле, которое потом тщательно вымывал и мог использовать заново. Писал отец всегда на ткани с бязевой поверхностью. Для этой цели как нельзя лучше подходили старые простыни, которые он наклеивал на картон. Дорогие голландские кисточки марки Rembrandt приобретались им за границей, как и сухие пигменты, в СССР бывшие дефицитом.
В 1970-е годы папа увлекся написанием натюрмортов. И композиционно, и предметно эти натюрморты составлял для него я. Натюрморты-обманки – “Польская кухня”, “Актриса”, “Актер” – с деньгами, с керамикой, со старинными предметами… Я до сих пор это очень люблю.
Настоящим потрясением для папы стала трехмесячная командировка в Японию, в Осаку, где в 1970 году проходила очередная Всемирная выставка. В советском павильоне папе поручили оформить второй этаж, который назывался “Сибирь”. Папа создал огромный макет сибирского леса: стволы деревьев, ветки, еловые иголки, корни, торчащие из земли, лопухи… Но доставка барж со стволами сибирских деревьев все время запаздывала и доставляла отцу массу неприятных моментов ожидания. Тогда все это было выполнено из искусственных материалов, но неотличимо от настоящей сибирской флоры. Японцы были поражены размахом! Из Осаки папа вернулся не только с огромным количеством подарков, но и с массой новых впечатлений, вдохновивших его на целую серию живописных работ, посвященных Японии.
Не меньшее впечатление произвел на отца Кабул, где он побывал в 1964 году и откуда писал письма отдыхающей в Щелыково маме. Вот одно из них:
Дорогая моя, ненаглядная Таняша!
Получил твое первое письмо из Щелыково. Очень рад видеть его своими глазами, я имею в виду почерк и, конечно, слова. Скучаю ужасно. Скоро месяц, как я здесь, – это становится трудным. Особенно тяготят гигиенические условия – мухи, пыль, сточные канавы… Стал побаиваться рисовать, слишком много людей, и разной чистоты, смотрят, толпятся, толкают, кричат, плюют, как бы не подхватить что-нибудь. Пока впечатлений очень, очень много. Жаль, что нет тебя, чтобы ты тоже это посмотрела. Постараюсь привезти чадру. Это ужасная, но очень красивая штука. Эта разновидность одеяния на ветру очень выразительна. Есть районы в Кабуле совершенно чудовищные. Это горные лабиринты из узких улочек и туннелей с крохотными дверями вовнутрь домов, с мухами, клоакой и детьми. Грязь, смрад. Но по этим улочкам ходят щеголеватые юноши и дамы опять-таки в чадрах. Едут ослы, мулы, несут в огромных бурдюках воду.
Постоянной моделью для папиных работ служил наш черный скотчтерьер по кличке Гамлет, отец очень любил его писать. Гамлет отвечал ему полной взаимностью и безраздельной любовью, считая папу вожаком стаи Васильевых и уважая его гораздо больше всех остальных членов семьи. Единственное, что запрещалось Гамлету, – это спать на диване. Однако, когда родители уходили, Гамлет тайно забирался на диван и засыпал. Но сон его был настолько чутким, что, заслышав скрежетание ключа в дверной скважине, наш пес, страшно боявшийся разочаровать хозяина, моментально слетал с дивана и демонстрировал к этому месту отдыха полное безразличие.
Но главными персонажами папиного творчества на протяжении последних пятнадцати лет жизни оставались созданные им балбетки – живые странноватые существа, напоминающие выточенные из дерева нелепые кегли или кухонные толкушки. Балбетки на его полотнах жили в фантастическом мире, опасно напоминающем пародию на мир “советского человека”, – папа был уверен, что в советском обществе балбетизм превалирует над здравым смыслом.
В середине 1970-х годов эти балбетки стали настоящей фигой в кармане и вызвали взрыв общественного мнения. Поскольку сама мысль о пародийном иносказании в творчестве народного художника РСФСР казалась невозможной, к каждому папиному юбилею Союз художников устраивал персональную выставку, и не где-нибудь, а в ВТО на улице Горького, теперешней Тверской, или в Академии художеств. И я прекрасно помню длинные очереди посетителей, которые готовы были подолгу стоять на улице, лишь бы попасть на выставку Васильева и своими глазами увидеть балбетки.
Напомню, что в Москве тогда существовало мощное движение художников-нонконформистов, на выставки которых народ просто ломился, как ломится сегодня на Серова или Айвазовского. Вместе с Машей Лавровой, интересовавшейся творчеством нонконформистов, я неоднократно бывал на подобных выставках, проходивших часто в обычных квартирах, в основном на Трубной площади. А в павильоне “Пчеловодство” на ВДНХ прошла даже официальная выставка, на которой двадцати художникам-авангардистам впервые разрешили показать свои работы. Среди них были картины художника Олега Целкова, с дочерью которого, Алисой, я очень дружил. Это был конец февраля, люди стояли в очереди по три часа, разводили костры, чтобы хоть как-то согреться, – столь велико было желание увидеть то, что долго запрещали. Я был свидетелем несанкционированной выставки картин, организованной в сентябре 1974 года на окраине Москвы, в Беляеве, и полностью уничтоженной бульдозерами. Так эта экспозиция и вошла в историю – как “Бульдозерная выставка”. Тяга к новому искусству была необыкновенной. И на фоне героев нового времени папа не потерялся. Несмотря на то что все его выставки были официальными, очереди стояли не меньше, чем к павильону “Пчеловодство” на ВДНХ.
Еще одна большая серия картин отца была посвящена алкоголикам и бомжам, которых в советском искусстве как бы не существовало. Он увлеченно писал портреты опустившихся людей, встреченных в метро и электричках. Чем они его привлекали? Думаю, горькой судьбой. Эту судьбу он умел показать на портрете. Рисовал отец и чудаковатых старушек. У него есть, скажем, знаменитая картина “Старушка-искусствовед”, на которой изображена глубоко пожилая дама с челкой в стиле 1920-х годов, в сапфировых серьгах, некогда красавица, чем-то неуловимо напоминающая Лилю Брик. Так папа привил мне уважение к старости, снисхождение к человеческим порокам, отсутствие снобизма и трепетное отношение к старине.
Папа был очень вспыльчивым. Мог кричать и беситься, если ему что-то не нравилось, но никогда я не слышал от него ни одного бранного слова. Самое грубое, что он мог бросить в сердцах, – это “чертова кукла!”. Признаюсь, правда, что много позже сотрудницы живописного цеха из разных театров, попадавшиеся на моем пути, рассказывали, будто папа очень элегантно употреблял крепкие выражения.
На меня он крайне редко повышал голос. Лишь однажды, рассердив его какой-то детской шалостью, я услышал: “Сейчас задам тебе ремня!” Конечно, никакого ремня он мне не задал, обошлось малой кровью – просто поставил ненадолго в угол. Специально моим воспитанием отец не занимался, воспитывал образом, жизнью, личным примером, поскольку был безумно занят.
Папа часто своими руками делал для меня игрушки. В 1960-е годы такие игрушки – редкая вещь. Помню одну из первых. Это была стая осетров, выполненная из картона и прописанная серебром. Точно такая стая проплывала в спектакле Центрального детского театра “Конек-горбунок”, в котором моя мама играла Царь-Девицу. “Горбунка” я смотрел бесчисленное количество раз и однажды попросил папу сделать мне “таких же рыбок”. Папа вырезал “рыбок”, причем у каждой имелась тайная коробочка, куда я клал маленькое колечко или браслетку и, воображая себя Иваном, героем сказки Ершова, декламировал, как запомнил (как теперь выяснилось, запомнил неправильно): “Эй вы, рыбы, тварь морская, осетров могучих стая!..” Вот эти-то осетры проплывали по веревочке над диваном. Диван, на котором спали родители, служил мне главной игровой площадкой. По тем временам он считался шикарным. Еще бы! Немецкого производства, двуспальный… Я сохранил этот диванчик, заменив на нем обивку. Представьте, в моем доме, расположенном в Зеленоградске Калининградской области, этот диван до сих пор стоит как реликвия. Я вообще тяжело расстаюсь с вещами, особенно с теми, которые имеют хоть какое-то отношение к родителям. Вот пример. Много лет спустя, в 1982 году, когда я уже уехал во Францию, папа приехал в Париж по своим делам, но ночевал у меня. Спал он на маленьком лежачке, от которого я никогда не избавлюсь даже за давностью лет, хотя все мне твердят: “Там наверняка живут клещи!” Может быть, и живут – им ведь тоже надо где-нибудь жить. Но это моя реликвия, которая теперь находится в Оверни, в моем имении, и называется “Папин лежачок”.
Однако вернемся к игрушкам, которые папа мастерил для меня. Кроме стаи осетров, был еще пряничный домик, созданный из коробки от пылесоса “Вихрь”. Папа расписал эту коробку темперными красками, и коробка действительно превратилась в хорошенький немецкий домик с черепичной крышей, маленькими окошечками и дверками. Я в этот домик прекрасным образом помещался.
Папа совершенно не интересовался моей успеваемостью в школе. Более того, даже не мог сказать наверняка, в каком классе я учусь и сколько мне лет. Когда кто-то спрашивал о моем возрасте, он отвечал: “Ему двенадцать лет. Впрочем, может быть, уже и четырнадцать”. А когда наступило мое совершеннолетие и кто-то пошутил, что я, должно быть, скоро женюсь, папа страшно возмутился: “Да вы что, он еще даже не целовался ни разу! – Потом перевел на меня взгляд и добавил: – А вообще – очень может быть, я не знаю”. Конечно, целовался! Например, с красавицей Леной Масленниковой, юной балериной Большого театра.
В папе было много детского, и поэтому человеком он был по-детски безумно увлекающимся. Причем увлечься мог чем угодно. Надо было видеть, с каким азартом он смотрел хоккей или футбол, как болел за любимую команду! Он подскакивал на месте в самые волнующие моменты, ругался, кричал, подсказывал что-то игрокам, будто они могли его слышать. Отец увлекался своими картинами, причем именно той, которую писал в данный момент. Говорил: “Я сейчас такую вещь пишу! Гениальную!” Я его спрашивал: “Так ты ведь про прошлую картину говорил, что гениальная!” “Нет, – отмахивался он, – это не то совсем, а сейчас точно будет что-то гениальное!” Такая свежесть восприятия помогала ему до конца жизни сохранять невероятный душевный и творческий энтузиазм.
Как всякий театральный художник, декоратор, который должен уметь все, даже починить мебель, папа был человеком рукастым. Он склеивал дома расшатавшиеся стулья, и они стояли, обмотанные веревочками, пока клей не просохнет. Собственными руками обил в коридоре стены и пр., и пр. Особняком стояли лодочные моторы, в которых Александр Павлович любил копаться. В какие бы глухие места мы ни ездили отдыхать, он всюду таскал с собой лодочный мотор “Чайка” – невообразимую редкость по тем временам. Этот мотор требовалось приладить к обыкновенной деревянной лодке, затем папа по полчаса мотор разогревал, дергал за какие-то веревки, сердился на него, кричал, а когда в конце концов мотор заводился, все быстро запрыгивали в лодку, пока он вновь не заглох.
До конца своих дней папа был близок с братом и сестрой. Мой дядя, Петр Павлович Васильев, был известным театральным режиссером. До того как перебраться в столицу, он успел поработать в должности художественного руководителя в Уральском, Куйбышевском, Саратовском и Ярославском драматических театрах. С 1953 по 1956 год Петр Павлович руководил Театром сатиры, был также главным режиссером в театре Ермоловой и в театре Гоголя, поставил несколько спектаклей на прославленной сцене Малого театра.
По характеру он был человеком честным, требовательным, взрывным и весьма любвеобильным. Петр Павлович испытывал непреодолимую слабость к женскому полу и слыл настоящим ловеласом – трижды был женат. И хотя по сегодняшним представлениям в трех браках нет ничего необычного, тогда это был нонсенс. Спутниц жизни дядя выбирал себе внешне привлекательных и причастных искусству.
Его первой женой стала ленинградская актриса Юлия Блюменфельд, служившая в Большом драматическом театре. Поженились они в 1930-х годах, прожили вместе несколько лет и развелись. Что примечательно, их развод никак не отразился на отношении Юлии Осиповны к семье Васильевых. До конца своих дней она проявляла живейший интерес к нашему семейству и считала себя его частью. Именно поэтому она не могла не откликнуться на мое увлечение стариной и в один прекрасный день взяла с собой в Ленинград, где мы побывали в Доме ветеранов сцены имени М.Г. Савиной.
– Здесь мы найдем для тебя замечательные вещи! – сказала Юлия Осиповна и провела меня по всем комнатам престарелых актрис, родившихся в 1900-е годы.
Каждая из них что-нибудь мне подарила: бисерную сумочку или брошку, шляпку или кружевной платочек и даже альбом с фотографиями известной в 1920-х годах актрисы, красавицы эпохи нэпа Надежды Кемарской, которая закончила свою жизнь в Доме ветеранов сцены.
Бывшую жену своего дяди я запомнил женщиной яркой: она красила волосы в рыжий цвет, подводила губы ярко-красной помадой, выглядела очень моложаво и никогда не расставалась с сигаретой. От этого брака родилась дочь Наташа, которая никогда не была Васильевой. Она носила фамилию второго мужа Юлии Осиповны, артиста БДТ Михаила Васильевича Иванова. Наташа теперь живет в Германии.
Второй женой Петра Павловича стала актриса Валентина Николаевна Кузнецова. Это была женщина с тонкими чертами лица, остреньким носиком, маленькими глазками и несколько капризным голоском. По своим убеждениям она была ярой сталинисткой и до самозабвения прославляла советскую власть. Этот брак просуществовал долго, в 1934 году родился сын Володя. Впоследствии мой кузен Владимир Васильев стал заметным актером, сыгравшим после окончания ГИТИСа главные роли в фильмах “Есть такой парень” и “Черемушки”, а затем в одном из самых кассовых детективов “Дело № 306”. Володя был красив и очень фотогеничен, обладал внешностью аристократа. Однако в советское время в кинематографе режиссерами ценился совсем другой типаж. Мой кузен выглядел гусаром, графом, бароном, а кино снимали про трактористов, строителей и рабочих. Формулировка “нетипичная внешность для советского человека” поставила крест на его кинокарьере, главных ролей больше не предлагали. И все-таки он снимался в эпизодах, например, в небольшой роли он появился в фильме Сергея Бондарчука “Война и мир”, работал над озвучанием и служил в театре им. Ермоловой, где его звездным часом стал спектакль “Здравствуйте, дядюшка” по пьесе румынского драматурга Виктора Эфтимиу. Это была типичная комедия положений: кто-то приходит раньше, кто-то кого-то застает, кто-то убегает, кто-то от кого-то прячется…
Личная жизнь кузена складывалась драматично. Будучи таким же ловеласом, как и его отец, Володя неоднократно женился, разводился и женился снова. Помню его первую супругу – красавицу Нелли Бондаренко, солистку ансамбля Игоря Моисеева, она родила дочь Машу; и последнюю – Оксану – от нее родился Володя Васильев, ставший продюсером на Мосфильме. Как-то кузен пригласил меня на новогоднее представление в Лужники, которое ставил как режиссер, и я увидел вдоль всей арены арфисток в голубых париках и вышитых блестками платьях.
– Володя, зачем тебе в этой постановке такое количество арфисток? – изумился я.
– Ты понимаешь, одну из них любит директор Лужников, другую люблю я, а третью – наш администратор, – ответил мне кузен.
Володя ушел из жизни на берегу моря, не дожив до шестидесяти. Его не стало в 1993 году.
Третьим фактическим браком Петр Павлович женился на своей студентке Оле Маркичевой, учившейся в ГИТИСе на одном курсе со Светланой Немоляевой. Несмотря на почти тридцатилетнюю разницу в возрасте, Оля родила дяде сына – Владимира Петровича Васильева-Маркичева. Он стал скульптором и педагогом. У него есть сын – продолжатель нашего рода.
Братья Васильевы всю жизнь были близки друг другу. Редкие разногласия касались только творчества и никогда не перерастали в конфликты. Связанные не только родственными узами, но и совместной работой, они создали несколько интересных постановок. Так, например, на сцене пражского Театра на Виноградах в конце 1960-х – начале 1970-х годов появился спектакль “Царь Федор Иоаннович” в постановке Петра Павловича Васильева и в оформлении Александра Павловича Васильева.
Еще один спектакль, осуществленный этим тандемом, игрался в филиале Малого театра на Ордынке. Это был спектакль “Пучина” по пьесе Островского. А надо заметить, что Островского они оба обожали. Считали, что это главный отечественный драматург, вобравший в себя глубину купеческой жизни, по их происхождению им близкой. Главную роль в “Пучине” исполнял Юрий Соломин, а для оформления спектакля использовались многократно увеличенные фотографии то Театральной площади, то Сухаревского рынка, то иных уголков Первопрестольной. Эти фотографии были перенесены на большие треугольные тумбы, которые трижды за спектакль поворачивались к зрительному залу новой стороной, меняя не только антураж сцены, но и картину жизни главного героя. Чистая и богатая Москва на глазах зрителя вдруг превращалась в нищенскую толкучку. Это выглядело очень эффектно!
В конце жизни Петр Павлович очень тянулся к папе. Он даже разменял свою квартиру и переехал в наш дом на 3-й Фрунзенской. Умер он в 1994 году. Весь его архив вынесли на улицу, и его подобрала моя мама.
Их единственная родная сестра Ирина Павловна Васильева была пианисткой и концертмейстером. Именно она сохранила портреты моих бабушек и дедушек, фамильное фортепиано, дедушкины часы и множество других семейных реликвий, которые потом достались мне. Замуж Ирина Павловна вышла за профессора Московской консерватории Серафима Константиновича Казанского, родившегося 30 июля 1910 года в семье священника в городе Карачаев Орловской губернии. Казанские жили в коммунальной квартире в доме для работников консерватории в Среднем Кисловском переулке. Их соседкой была музыковед Ольга Павловна Ламм, племянница Павла Александровича Ламма, фигуры весьма известной в свое время. Павел Ламм был музыковедом, текстологом, членом Союза композиторов СССР. Всю жизнь работал над изучением и публикацией наследия Мусоргского, Бородина, Чайковского, Танеева.
Сын Серафима Константиновича и Ирины Павловны, Константин Казанский, стал выдающимся химиком, доктором наук, профессором. Он рано женился и стал отцом. К сожалению, его сын в юном возрасте начал страшно пить, отрастил окладистую бороду и скончался от пьянства. Сам Костя погиб в 2007 году. Это случилось на Кипре. Он зашел в море и, не совладав с волной, захлебнулся и утонул. Поэтому я, обожая море, страшно боюсь купаться. Верю в злой рок семьи и никогда не войду в воду, если море слишком волнуется. А меж тем мой дедушка был морским офицером, а прапрадед – адмиралом морского флота.
Я эмигрировал из СССР во Францию в 1982 году. Папа приезжал ко мне только один раз. Ему очень понравилось, как я устроился в Париже. Оглядев мою маленькую двухкомнатную квартирку на рю Бенар, 27, папа заметил: “У нас так профессора не живут”. Потом мы встречались в Риме и еще раз – в Амстердаме. Надо сказать, что мой переезд во Францию папа очень поддерживал. Он боялся писать мне из Москвы, поэтому прислал письмо из Англии. В письме он говорил о том, что судьба моя в моих руках, что я должен поступать так, как считаю нужным, что он прекрасно понимает: в тени большого дерева ничего не растет. Главный художник театра им. Моссовета, секретарь Союза художников, народный художник и прочее, прочее, прочее… он был тем самым большим деревом. В его тени я бы не состоялся. Расставание со мной далось папе нелегко, но потом он очень гордился моей востребованностью, ведь уже через три года после отъезда во Францию я работал в театрах многих стран мира и мне было что ему предъявить.
Папы не стало 9 ноября 1990 года. Инсульт. Он ушел тихо, во сне. Я работал в это время во Флоренции в театре “Комунале”, сестра Наташа, кажется, была в Крыму. Рядом с отцом неотлучно находилась мама. Она гладила папу по руке и под звук его тяжелого дыхания тихонечко разговаривала с Кариной Филипповой, близким другом нашей семьи, которая частенько навещала маму. И вдруг наступила тишина. Карина Степановна спросила:
– Тань, а почему так тихо стало?
Мама повернулась лицом к постели и сказала:
– А он умер.
Карина Степановна набрала номер Академии художеств:
– Вы знаете, сейчас скончался член-корреспондент Академии Александр Павлович Васильев.
На что грубоватый женский голос ответил ей:
– Гражданка, а вы знаете, какое сегодня число?
– Конечно. Девятое ноября, – отозвалась обескураженная поэтесса.
– Так вот, праздники-то не кончились. Праздники кончатся, тогда и звоните.
Задыхаясь от безысходности, Карина Степановна набрала номер Анатолия Мироновича Смелянского:
– Толя, что нам делать?
Он коротко ответил:
– Прежде всего – не реветь. Сейчас я пришлю бригаду, которая все сделает. Ну а поскольку сегодня воскресенье, насчет кладбища пойду в Моссовет завтра утром.
И Анатолий Миронович взял все в свои руки, доказав своим поступком, что любовь – это действие.
Первым человеком, отозвавшимся на папину кончину, стала историк костюма и мой учитель Мария Николаевна Мерцалова. Она приехала к нам домой и всю ночь до самого утра читала акафист. Как для родного человека. Даже не представляю, кто бы теперь это сделал.
Мне удалось прилететь только на следующий день после смерти отца. Панихида проходила в Академии художеств, а отпевали его в церкви Николы в Хамовниках. Похороны состоялись на Троекуровском кладбище. Там же рядом спит мама. На их могилах стоят ажурные чугунные кресты каслинского литья, которые я заказал на Урале по старинной форме.
Папино творческое наследие состоит из почти четырех тысяч работ. Половина их осталась в Москве, а другую половину мы с мамой передали в Самарский художественный музей в надежде, что эти работы станут основой музея-квартиры в доме на Предтеченской улице, где он родился. К сожалению, этого до сих пор не произошло, хотя прошло уже двадцать восемь лет. Увы, не всем музеям нужны наши подарки.
Моя мама: трель соловья в оправе Фаберже
Моя мама была русской актрисой. России, ее театру и Москве она посвятила всю свою прекрасную, поэтичную жизнь. Мама родилась 9 июля 1924 года в Белоруссии, в Гомельской губернии, где ее родители отдыхали на даче, – дед был страстным охотником. С младенчества и до четырехлетнего возраста мама жила в Гомеле, где ее мама работала врачом в родильном доме. Затем училась в Москве и отдала этому городу свою жизнь.
Она была неудержимым жизнелюбом. А в жизни нашей, суетной и банальной, быту она предпочла Высокое. И этим Высоким было для нее искусство, театр – храм, которому она служила, который боготворила, жрицей, весталкой которого была.
Бабушка моя Мария Рылова родилась в 1892 году в деревне Карачи Вятской губернии. Шести недель от роду она потеряла отца и была отдана на воспитание в семью адвоката Игнатовича. Окончила двухклассное сельское училище, а затем училась в женской гимназии в городе Малмыже Вятской губернии. По окончании гимназии бабушка проработала год учительницей в сельской школе, а в 1913 году поступила на медицинский факультет Высших женских курсов в Москве. В Первую мировую войну она ушла на фронт сестрой милосердия. У мамы сохранились фотографии: бабушка в форменном платье с красным крестом на фартуке. В 1919 году бабушка служила врачом эвакогоспиталя, а уже в мирное время поступила в аспирантуру. Будучи по специальности врачом-гинекологом, Мария Григорьевна работала старшим инспектором Управления родильных домов и женских консультаций Министерства здравоохранения и принимала участие в создании в СССР первых женских консультаций, за что получила орден Ленина и “Знак почета”.
Мой дедушка, инженер лесного ведомства Илья Герасимович Гулевич, был западным белорусом родом из Молодечно. Род Гулевичей происходит из Польши, откуда в начале XVI века они переселились на Волынщину. Нам довелось узнать подробнее о наших предках, когда мы с мамой встретили своих родственников Гулевичей во французском городке Монтелимар. Около 1527 года три брата Гулевича, приехав в новую страну, сперва были набожными помещиками, потом, в XVII веке, занимались лесами, затем открыли металлические рудники, а когда руды в земле не стало, занялись хлебопашеством, премного размножившись семейством. И многочисленность их дошла до того, что в Белоруссии есть даже село Гулевичи, а мамина кузина Галина Фоминична Гулевич-Пекарская была, например, Гулевич и по отцовской, и по материнской линии. В XIX веке один из Гулевичей был помещиком на Брянщине, владельцем замечательного ампирного дворца, доныне сохранившегося, другой стал героем Отечественной войны 1812 года. Его портрет экспонируется в галерее героев той войны в Эрмитаже. Памятная мраморная доска биохимику, академику В.С. Гулевичу висит и на здании Московского университета. Одна из дальних наших родственниц, графиня Толстая, урожденная Гулевич, даже была в 1903 году гостьей на знаменитом балу в Зимнем дворце, где все присутствующие, включая императора и императрицу, были в боярских, по-музейному величественных костюмах. Другой родственник, Арсений Гулевич (любимое имя в роду), был известным генералом Белого движения. Герб рода Гулевичей – подкова и отрубленная рыцарская нога в латах – относится к XVI веку.
Дед мой Илья Герасимович вышел из бедной ветви этого шляхетского рода с шестисотлетней историей. Его родители исповедовали православие, имели четырех детей и жили скромно, но сумели дать детям хорошее образование. Часть семьи Гулевичей, не вынеся невзгод большевистской революции, подалась на Восток, в Сибирь, затем в Благовещенск, а оттуда – в Харбин, Шанхай и в Австралию, где до сих пор у нас несколько десятков родственников, причем некоторые на мою маму и внешне похожи. Я видел их во время моих эскапад на этом континенте.
Мой дед вырос в Вильно, учился в Варшавском пехотном юнкерском училище, был офицером Императорской армии и служил в 1910-е годы в Майкопе, в Адыгее, на Северном Кавказе, по лесному ведомству. Во время Первой мировой войны дедушка встретил на фронте бабушку, и в канун революции они обвенчались и очутились в Москве.
После революции у дедушки и бабушки родился первый ребенок, сын Дмитрий, старший брат мамы. Он стал полковником, большим спортсменом, судьей и тренером ЦСКА по дзюдо. Единственная дочь его, умница и красавица Елена Хлевинская, – доктор экономических наук, профессор.
Дедушка Илья Герасимович Гулевич очень тяготился большевистским режимом и дважды пытался бежать из Страны Советов в Польшу то северным путем, то через Маньчжурию и даже Сахалин. Правда, из этого ничего не вышло.
Мама маленькой девочкой жила в Лефортове. Она часто бегала с подружками в деревянный “мамзалей” на Красной площади, пока не построили нынешний из камня. Была честной советской пионеркой 1930-х годов. Училась в одной школе с Юрием Никулиным, играла в теннис с Николаем Озеровым, занималась в танцевальном кружке Дома пионеров с Мартой Цифринович, ставшей ее подругой на всю жизнь. Война застала маму в “Артеке”, который вместе с отдыхавшими в нем детьми был эвакуирован на Алтай, в Белокуриху. Ныне это знаменитый горный курорт, славящийся воздухом, водами, кизилом и ежевикой. Дружбу с теми пионерками мама также сохранила на всю жизнь.
Артековские дети были талантливы, особенно эстонская группа, молдавская, украинская. Не отставали и местные. Был прекрасный танцевальный коллектив: Нина Красильникова, Рита Фомичева, Идея Самсонова, рижанка Велта и другие, фамилии не всех помню. Даже не очень образованный шестиклассник, колхозный тракторист Иван Маслов, читал в концертах рассказ Чехова “Злоумышленник”. Гая Аверченко пела “Жаворонка” Глинки и дуэтом с массовиком Зоей Карпенко – “Прощай, любимый город”. Лучшей маминой подругой по “Артеку” стала хорошенькая Люсенька Берлянт, дружбу с которой мама пронесла через десятилетия.
В местном клубе как-то шел концерт. На переднем ряду сидели режиссер Камерного театра Александр Таиров, его жена Алиса Коонен, певец Погодин, писатель Константин Паустовский и солидный красивый пожилой дядя, говорили – друг Шаляпина.
Мама и школьный учитель немецкого языка, который немного прихрамывал, играли сценку по Чехову. После концерта Таиров и Коонен подошли к маме познакомиться. Вот тогда они ей сказали, что она девочка талантливая и вскоре при МХАТе открывается Школа-студия, куда будут набирать учеников. И ей советуют приехать и поступить.
После снятия осады Москвы мама вернулась в столицу и, желая служить Родине верой и правдой, решила стать авиатором и поступила в МАИ, Московский авиационный институт. Модно тогда это было! Но сердце ее, увы, не лежало к этому. Ее влек театр – неутолимая жажда большого искусства.
Как раз в военное время, в 1943 году, один из основателей Художественного театра Владимир Иванович Немирович-Данченко задумал создать в тихом переулке между улицами Горького и Пушкинской Школу-студию при Художественном театре. Идея эта была не нова: еще в начале века МХТ создавал актерские студии, откуда вышли и Михаил Чехов, и Ольга Бакланова, и Григорий Хмара.
Художественный театр тогда остро нуждался в молодняке, и вот почему в историческом здании в проезде Художественного театра (ныне снова Камергерском переулке, как при Станиславском и Чехове) открылась Школа-студия МХАТ. Первым ректором ее был В.Г. Сахновский, которого сменил соратник К.С. Станиславского Вениамин Захарович Радомысленский.
Учеба в Школе-студии стала для мамы манной небесной. Общение с замечательными актерами старой школы – Качаловым, Литовцевой, Тархановым и Москвиным – дало тому первому выпуску 1947 года особую закваску, которую теперь уже не повторить, потому что словами объяснить ее невозможно. Материальную культуру маме преподавал бывший директор Эрмитажа Сергей Тройницкий, один из основателей журнала “Старые годы”. В сталинскую эпоху он был репрессирован и выслан в Уфу, а потом работал научным сотрудником музея в Кускове и преподавал в Школе-студии МХАТ. В то время считалось, что актеру необходимо знать, когда появился фарфор и фаянс, что такое эмаль, а что такое слоновая кость, в каком веке начали ездить в каретах, а в каком научились курить табак…
Манерам первых студийцев обучала Елизавета Григорьевна Никулина, урожденная княжна Волконская. Она учила их сидеть, есть, здороваться, целовать руку, делать реверанс, носить фраки, цилиндры, шляпы и длинные юбки. Сегодня все это забыто. И дело не в том, что сегодня не делают книксен и не целуют дамам руки. Посмотрите на английский двор: разве там утратили манеры? Нет. Но княжна Волконская знала манеры и этикет конца XIX – начала XX века, которые казались архаичными и старомодными, но были единственно правильными для театральных постановок. Вот эти навыки безвозвратно утеряны. Я помню, как актриса Софья Станиславовна Пилявская, которая тоже занималась у Никулиной, рассказывала, как та учила ее ходить в платье с турнюром. Ни в коем случае нельзя было сесть на ягодицы – только на одно бедро и исключительно на краешек стула, а усаживаться на всю поверхность считалось неприличным. Софья Станиславовна, полька по происхождению, отличалась элегантностью и удивительной манерой одеваться. В ее гардеробе жили вещи только трех цветов: черного, белого и серого, – и никакие другие никогда не примешивались. Больше всего она любила шелк в мелкий цветочный рисунок, носила каре-фуляры на шее и на голове, завязывая их наподобие тюрбана. Скорее, по моде начала 1960-х годов. В молодости, в 1930-е годы, платья ей шила Надежда Ламанова, о чем Софья Станиславовна не раз рассказывала. В Школе-студии она была дружна с моей мамой. Существует документальный фильм начала 1960-х годов о приеме абитуриентов в Школу-студию МХАТ, который ведет Пилявская. За столом рядом с ней сидит моя мама и вместе они ведут разговор о тех требованиях, которые Школа-студия выставляла в момент приема новым студентов.
Больше всего студийцы боялись попасть с княжной Волконской за один стол. В ее присутствии они цепенели и не могли притронуться к приборам. Но вот однажды княжна пригласила девочек с курса к себе в гости, поставила перед ними банки с консервами, вручила каждой по вилке и сказала:
– Девочки, я посуду мыть не люблю. Давайте есть прямо из банок!
Французский язык маме преподавала репатриантка из Франции по имени Анна Марковна. Прожив много лет в эмиграции, она вернулась на родину и была принята в Школу-студию МХАТ. Мама вспоминала, как ее однокурсник Михаил Пуговкин на одном из уроков французского языка поднял руку и спросил:
– Анна Марковна, а как по-французски будет слово “выйти”?
Та ответила:
– Sortie, месье Пуговкин.
– Именно! Именно в сортир! – обрадовался будущий народный артист, услышав знакомое слово.
Еще одним маминым однокурсником, ставшим впоследствии народным артистом, был Владимир Трошин. Он особенно прославился своим нежным баритоном и песней “Подмосковные вечера”.
Здесь, в стенах своей альма-матер, мама познакомилась с будущим первым мужем, однокурсником Виктором Карловичем Монюковым (настоящая фамилия – Франке). В будущем он станет не только режиссером, но и замечательным педагогом Школы-студии МХАТ, создателем московского Нового драматического театра, взрастившего целую плеяду знаменитых московских артистов. В доме, где родился Виктор Карлович, позже разместится театр “Табакерка” под руководством Олега Табакова.
По окончании студии диплом маме, как и всем другим девушкам, подписала сама Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Но распределение мама получила не во МХАТ, как многие ее соученики, а в Центральный детский театр.
Мамины роли первых лет были под стать ее красоте и возрасту. Первым спектаклем стал “Город мастеров”: в красном платье и флорентийской шапочке в стиле кватроченто она запечатлена на акварельном портрете кисти актера ЦДТ Павла Григорьевича Павлова, хранящемся в нашей коллекции. Мама на этом портрете вышивает крестиком – страсть к вышиванию она сохраняла, пока глаза ее были молодыми. Потом мама играла Николь в “Мещанине во дворянстве”, Софью в “Горе от ума”, Мэри в “Снежке”, Галю в “Где-то в Сибири”. Известными ее ролями стали китайская девушка Сяо Лань в “Волшебном цветке” (в паре с Олегом Анофриевым в роли Ма Ланьхуа), индийская царевна Сита в постановке по эпосу “Рамаяна” (в паре с Геннадием Печниковым в роли принца Рама), Царь-Девица в “Коньке-горбунке” (в паре с Олегом Ефремовым в роли Ивана). Мама играла положительных героинь и красавиц, но в жизни и за кулисами была скромна и неамбициозна.
Жизнь с первым мужем не заладилась. Виктор Карлович был любимцем женщин и изменял маме, что ровным счетом ничего для него не значило. Роман на стороне он не считал поводом для развода. Мама была ревнива, и его постоянные адюльтеры в конце концов привели к тому, что отношения дали трещину. В один непрекрасный день 1958 года в пылу семейной ссоры Виктор Карлович накричал на маму, а она ему заявила:
– Не смей повышать на меня голос, мне вредно волноваться, я жду ребенка!
– Что ты еще себе придумала! – вспыхнул еще больше Монюков. – Я тебе этого не позволял!
Мама спокойно ответила:
– Не волнуйся, этот ребенок не от тебя.
12 июня 1958 года последовал развод, о чем свидетельствует документ о расторжении брака № 218 Куйбышевского районного бюро ЗАГСа и замужество с моим отцом, с которым мама познакомилась еще в конце 1940-х, когда он работал в Центральном детском театре и оформлял пьесу Островского “Не было ни гроша, да вдруг алтын” в постановке Геннадия Печникова. Поскольку мои родители были людьми чрезвычайно закрытыми в вопросах, касавшихся личной жизни, я узнал об этом лишь много лет спустя, когда нашел написанные мамой в 1949 году стихи, посвященные отцу. Как рассказывала мне уже в Париже искусствовед Маргарита Багинова, которая в 1940-х годах была дружна с родителями, встречи их проходили в садике перед Большим театром под цветущей сиренью. История сложносплетенных взаимоотношений Виктора Карловича Монюкова с его второй супругой Наташей в иносказательной форме легла в основу повести Виктории Токаревой “Террор любовью”, где одним мазком описана даже моя мама и упомянута сестра.
Кстати, о сирени. Мамина коллега по Центральному детскому театру актриса Татьяна Надеждина вспоминала, что соседки по гримуборной преподнесли ей в Татьянин день огромную корзину цветов, приложив к ней стихотворение:
Хотели мы в Татьянин день Преподнести тебе сирень, Но мы сирени не нашли И цикламены принесли.Только потом Надеждина узнала, что на самом деле корзина цветов была предназначена другой Татьяне – Гулевич, а дарителем стал Александр Павлович Васильев. Но поскольку мама тогда еще была замужем за Монюковым, явиться домой с цветами она не могла и передарила их Надеждиной.
Конечно, коллеги по сцене сразу догадались, что мама влюблена. Та же Татьяна Надеждина рассказывала мне позднее: “Мы вдруг стали замечать, что Таня начала прихорашиваться. Делала необыкновенную прическу, которая в то время считалась самой модной, – бабетту. Повторить эту прическу было невозможно. У нее был такой дивный овал лица, что шла ей эта бабетта невероятно. И одеваться Таня стала очень красиво. А потом сообщила нам, что выходит замуж за Александра Павловича и ждет от него ребенка”.
Самое забавное, что мой отец в 1967 году ездил с Виктором Карловичем в Германию и оформлял его постановку “Мой бедный Марат” в театре Саарбрюккена по приглашению интенданта театра Хермана Ведекинда. За эту работу они получили солидное вознаграждение, 90 % которого были вынуждены сдать наличными в советском посольстве.
Итак, мама с папой встретились, полюбили друг друга, и случилось так, что во время гастролей Центрального детского театра в Киеве образовался я, единственный сын их. В моем архиве сохранились записки мамы из роддома после моего рождения. Одна из них адресована коллегам по театру:
Дорогие друзья,
от души благодарю всех за поздравления и внимание ко мне и новенькому мальчику Сане Васильеву. Ваше теплое отношение мы чувствуем каждую минуту.
Большое спасибо всем.
ВАША ТАТЬЯНА ГУЛЕВИЧВторое письмо – Магде Лукашевич, актрисе и лучшей подруге:
Дорогая моя Музоренька! Пословица “Поспешишь – людей насмешить!” на сей раз не оправдала себя. Опередив медицинские показания почти на две недели, я не поспешила, а только порадовала людей. Описывать свой новый опус нет больше сил. Я вижу только его мордашку, а она так незатейлива. Два глаза, один нос, один ротик. Похож на папу, но бритый. Приходите, приходите в понедельник, меня должны выписывать. Сюда не надо ездить, лучше приходите домой. А.П. будет звонить Оле (Фрид), а она все Вам будет рассказывать. Большой привет всем: Вечику, Соне Глуховской, Нюре (Анне Евгеньевне), Юре Строеву, Анатолию Эфросу, Зинаиде Абрамовне, Анне Ивановне и всем-всем. Желаю тебе от души девочку, но если будет мальчик, то тоже неплохо. Ходи к Екатерине Давыдовне! Всем нашим девочкам большой привет.
ТАНЯ ГУЛЕВИЧЯ родился в Москве 8 декабря 1958 года и, сколько себя помню, всегда был в кулисах театра. Правда, папа реже брал меня в театр, нежели мама. Все же я с детства помню встречи с Любовью Орловой, Фаиной Раневской и Верой Марецкой – ведущими актрисами театра, для которых папа создавал костюмы и декорации.
В Детский театр, особенно когда нянек не было, меня брали чаще. Я помню себя в кулисах на маленькой табуретке – мама занята в спектакле “Один страшный день”. Роли в “Забытом блиндаже”, “Питере Пэне”, “Сказках Пушкина”, “Хижине дяди Тома”, “Традиционном сборе”, “Одолень-траве”. Забытые названия, некогда гремевшие по Москве театральной.
Одним из любимых спектаклей маленьких зрителей в ЦДТ был спектакль Анатолия Эфроса “Сказка о сказках”. Роль польской девочки Яни, которая уходила в лес за хворостом, на протяжении нескольких лет исполняла Татьяна Надеждина. Когда актриса забеременела и на сцену выходить в связи со своим положением больше не могла, на эту роль ввели мою маму. Вскоре забеременела и мама, она ждала моего появления на свет. Тогда директор театра Константин Язонович Шах-Азизов сказал:
– Не назначайте больше актрис на эту роль! Они все уходят в лес за хворостом, а возвращаются в положении!
Мама работала с Георгием Товстоноговым, Марией Кнебель, Сергеем Михалковым, Виктором Розовым, но часто уступала свои роли другим артисткам. Славы земной она не жаждала никогда.
Внешняя и внутренняя красота мамы привлекала художников и скульпторов. Ее фотографировал Наппельбаум; кроме ее собственного супруга, маму писали Татлин, Николай Ромадин и Федор Булгаков, лепили Николай Никогосян и Наталья Дерегус. Портрет кисти Татлина был выполнен в зеленых тонах и почему-то страшно не понравился маме. “У меня на нем лицо было зеленого цвета”, – вспоминала она. Этот портрет так и остался в мастерской художника. Наверняка по прошествии лет он попал в чьи-то руки, и его теперешний владелец даже не представляет, что на нем изображена Татьяна Гулевич.
Мало кому известно, что именно моя мама стала первой Снегурочкой на знаменитых кремлевских елках. Претенденток на роль внучки для Дедушки Мороза искали в Детском театре, и, поскольку мама была очень хорошенькой молодой артисткой на амплуа инженю, выбор пал на нее. На протяжении нескольких лет, из года в год мама участвовала в представлениях. Даже я успел застать ее Снегурочкой. Новогодние елки проходили не только в Кремлевском дворце, но также и в Доме Союзов, бывшем Дворянском собрании, и в Сокольниках, на открытом воздухе. Снегурочка-мама появлялась перед детьми рядом с Дедом Морозом в санях, запряженных тройкой настоящих лошадей. Театральная белая шубка с меховой опушкой от холода не спасала, мороз стоял страшный, и в ожидании выхода приходилось кутаться в собственное зимнее пальто. Артист, традиционно исполнявший роль Деда Мороза, согревался старым проверенным способом – выпивал коньячок перед каждым выходом к маленьким зрителям. А поскольку таких выходов за день было немало и одни дети сменяли других, к концу рабочего дня Дед Мороз еле держался на ногах. И вот однажды, как рассказывала мама, захмелевший Дедушка, будучи не в силах оставаться в вертикальном положении, опустился на пенек под елочкой и заснул. Чтобы не свалиться с пенька, он держался за посох, а счастливая детвора верещала:
– Дедушка Мороз! Дедушка Мороз!
Тут главный новогодний персонаж открыл глаза, пробурчал:
– Дедушка, Дедушка… Заболел ваш дедушка! – и снова заснул.
В 1960-е годы мама стала сниматься на телевидении и записываться на радио, чаще всего в поэтических композициях. Помню ее в роли матери Герцена в телефильме “Былое и думы”, большую роль в телеспектакле “Тещины языки”, радиопостановки с режиссером Мариной Турчинович, маминой приятельницей. Мама привела на телевидение и меня: я дебютировал в восьмилетнем возрасте в передачах “Театра «Колокольчик»”, потом в качестве ведущего воскресного “Будильника” с маминой приятельницей и коллегой по детскому театру Надеждой Румянцевой.
Но уже тогда маму преподавание влекло больше актерства. В середине 1960-х годов она, будучи еще актрисой театра, вернулась в Школу-студию МХАТ и поступила в аспирантуру к своему любимому профессору сценической речи Елизавете Федоровне Саричевой. Елизавета Федоровна была прибалтийская немка из эстонского города Дерпта (ныне Тарту), где ее отец служил профессором в Дерптском университете. Саричева, настоящая рафинированная интеллигентка, много лет проработала в Школе-студии МХАТ и воспитала первое поколение советских дикторов. Она носила элегантные старинные броши и кружевные воротнички, обладала плавной речью… Было полное ощущение, что это женщина XIX века, случайно попавшая в социалистическую эпоху. Лучшими подругами Саричевой были актриса Анастасия Георгиевская и моя мама.
Как-то, когда я был еще маленьким, Елизавета Федоровна пришла к нам домой. Мама очень ждала ее, страшно волновалась и, чтобы порадовать уважаемого педагога, приготовила большое количество, как мне тогда казалось, деликатесов. Перед тем как она вносила в гостиную очередное блюдо, я вбегал в комнату и торжественно провозглашал:
– А сейчас будет хлеб!
И убегал. А мама вносила хлеб. Потом я возвращался и объявлял новое блюдо:
– А сейчас будет подана селедка!
Мне страшно нравилось анонсировать эти яства.
Мама регулярно навещала Елизавету Федоровну в ее маленькой квартирке, расположенной в одной из новостроек в Теплом Стане, куда Саричеву переселили из снесенного дома в самом центре Москвы. В конце жизни эта уже очень пожилая женщина практически не выходила на улицу, целыми днями лежала в кровати под многочисленными миниатюрными портретами своих родовитых предков. Портреты Саричева завещала маме.
Гражданская панихида по Елизавете Федоровне проходила в ЦДРИ. Народу было видимо-невидимо, пришли многочисленные ученики Саричевой. А я страшно испугался, увидев в гробу женщину, которая бывала у нас дома.
Отыграв на сцене ЦДТ двадцать пять сезонов, мама с радостным сознанием исполненного долга в 1972 году ушла на пенсию, чтобы стать сначала педагогом, а затем и профессором кафедры сценической речи в своей альма-матер. Со временем она стала преподавать сценическую речь и в цыганском театре “Ромэн”, и в Московском кукольном театре Авксентия Гамсахурдии, и в театре “Камерная сцена”.
Еще один поворот судьбы – и в те же годы маму приглашают в Хореографическое училище при Большом театре. Мама преподает актерское мастерство вместе с такими корифеями театральной педагогики, как Ирина Македонская и Юрий Недзвецкий. Много, ох как много замечательных русских балетных артистов училось у мамы. Приведу лишь неполный звездный список: Алла Михальченко, Владимир Деревянко, Нина Ананиашвили, Андрис и Илзе Лиепа, Николай Цискаридзе… Балет в ее жизни – волшебное искусство. В 1940-е через одноклассниц сестер Щербининых мама познакомилась с Майей Плисецкой, нашей соседкой по имению в Литве, и не раз с ней в молодости встречалась. Мой папа трижды работал над декорациями и костюмами Большого театра: им были оформлены “Лесная песня”, “Мазепа” и “Снегурочка”. А мамины ученики издавна блистали на сцене Большого; блистают и теперь, когда ее уже нет.
Но родным домом для мамы была Школа-студия МХАТ. С радостью шла она на занятия – всегда приветливая, веселая, элегантная. Студентки доверяли маме личные переживания, зная, что всегда будут услышаны и могут рассчитывать на совет. Спустя годы после окончания Школы-студии бывшие студенты продолжали ей звонить и приглашать на свои спектакли. И мама, которой к тому времени было уже немало лет, в зиму, в страшную гололедицу, поздним вечером отправлялась на какую-нибудь премьеру, чтобы поддержать своего ученика. Анна Ивановна, старшая по подъезду, по этому поводу всегда шутила:
– Кто у нас позже всех возвращается домой? Татьяна Ильинична. Она у нас самая гулящая девушка в подъезде.
Мода значила для мамы немного, но стиль одежды – всё. Как она умела носить шляпы, подбирать тона блузок и шалей, закалывать старинные камеи, оттенять овал лица жемчужным ожерельем, подчеркивать тонкость удивительного профиля бирюзовыми в серебряной филиграни серьгами! Мама была человеком утонченного вкуса, чуть-чуть старинного, но очень русского и незыблемо классического, которого в Москве начала XXI века и днем с огнем не сыскать. Она была запоздалым цветком Серебряного века – убежденной монархисткой: портреты августейшего семейства стояли в ее уютной спальне. Почитала поэтическое слово и сама писала стихи. Мама боготворила Марину Цветаеву, сердцем чувствовала ее дар и ее трагедию. Обожала Анну Ахматову; встречалась с ней в 1944 году и читала в студии Анне Андреевне ее же стихи. Дружила с Михаилом Светловым, Николаем Асеевым, Наумом Коржавиным и Кариной Филипповой, сказавшей о ней: “Трель соловья в оправе Фаберже”.
А Михаил Светлов с веселой укоризной написал:
Что делать нам с Бибиком в участи девичьей — Поменьше бы в жизни встречать нам Гулевичей!Мама хоть и была Раком по гороскопу, но очень любила путешествовать, особенно поездом. Ей нравилось чередование пейзажей за окном – тогда она мечтала, молилась… Мы много ездили по стране, бывали в Закарпатье, в Крыму, на Днепре, в Ленинграде. Маме всегда хотелось подарить своим детям, мне и Наташе, самое доброе и прекрасное, радостное и светлое. Наше ощущение счастливого детства было ее рук делом. Мама говаривала: “Сколько в детей вложишь, столько тебе и вернется!” И мы всегда старались вернуть свой долг сторицей. Эмиграция надолго оторвала меня от мамы: нам оставались только письма и телефон. Сестра в 1980-е годы жила с мужем, журналистом газеты “Правда” Андреем Толкуновым, и сыном Митей в Нью-Йорке. Так что мама в те годы оказалась в разлуке с детьми. Счастье, что рядом с ней оставался любимый муж, которым она восхищалась.
Но как только ей, уже в эпоху Горбачева, позволили приезжать в Париж, она начала часто бывать в прекрасной Франции и полюбила ее. Прежде она бывала там лишь однажды, в мае 1965 года, во время гастролей Театра им. Моссовета. Когда она впервые приехала ко мне, то первым делом пошла в отель L’Ocean, где останавливалась с отцом во время тех гастролей.
Мама побывала и в Германии, и в Англии, и в Югославии, и в Чехии, а из Парижа нам удавались поездки в Андалузию, в Монте-Карло, в Бельгию, в Голландию и Италию. С первого взгляда мама влюбилась в Константинополь – Стамбул, когда ездила на премьеру моего “Щелкунчика” в Анкаре. И всегда обожала Литву, родной Павильнис. В свое последнее лето там, в 2002 году, она обошла весь наш большой сад, обняла каждое дерево и попрощалась с ними.
В Париже у мамы сложились замечательные, доверительные отношения с людьми русской эмиграции. Она любила и умела дружить как никто. Одаривала всех, словно добрая фея, и заботой, и теплом. Во время увлекательных летних поездок во Францию мама познакомилась с замечательными женщинами: Натальей Петровной Бологовской, портнихой и актрисой, с балеринами Ballet Russe Ольгой Старк, Татьяной Лесковой, Ксенией Триполитовой, с певицей кабаре Людмилой Лопато, с хористкой “Русской оперы” в театре Елисейских полей Тусей Замчаловой, с чилийской художницей Ириной Петровной Бородаевской; в Брюсселе сдружилась с семьей русского графа Николая Апраксина, в Париже – с графиней Жаклин де Богурдон. Но более всех ей были все же близки московские актеры Лев Круглый и Наталья Энке (прежде москвичи, а потом парижане), с которыми она путешествовала по Франции.
Конечно, все эти впечатления и новые знания мама дарила затем своим студентам как в Школе-студии, так и в Славянском университете в Москве, где в последние годы заведовала кафедрой сценической речи. Она составила удивительный “Словарь забытых и мало употребляемых слов русского языка”. Любовь к родному языку и речи она сумела привить и детям. А как она умела радоваться нашим успехам! Как принимала новые статьи дочери Наташи, известной журналистки и преподавателя МГУ, комплименты в адрес моей книги “Красота в изгнании”! Хотя могла быть и строгой, и требовательной, но всегда духовной, стоявшей выше мелочей жизни.
Мама была радушной, щедрой и хлебосольной хозяйкой. Гости в нашем доме бывали регулярно: родня, подруги детства, коллеги и добрые друзья, среди которых – редкость в советские времена! – были и иностранцы. Один их них – болгарский театровед Иосиф Конфорти, учившийся в ГИТИСе и изучавший историю русского театра. Женат он был на знаменитой болгарской летчице Розе Георгиевой. Это была весьма колоритная дама. Юбкам она предпочитала брюки, обувь носила исключительно без каблука и вообще выглядела очень мужественно, несмотря на свое женственно-цветочное имя. Зычным голосом Роза любила напевать:
Потому, потому что мы пилоты, Небо наш, небо наш родимый дом. Первым делом, первым делом самолеты, Ну а девушки? А девушки… сейчас!Прилетая в Москву компанией Balkan, Роза обыкновенно приходила к нам в гости с ночевкой. Она никогда не приезжала с пустыми руками. Сумки ее ломились от обилия вкусных гостинцев болгарского производства: какие-то консервы “Лечо”, всевозможные брынзы, настойка полыни… Даже мои первые джинсы были привезены Розой ни много ни мало из Ниццы. С ее легкой руки мама научилась печь национальные болгарские пироги – питку и баницу.
Бывала у нас дома и художница по костюмам, сербка Мара Финци, урожденная Трифунович, которая была женой знаменитого югославского искусствоведа. Искусствовед к тому времени давно умер, а Мара иногда наведывалась в Москву со старенькой мамой, маленькой и грузной сербкой. Однажды Мара приехала с приятельницей, русской эмигранткой из Югославии. (Я тогда не знал, что после революции в королевстве Югославия оказалось около шестидесяти тысяч эмигрантов из России.) Звали ее Светлана Богацинцевич. Эта красивая блондинка привезла в Москву сына, чтобы вылечить его от наркозависимости. Для меня это стало настоящим шоком. В 1975 году я понятия не имел о существовании наркоманов, о том, что их надо лечить.
Также отлично помню приезд интенданта театра в Саарбрюккене Хермана Ведекинда, которого отец должен был принять у нас дома, так как в Германии он принимал папу и Виктора Карловича Монюкова. Ситуация усложнялась тем, что на новую квартиру мы еще не переехали, а стены старой квартиры были порядком потертые. Чтобы спасти положение и как-то облагородить интерьер, папа даже одолжил у художника Анатолия Никича несколько крупногабаритных картин. За столом мама произнесла такой тост:
– Давайте выпьем за то, чтобы мы всегда жили в мире и никогда не делали пуф-пуф!
Это был 1970 год, воспоминания о войне были еще живы, будто она кончилась вчера… У всех в глазах стояли слезы.
Мама умела дружить и одаривать подарками своих друзей, принимать в них самое сердечное и непосредственное участие. Долгие годы она старалась помочь семье графа Василия Павловича Шереметева, выходца из некогда богатейшей русской семьи, художника, влачившего при большевиках нищенское существование. Дружила с киноактером Петром Глебовым и его супругой, красавицей Мариной, нашими соседями, с кинозвездой Натальей Фатеевой, со старейшими актрисами МХАТа Кирой Николаевной Головко и Софьей Станиславовной Пилявской, историком костюма Марией Николаевной Мерцаловой. Она помнила все дни рождения каждого из друзей и знакомых. Не пропускала ни праздников, ни тризн.
Мама была человеком большой русской души. Духовное играло огромную роль в ее жизни, оберегая от суеты мирской и готовя к жизни вечной. Уход ее из жизни в начале 2003 года у меня на руках был легким и светлым. Таким же, как и прекрасная жизнь ее, женщины, умевшей дарить добро и красоту стольким людям на земле.
Ближний круг
Ближний круг моих родителей состоял из незаурядных и талантливых людей, которые оказали большое влияние на мое формирование. В наш дом часто приходили художники, драматурги, скульпторы, актеры и поэты, и я рос в атмосфере постоянных разговоров о театре, о живописи, вообще об искусстве.
Очень хорошо помню знаменитого актера Петра Глебова и его очаровательную жену Марину Алексеевну, урожденную Левицкую. Они были нашими соседями по дому и мамиными близкими друзьями, а их красавицы дочери – Лена и Оля – дружили с моей сестрой. За Петром Петровичем я даже донашивал какую-то французскую обувь, потому что у нас был один размер ноги, а Марина Алексеевна, или “тетя Марина”, как я ее называл, зная о моем увлечении стариной, приносила мне от знакомых старушек кошельки, старинные фотографии, перчатки, пуговки, кружева… Тетя Марина Глебова очень хорошо рисовала, любила акварель, с большим юмором и красивым акцентом рассказывала нам грузинские анекдоты, так как в молодости жила в Батуми. У нее был элегантный стиль одежды, всегда хорошее настроение и очаровательная дворняжка Джерик, белый в черных пятнах. Сестры Оля и Лена Глебовы спасли его от уличных хулиганов. Джерик был таким умным, что сам, один, ходил гулять, спускался по лестнице, а поднимался на лифте, ведь в подъезде все жильцы его знали. А перед квартирой Глебовых он подпрыгивал и носом звонил в дверь!
Легендарный исполнитель роли Григория Мелехова в классической экранизации “Тихого Дона” являлся потомственным дворянином и происходил из старинного рода князей Трубецких, поэтому квартира Глебовых на Фрунзенской набережной была заполнена многочисленными семейными портретами, старинной мебелью красного дерева и красивой посудой. У них, например, хранился редкий овальный портрет княгини Трубецкой кисти Винтергальтера, старинные пастели из имения Трубецких Узкое. На старости лет Петр Петрович с Мариной жили, увы, небогато: чтобы прожить в лихие 1990-е годы, им приходилось что-то продавать из старины. Я приобрел много маленьких безделушек, а также дорожный секретер Грибоедова из старинного имения на реке Зуша, перламутровый веер 1850-х годов княгини Трубецкой, ранее принадлежавший ее родственнице герцогине де Морни. И дядя Петя, и тетя Марина бывали в Париже у своих родственников графов Толстых.
Узнав о том, что я собираюсь уехать в Париж, Марина Алексеевна Глебова дала мне адрес своей родственницы графини Толстой-Загадской и сказала: “Передай ей от нас письмо и конфеты”.
Буквально в первые же дни пребывания в Париже я отправился по этому адресу. Графиня была счастлива получить весточку от Глебовых, она очень тепло приняла меня и даже дала какие-то советы, один из которых звучал так: “Держись русских: они тебе помогут”. И она была права!
Мои родители также очень дружили с графом Василием Павловичем Шереметевым, жившим вместе с женой Ириной Владимировной и дочерью Дуняшей с нами по соседству на Фрунзенской набережной, дом 36. Василий Павлович был талантливым художником-мозаичистом. С 1951 по 1957 год он под руководством Павла Корина работал над созданием мозаичных панно на станции метро “Комсомольская” и других. Так, например, авторству Шереметева принадлежит мозаика “Переяславская рада” на станции метро “Киевская”-кольцевая, где среди запорожских казаков он изобразил и себя. Этот автопортрет графа можно и теперь на этой станции метро увидеть.
Детство и юношеские годы Василия Павловича прошли под открытым небом в Напрудной башне Новодевичьего монастыря, куда из родового имения Остафьево в 1929 году выселили всю его семью. Его отец, историк граф Павел Сергеевич Шереметев, лично сдал Ленину ключи от своего имения со словами: “Спасибо советской власти, что освободила меня от трат на эту недвижимость”. После этого усадьба была национализирована и превращена в музей, в котором бывший владелец с 1918 года по 1928-й числился хранителем и заведующим. Огромная библиотека Шереметевых, родовые реликвии, картины на нескольких подводах были вывезены в Новодевичий монастырь и свалены в исторической башне, где в давние времена была заточена царевна Софья, сестра Петра Великого. Жизнь в башне стала настоящим испытанием для семьи: под восьмиметровым потолком летали птицы и завывал ветер, зимой помещение невозможно было натопить, а летом стояла страшная духота…
Почти тридцать лет Василий Павлович прожил в этой башне. Только в самом конце 1950-х годов Ирине Владимировне удалось выхлопотать крошечную однокомнатную квартирку на Фрунзенской набережной, куда с трудом уместился весь архив Шереметевых. В детстве я часто бывал у них в гостях и хорошо запомнил обстановку этого дома, наполненного фолиантами XVIII века с личными экслибрисами Шереметевых и бесценными реликвиями их рода, среди которых было знамя Полтавской битвы, чашечка, подаренная графу Шереметеву Екатериной Великой, рукописи Карамзина, работавшего в Остафьеве над “Историей государства Российского”, иконы из иконостаса Новодевичьего монастыря… Этот иконостас, по рассказам графа Василия Павловича, большевики разобрали на доски и велели из них сколотить публичные туалеты. Улучив момент, он тайком перетащил иконные доски в свою башню, откуда они с другим скарбом Шереметевых и переехали на Фрунзенскую набережную. Спасенные иконы Василий Павлович хранил в туалете, уложив штабелями одну на другую. Не потому что не ценил – они просто не вписывались в размер единственной комнаты, в которой проживали три человека.
Семья Шереметевых существовала в постоянной нужде на одну небольшую зарплату добрейшей Ирины Владимировны, работавшей библиотекарем в Институте иностранных языков, и на редкие заработки Василия Павловича. Граф регулярно приходил к нам, чтобы одолжить немного денег. Ему, истинному дворянину, было страшно неловко просить взаймы два-три рубля, но даже при сильной нужде накопленное предками добро он не продавал, а дарил музеям.
Коллекционеры-антиквары неоднократно предпринимали попытки уговорить Василия Павловича продать фамильного Рембрандта – картину “Христос у Марфы и Марии”. Но Шереметев был непреклонен: “Рембрандт не продается!” Однако в 1956 году – в год 350-летия со дня рождения великого голландца – Василий Павлович преподнес картину в дар Музею изобразительных искусств им. Пушкина. А в благодарность от Музея получил двухмесячную путевку в Дом творчества художников, откуда, впрочем, уехал, не выдержав и двух недель.
Второго подлинного Рембрандта – портрет юноши – обманным путем заполучил коллекционер Феликс Вишневский. Художник Алексей Смирнов (фон Раух) в своих воспоминаниях написал: “Голицыны, выселенные из Москвы в Дмитров, за сто первый километр, сохранили много семейных раритетов. Не меньше их было и у Шереметева, но он их прожил за бесценок, когда к нему подваливал с коньяком антиквар Вишневский”. Впоследствии собрание самого Феликса Евгеньевича составило основу образованного в 1971 году музея В.А. Тропинина. Он передал в дар городу не только более двухсот произведений живописи и графики, но и свой особняк. Другого выбора у него не было – в это время в КГБ развернули целую кампанию по изъятию коллекций.
Огромный архив Шереметевых Василий Павлович еще при жизни сдал в Центральный государственный архив древних актов. Большая часть коллекции средневековой немецкой живописи из Остафьева попала в Музей изобразительных искусств им. Пушкина, а в самой усадьбе в советское время организовали Дом отдыха Совета министров СССР. Я был там однажды зимой в период “дома отдыха” и видел в остафьевском парке памятники Пушкину и Карамзину, установленные еще при прежних владельцах. Часть мебели из Остафьева досталась московскому музею А.С. Пушкина.
Близкой подругой и коллегой моей мамы по Школе-студии МХАТ была хореограф-балетмейстер Ольга Всеволодовна Всеволодская-Голушкевич, урожденная баронесса фон Гернгросс. Ее отец – барон Всеволод Николаевич Всеволодский-Гернгросс, известнейший театровед, посвятивший жизнь изучению русского театра XVIII–XX веков. В 1918 году он основал в Петрограде Институт живого слова, который после 1924 года преобразовали в Научно-исследовательский институт речевой культуры. На старости лет Ольга Всеволодовна рассказывала о великих князьях. Помнить их она не могла, но по рассказам своей мамы-скульптора знала, что живший в Мраморном дворце князь императорской крови Гавриил Константинович Романов держал ее, совсем кроху, на руках.
Ольга Всеволодовна была профессиональной балериной, одной из учениц Агриппины Вагановой. В 1936 году она окончила Ленинградское хореографическое училище и стала солисткой театра имени Т.Г. Шевченко в Киеве. Ольга Всеволодовна рассказывала мне, что во время оккупации Киева многие из ее коллег балерин, а также солисты Киевской оперы продолжали работать, поэтому, когда Красная армия освободила Украину, они отступили с немцами во Вроцлав, продолжая давать спектакли там.
Позднее Ольга Всеволодовна стала солисткой “Мосэстрады”: в черном шелковом платье с запа́хом и розой на талии танцевала фокстрот, чарльстон и танго. Кроме того, она умудрилась в советское время открыть частную школу бального танца.
Ольга Всеволодовна была настоящей жертвой моды в самом критическом смысле этого слова. По три раза в день переодевалась в наряды, которые отличались исключительной экстравагантностью. Доставала она их в комиссионном магазине, расположенном на бывшей улице Герцена, прямо напротив театра Маяковского. Многие дипломаты жили в советское время в этом районе, а их жены часто сдавали в комиссионку свои наряды, уже вышедшие из моды. Ольга Всеволодовна ходила в этот магазин ежедневно, как на службу. Продавщицы ее обожали и откладывали специально для нее пышные юбки в стиле new-look, широкополые шляпы, потрясающие вещи из каракульчи, горжетки из соболя, норки и куницы… В Школе-студии МХАТ, где она была педагогом-балетмейстером, Гернгросс так и прозвали – Ку`ничка. Эта страсть к переодеваниям и регулярные набеги на комиссионный магазин сделали Куничку одной из самых элегантных женщин в Москве. Ее любимым цветом был зеленовато-серый, она считала его наиболее привлекательным и называла “цветом мертвой фисташки”.
Однажды мне довелось побывать с Ольгой Всеволодовной в Чехословакии. Это была туристическая поездка от Школы-студии. Поскольку в своих широкополых шляпах выглядела Куничка как героиня голливудских фильмов 1940-х годов, то все ее принимали за американку. Когда мы ходили по местным универмагам, в которых она самозабвенно выбирала себе шляпки и перчатки, вслед нам все время доносилось: “Пани американо?” Никакой “американо” пани не являлась, но впечатление производила именно такое. Она была суха, как египетская мумия, с огромными глазами, потому что почти ничего не ела. “Никто никогда не увидит, что вы съели, – любила повторять Гернгросс. – Но все заметят, во что вы одеты. Поэтому деньги я всегда тратила только на одежду!”
В жизни Ольги Всеволодовны было три главные привязанности: бриллианты, мужской пол и балет. Увлечение балетом явно затмевало увлечение мужчинами, потому что в почтенном возрасте она любила вспоминать: “Лежишь, бывало, с любовником в кровати, а ножками репетируешь новый танец. Я никогда времени даром не теряла. А чего лежать без дела! Я ножками движения разучивала”.
Однажды Ольга Всеволодовна вместе с моей мамой и еще двумя педагогами Школы-студии по сценической речи, Ольгой Фрид и Анной Петровой, оказались в институте Склифосовского. Случилось это по вине пьяного водителя грузовика. Не справившись с управлением, он на своей махине влетел на тротуар Большого Харитоньевского переулка, по которому шли Ольга Всеволодовна с приятельницами. У каждой диагностировали сотрясение мозга. Очень строгий и надменный главврач, зайдя к ним в палату, кивнул в сторону Ольги Всеволодовны и сказал:
– Ну, эта во время войны наверняка подполковником была?
Куничка отреагировала моментально:
– Почему под полковником? Под генералом! И не под одним!
Кстати, одно время, еще до войны, Гернгросс была замужем за царским офицером Владимиром Голушкевичем, который после революции в числе многих других белогвардейцев перешел на сторону большевиков и действительно стал генералом. Это был подтянутый, образованный человек с профессиональной выправкой, чей военный и политический опыт, знания и мастерство советское руководство использовало при обучении вчерашних рабочих и крестьян в Военной академии имени Фрунзе. Такое тоже бывало!
О страсти Ольги Всеволодовны к бриллиантам знали все педагоги и студенты Школы-студии. Я на всю жизнь запомнил ее ночной звонок (она вообще чаще всего звонила ночью) и вопрос:
– Санечка, мне Слава Зайцев шьет шубку из каракульчи; как ты думаешь, не будет ли слишком вульгарно, если я закажу к ней бриллиантовые пуговицы?
У Гернгросс были чудесные алмазные елизаветинские серьги, хорошие николаевские брошки и кольца с завидными бриллиантами-солитерами, которые она носила по два на каждом пальце. Откуда, спросите вы, такая роскошь в советское время? Дело в том, что, когда в 1939 году войска Советского Союза занимали старинный польский, а еще раньше австро-венгерский город Львов, Ольга Всеволодовна тут же бросилась туда на гастроли в составе фронтовой бригады – танцевать фокстрот и танго перед солдатами нашей армии. В свободное время она обходила все местные скупки, куда нуждавшиеся в деньгах поляки относили фамильные бриллианты. Став обладательницей весьма внушительной коллекции, Гернгросс вернулась в Москву. Однако в 1970-е годы самая элегантная дама в Москве в один прекрасный день была ограблена. Дверь не была взломана. Квартиру открыли ключом, когда Ольга Всеволодовна была на работе, и вынесли все ее великолепные драгоценности, кроме тех, что были на ней, а также бутылку коньяка и флакон французских духов. Сказать, что Ольга Всеволодовна была расстроена, значит не сказать ничего. Она была убита горем.
Первым делом Куничка бросилась в милицию.
– Я хочу сделать заявление! У меня украли бриллианты! – воскликнула она, влетев в отделение в собольей шубе.
Тут Ольга Всеволодовна стянула замшевые перчатки, приоткрыв миру тонкие пальцы, унизанные солитерами, и, вытянув перед милиционером руки, воскликнула:
– Это все, что у меня осталось!
Милиционеры так и прозвали ее – “бриллиантовая рука”.
Последней, кто видел в целости все эти драгоценности, была известная в те годы актриса Алла Азарина, с которой меня Куничка и познакомила. В причастности к этой поистине эпической краже Ольга Всеволодовна подозревала одного из бывших “мужей”. А их, судя по всему, было несколько. Я на всю жизнь запомнил ее рассказ:
– В новогоднюю ночь иду по улице Горького. Порошит снежок. Впереди мужчина. Я прибавила шаг и поравнялась с ним. Вижу – старый знакомый! Он даже одно время был моим мужем!
Меня Ольга Всеволодовна обожала. Часто принимала в своей маленькой однокомнатной квартирке в высотке на Площади Восстания, обставленной мебелью красного дерева, которая отлично смотрелась на фоне стен, выкрашенных в глубокий синий цвет. Она говорила, что добивалась глубины этого тона, добавляя в ультрамарин краплак. Куня всегда очень готовилась к моим визитам: сервировала стол тарелками XVIII века, разливала вино в потрясающие бокалы пушкинской эпохи и спрашивала:
– Ведь у меня не хуже, чем у Галины Вишневской?
Я неоднократно создавал костюмы для ее студентов, в которых те сдавали экзамены по танцам. В обязательной программе у нее были вальс-бостон, шимми и кекуок. Ну кто сегодня сможет научить вас танцевать кекуок? Она могла.
Ольга Всеволодовна мечтала, чтобы я стал ее наследником, но мой отъезд во Францию не позволил ей осуществить эту идею. Зато я имел счастливую возможность отправлять ей из Парижа посылки с модной одеждой и духами. Незадолго до смерти во время очередного телефонного разговора она сказала:
– Надеюсь, что я не страничка в вашей жизни, а целая глава.
Так и получилось… Ее коллекция по наследству перешла внучке прославленного актера Мамонта Дальского.
Одной из ближайших подруг моей мамы с детских лет была Марта Владимировна Цифринович – знаменитая актриса-кукольница. В довоенное время они жили по соседству у Елоховской церкви и в свободное от школьных занятий время вместе бегали в Дом пионеров. Эта высокая авторитарная дама говорила низким, чуть надломленным голосом с хрипотцой, всегда красилась в рьяную брюнетку со взбитой челкой, носила брюки клеш, неизменный свитер с хомутом и массивный кулон из янтаря на толстой цепочке.
Марта Владимировна была дочерью видных партийных деятелей. Надо заметить, что после революции, когда большая часть представителей русской интеллигенции была ликвидирована большевиками, место ее в значительной степени заняли образованные евреи, которые до 1917 года не имели права нарушать черту оседлости и селиться в крупных городах. По правде сказать, советская власть была еврейским изобретением и приведена в действие в нашей стране в виде великого эксперимента именно этим трудолюбивым народом. В науке, медицине, промышленности и партийном аппарате евреи заняли ключевые позиции в 1920-е годы. Так, отец Марты Цифринович, Владимир Ефимович, стал одним из создателей калийной промышленности в СССР и первым директором Соликамского калийного комбината. Однако от обвинения в предательстве и расстрела в 1938 году его не спасло даже личное знакомство со Сталиным. И для мамы Марты не стала охранной грамотой общая фотография с Иосифом Виссарионовичем, сделанная во время совещания жен ИТР и хозяйственников. Циву Марковну Цифринович арестовали 9 февраля 1938 года. Но даже это не пошатнуло ее искреннюю веру в идеи коммунизма. Когда уже очень пожилая Цива Марковна вместе с Мартой пришла однажды к нам домой на мамин день рождения, мой папа за обеденным столом поднял тост за Россию и русских. Цива Марковна отреагировала очень резко:
– За русских пить никогда не буду! Только за советских!
При этом сама тетя Марта в душе была настоящей диссиденткой. Именно она в 1970-е годы устраивала в своей мастерской в районе Чистых прудов на улице Жуковского концерты запрещенной бардовской песни. Я частенько бывал на этих концертах и до сих пор помню, как талантливый художник и поэт Евгений Бачурин под гитару исполнял свой знаменитый романс:
Ты крупица, я крупица, Нас с тобою двое. Из таких крупиц водица Бережок намоет. Зыбь песочком поиграет, Пока не наскучит, Господин хороший случай Врозь не разбросает. И погонит прочь из дому К берегу иному. Тебя влево, меня вправо, Вот и вся забава.В то время, когда наши соотечественники массово эмигрировали кто в Америку, а кто в Израиль, эта, казалось бы, наивная песенка звучала крайне злободневно. Если читать между строк, подтекст был таков: мы с тобой сейчас неразлучны, но может оказаться так, что жизнь разбросает нас, как песчинки, по разным континентам.
Окружение тети Марты также было наполовину диссидентским. По сцене Марта была хорошо знакома с замечательной певицей Ларисой Мондрус, уехавшей с мужем в Западный Берлин. Ее большим другом был эмигрировавший в 1972 году в Израиль, а оттуда в США художник Лев Збарский, муж знаменитой манекенщицы Регины Збарской. Теплые товарищеские отношения связывали ее с художником-нонконформистом Олегом Целковым, который в 1977 году по предложению властей покинул СССР и уехал во Францию. В середине 1980-х годов тетя Марта приезжала к нему в Париж, где с ней однажды приключилась забавная история. Некстати замешкавшись перед самым отъездом в Москву, она поняла, что опаздывает на поезд. На перроне тетю Марту ждала провожавшая ее жена Олега Целкова, статная красавица-блондинка актриса Тоня Пипчук, некогда ученица моего дяди, Петра Павловича Васильева. Поезд был готов вот-вот тронуться с места, когда Тоня, вскочив на подножку, заявила советскому проводнику: “Я – жена советского посла в Париже! Срочно остановите поезд! Едет заслуженная артистка Марта Цифринович!” И представьте, Тоне поверили и поезд остановили! Вот что значит русская актерская школа!
Пик популярности Марты Цифринович пришелся на 1950–1960-е годы. Будучи одной из любимых учениц Сергея Образцова, она, впрочем, отвергла его предложение служить в кукольном театре и отправилась в свободное плавание на эстраду. В огромном репертуаре тети Марты было два абсолютных хита, с которыми она объездила весь Советский Союз и полмира, регулярно выступая на всевозможных международных кукольных фестивалях.
Первый – это номер с газовым шарфиком и мужской перчаткой. Прикрепленный к проволочке шарфик играл роль женщины, а перчатка – мужчины. Перчатка упорно пыталась настигнуть шарфик, который все время куда-то увиливал. Перчатки по ходу действия постоянно менялись, изображая целую толпу мужчин, преследующих по-женски неуловимый газовый шарфик. Возможно, сегодня избалованным зрителям это представление показалось бы наивным, но в ту пору, когда все сходили с ума по пантомимическим миниатюрам Марселя Марсо, номер Марты Цифринович с нейлоновым шарфиком и кожаной перчаткой смотрелся по-европейски изысканно.
Но поистине народную славу тете Марте принесла кукла по имени Венера Михайловна Пустомельская, кандидат околовсяческих наук. Эту даму с длинным носом, в очках, с пучком на голове и меховой горжеткой создала художница и кукольных дел мастер Екатерина Терентьевна Беклешева. Более сорока лет тетя Марта выступала “в дуэте” с Венерой Пустомельской, сменив за это время только четыре копии – по кукле на десятилетие.
Заклятыми врагами тети Марты были знаменитые марионеточницы и чревовещательницы Мария и Евгения Донские, которые тоже работали в “Москонцерте” и отбивали у нее заработок. По мнению Марты, занимались они настоящей халтурой, тогда как ее уникальные номера представляли истинную ценность. Приходя к нам домой, она постоянно жаловалась маме на ненавистных марионеточниц.
Марта Цифринович одной из первых в Москве увлеклась антиквариатом и стала завсегдатаем комиссионных магазинов. Ее маленькая квартирка на проспекте Мира была обставлена мебелью красного дерева пушкинской эпохи, в буфете матово блестел старинный фарфор, под потолком висела бронзовая ампирная люстра. Словом, жила тетя Марта очень элегантно и изысканно. А будучи человеком добросердечным, часто делилась своими находками. Однажды подарила нам красивую супницу с гжельской росписью XVIII века. Тетя Марта всячески поощряла и мое увлечение стариной, подробно расспрашивала о моих находках и вообще относилась ко мне как к сыну. Своих детей у нее не было. Когда не стало мамы, она звонила мне, старалась поддержать и все время спрашивала, когда же я к ней приеду.
Марта Цифринович ушла из жизни в 2009 году. Ее мебель, личный архив и библиотека были переданы в соликамский музей “Уралкалия”, где памяти тети Марты посвятили постоянную экспозицию “Счастье быть с Вами”. Там же теперь хранится одна из четырех копий ее любимой куклы Венеры Пустомельской и портрет тети Марты кисти моего папы. Светлая память!
С Ольгой Юльевной Фрид мама познакомилась еще при поступлении в Школу-студию МХАТ и подружилась на всю жизнь. Тетя Оля была красивой еврейской дамой с профилем античной камеи и черными волосами, расчесанными на прямой пробор. Лишь одна прядь у нее была седой, как у Сергея Дягилева, которого за эту особенность называли Шиншиллой. В свое время мама написала на нее эпиграмму:
Оленька Фрид Приятна на вид — Роза, пион, А в душе – скорпион.По гороскопу Ольга Юльевна была Скорпионом.
Жила она в районе Цветного бульвара, в квартире, обставленной мебелью из черного мореного дуба, сделанной до 1914 года, но не законченной в связи с началом Первой мировой войны. Закончить не хватило денег. Поэтому одна часть буфета оставалась без резьбы. Гостиную украшала бронзовая скульптура улетающего бога торговли Меркурия, который, кажется, стоял еще в ювелирной лавке деда Ольги Юльевны.
Одевалась тетя Оля в темные, очень элегантные закрытые платья, сшитые на заказ у частных портних. Ее статный образ всегда дополняла толстая золотая цепь шнуровидного плетения, порванная в одном месте и зашитая коричневыми нитками. Ольга Юльевна была обладательницей совершенно выдающегося бюста. Приобрести готовое платье на такую фигуру было непосильной задачей. Мама рассказывала по секрету, что в советское время тете Оле приходилось шить самой даже бюстгальтеры – в продаже ее размера попросту не существовало. Она покупала две детские панамки, сшивала их, и получался неплохой лифчик.
Однако находились и в этом неудобстве свои преимущества. Учась в Школе-студии МХАТ, Ольга Юльевна выглядела гораздо взрослее многих своих сверстников, что позволяло ей беспрепятственно попадать в театр без билета или в столовую без пропуска, а то и в кабинет к какому-нибудь мелкому чиновнику. Ее представительный внешний вид, благодаря элегантной одежде, театральным горжеткам и шляпам, позволял видеть в ней работницу министерства, парткома или месткома и открывал многие двери.
К тому же говорила она мхатовским низким, хорошо поставленным голосом. Тетя Оля шла впереди и своим необъятным бюстом открывала все двери. Однокурсники трусили следом.
Замуж Ольга Юльевна вышла за ответственного партработника Матвея Исаевича Шифмана. Он был много старше ее, вдовец, имел от первого брака дочь Людмилу Хмельницкую, ставшую потом актрисой в Театре на Малой Бронной. Тетя Оля ему тоже родила дочь, умную и талантливую Юлю, с которой мы в юношеском возрасте очень подружились и часто проводили время вместе. Порой к нам присоединялась Марина Голуб, и мы наперебой начинали травить анекдоты про Брежнева, которого папа дома называл “болваном с лохматыми бровями”. Однажды за этим занятием нас застал Матвей Исаевич, который, бросив на меня строгий взгляд, сказал:
– Саня, никаких антиправительственных анекдотов у меня за столом в моем присутствии!
По окончании Школы-студии тетя Оля и моя мама по распределению попали в Центральный детский театр, хотя готовили их во МХАТ. Виной тому фамилии, звучавшие сомнительно в эпоху борьбы с космополитами. В труппе Художественного театра не нашлось места Валерии Меньковской, Татьяне Гулевич, Нинель Шефер, Ольге Фрид…
Их более смекалистые однокурсники поменяли свои иностранные фамилии. Так, Виктор Франке стал Монюковым, а Маргарита Юрге взяла себе псевдоним Юрьева, попала во МХАТ и получила из рук Аллы Тарасовой роль Анны Карениной.
На сцене Центрального детского театра Ольге Юльевне не удалось сыграть ничего выдающегося. Мама рассказывала, что ее главной ролью стала Кобылица в спектакле “Конек-горбунок”. Увидев, что в распределении написано “Кобылица – Фрид”, она очень расстроилась и даже плакала. Тогда Кобылицу заменили на Мать Конька. Эта интерпретация вполне устроила Ольгу Юльевну, и играла она с удовольствием. На словах “Кобылица та была вся, как зимний снег, бела” тетя Оля в огромной лошадиной маске выходила из левой кулисы и вставала на фоне стога сена под светящимся месяцем.
В спектакле по пьесе Сергея Михалкова “Я хочу домой” Ольга Юльевна играла немку по имени Шпек. Это были послевоенные годы, и дети из зрительного зала бросались в нее конфетами и вообще что под руку попадет. Кстати, актеры Детского театра не любили играть в спектаклях по пьесам Михалкова, потому что на банкет он покупал на всех одну бутылку водки и не приносил никакой закуски.
В новогодних елках по очереди с Олегом Ефремовым тетя Оля играла Кота. Она была полным и добрым котом, ее дети любили, а Ефремов – тощим и злым, дети его боялись. Поэтому когда намечалась какая-то ответственная елка, играть Кота доверяли Ольге Юльевне.
Невостребованность заставила ее раньше других покинуть Детский театр и вернуться в свою альма-матер в качестве выдающегося педагога по сценической речи, воспитавшего сотни отечественных актеров театра и кино. Позже, когда моя мама также стала преподавать в Школе-студии МХАТ, их юношеская дружба трансформировалась в дружбу профессиональную. Их разговоры по телефону длились часами, трубка просто раскалялась от этих бесед. О чем они говорили? О папе Вене, как любовно называли в Школе-студии ее ректора Вениамина Захаровича Радомысленского, о студентах, педагогах, об интригах… У Ольги Юльевны была любимая поговорка для студентов: “Надеть одежду и одеть Надежду”, благодаря которой студенты видели разницу между глаголами “одевать” и “надевать”, в употреблении которых многие до сих пор делают ошибки.
Конец Ольги Юльевны был печален. Болезнь Альцгеймера сделала ее совершенно беспомощной. Тетя Оля могла выйти из дома и потеряться во дворе. Юля часто находила маму на Цветном бульваре, когда та, подойдя в домашнем халате к совершенно незнакомым людям, спрашивала: “А вы не знаете, где я живу?”
С молодых лет мама поддерживала дружеские отношения с одной из самых красивых актрис Художественного театра Кирой Николаевной Головко, которая в девичестве носила фамилию Иванова. Кира Николаевна состояла в близком родстве с известным поэтом из первой волны русской эмиграции Георгием Ивановым. Обладательница потрясающих внешних данных и изысканных манер, она была принята в труппу МХАТа в конце 1930-х годов на роль Натали Пушкиной в спектакле “Последние дни” по пьесе Булгакова. Костюмы для этой постановки делала выдающаяся создательница костюмов, в прошлом поставщик императорского двора Надежда Петровна Ламанова. Кира Николаевна неоднократно мне рассказывала, как Ламанова, придя однажды на очередную примерку, сказала:
– Киру будем затягивать в корсет!
Затягивали так усердно, что бедная Кира в какой-то момент потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то увидела, что все столпились не вокруг нее, а вокруг Ламановой, которая в ужасе восклицала:
– Больше мне артистку Иванову не приводите на примерки! Она не способна даже в корсете ходить!
Замуж Кира Николаевна вышла за адмирала Арсения Григорьевича Головко, командующего Балтийским флотом, и, покинув в начале 1950-х годов МХАТ, отправилась с ним в Калининград, где стала ведущей актрисой местного драматического театра. Когда по долгу службы адмиралу надлежало вернуться в Москву, они получили квартиру в знаменитом Доме на набережной. После смерти Арсения Григорьевича у Киры разгорелся роман с человеком, который по возрасту годился ей в сыновья. Моя мама называла его “Кирин абажур”. Увы, абажур оказался проходимцем. Он мечтал о московской прописке и собственной квартире. Разумеется, влюбленная Кира прописала его у себя. При расставании она потеряла дачу, ей даже пришлось разменять огромные адмиральские хоромы и перебраться в крошечную квартирку в районе станции метро “Тульская”. Но что поделать – любовь зла!
В 1960-е годы Кира неоднократно выезжала в США, где у нее жили какие-то харбинские родственники. Выпускали ее свободно – все-таки жена адмирала, известная актриса. Возвращаясь из очередной поездки в Америку, она везла с собой полный чемодан синтетических шуб, страшно модных в то время. А таможенники, надо заметить, довольно строго встречали по возвращении на родину каждого из немногочисленных тогда командировочных и все время искали, чем бы поживиться. А тут целый чемодан шуб, хоть и не из натурального меха. У Киры спросили:
– Товарищ Головко, не много ли шуб у вас?
Актриса нашлась моментально.
– Ровно столько, чтобы одну подарить вам, – обворожительно улыбаясь, ответила она.
С 1958 года Кира Николаевна начала заниматься преподавательской деятельностью в Школе-студии МХАТ. Именно благодаря ей я получил боевое крещение в качестве театрального художника. Кира Николаевна предложила мне сделать выгородку декораций и костюмы к ее постановке второго акта чеховской “Чайки”, где роль Маши она отвела Марине Голуб, а роль Тригорина – Дмитрию Золотухину, которые в то время были влюблены друг в друга.
У меня тогда уже были уникальные альбомы со старинными фотографиями из дома текстильной миллионерши Александры Ивановны Коншиной, хозяйки нескольких мануфактур, расположенных в Пущинской волости при деревне Глазечня и в Высотской волости близ деревни Скрылья. Сын миллионерши в советское время работал дворником при собственном доме. Он-то и сохранил семейные альбомы, которые перед смертью передал нашей соседке, графине Ирине Шереметевой, а та, не зная, как ими распорядиться, вручила их мне. Эти альбомы я принес в Школу-студию и показал Кире Николаевне. Взглянув на фотографии, она сказала:
– Вот такую усадьбу мне и сделай: с колоннами, со ступеньками…
Я с энтузиазмом принялся за подбор реквизита и деталей декораций. В Школе-студии МХАТ нашел сценическую мебель, сделанную мебельщиком Виктором Селивановым по старинным образцам, правда, не из карельской березы, а из тополя. Эту мебель, участвовавшую еще в постановках Немировича-Данченко, кто-то самым варварским способом выкрасил в белый цвет. Мне пришлось маленьким кусочком стекла слой за слоем соскребать засохшую краску. В костюмерной Школы-студии мне удалось подобрать очень красивые костюмы, в том числе белое плиссированное платье актрисы Коркошко. И хотя Кира Николаевна ограничилась только одним актом из “Чайки”, для меня работа с ней стала прекрасным опытом. Она же дала сопроводительное письмо в журнал “Юность”, где была опубликована первая статья о моей коллекции пера Анны Малышевой.
Позднее Кира Головко участвовала в съемках моих авторских фильмов “Дуновение века” для канала “Культура”, в которых вспоминала о работе с Надеждой Ламановой, и даже передала в мою коллекцию несколько своих платьев. Киры Николаевны, последней актрисы МХАТа, помнившей Владимира Ивановича Немировича-Данченко, не стало в 2017 году, буквально за год до векового юбилея. Сама она любила повторять: “Живого Станиславского я видела только в гробу, а Немирович на меня еще заглядывался”.
Еще одной маминой подругой была известная в ту пору диктор телевидения Нина Кондратова – как говорили, первая женщина на отечественном телевидении: очень привлекательная, стройная, что для хрущевской эпохи считалось большой редкостью. Она любила одеваться в привозные платья, купленные с рук у дипломатов. Судьба к Нине оказалась жестока. Однажды во время прямого эфира с ВДНХ из павильона “Животноводство” бык мотнул головой и выколол ведущей глаз, что привело к непоправимым последствиям. Лишь по приказу Никиты Хрущева Нине разрешили вылететь в ГДР и заказать стеклянный глаз, каких в СССР тогда не выпускали. Так Кондратовой удалось продолжить свою карьеру на телевидении. Зрители не догадывалась ни о полученной травме, ни о наличии протеза. Впоследствии дочь Нины Кондратовой, Елена, передала мне несколько платьев легендарной телеведущей, которые мне довелось выставить однажды именно на ВДНХ. Так круг замкнулся.
Долгие годы мама дружила с Сюзанной Павловной Серовой, актрисой и впоследствии преподавателем сценической речи в ГИТИСе. Начинала Сюзанна Павловна в “Современнике” и вместе с моей мамой, которая на первых порах помогала молодому театру, выходила на сцену в эпизодической роли в спектакле “В поисках радости” по пьесе Виктора Розова, маминого друга. Они играли двух девчонок, которым герой Олега Табакова кричал вслед: “Все Фиры и Веры – дуры без меры”.
Сюзанна Павловна в молодости была совершенно очаровательной женщиной: изящная блондинка с голубыми глазами и вздернутым носиком. Мама ласково называла ее Сузик, а та в ответ именовала маму Гулей. В девичестве Сузик носила фамилию Барто. Ее отец, детский поэт Павел Николаевич Барто, был первым мужем Гетель Во́ловой, которая, взяв в браке его фамилию, заодно и имя сменила, став Агнией. Сюзанна Павловна также состояла в родстве со знаменитым русским художником Валентином Серовым – восемнадцатилетней она вышла замуж за его внука, Дмитрия Михайловича Серова. Сразу после свадьбы молодожены поселилась в том самом доме в Староваганьковском переулке, где провел последние годы жизни великий художник, и, как рассказывала сама Сюзанна Павловна, их с Дмитрием Михайловичем брачное ложе находилось прямо под подлинником картины “Похищение Европы”.
Одно время Сюзанна Павловна переживала бурный роман с известным композитором, князем Андреем Волконским, репатриантом из Франции, который в 1965 году в Москве организовал первый ансамбль старинной музыки “Мадригал”. Но роман романом, а второй раз замуж Сузик вышла за солиста “Мадригала” Евгения Аргышева, исполнявшего партии контртенора. Одним словом, жизнь Сюзанны Павловны виделась мне захватывающим приключением: внук Серова в роли первого мужа, “Похищение Европы” в спальне, любовная связь с князем Волконским, второй брак с контртенором… Все это казалось чем-то немыслимым.
Сузик очень интересовалась моим воспитанием и постоянно говорила маме:
– Гулечка, сын вырос – пора обрезать пуповину.
Она была уверена, что родители слишком пекутся обо мне и не дают никакой свободы.
Мама часами могла разговаривать с Сюзанной Павловной по телефону. Они взахлеб читали друг другу стихи. Обе знали их наизусть в огромном количестве: Цветаеву, Ахматову, Блока, Пушкина… Они были настоящими хранительницами русского поэтического слова.
Пушкин был для мамы всем – идеалом, вершиной… Надо заметить, что в советское время Александр Сергеевич Пушкин заменил многим людям Иисуса Христа. Поскольку имя Христа было в опале, именно Пушкин был избран негласной святыней. Пушкинские дни, Болдинская осень… – все это были ритуалы и церемонии поклонения солнцу русской поэзии. Многие интеллигентные люди, переживавшие запрет церкви, чтили Александра Сергеевича выше, чем Николая Чудотворца. Пушкин сближал маму с Фаиной Георгиевной Раневской; с днем рождения Александра Сергеевича мама ежегодно поздравляла свою подругу, знаменитую поэтессу Карину Филиппову.
С Кариной Степановной мама познакомилась в 1954 году, когда та была еще студенткой Школы-студии МХАТ и училась вместе с Владимиром Высоцким и Аркадием Стругацким на курсе Виктора Карловича Монюкова. Мама пришла к ним на вечернее занятие и сказала, что принесла бутерброды для Виктора Карловича. Монюков не очень тактично отреагировал на ее поступок, сказав:
– Ну, кто там хочет бутербродов? Я все равно сыт.
И Карина, совсем еще юная девочка, не понимающая, что происходит, внутренне очень обиделась за маму. Потому что ее неподобающим образом встретили и не так отреагировали на принесенные ею бутерброды.
Сближение их произошло позже. Карина окончила Школу-студию, должна была остаться в театре “Современник”, но, овдовев, уехала из Москвы с четырехмесячной дочерью на руках: жить ей было негде. Единственный выход – поступить в аспирантуру Школы-студии МХАТ, что обеспечивало получение комнаты в общежитии. И вдруг выясняется, что место в аспирантуру одно, а претенденток две – Карина и моя мама. Тогда Вениамин Захарович Радомысленский вызвал маму к себе и сказал:
– Ты первый выпуск, ты ученица Елизаветы Саричевой, ты любимая и ненаглядная девочка, умеешь преподавать. Но у тебя сыты дети, есть крыша над головой, есть муж, а у Карины все вверх дном: вдова, без площади… Кого принимать?
И мама решительно ответила:
– Конечно, Карину!
Далее последовала фраза Вениамина Захаровича:
– Ах, даже так… Тогда я еду выбивать два места в аспирантуру!
Дальше – ближе. Выяснилось, что Карина, как и мама, родилась 9 июля.
Каждое утро начиналось одинаково: они созванивались, и, когда Карина начинала жаловаться на жизнь, мама прерывала ее на полуслове:
– Кариша, давай поговорим о высоком.
Особенной датой для обеих, как уже говорилось, было 6 июня, день рождения Пушкина. Карина даже написала такие стихи:
Июнь. Шестое. Суета под окнами, Томится в сердце тихая печаль… Поговорим с тобою о высоком, Пока еще в груди звенит хрусталь.Карина Филиппова посвятила маме не одно стихотворение. Здесь, на страницах этой книги, я позволю себе процитировать два из них.
Трель соловья в оправе Фаберже, Ты – утешенье глазу и душе. И сердцу тихому забытый нежный звук, Звон хрусталя в груди на сотни верст вокруг. Уже почти одна случайно задержалась… Все реже видимся – какая жалость!И еще:
Ты – в Токмакове, я – в Токмакове. Ты – на Чаплыгина, я – в Хомутах. Что же выходит? То и выходит. Жизнь прошагали почти в двух шагах. Ты – впереди, я – старательно сзади, Ты – положительно. Я – кувырком. И никогда бы мне с жизнью не сладить, Если бы каждое утро звонком Не начиналось. Ну, кажется, встала. Только давай не судить, не рядить. Договорились же, что, просыпаясь, Мы о высоком должны говорить. Изо дня в день в беспрестанном полете Над адресами столицы родной. Где ты теперь? На каком повороте? Ты позвони. Мне не страшно с тобой.Жизнь Карины Степановны действительно катилась кувырком: какие-то неурядицы и передряги, несчастливые браки и недостойные мужчины… А потом на ее пути возник замечательный человек, художник-иллюстратор Борис Диодоров, автор рисунков к произведениям Тургенева, Толстого, Аксакова, а главное – Андерсена. Диодоров является лучшим в мире иллюстратором сказок Ганса Христиана Андерсена, признанным даже в Дании, на родине великого сказочника. С появлением Бориса Аркадьевича Карина обрела наконец тихое семейное счастье и возможность сосредоточиться на поэзии. Песни на ее стихи исполняли Клавдия Шульженко, Майя Кристалинская, Алла Пугачева, Людмила Зыкина, Валентина Толкунова, Филипп Киркоров…
Дом Карины Филипповой и Бориса Диодорова на Остоженке превратился в своеобразный культурный и светский салон, куда любили приходить артисты, музыканты, художники… Впоследствии из-за сахарного диабета Карина Степановна лишилась обеих ног и частично потеряла зрение, однако сумела сохранить жизнелюбие и доброжелательность.
Дом ее и сегодня полон гостей. Она принадлежит к редкому числу людей, которые способны подарить свое сердце другому. Я лично к этому типу совершенно не отношусь. Я настолько занят своим делом, что меня интересуют исключительно судьбы людей из моего самого близкого окружения, которым я во многом помогаю, а судьбы далеких проходят мимо меня. Карина устроена иначе. И сегодня, когда мы стали жить шире и богаче, все реже и реже можно встретить людей, которые столь самозабвенно растворяются в горестях и радостях другого человека и безоглядно отдаются творчеству, как это делают Карина Филиппова и Борис Диодоров. Дочь Карины Степановны, Ирина, стала княгиней Голицыной, так как вышла замуж за художника, а в прошлом предводителя Московского Дворянского собрания, князя Андрея Кирилловича Голицына.
Большим маминым другом был и драматург Виктор Розов. Его пьесы на сцене Центрального детского театра одну за другой ставил Анатолий Эфрос: “Ее друзья”, “В поисках радости”, “В добрый час”, “Традиционный сбор”. Почти во всех постановках была задействована мама. С Розовым они дружили домами и часто созванивались. Мама даже готовила для поступления в Школу-студию МХАТ дочь Виктора Сергеевича. Прекрасно помню, как Таня Розова приходила в нашу квартиру и с вдохновением читала “Мороз и солнце”. Став актрисой Художественного театра, она даже сыграла роль наследника Тутти в спектакле “Три толстяка”. А с Таниным мужем, режиссером Николаем Скориком, мне дважды довелось поработать на сцене МХАТа, создавая костюмы для постановки “Гофманиана” и “Метель”.
Виктора Сергеевича обожал и мой отец. Под влиянием мамы он даже написал его портрет. Мама вообще регулярно пыталась склонить отца к тому, чтобы тот начал писать портреты знаменитостей своего времени.
– Ну напиши Раневскую или Любовь Орлову, – просила она.
И, очевидно, именно с маминой легкой руки возникли портреты того же Розова, Плятта, Марка Захарова, с которым папу связывали не только профессиональные, но и приятельские отношения.
С Марком Захаровым они создали на сцене Театра сатиры спектакль “Мамаша Кураж и ее дети”, где главную роль исполняла Татьяна Пельтцер. Декорация представляла собой двор-колодец, куда выходили каналы для стока нечистот, – этакая клоака жизни, в которой существовали герои Брехта. Затем Марк Захаров пригласил папу на постановку спектакля “Темп-1929” по пьесе Николая Погодина уже в Ленком.
Придуманная им декорация была выполнена из металлических балок в конструктивистском стиле, совершенно несвойственном живописному стилю отца. Позднее, когда Захаров станет художественным руководителем театра Ленинского комсомола, главным художником он назначит талантливого одессита Олега Шейнциса, также выпускника постановочного факультета Школы-студии МХАТ. В тот год, когда я поступал, Шейнцис учился на последнем курсе. Его дипломной работой был спектакль “Пятая колонна” по драме Хемингуэя. Декорацию Олег Шейнцис выполнил в виде витражных окон наподобие витражей Гауди в Барселоне. Эти окна, расположенные торцом к зрительному залу, при движении создавали невероятную игру света и зрительно меняли пространство. Для “Пятой колонны” и для спектакля “Деньги для Марии” Шейнцис доверил мне подбор реквизита, который следовало выставить в форме натюрморта. А так как я всю жизнь обожал создавать натюрморты из старинных вещей, то с большим энтузиазмом ухватился за возможность помочь без пяти минут дипломированному театральному художнику.
Возвращаясь к ближнему кругу нашей семьи, невозможно не упомянуть имена двух замечательных художников – Веры Ипполитовны Араловой и Ефима Бенционовича Ладыженского. Оба учились на одном курсе с папой в Художественном училище памяти восстания 1905 года в мастерской Евгения Николаевича Якуба и пронесли дружбу через всю жизнь – кому сколько было отмерено. Фима Ладыженский, приехавший в Москву из Одессы, был очень талантливым и плодовитым художником, написал множество театральных эскизов и иллюстраций к произведениям Исаака Бабеля, замечательно работал в графике. В конце 1970-х годов Ладыженский эмигрировал в Израиль. Комиссия по вывозу художественных произведений позволила ему забрать из Советского Союза лишь малую часть собственных картин. Тогда Ефим Бенционович перед самым отъездом в Иерусалим собственными руками уничтожил более двух тысяч своих работ – акварелей, рисунков, темпер. В 1982 году Ладыженский покончил жизнь самоубийством. Так в СССР ценили культуру и искусство!
Их с папой однокурсница Вера Ипполитовна Аралова прожила очень насыщенную и яркую жизнь. В 1930-е годы она, дочь разведчика Первой конной армии Буденного, вышла замуж за афроамериканца Ллойда Паттерсона, который на Всесоюзном радио работал диктором иностранного вещания. Через год после свадьбы у них появился первенец – мальчик Джим, снявшийся в младенчестве в фильме “Цирк” с Любовью Орловой. Именно ему герои картины пели знаменитую колыбельную.
Спят медведи и слоны, Дяди спят и тети. Все вокруг спать должны, Но не на работе.Позже в семье Паттерсонов появились еще два мальчика – Том и Ллойд. При этом семейная жизнь не помешала Вере Ипполитовне заниматься любимым делом: она писала картины, оформляла спектакли, рисовала эскизы… Аралова стала одним из первых в СССР художников-модельеров и поступила на работу в только что открывшийся на Кузнецком Мосту Общесоюзный Дом моделей. Как позднее уверяла меня Вера Ипполитовна, именно она ввела в моду высокие сапоги, что, разумеется, было выдумкой. Возможно, в СССР в 1955 году высокие сапоги и стали новинкой, но в Париже их носили с 1925 года, и в моду их ввели русские эмигранты. Вера Аралова путешествовала и в Индию и с тактом вносила индийские нотки в свои творения в ОДМО.
Но в жизни Аралова была женщиной крайне резкой в суждениях, очень экспансивной и строгой. Работая в Московском Союзе художников, она уйму времени потратила на дрязги и интриги. Несмотря на то что мой папа очень с ней дружил, часто дома жаловался:
– Боже мой, что творится в МОСХе! Верка опять ссорится с Риткой Мукасеевой.
Вера Аралова с этой самой Ритой Мукосеевой, также художником по костюмам, почему-то видеть друг друга не могли. Споры, дележки, интриги… У папы волосы на голове вставали дыбом.
После распада СССР старший сын Веры Ипполитовны, тот самый Джим из фильма “Цирк”, нашел в США родственников своего отца. В Москве он оставил жену Ирину и вместе с престарелой мамой уехал в Америку, где блестяще выучил английский язык и даже стал поэтом. Живя в Париже, я иногда позванивал Вере Ипполитовне. Помню, как-то она просила:
– Ну что, ты процветаешь?
Я ответил:
– Не жалуюсь.
– Ну, давай-давай, процветай. А мы в Вашингтоне живем.
После отъезда Ладыженского в Израиль и Араловой в США у отца не осталось друзей юности, кроме искусствоведа Нисс Пекаревой-Гольдман, жившей с нами в одном дворе. Ее мать, скульптор Нина Ильинична Нисс-Гольдман, стала героиней повести Дины Рубиной “На Верхней Масловке”.
У отца был хороший приятель, скульптор-монументалист Олег Комов, который, впрочем, был на двадцать лет младше папы. Встретив меня однажды, Олег Константинович попросил приехать к нему в мастерскую. Мастерская находилась где-то на окраине Москвы, и я, не горя желанием тащиться в такую даль, спросил:
– А зачем?
– Я начинаю работу над памятником Пушкину, ты будешь мне позировать!
– Я? Позировать для памятника Пушкину? Мы ведь совсем не похожи!
– Лицом нет, а фигуры очень похожи, – заявил Комов. – Только необходимо найти исторический костюм.
И снова меня выручила костюмерная Школы-студии МХАТ. Там я отыскал сюртук из светлого сукна, выполненную по эскизу Мстислава Добужинского в 1912 году для спектакля “Где тонко, там и рвется” по пьесе Тургенева. В этом костюме актер Иван Берсенев выходил на сцену Художественного театра в роли Мухина. Сюртук сел на меня идеально, так как тогда я был очень строен. Там же, в костюмерной, я подобрал себе брюки, рубашку, шейный платок, перчатки, цилиндр и отправился с этим добром в мастерскую к Комову. Потребовалось несколько сеансов позирования, после чего Олег Константинович подарил мне мой портрет в гипсе, а созданный по моей фигуре памятник Пушкину с головой самого Александра Сергеевича отправился в Псков. И сегодня в Летнем саду этого города можно увидеть скульптурную композицию “Пушкин и крестьянка”. Открывали памятник 3 июня 1983 года. К тому времени я уже жил в Париже. На память об этой работе с Комовым его сын Илья, тоже скульптор, подарил мне мой карандашный портрет руки отца, Комова-старшего.
Дом на Фрунзенской
В памяти каждого человека навсегда остается улица или район, где он провел свое детство, юность. Повзрослев и многое повидав, сюда непременно хочется вернуться. Мне повезло, у меня нет необходимости куда-то возвращаться, ведь я и сегодня живу на Фрунзенской набережной, в родительской квартире, которую никогда не променяю ни на какие новомодные пентхаусы и суперсовременные апартаменты, потому что там не будет соседей, знавших меня с детства, не будет прекрасной яблоневой аллеи, не будет вида из окна на Москву-реку, не будет и окон папиной мастерской во дворе дома.
Прежде чем переехать в дом на 3-й Фрунзенской улице, мы жили в доме № 40 на Фрунзенской набережной. Этот огромный дом, построенный при Хрущеве, существует и сегодня. В то время еще не начали бороться с эстетикой и архитектурными излишествами, поэтому на доме была лепнина.
Близкая подруга нашей семьи и соседка, театральный критик Нателла Лордкипанидзе любила вспоминать, как 8 декабря 1958 года мой папа, счастливый и разгоряченный, выскочил на лестничную клетку и мигом сбежал с нашего четырнадцатого этажа на ее двенадцатый, чтобы поделиться радостью: у него в два часа ночи родился долгожданный сын!
Нателла Лордкипанидзе обладала удивительной фигурой: при узких плечах и небольшого размера груди у нее были невероятных размеров бедра, которые плавно покачивались под длинными юбками. Работала Нателла Георгиевна выпускающим редактором в газете “Неделя”, а ее муж Виктор Сажин был редактором отдела науки популярного журнала “Смена”. В детстве я очень дружил с их дочерью Наташей Сажиной. Поскольку нас с ней разделяли всего два этажа, мы частенько забегали друг к другу в гости на какие-то игры и даже совместно делали спектакль “Волшебник Изумрудного города”. Порой к нам присоединялся Ваня Аджубей, внук Никиты Сергеевича Хрущева. Ванин папа, Алексей Аджубей, кроме того, что был зятем первого секретаря ЦК КПСС, являлся главным редактором газеты “Известия” и очень дружил с Лордкипанидзе и Сажиным. Внука Никиты Сергеевича я запомнил довольно упитанным мальчиком. Он носил очки и был обладателем настоящего сокровища – электрической железной дороги, привезенной дедушкой из Америки. Ваня раскладывал ее на полу у Наташи Сажиной, расставлял маленькие фигурки коров, свиней и овечек, макет здания фермы и запускал вагончики. Я очень боялся повредить эти вагончики – такими хрупкими они мне казались.
Небольшая квартира Нателлы Лордкипанидзе и Виктора Сажина производила сильное впечатление на всякого, кто переступал ее порог. В одной комнате стояла мебель эпохи ампир, в другой – эпохи модерн 1910-х годов, доставшаяся тете Нателле в наследство от ее отца и деда, известных до революции в Тифлисе ювелиров. Но особенно запоминалась кухня, в которой одна из стен, неровная, со следами шпателя, была выкрашена в кроваво-красный цвет. Там же висела большая афиша испанской корриды в Мадриде и фотопортрет Хемингуэя – непременный атрибут любого интеллигентного дома в СССР в 1960-е годы. Еще в доме имелся музыкальный проигрыватель, на котором я впервые услышал песенки из фильма “Кабаре” в исполнении Лайзы Минелли. Сам фильм в советский прокат не вышел, однако пластинку с песнями почему-то решили выпустить.
Среди наших соседей по дому № 40 было немало актеров. Один из них – артист Театра имени Моссовета Анатолий Баранцев. Его жена, женщина очень модная и стильная, работала художником-модельером в Общесоюзном Доме моделей на Кузнецком Мосту. Сам Баранцев в театре исполнял небольшие роли, в кино тоже чаще всего играл в эпизодах. Но вот однажды я увидел его по телевизору в каком-то советском детективе, где дядя Толя появился в образе шпиона, тень которого мелькала в окне. Это произвело на меня огромное впечатление!
В нашем подъезде одно время жила звезда Большого театра неповторимая Ирина Архипова, а в соседнем – киноактриса Жанна Болотова.
На одном из нижних этажей дома в однокомнатной квартире жила вернувшаяся из эмиграции Ксения Куприна, дочь писателя Александра Куприна, манекенщица и актриса, снимавшаяся во Франции в кино под псевдонимом Kissa Kouprine. Служила она в Театре имени Пушкина, где ничего значительного за годы работы не сыграла. Про себя говорила: “Я в массовке часто выхожу на сцену, но больших ролей у меня нет. Я актриса без имени”. Именно это подтвердил мне бывший актер Театра имени Пушкина, а ныне известный телеведущий Юрий Николаев. По его словам, Куприну использовали только для массовых сцен, а чтобы не гримировать, часто сажали спиной к зрительному залу, накинув на спину то пальто, то меховую пелерину.
Чтобы как-то выжить, Ксения Александровна приторговывала парижскими вещами, которые ей по старой памяти присылали из Франции подруги – русские манекенщицы. В моей коллекции до сих пор хранится костюм из зеленого джерси, который мама как-то приобрела у нее. Однажды я спустился к Куприной, чтобы забрать какие-то вещи. В квартиру она меня не впустила – боялась, что разбегутся ее многочисленные коты. Именно поэтому дверной проем был больше чем наполовину закрыт сеткой. Запах стоял довольно терпкий. Я же на всю жизнь запомнил красивую, ухоженную, коротко стриженную женщину, протянувшую мне сумку с вещами. А вокруг сновали разномастные кошки, заинтересованные неожиданным визитом постороннего человека.
На одном этаже с нами жила ведущая актриса Московского государственного еврейского театра Этель Львовна Ковенская, которая после убийства Соломона Михоэлса по приглашению Юрия Завадского перешла в театр им. Моссовета. Тетя Эта была родом из Дятлова, а школу заканчивала в Гродно. Ее родными языками были идиш и польский. Попав в Москву перед самой войной, после того как 23 августа 1939 года был подписан секретный договор Молотова – Риббентропа о новом разделе Польши, она была вынуждена выучить русский язык, чтобы играть на нем. В еврейском театре тетя Эта получила главную роль в музыкальном спектакле “Блуждающие звезды” по роману Шолом-Алейхема, а позднее, уже на сцене театра им. Моссовета, воплотила образы Дездемоны в “Отелло”, Корделии в “Короле Лире” и баронессы Штраль в “Маскараде”.
Этель Ковенская была женщиной модной, эффектной, красивой и очень артистичной. Будучи актрисой не только на сцене, но и в жизни, она обожала яркий макияж, каблуки, перчатки… Моя мама, например, в жизни не любила пользоваться косметикой. При взгляде на нее невозможно было предположить, что перед вами артистка. Мама выглядела просто интеллигентной женщиной. А вслед Эточке Ковенской люди бросали: “Вон-вон, артистка пошла!”
В доме на Фрунзенской набережной тетя Эта жила с мамой Елизаветой Моисеевной Гарбер, бывшей актрисой и знатной кулинаркой, которая изумительно готовила форшмак, заливное и гефилте фиш, то есть фаршированного карпа. Это блюдо до сих пор можно купить в хороших кулинарных магазинах Вильнюса. Несмотря на то что в Литве осталось очень немного евреев, рецепт фаршированной рыбы сохранился и пользуется большим спросом.
То и дело тетя Эта заходила к нам, чтобы одолжить соль или перец, стакан муки или пару яиц, головку чеснока или морковку… Совершенно обычное дело для той поры.
Когда я узнал, что Этель Львовна, выйдя замуж за своего последнего “молодого” мужа, композитора Льва Когана, ученика Арама Хачатуряна, собирается эмигрировать в Израиль, то поинтересовался у нее:
– Тетя Эта, а у кого же вы будете одалживать лучок и морковку, когда от нас уедете?
Знаменитых ролей Этель Ковенской я не застал. Видел ее только в двух постановках театра им. Моссовета. Это был “Счастливый конец” – спектакль по известной фантасмагорической сказке Екатерины Борисовой, напоминавшей “Алису в Стране чудес”. В истории о приключениях маленькой девочки в нереальном мире Этель Львовне досталась роль Людоедки. Логово ее кровожадной героини находилось на втором этаже многоярусной декорации. И я прекрасно помню, как тетя Эта, размахивая бутафорским ножом, готовилась разрезать на части какого-то ребенка, чтобы потом сварить его в кипящем чане.
Второй спектакль назывался “Сверчок”. В ту эпоху все польское было очень модно в СССР, начиная от певицы Анны Герман и заканчивая телевизионной программой “Кабачок 13 стульев”. Тетя Эта играла польскую пани и говорила по-польски. Сидя за сервированным столом, она резала ножом кусок черного хлеба, который имитировал бифштекс, и запивала его чаем, заменявшим вино. В качестве музыкального сопровождения в этом спектакле звучали песенки популярного в 1960-е годы польского молодежного женского ансамбля “Филипинки”. Их твисты настолько запали мне в душу, что я даже попросил папу принести мне запись этой музыки и все время танцевал под нее. Любимой песенкой был “Валентина-твист”, посвященный космическому полету Валентины Терешковой в 1963 году.
Впервые после долгой разлуки я встретился с Этель Львовной в 1989 году уже в Израиле. Я жил в Иерусалиме в большом пентхаусе на бульваре Эшколь у своего большого друга и работодателя, хореографа и в прошлом солиста Кировского театра Валерия Панова, также избравшего путь эмиграции. Тетя Эта с мужем жила в районе новой Яффы. Она была ведущей актрисой театра “Габима”, снималась в кино, давала многочисленные концерты, преподавала актерское мастерство. Тетю Эту в Израиле носили на руках. Еще бы! Ведь она работала с самим Михоэлсом и была лучшей подругой его дочери, Нины Соломоновны. Слыла в Тель-Авиве 1970-х годов самой модной репатрианткой!
Еще одной нашей соседкой по дому была некая Инна Платоновна из квартиры № 178, женщина огромных размеров. Она была женой русского немца по фамилии Шнейдеров, брат которого долгие годы был ведущим программы ТВ “Клуб кинопутешествий”. Они делили квартиру с Кавешниковыми, чей сын Сергей был моим другом детства. Так как мои родители были людьми стройными и всегда следили за питанием, я часто слышал от мамы: “Будешь много есть – станешь таким, как Инна Платоновна!” Поэтому, когда Инна Платоновна попадалась мне на глаза, мой разыгравшийся было аппетит моментально улетучивался.
Кстати, об аппетите. Под нашим домом № 40 на Фрунзенской набережной располагался продуктовый магазин “Диета”, который мама прозвала “Голодная диета”. Из уст в уста передавалась популярная присказка: “Вхожу в советский магазин – теряю весь адреналин”. Несмотря на обилие отделов, среди которых был и мясной, и сырный, и кондитерский, витрины чаще всего сияли девственной чистотой. Ассортимент мясных отделов того времени очень точно и емко охарактеризовала Галина Павловна Вишневская: “Рога и копыта”. Когда на прилавки вдруг выбрасывали кур, ажиотаж поднимался невероятный. Плохо ощипанные, невыпотрошенные тщедушные тушки синюшного цвета мама ласково называла “синими птицами”, потому что они были такими же недосягаемыми, как Синяя птица из пьесы Метерлинка во МХАТе. Я также запомнил на всю жизнь, как при виде лежавших в лотке кусков обветренного мяса спросил у мамы:
– Давай купим это мясо и сварим супчик.
– Это есть нельзя, – резко ответила мама. – Ты видел, какого оно цвета?
Здесь же, на Фрунзенской, находился магазин “Молоко”, куда мама часто отправляла меня с литровой банкой за сметаной. Как-то раз я пришел в магазин, мне налили чего-то, что по консистенции больше напоминало кефир, чем сметану, а поскольку крышечек не было, банку сверху закрыли бумажкой. Резинки тоже не нашлось. И я аккуратно нес сметану домой. Когда мама открыла баночку и перевернула бумажку, то увидела на ней надпись: “Клава, сметану больше не разбавляй! Я уже два раза разбавляла!”
Кстати, моему отцу, который был человеком привилегированным – академиком Академии художеств, – на все государственные праздники полагался праздничный паек – продовольственный набор, за которым мне часто доверяли съездить. Паек выдавали в картонной коробке, и в него входил пакет с гречневой крупой, бутылка подсолнечного масла, консервы из сайры и шпрот, консервированная ветчина, коробка конфет и, кажется, бутылка советского шампанского. Думаете, бесплатно? Дудки! За него надо было заплатить 12 рублей.
На Фрунзенской набережной располагались два культовых кинотеатра – “Фитиль” и “Старт”. И в том и в другом демонстрировали иностранные фильмы. Невзирая на возрастной ценз-ограничение “Детям до 16 лет вход воспрещен”, я умудрялся проникать на любые сеансы. Помогала мне в этом моя одноклассница Лена Шевченко, обладательница рано сформировавшихся женственных форм и низкого грудного голоса. Будучи дочерью советского генерала, командующего погранвойсками, одевалась она всегда с иголочки, была высокой, статной, то есть выглядела старше своих лет. Чтобы ей как-то соответствовать, я надевал вывернутый наизнанку афганский полушубок и обувь с максимально высоким мужским каблуком. Вдвоем нас беспрепятственно пускали в кинотеатр даже на фильмы “после шестнадцати”.
Именно в “Фитиле” я впервые увидел картины с Луи де Фюнесом, Пьером Ришаром, Анни Жирардо… И уже тогда заметил мелькавшие в титрах, особенно американских кинолент, русские фамилии. “Как эти люди попали в Голливуд?” – мучительно размышлял я. Меня эта тема страшно занимала. Спустя многие годы я даже напишу об этом книгу, которую так и назову – “Русский Голливуд”. Я делаю все, чтобы пробудить в своей стране гордость за нашу эмиграцию, подарившую столько прекрасного миру!
В кинотеатре “Старт” на Хамовническом Валу демонстрировались менее кассовые, но не менее любопытные картины, и среди них “Призрак замка Моррисвиль” – наивная чешская пародия на мистические западные детективы. Кажется, что ничего смешнее этой комедии я в жизни не видел. Совсем недавно я пересмотрел этот фильм, отыскав его в интернете, и, как в детстве, до слез хохотал над злоключениями героев.
Еще одну картину – “Ущелье ведьм” – мы с сестрой смотрели в “Старте” несколько раз. Это был комедийный детектив польского производства, где в центре сюжета – история любви лыжника и эстрадной певички из ночного клуба. Я на всю жизнь запомнил момент, когда одна из актрис появляется в кадре в черной кружевной комбинации. Нам тогда это казалось диким развратом! До сих пор помню ее реплику: “Ну что, Анджей, веселись теперь без меня!”
В начале 1970-х годов в Парке Горького, раскинувшемся на противоположной стороне Москва-реки, впервые установили американские аттракционы, в том числе знаменитые американские горки, которые, впрочем, за рубежом почему-то называют русскими. Конечно же, мы с классом тут же ринулись в Парк Горького, чтобы одними из первых опробовать это новшество. Громче всех на резкие спуски и подъемы реагировали мои соученицы Леля Галинская и Света Миклина.
Позднее подобные аттракционы открыли в Сокольниках, куда я отправился вместе со своей подругой Ниной Беляевой, учившейся в параллельном классе и жившей неподалеку. Вдвоем мы частенько прогуливали уроки алгебры, физики и химии. На всю жизнь мне врезался в память аттракцион “Волшебная комната”. Детей и взрослых провожали в небольшую комнатку и сажали на диванчик. В какой-то момент предметы в этой комнатке – торшер, стол, стул, картины – начинали вращаться вместе со стенами, а недвижимым оставался только диванчик. Создавалось впечатление, что вы висите вниз головой. Мы с Ниной так сильно переживали эту круговерть, что по окончании сеанса решили вознаградить себя тортом “Прага”. И вот сидим мы с Ниной на задворках парка Сокольники и одной на двоих алюминиевой ложкой с жадностью поедаем торт “Прага”.
В Парке Горького сохранилось немало красивых зданий усадебной архитектуры, ведь раньше это был парк усадьбы Нескучное. Здесь сохранились две ротонды Голицынской больницы, построенные в начале XIX столетия. Также у пруда находилась старинная купальня в стиле ампир, неоднократно потом горевшая. Эта купальня стала местом съемок одного из эпизодов фильма Сергея Юткевича “Сюжет для небольшого рассказа”, в котором Марина Влади сыграла Лику Мизинову. До сегодняшнего дня в парке сохранился небольшой летний домик графа Алексея Орлова, который в советское время был превращен в общественную библиотеку.
Между Фрунзенской набережной и Нескучным садом в летнее время курсировали речные трамвайчики. За очень умеренную плату, кажется, в 3 копейки, можно было с легкостью от причала добраться до парка. Кстати, сам Парк Горького в начале 1980-х годов стал настоящей притчей во языцех благодаря американскому шпионско-детективному роману Мартина Круза Смита “Горький Парк” и его экранизации в 1983 году. В центре сюжета был сотрудник московской милиции Аркадий Ренько, расследующий убийство троих человек, тела которых найдены в Парке Горького.
Большим удовольствием в детские годы была для нас возможность прокатиться на общественном транспорте. В районе Фрунзенской набережной ходили автобусы № 8 и № 108, а также 17-й троллейбус. По Комсомольскому проспекту ездили троллейбусы № 31 и № 28. Внутри был установлен кассовый аппарат, похожий на лототрон, куда следовало бросать мелочь за проезд и откручивать себе билетик. Когда в час пик в салоне автобуса, троллейбуса или трамвая собиралось много народа, нужно было “передавать за проезд”. Иногда передавали уникальные монеты, выпущенные в 1920-е и в 1930-е годы. Я всегда их забирал себе и менял на современные. Ну где бы я еще нашел 3 копейки образца 1932 года? Билет в метро стоил пятачок. Но моя подруга, юная художница Маша Лаврова-Ященко, научилась мастерски подделывать единые проездные. Они в то время печатались на одинаковой бумаге, но отличались по цвету. Так вот, Маша гуашью тон в тон перекрашивала один и тот же проездной – то в лиловый, то в голубой, то в зеленый цвет… И представьте, контролер ни разу не остановил нас перед турникетом!
На 2-й Фрунзенской жил большой мамин приятель – макетчик Центрального детского театра Вадим Борисович Болтунов, который сыграл в моей жизни важную роль. Он приехал в Москву из Тбилиси в 1940-х годах вместе со своим товарищем Львом Кулиджановым, ставшим впоследствии знаменитым режиссером. Дядя Вадя, как я его называл, был высок, строен, сед. Он носил старинные перстни с сердоликом, собирал живописные этюды, старинный фарфор, венецианские пресс-папье, выполненные в технике миллефиори… Словом, настоящий эстет!
Дядя Вадя был уникальным мастером своего дела. Скрупулезно и тщательно он изготавливал мельчайшие детали для макетов, воплощал на сцене художественные решения любой сложности. На его рабочем столе всегда стоял великолепный макет последнего акта спектакля “Конек-горбунок” с царскими двухэтажными хоромами и тремя котлами, в которые прыгал Иван. Чтобы не оставлять меня дома одного, мама, убегая в театр на репетицию, по дороге к метро забрасывала меня к Вадиму Борисовичу. Дядя Вадя играл роль няньки, пока я не пошел в первый класс. Когда он вырезал из картона фигурки действующих лиц для макета к очередному спектаклю, я тихо сидел на диванчике у окна и наблюдал за ним. Мы не вели никаких бесед, поскольку я был слишком мал, но методичность его движений, интерес к театру, обстановка квартиры… – все это очень повлияло на меня. Следуя примеру дяди Вади, я тоже начал собирать спичечные коробки: у него была замечательная коллекция, в которой было много дореволюционных экземпляров.
Во дворе своего дома Вадим Борисович разбил чудный маленький садик, в котором посадил редкие для советского времени растения, например голубые ели. В качестве удобрения использовался коровий навоз, за которым дядя Вадя на электричке специально ездил в Подмосковье. Он собирал круглые плоские коровьи лепешки, проеденные червяками, и складывал их стопочкой одну на другую в коробку из-под торта “Наполеон”. Когда коробка наполнялась, он закрывал ее крышкой, красиво перевязывал шелковой ленточкой с бантиком и вез в Москву. Вот что значит настоящий эстет! Дома дядя Вадя размачивал навоз в воде и поливал им растения в своем садике. Может быть, поэтому многие из них до сих пор растут на 2-й Фрунзенской перед окнами его квартиры, в которой теперь расположилась нотариальная контора.
Вадим Борисович дружил с одной переводчицей с итальянского языка. Звали ее Маргарита. Эта самая Маргарита частенько по долгу службы бывала в Риме и однажды привезла мне оттуда в подарок пластилин. А я, надо сказать, в детстве очень любил лепить. Правда, советский пластилин представлял собой удручающее зрелище. В невзрачной коробке лежали твердокаменные брусочки жутких цветов: грязно-серый, грязно-коричневый, грязно-красный… Что бы я с ними ни делал, как бы ни смешивал, в результате все равно получалась бесцветная бурая масса. А пластилин, привезенный Маргаритой из Италии, радовал глаз ярчайшими химическими оттенками. Использовал я его очень экономно, только как вкрапления в поделки из советского пластилина.
Дяди Вади не стало в 1971 году. Его сестра Злата Борисовна, с которой они жили в одной квартире, перед отъездом к дочери, ветеринару Нонне Кейтхудовой в Куйбышев, передала мне его коллекцию спичечных коробков со словами: “Ну куда я их дену?” Перстень с сердоликом Болтунов завещал своему другу юности Георгию Товстоногову. Впоследствии я спрашивал у сестры Георгия Александровича Нателлы, нельзя ли получить перстенек на память о Вадиме Борисовиче. Она ответила:
– Это старинный грузинский перстень, я не могу тебе его отдать.
Среди близких друзей моей мамы была дворянская семья Ржановых. Они жили неподалеку, в доме 52 на Фрунзенской набережной, и были дружны даже с моей бабушкой Марией Григорьевной еще с 1940-х годов. До революции этой сугубо научной семье принадлежало хорошенькое именьице Афанасьево под городом Устюжна в Вологодской губернии. Сохранились даже его интерьерные фотографии. В молодые годы моей мамы один из Ржановых ухаживал за ней. Это была веселая послевоенная компания, куда входил и известный врач Стасик Долецкий, отец Алены Долецкой, будущего первого и легендарного редактора русского журнала Vogue, с которой и я был знаком с детских лет. В доме у Ржановых сохранялось немало антикварной русской мебели, в основном орехового дерева Николаевской эпохи в духе “второго рококо”, старинные русские шитые бисером вещицы, много древнего кружева, были также портреты предков, например помещицы-мотовки Окуневой из рода графов Мусиных-Пушкиных, первой жены Михаила Гавриловича Окунева, которая проиграла в картишки несколько деревень с крепостными. Теперь он находится у меня в коллекции. А моя бабушка, Мария Андреевна Рылова-Гулевич, даже принимала роды у Елены Сергеевны Ржановой; мне это было так приятно узнать много лет спустя. Научная деятельность академика Анатолия Васильевича Ржанова, специалиста в области полупроводниковой микроэлектроники и физики поверхности полупроводников, была оценена страной, и вся семья в 1961 году переехала в Академгородок Новосибирска. Впоследствии уже из Новосибирска ко мне в коллекцию попали платья и шляпы из этой благородной научной семьи.
На 3-ю Фрунзенскую, в дом, построенный в сталинское время для сотрудников Комитета государственной безопасности, мы переехали, когда мне было уже около четырнадцати лет. Поскольку моя любимая сестра Наташа была уже взрослой, красивой и умной девушкой и жить в одной комнате с малолетним братом удовольствия ей не доставляло, родители давно мечтали улучшить жилищные условия. Мы переехали в просторную трехкомнатную квартиру площадью в сто квадратных метров, где до нас жил народный артист СССР, актер МХАТа Владимир Белокуров, воплотивший в кино образ легендарного Валерия Чкалова. Беспробудно пьющий Белокуров разводился с женой, красавицей актрисой Кюнной Игнатовой, которая была младше его на тридцать лет. Владимир Вячеславович переезжал в нашу двухкомнатную квартиру в доме № 40, а Кюнна – в однушку в центре Москвы, полученную папой от ВТО.
Игнатову, которая была наполовину якуткой и чем-то неуловимо напоминала мне маму, я запомнил в меховой нутриевой шапочке и в пальто с нутриевым же воротничком. Дело было зимой, и Кюнна несколько раз приходила за своими вещами. От нее нам в наследство остались огромные цинковые корыта, в которых она, не имея стиральной машины, кипятила белье. Хотя приобрести стиральную машину в ту пору труда не составляло. К тому же Белокуров являлся лауреатом Сталинской премии, народным артистом и, казалось бы, мог позволить себе приобрести жене все, что душа ее пожелает.
Обстановка в гостиной Белокурова пробуждала воображение. Чего там только не было: карельская береза, сфинксы, бронза, кариатиды, серебряные канделябры… Подобную мебель я видел только в квартире оперной певицы Антонины Неждановой и ее мужа, главного дирижера Большого театра Николая Голованова. Со всем этим богатством Белокуров мечтал как можно скорее расстаться, понимая, что в новую квартиру обстановка из прежней попросту не поместится. Он умолял мою маму:
– Тань, ну купи у меня это барахло, куда я с ним поеду!
Пока в нашей бывшей квартире шел ремонт, Белокурову некуда было деваться. Отправляться в гостиницу он отказался наотрез, поэтому целый месяц жил с нами бок о бок, занимая одну из комнат. Делить жилую площадь с народным артистом оказалось сомнительным удовольствием. По ночам Белокуров будил маму и спрашивал, не найдется ли у нас чего выпить. Хранить алкоголь дома в семье было не принято, и мама отказывала ему. Тогда Владимир Вячеславович выходил посреди ночи на улицу, ловил такси и мчался в аэропорт Домодедово, где спиртное отпускали двадцать четыре часа в сутки.
Переехав, наконец, в нашу бывшую квартиру № 177 в доме № 40 по Фрунзенской набережной, Белокуров однажды устроил там потоп. Напившись, решил принять горячую ванну. Включил воду, прилег на диванчик и пьяно заснул. Перелившись из ванны, кипяток хлынул вниз. Затопленными оказались двенадцать этажей. Чтобы остановить наводнение, пришлось даже высадить дверь. Когда потерпевшие соседи во главе со слесарем ворвались в квартиру, то обнаружили, что сам зачинщик “всемирного потопа” все это время мирно спал, оглашая холостяцкую обитель богатырским храпом.
Зимой 1973 года совершенно пьяный Белокуров, неаккуратно разжигая газ, устроил в квартире пожар. Не зная, как локализовать возгорание, он не придумал ничего лучше, чем резко распахнуть окно, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Как только он рванул на себя оконные рамы, в помещение моментально ворвался холодный воздух, из-за чего огонь полыхнул с новой силой. Пожар, конечно, потушили. Но квартира вся выгорела. А главное, что сам Белокуров, получив воспаление легких, оказался в госпитале, где вскоре скончался. Кюнна Игнатова ушла из жизни в возрасте пятидесяти трех лет. Ее актерская судьба не сложилась. Будучи абсолютной красавицей, в театре она играла крошечные роли со словами “кушать подано”. На протяжении двадцати пяти лет исполняла роль горничной в “Трех сестрах”. 18 февраля 1988 года Кюнна не явилась на очередной спектакль. На следующий день актрису обнаружили в ее квартире лежащей на полу. А платья из ее личного гардероба в мой Фонд передал позднее ее сын.
Пожалуй, самым знаменитым нашим соседом по дому на 3-й Фрунзенской был известный сталинский поэт Евгений Долматовский, автор строк:
Друзья, люблю я Ленинские горы, Там хорошо рассвет встречать вдвоем, Видны Москвы чудесные просторы С крутых высот на много верст кругом.Или:
Родина слышит, Родина знает, Где в облаках ее сын пролетает…В советские времена в ходу была шутка, будто эта песня, музыку к которой написал Шостакович, является негласным гимном вездесущего КГБ. В свое время поговаривали, что Евгений Аронович имел видное звание сотрудника госбезопасности и был награжден всеми возможными медалями и орденами за верную службу. Может быть, именно поэтому еще при жизни Долматовского Евгений Евтушенко посвятил ему такие стихи:
Ты – Евгений, Я – Евгений, Ты не гений, Я не гений. Ты – г…о И я – г…о, Я – недавно, Ты – давно.Жил Евгений Аронович в соседнем подъезде. Мы каждый день встречались во дворе, выгуливая наших собак. Свирепый боксер Долматовского по кличке Марсик терпеть не мог нашего храброго скотчтерьера Гамлета. Всякий раз, когда Гамлет пытался пройти под животом у Марсика, тот всем телом прижимал его к земле и нам приходилось их разнимать.
При встрече Долматовский у меня порой спрашивал:
– Саня, а ты не боишься ошибиться в жизни?
Он был уверен, что брюки клеш, джинсы и индийские рубахи, в которые я тогда любил наряжаться, до добра не доведут. В этом он был прав! Я стал судьей программы “Модный приговор”. Сам он носил скромный пыльник и берет – хрестоматийный образ советского поэта. Много лет спустя, уже живя в Париже, я, к обоюдной радости, совершенно случайно встретил Долматовского в Лувре Антикваров.
Еще одним известным жильцом нашего дома был изгнанный из Чили генеральный секретарь компартии Луис Корвалан. Его обменяли на советского политического диссидента Владимира Буковского, которого выпустили в США. Поэт Вадим Делоне даже сочинил на эту тему частушку, моментально ушедшую в народ.
Обменяли хулигана На Луиса Корвалана. Где б найти такую …ь, Чтоб на Брежнева сменять.С Корваланом на 3-й Фрунзенской жили две его дочери – Мария и Вивиана. Вообще, после краха правления Альенде в СССР переселилась масса чилийских политических эмигрантов и центром их поселения удивительным образом стал город Запорожье. В 1989 году я сам попал в Чили, где оформлял балеты на сцене Муниципального оперного театра в Сантьяго и читал лекции по истории моды, послушать которые приходила одна из дочерей Пиночета. Самого Корвалана в Чили люто ненавидели и называли “картошкой на маленьких ножках”. Он таким и был: коренастым, приземистым, круглым и на коротких ножках. Из-за горбатого носа у него была кличка Орел. В Москве Корвалан полностью изменил свою внешность при помощи пластических операций: его сделали курносым и перекроили разрез глаз. Под чужим именем и став кучерявым блондином, Корвалан в 1983 году вернулся в Чили, где продолжал свою нелегальную деятельность.
Поскольку в наш дом на 3-й Фрунзенской селили в основном сотрудников КГБ, телефоны в квартирах, ясное дело, прослушивались. Папа рассказывал, что порой по ночам аппарат сам по себе начинал разговаривать. Он осторожно снимал трубку и подслушивал разговоры тех, кто прослушивал его. Однажды, когда у нас сломался телефон, соседи, те, что из первых жильцов, разрешили воспользоваться их аппаратом, на котором была прикреплена металлическая табличка с выгравированной надписью: “Товарищ, помни: телефон не обеспечивает тайну переговоров”.
Я очень любил заглядывать в мастерскую к отцу, тем более что располагалась она в соседнем доме, возведенном для строителей Дворца Советов, по адресу Фрунзенская набережная, 46. Чердаки этого дома отдали Союзу художников под мастерские. Выйдя на лестничную клетку, всегда можно было увидеть, горит ли свет в мастерской, и навестить отца во время работы. Он очень радовался моим внезапным визитам и, видя, что я проявляю живейший интерес к его творчеству, всегда показывал, над чем в этот момент работал.
Его соседями по мастерской на чердаке были художники Анатолий Никич и Борис Преображенский. О них очень тепло писал папа в своих воспоминаниях. Ярко-рыжий Никич, родом из Харькова, обожал рисовать с натуры, особенно с женской и желательно обнаженной. Эти обнаженные натуры частенько мелькали в его мастерской. Когда это происходило, то на его двери появлялась табличка “У меня гости”. Также Анатолий Юрьевич всю жизнь писал крупноформатные, но весьма аскетичные натюрморты, собранные из самых несочетаемых предметов. Например, ткань и молоток, поднос и книга. Казалось бы, несоединимые вещи, да еще в недостаточном количестве для полноценного натюрморта, но, слившиеся вместе, они олицетворяли женское начало и мужскую силу. В мастерской Никича стояло фортепиано красного дерева пушкинской поры, много цветов и книг, какие-то гипсовые маски… Он так же, как и мой папа, стал секретарем Союза художников, только по секции живописи. Папа даже писал портрет Никича, который я с радостью передал дочери Анатолия Юрьевича Светлане Енджеевской, живущей в Варшаве.
Борис Владимирович Преображенский, чья мастерская находилась во второй соседней комнате, был художником-баталистом. Мне лишь однажды довелось побывать в его мастерской. Позднее Борис Владимирович переехал в бывшую мастерскую художника Иогансона, скончавшегося в 1973 году. Папа в свою очередь перебрался в мастерскую самого Преображенского, а папину часть чердака заняла вдова Иогансона, Нина Александровна, которая была искусствоведом и перевезла туда огромное количество книг по искусству.
В доме для строителей Дворца Советов жил другой прекрасный художник, сегодня, к сожалению, почти забытый, – Валентин Андриевич, или дядя Валя Андриевич. Он был блестящим иллюстратором детских книг, создававшим рисунки не только к книгам Чуковского, Маршака, Барто и Заходера, но и к обожаемым советскими детьми журналам “Мурзилка” и “Веселые картинки”. С 1944 года дядя Валя стал художником Театра кукол Сергея Образцова. Он является автором всех кукол для знаменитого спектакля “Необыкновенный концерт”, в том числе “западной певички” по имени Эдна Стерве.
Дядя Валя был небольшого роста, носил огромные очки и всегда ходил с большой папкой, набитой рисунками. Я часто встречал его во дворе. Когда мне исполнилось пять лет, дядя Валя нарисовал для меня картонного ежика, на котором написал “Сане 5 лет”. Этот ежик долго украшал мой письменный стол и дожил до наших дней!
В том же подъезде, что и дядя Валя, обитала семья Велиховых-Тарховских, происходившая из известного дворянского рода Кисель-Загорянских. Папа был знаком с ними еще по Чите. Они жили в коммунальной квартире, из пяти комнат которой им принадлежали три, что по тем временам считалось неплохими жилищными условиями. Обстановка в этом доме восхищала мое юношеское воображение: красное дерево, орех, палисандр, старинный рояль, на стенах – потрясающие портреты и акварели и даже бюро-кабинет итальянской работы XVI века эпохи ренессанс.
К Велиховым мы с их сыном Мишей, ставшим затем священником в США, каждый год приходили на Пасху разговляться после крестного хода. Ах, какие пироги были на этом столе – с вязигой, с зеленым луком и яйцом, кулебяки, расстегаи! Разумеется, при таком рационе никто не мог похвастаться тонкой талией. В те времена вообще проблема диетического питания не стояла. Из-за того, что практически все продукты были в страшном дефиците, ели то, что есть.
Щедрые Велиховы всегда что-то находили для моей коллекции. Дарили то старинные пуговицы, то туфли, то гребешок, то кружево, то платье…
Благодаря связям с Шереметевыми, Глебовыми, происходившими из рода князей Оболенских-Трубецких, Велиховыми, Ржановыми, Юровыми я еще успел застать эпоху исчезающей дворянской Москвы… Проведя все детство и юность на Фрунзенской набережной, я застал этих людей, побывал в их хлебосольных домах, приобщился к их вековым русским традициям. Как это важно, когда нация помнит и чтит свои традиции, и как грустно, когда глобализация стирает все различия. Каждое новое знакомство с членами этих семей стало поворотным и судьбоносным событием в моей молодой жизни.
Центральный детский театр
Дорогой моему сердцу по детским воспоминаниям Центральный детский театр, если смотреть с Театральной площади, был расположен слева от Большого театра. С 1909 года это старинное здание снимал театр Незлобина, в репертуаре которого одним из самых популярных спектаклей считался “Орленок” по пьесе Ростана. В главной роли блистал артист Василий Ильич Лихачев. Рассказывали, что в советское время он подвергся репрессиям и был выслан на Соловки. Там же, в незлобинском театре, играла актриса Лидия Рындина – муза Игоря Северянина, одна из самых красивых русских актрис Серебряного века, позднее эмигрировавшая. После революции здание получил в свое распоряжение МХАТ 2-й. На его подмостках выступали Софья Гиацинтова, Серафима Бирман, Михаил Чехов и Екатерина Корнакова. А в 1936 году по адресу Театральная площадь, 2 обосновался Центральный детский театр.
Моя мама, поступившая в труппу в 1947 году после окончания Школы-студии МХАТ, попала в замечательную компанию писаных красавиц послевоенной Москвы. Она делила гримерную с четырьмя другими актрисами: Наташей Сальниковой, Магдой Лукашевич, Нинель Шефер и позднее с Татьяной Надеждиной. Все они дружили. Я слышал много театральных историй о толченом стекле в пуантах балерин, о подрезанных резинках на пачках, о споротых крючках на костюмах и прочих пакостях, которые подстраивали актрисы своим коллегам. Но в этой гримерке не было места зависти и злости даже по отношению к молоденькой и рано начавшей сниматься в кино Татьяне Надеждиной, ставшей позднее народной артисткой России. Когда в 1954 году она попала в театр, ее столик поставили в другую гримерную. Но остальные артистки, которые так хотели, чтобы она была вместе с ними, переставили ее столик к себе и пообещали, что научат вчерашнюю выпускницу училища имени Щукина готовить, вязать и вышивать. Последним аргументом для Надеждиной стало то, что именно в этой гримерке отмечаются все дни рождения.
Я бывал в этой гримерке почти ежедневно и помню в ней все: трюмо и лампочки, мамин грим, накладные ресницы, парики, “драгоценности” и костюмы… И массивное театральное зеркало в золоченой раме, в которое, наверное, смотрелась сама Жихарева, прима театра Незлобина в 1900-е годы. Окна гримерки выходили во внутренний дворик с железными крышами, поэтому всегда было очень тихо. У каждой актрисы был свой столик с зеркалом, обрамленным лампочками, как в начале XX века.
Гримировались тогда жирным гримом производства ВТО, но у некоторых актеров были еще старинные немецкие трофейные гримы 1930-х годов. Снимали грим вазелином или лигнином – специальной тонкой гофрированной бумагой, отлично впитывающей влагу и жир. Лигнин был на вес золота, выдавали его в строго ограниченном количестве, чтобы не перерасходовали. А Магде Лукашевич после спектаклей “Рамаяна” или “Хижина дяди Тома”, где она играла то индуску, то негритянку, и вовсе приходилось соскабливать толстый слой грима и вазелина с лица ножом, похожим на мастихин. Мне казалось, что она ужасно смелая! Нож-то был тупой, но я ребенком этого не понимал и все время спрашивал:
– Тетя Магда, а ты не обрежешься?
Женские гримерные в ЦДТ располагались на втором этаже, а мужские – на первом. Соединяла их узенькая скрипучая и шаткая деревянная лестница шириной на одного человека, построенная еще в XIX веке. Взбираться по этой лесенке наверх было непросто – такой крутой и высокой казалась она мне в детстве. Половицы скрипели и ходили ходуном, а любимым развлечением у мужчин-актеров было усесться под этой лестницей и рассматривать то спускавшихся, то поднимавшихся по рассохшимся ступенькам артисток, которые, надо заметить, брюк в то время еще не носили. Когда я много лет спустя оказался в Центральном детском театре, лесенку эту уже не нашел: ее разобрали. Теперь на второй этаж можно подняться по широкой каменной лестнице или даже на лифте. Театру отдали целый подъезд, где раньше располагались коммунальные квартиры, и необходимость в старинной деревянной лесенке отпала.
На женской половине театра работала обаятельная гримерша Анечка, которая приносила актрисам парики, выполненные в ту пору обязательно из натуральных волос, а не из синтетических. Косы привозили то из Украины, то откуда-то из Сибири, и постижеры изготавливали из них уникальные парики. Я помню запах этих париков, усов, ресниц, помню аромат грима и лака и клея для волос… Спектаклей без грима и париков попросту не существовало. Актрисы играли в корсетах и костюмах, расписанных золотой и серебряной краской, а еще чаще – фунтиком с пастой. Костюмы были выполнены в эстетике дореволюционного театра, хотя, конечно, в качестве уступали тем, что были сделаны до 1917 года. В советское время парчу заменяли расписанной золотом и залитой клеем мешковиной или байкой, фланелью. Часто делали аппликации из “гробового глазета”, который легко можно было покрасить анилинами в разные цвета. А вместо дефицитного жемчуга и драгоценных камней использовали крашеный горох, чечевицу и рис. В каждом приличном театре был художник, занимавшийся росписью костюмов и аппликациями. Иногда для спектакля мама сама распускала ожерелья из искусственного жемчуга, чтобы украсить кокошник, корсаж костюма или диадему.
Спектакли оформлялись натуралистичными декорациями. Это была полная имитация жизни на сцене, но при помощи театральных эффектов. Траву изготавливали из зеленых мохристых лоскутков, пришитых на машинке к половикам, но цвет их часто не совпадал, так что сценический газон бывал несколько пятнистым. Чтобы изобразить бугорок или пригорок, под половик просто подкладывали специальную форму из папье-маше, в которую втыкались какие-то кустики и цветочки. Вообще, у театральных художников того времени папье-маше было любимым материалом. Они вымачивали в клейстере рваные газеты и обклеивали ими сделанные из пластилина или глины формы вазы, лампы, гербы Российской империи или балясины на перилах. О копиях скульптур львов в Ростове-на-Дону пишет в своих воспоминаниях мой отец. Никакой условности в театре не существовало. Она пришла вместе с Юрием Петровичем Любимовым лишь в начале 1960-х годов, когда он возглавил Театр на Таганке, где не нашлось места натуралистичности соцреализма. А Центральный детский театр существовал по законам XIX и начала XX века, но именно его спектакли сформировали мои театральные вкусы и пристрастия.
На сценах советских театров царило искусство социалистического реализма, и иного подхода мы не знали. Те, кто шел против этого течения – Евреинов, Чехов, Мейерхольд, Таиров, Михоэлс, – либо уехали из страны, либо кончили очень печально. Главным художником Детского театра был с 1965 года колоритный и яркий Эдуард Петрович Змойро. В прошлом режиссер и автор множества шаржей, он мне казался большим оригиналом: по маминым рассказам, у него дома жила ручная обезьянка, часто бедокурившая и обижавшая его гостей. Работы у Змойро были очень подвижными и эффектными, как и его декорации. Он любил использовать на сцене двигающиеся фурки[11] и вертящиеся карусели, мне нравился его стиль, а уж зрителям-детям – и подавно.
В ту пору, когда меня начали водить в театр, мама из амплуа инженю перешла в амплуа героини, поэтому ее первые главные роли мне застать не удалось. Я не видел ни ее Софью в “Горе от ума” в прекрасном оформлении художника Михаила Курилко, ни принцессу Сяо Лань в “Волшебном цветке”, ни Люсиль в “Мещанине во дворянстве”. Но я помню великолепный спектакль “Конек-горбунок”, в котором мама играла роль Царь-Девицы в пару с примой театра Ритой Куприяновой, а начинающий тогда Олег Ефремов был Иваном. Во время очередного спектакля Ефремов умудрился в стогу сена потерять вставной зуб на штифте. На протяжении всего первого акта он то и дело запускал руки в стог, пока наконец не обнаружил пропажу. В антракте он вставил зуб на место и как ни в чем не бывало продолжил играть.
Главную роль, то есть непосредственно самого Конька-горбунка, играла великолепная Галина Иванова – актриса травести, которая была буквально создана для детского театра. Весь спектакль тетя Галя проводила на четвереньках и в маске, полностью скрывавшей ее лицо. Казалось бы, как можно в таком костюме вообще что-то играть?! Но она играла. И как! Это было что-то невероятное: голос, трогательная интонация, нежный взгляд… Сколько лет прошло, а глаза Конька я до сих пор не могу забыть.
Еще один спектакль, в котором играла мама, назывался “Рамаяна”. Это был бесспорный хит Центрального детского театра, поставленный по древнему индийскому эпосу в период расцвета советско-индийских отношений, которые пошли в гору после раздора с Китаем на почве автономии Тибета. Тогда же, кстати, в Москве появился знаменитый магазин “Ганга”, а в моду вошла индийская обувь, шкатулки и украшения из полудрагоценных камней. Главную роль в “Рамаяне”, царя Раму, играл мамин однокурсник, красавец Геннадий Печников, недавно скончавшийся в Москве. Даже постарев и погрузнев, он так и не смог отказаться от этой главной роли в своей жизни. А мама в очередь с Маргаритой Куприяновой выходила на сцену в образе принцессы Ситы. Точнее, ее выносили на сцену в паланкине – специальных носилках, служивших в Индии средством передвижения для аристократов. Спектакль был напоен ароматами Востока, наполнен индийскими танцами и песнями… Артисты играли в белых одеяниях. Мама убирала свои прекрасные темные волосы цветами, на лоб клеила граненый ромбовидный хрусталик розового цвета – и виделась мне совершенно невероятной красавицей.
Слава о спектакле “Рамаяна” дошла даже до Джавахарлала Неру. Во время своего визита в СССР в 1961 году премьер-министр Индии попросил отвезти его в ЦДТ. После спектакля Неру спросили, понравилась ли ему “Рамаяна”. Он ответил: “Да! Советские артисты играют даже лучше индийских!” А у меня до сих пор хранится фотография, на которой Джавахарлал Неру запечатлен в окружении актеров Детского театра, и рядом с ним, в центре, – моя мама. Дома у нас хранилось шелковое сари цвета электрик, и мама прекрасно умела его надевать и носить, а это целая церемония, отработанная веками.
Мама, кстати, практически всегда играла положительных персонажей. Лишь однажды ей досталась отрицательная роль. В патриотическом спектакле по пьесе Сергея Михалкова “Забытый блиндаж” она появлялась на сцене в образе немецкой шпионки по имени Лотта. Декорации этого спектакля стояли на поворотном круге, который, разворачиваясь, показывал интерьеры “забытого блиндажа”. На маме были зеленые замшевые туфли на шпильке, зеленый костюм, белые перчатки и белая высокая шляпа из кожи. Сразу становилось ясно: перед вами иностранка. А еще по роли маме приходилось курить. Она так и появлялась на сцене – с сигаретой во рту, чем страшно меня шокировала, поскольку в жизни никогда не курила. Мамин текст я запомнил на всю жизнь. Закинув ногу на ногу, она говорила:
– Я только что из Варшавы. У меня новые сведения.
И я, сидя в первом ряду зрительного зала, думал: “Неужели мама действительно успела съездить в Варшаву за это время?! И какие же сведения она сейчас рассекретит?!”
Но эта роль, повторюсь, была единственной отрицательной в ее послужном списке. Вот и в спектакле “Волшебный цветок”, поставленном во времена дружбы СССР с Китаем, ей досталась роль младшей доброй сестры, а злой сестрой была мамина соученица по Школе-студии МХАТ моложавая Нинель Шефер. Интересно, что актрисы во время репетиций собственноручно по трафарету вышивали свои китайские халатики. Эта сказка, поставленная выдающимся режиссером Марией Осиповной Кнебель, очень любившей мою маму, имела грандиозный успех и шла довольно долго. Благодаря оркестру она казалась действительно волшебной по звучанию. Например, звенели колокольчики, и юные зрители даже не догадывались, что звук этот извлекается с помощью треугольника.
Режиссер Игорь Власов, видевший “Волшебный цветок”, в красках описывал удивительную и пластичную проходку мамы с китайскими фонариками в руках по “китайскому ночному саду”. Пьесу населяло множество персонажей, связанных с флорой и фауной. Например, любимая мной Магда Лукашевич играла Петунию, Татьяна Надеждина с Натальей Сальниковой были Русалками, а выдающийся актер Лев Дуров изображал Репей. Олененок, Зайчонок, Дедушка Кедр, Птичка, Светлячки – всё это персонажи “Волшебного цветка”. Главного героя по имени Ма Лань-Хуа играл знаменитый актер и певец Олег Анофриев. Этого спектакля я уже не застал, но моя сестра смотрела его неоднократно. Ее усаживали в зрительный зал, и она, с гордостью поворачиваясь к сидящим рядом сверстникам, объявляла: “А это моя мама!” У Наташи даже сохранилась фотография, где она совсем малышкой сидит на руках у китайского посла, который приходил на эту пьесу и познакомился с артистами.
Игрался на сцене ЦДТ спектакль “Том Сойер”, где мама исполняла роль Мэри, старшей сестры главного героя. А в спектакле “Удивительный год” она сыграла старшую сестру Ленина – Анну Ильиничну. Многие постановки мне не удавалось посмотреть от начала до конца. В гримуборной было радио, так и сейчас устроено во всех театрах, и режиссер давал команду: “Гулевич, на сцену!” Я понимал, что это мамин выход. Порой мне позволяли спуститься на сцену с мамой, сесть на маленькой табуреточке в первой кулисе рядом с помрежем и смотреть спектакль во все глаза. Я рос театральным ребенком и почитал за счастье бывать так часто в театре. Если маму “убивали” в первом акте, мы смело могли идти домой и всегда очень радовались возможности вернуться пораньше. Так было на спектакле, поставленном по сказкам Маршака “Про козла” и “Теремок”, где мама и Нинель Шефер выходили на сцену в крошечных ролях эфиопок в прологе. Спектакль открывался спором двух стариков – доброго и злого. Добрый дед, которого прекрасно играл Анатолий Щукин, начинал:
– Сейчас я расскажу вам добрую сказку.
– Нет! Злую сказку! – кричал злой дед, актер Матвей Нейман, караим по национальности.
– Нет, добрую!
– Нет, злую!
Затем злой старик командовал:
– Эфиопы, занавесочку!
И мама с Нинель в масках из темных капроновых чулок с разрезами для глаз и рта прибегали на сцену из глубины зрительного зала. Из-за того, что этот спектакль неизменно проходил при аншлаге, мне доставалось одно и то же место на откидном стульчике в левом проходе. И вот мама, пробегая по залу, всегда легонько гладила меня по плечику. Мне это было очень приятно. Я знал, что эфиопка – моя мамочка! Эфиопы, стоя спиной к залу, как бы поднимали занавес, и начиналась чудесная сказка.
Великолепный театральный художник Владимир Дмитриев создал для этого спектакля уникальные декорации. На сцене стояла настоящая избушка, передняя стенка которой была написана на тюле, и, когда внутри зажигался свет, зрители могли видеть все, что происходит в избушке у деда с бабкой и их “ручного” козлика. Это было так просто, но и очень эффектно. А во втором акте, в сказке “Теремок”, возникал теремок, окруженный полукруглым частоколом. Этот частокол, поставленный на полукруглые рельсы, мог разъезжаться в разные стороны. Но как только к теремку подбирались Кума Лиса и Волк, частокол тут же съезжался снова. Правда, иногда частокол заедало… Я очень боялся всяких накладок в спектакле, болел за исполнителей и рабочих сцены.
Роль лягушки в спектакле исполняла талантливая актриса Тося Соболева. Она была в маске и в зеленых перчатках с перепонками. Когда я в годовалом возрасте увидел ее за кулисами в гриме и костюме, страшно перепугался и разревелся. Лягушек в человеческий рост встречать мне еще не приходилось.
В том же спектакле в одной из сцен волки будто бы съедали козлика, и из-за пенька разлетались его бутафорские окровавленные косточки. Дети, сидевшие в первых рядах, визжали и от страха писались в штаны. Тогдашний директор театра Шах-Азизов даже в один прекрасный день распорядился заменить бархатную обивку на всех креслах в зрительном зале на дерматиновую. До этого мокрые бархатные сиденья сушили утюгами, гладили их через газету “Правда” или “Известия”. А детский страх в зале и физиологическая реакция на него были обоснованными. Это действительно был жутковатый момент. А я, будучи театральным ребенком, сидящих рядом детей успокаивал:
– Не бойтесь, козлика не съели! Он будет жить!
Я-то прекрасно знал, чем дело кончится!
Еще одной замечательной постановкой в ЦДТ был спектакль по двум сказкам Пушкина – “О рыбаке и рыбке” и “О царе Салтане”. Визуально спектакль был очень красив. Чтобы изобразить глубокое синее море, актеры натягивали рядами по всей длине сцены русские рушники метров в пять длиной – от пола и до высоты человеческого роста. Рушники колыхались, точно волны, в которых “плавала” золотая рыбка в исполнении замечательной Людмилы Гниловой. А роль спящей царевны исполняла хрупкая Валечка Туманова, уехавшая затем в далекий театр на Крайнем Севере.
Текст от автора читал один из лучших артистов театра Михаил Тимофеевич Андросов, а постановщиком был талантливый режиссер Лесь Танюк. В 1968 году его уволили из ЦДТ за подпись письма в защиту Александра Гинзбурга и Юрия Галанскова, а спектакли одним махом запретили и изъяли из репертуара. Интересный поворот судьбы: много лет спустя в Париже я несколько лет сотрудничал со старейшей газетой русской эмиграции “Русская мысль”. Заместителями главного редактора Ирины Иловайской-Альберти были тогда муж и жена Александр и Арина Гинзбурги.
Лучшими подругами моей мамы в детском театре были актрисы Валерия Меньковская, Наталья Сальникова и Магда Лукашевич. Они дружили семьями и почти каждое лето большой компанией на автомобиле Олега Селяха, мужа Наташи Сальниковой, выезжали в Литву. Литва в послевоенные годы считалась настоящей заграницей, и на всех большое впечатление производила возможность вот так запросто отправиться в Вильнюс и бесплатно жить у родственников в собственном доме.
Мама и ее подруги по театру проявляли живейший интерес к моде. Например, талантливая характерная актриса Наталья Сальникова носила очки-лисички, которые были в моде в 1950-е годы. А тетя Магда и вовсе слыла заграничной штучкой. Ее мужа, видного кинооператора Александра Симонова, пригласили преподавать операторское искусство в Пекинский институт кинематографии. Разумеется, Магда отправилась следом за ним. Побывав в Китае, она очень увлеклась роскошными китайскими костюмами, вышивкой, резьбой по камню. Они собирали старинные китайские печати, литографии. Сам Симонов в Пекине сделал серию уникальных снимков старого города, от которого сегодня не осталось и следа. Он весь был разрушен при Мао Цзэдуне, в эпоху культурной революции.
После Китая были и другие поездки, например в Тунис. Для брежневской эпохи – настоящая экзотика. Из этого путешествия Магда с мужем привезли множество слайдов, которые показывали в кругу друзей. Сразу после возвращения из Туниса они пришли к нам на Фрунзенскую набережную со своим проектором. Мы повесили на шкаф простыню, выключили в комнате свет и под тихое гудение проектора смотрели сменяющие друг друга виды Туниса. Увидев на одном из слайдов православный храм, похожий на те, что видел в Суздале, я сказал:
– Оказывается, и в Африке есть храм!
Мне объяснили, что его построили русские эмигранты. Про эмигрантов я тогда ничего не знал и представить не мог, что тема эмиграции станет делом моей жизни. Одно время примой-балериной в Театре оперы и балета Туниса была моя подруга Ксения Триполитова, которая недавно отпраздновала в Париже сто третий день рождения. Тунис еще славен Бизертой, где нашел последний причал военно-морской флот царской России. Правда, в Тунисе мне так и не удалось пока побывать. Но все впереди!
Магда Лукашевич была для своего мужа единственным источником вдохновения и абсолютной музой. Он видел в ней Александру Струйскую на портрете Рокотова, не меньше, и неустанно снимал в самых разных образах: то Мадонны, то дамы XVIII века, то Марии-Антуанетты. Эти съемки стали своеобразной отдушиной для творческой натуры Магды, которой не нашлось достойного места в родном театре. Она выходила на сцену во многих спектаклях, но режиссеры не видели эту красивую актрису даже во второстепенных ролях. В ее послужном списке фигурировали такие персонажи, как жена хозяина хаты, рыбачка, крыса Шушара, крепостная девка, особа из бюро проверки и даже… волшебные кони и солнечный зайчик.
При этом Магда буквально жила театром. Она приходила всегда за три часа до начала спектакля, тогда как остальные актеры являлись за час, а те, что были заняты только во втором акте, и вовсе за полчаса. Магда садилась в зрительном зале и наблюдала за монтажом декораций. Рабочие сцены приносили колонны, окна, двери, мебель, деревья… И на ее глазах пустое пространство сцены превращалось в избу, дворец или лесную чащу. Затем выставлялся свет, спускались кулисы и задник сцены, и только после этого тетя Магда поднималась в гримерную, чтобы, наложив на лицо грим, выйти на сцену в крошечном эпизоде, порой даже бессловесном.
Сама Магда говорила:
– Я обожала играть жаб, ворон. А что играть красивую женщину? Один раз выйдешь на сцену, сыграешь красивую. Другой раз – некрасивую. Вот то ли дело жабу!
В 1975 году Магду вывели на пенсию и уволили из театра. Потом вернули, но вскоре снова отстранили от работы. Магда одно время занялась Музеем кукольных театров СССР, но и там долго не задержалась. Тогда она нашла себя в вере. Будучи по рождению Магдалиной Генриховной Лукашевич, польской католичкой, приняла православие и стала монахиней в миру. Совместно с мужем в 1970-е годы даже создала уникальный фотоальбом с фресками Ферапонтова монастыря.
Церковь заменила тете Магде театр. Она стала носить длинные черные юбки, покрывала платком волосы и, как в свое время в театр, приходила в храм за три часа до службы. Зажигала свечи, мыла паникадило, протирала образа… Это была служба и ее “божественный театр”. И если раньше она служила культу театра, то, оставшись в актерской профессии не у дел, стала служить культу Господа Бога. Чувствовала в себе необходимость быть частью чего-то, а не самой по себе, быть полезной. Потому что, если не можешь принести пользу, какой тогда от тебя толк?
На старости лет Магда совершенно потеряла счет годам. Она не помнила точно свой возраст и позабыла почти все свои роли. На вопрос: “Тетя Магда, а что ты играла в театре?” – она отвечала: “Я играла цветочек”.
Безусловной звездой старшего поколения театра считалась талантливая актриса Валентина Александровна Сперантова. Она была очень обаятельной, небольшого роста, поэтому в молодости выступала в амплуа травести и переиграла множество мальчишеских характеров: Ваню Солнцева в спектакле “Сын полка” по Валентину Катаеву, Кая в “Снежной королеве”, Володю Дубинина в одноименной постановке по повести Льва Кассиля “Улица младшего сына” и многих других. За это ее и прозвали “Ермоловой детского театра”. В то время, когда я познакомился с Валентиной Александровной, она уже рассталась с амплуа травести и перешла на возрастные роли – мам и бабушек. Например, она незабываемо играла мать Ульянова-Ленина, а также волевую и властную старуху в “Сказке о Золотой рыбке”.
Будучи обладательницей исключительного голоса и безупречной дикции, Сперантова часто принимала участие в записи знаменитых программ “Театр у микрофона”. Сохранилась даже запись радиоспектакля “Снежная королева”, в котором она сыграла роль бабушки Кая и Герды. Эту запись можно легко отыскать в интернете, и она великолепна – такое удовольствие слышать на фоне сегодняшнего падения культуры речи верное произношение, дикцию и интонацию.
Жила Валентина Александровна неподалеку от нас, на Комсомольском проспекте, и часто вместе с мамой возвращалась из театра домой на метро. В ту пору народные артистки в автомобилях не ездили и были ближе к народу. Звания, ордена, почет, известность, роли… все эти составляющие успеха сопутствовали Сперантовой. Драмой ее жизни была собственная дочь Наталья Никонова, актриса Театра на Малой Бронной, которая страшно пила. Будучи ребенком, я даже боялся встретиться с ней на Комсомольском проспекте, потому что она всегда находилась в компании каких-то забулдыг. Водка в России сгубила не одну душу, и не только в артистической среде.
Долгое время репертуар в ЦДТ держался на Маргарите Куприяновой – прекрасной, очень красивой и талантливой артистке. Стройная, немного капризная и стильно одетая, она перенесла множество пластических операций, которые дарили ей иллюзию вечной молодости. Ведь, даже будучи зрелой дамой, она играла маленького короля в пьесе “Король Матиуш Первый” по Я. Корчаку. У Маргариты Куприяновой был звонкий, немного стальной, но очень запоминающийся голос. Она всегда скрывала свою личную жизнь, была бездетной. Однажды эта богиня сцены приехала к нам домой покупать у мамы сапоги, привезенные отцом из Саарбрюккена. Сапоги не пришлись маме в пору. С актерским пафосом Рита сказала: “Танюша, решайся!” и выложила 60 рублей.
Другой яркой, гротесковой актрисой была Нинель Терновская, которая до сих пор выходит на сцену. Помнится, в сказке “Репка” Нинель Федоровна в очередь с Натальей Сальниковой исполняла роль Козы. После нескольких репетиций режиссер Валентин Колесаев заметил, что у артистки Сальниковой образ козы получается интересней и глубже, чем у артистки Терновской. На что Терновская ответила:
– Зато у меня молоко лучше!
Но самым знаменитым голосом театра была актриса Галина Новожилова, ведшая годами на Всесоюзном радио утреннюю передачу “С добрым утром!”. Сколько позитива, добра и счастья она несла своим звонким голосом миллионам радиослушателей всей страны!
Вспоминая о Центральном детском театре, невозможно не упомянуть о том, что именно этот театр стал золотой колыбелью для нескольких советских звезд, славу которым принес кинематограф. Одна из них – великолепная Надежда Румянцева. Она начинала в театре как травести, играла храбрую Машу в сказке Павла Маляревского “Репка” и Иринку в спектакле “Ее друзья” по пьесе Виктора Розова. Вскоре из театра она ушла в кино и прославилась на весь Советский Союз, сыграв главные роли в фильмах “Девчата” и “Королева бензоколонки”. А позже занялась дубляжом иностранных и отечественных картин. Надежда Васильевна подарила свой незабываемый голос многим актрисам: например, Наталье Варлей в культовом фильме Леонида Гайдая “Кавказская пленница”, Одри Хепберн в картине “Как украсть миллион” и Ширли Маклейн в кинокомедии “Квартира”.
Вместе с Надеждой Румянцевой мы некоторое время вели детскую передачу “Будильник”. Узнав, что я сын Тани Гулевич, она очень расположилась ко мне. А в моих глазах Румянцева была настоящей иностранной дивой, ведь она только что вернулась в Советский Союз из Египта, куда ее муж, дипломат Вилли Хштоян, был направлен в качестве торгового представителя. А до этого они жили в Малайзии. В Москву она приехала вся в модном кримплене и люрексе, который обожала. Надежда Васильевна была уверена, что актриса на сцене должна не только блистать, но и блестеть. Уже после ее смерти муж и дочь Румянцевой передали в мой Фонд исторического костюма часть ее гардероба – платья, привезенные из Малайзии и Египта, которые я часто экспонирую на выставке “Кино и мода”.
Другой пример – Олег Анофриев, бывший партнер моей мамы по спектаклю “Волшебный цветок”. Он стал знаменитым актером и композитором, прекрасно пел. Всесоюзную известность получил после съемок в картине “Земля Санникова”, где исполнил главный свой хит “Есть только миг”. А миллионы советских детей узнали голос Анофриева из мультфильма “Бременские музыканты”.
Еще одной знаменитой актрисой, вышедшей из стен Центрального детского театра, стала Ирина Муравьева, которая поступила в студию при ЦДТ в то время, когда моя мама постепенно сходила со сцены. Много лет спустя, встретив Ирину Вадимовну на кинофестивале в далеком Владивостоке, я напомнил ей об этом. Муравьева кивнула и сказала:
– В нашем театре были две гранд-дамы – Ольга Фрид и Таня Гулевич.
Я же запомнил Ирину Муравьеву молоденькой инженю. Мальчиков она никогда не играла. В спектакле по болгарской сказке Панчо Панчева “О четырех близнецах” Муравьева исполняла роль девочки Бонки. В национальном болгарском костюме она переходила от селенья к селенью в поисках жениха и напевала:
Деревенька, деревенька — Все дома наперечет. Потихоньку, помаленьку В деревеньке жизнь течет.Детские театральные воспоминания до сих пор меня не покидают. Я сам оформил более ста двадцати постановок, побывал во многих странах мира, повидал множество драматических спектаклей, опер и балетов, но самое потрясающее впечатление оставил во мне Центральный детский театр. Именно поэтому я так боюсь, что ЦДТ (ныне РАМТ) постигнет участь Большого театра и МХАТа, подвергшихся губительной реставрации и евроремонту. Уничтожать театр – это все равно что уничтожить церковь, ведь это тоже храм, храм Искусства. Это величайшее преступление. Мне повезло в жизни побывать на сценах самых старинных театров, таких как театр Сан-Карлуш в Лиссабоне, который открылся в 1793 году, Королевская опера Версаля, построенная в XVII веке, или Муниципальный театр в столице Чили Сантьяго, основанный в 1857 году… В Москве разрушительная реставрация еще пока не коснулась Театра оперетты (бывший Оперный театр Зимина), где сохранилась винтовая лесенка Шаляпина. Это прекрасные старинные здания, в них ощутим исторический дух и удивительная энергия прошлого. И вот эту энергию я застал в Центральном детском театре и молю Бога о ее сохранении!
Детство. Школа. Первые роли
Мои первые детские воспоминания весьма обрывочны. Это отдельные эпизоды, которые сложно привязать ко времени. Например, я до сих пор помню свою детскую кроватку с деревянными круглыми решетками, помню себя лежащим в ней. Мама была очень рачительной и эту кроватку отдала потом в семью своей однокурсницы актрисы Нинель Шефер. Помню, как сосал детскую пустышку, которую называл “дунькой”, и долго не хотел с ней расставаться. Но однажды мама сказала:
– Санечка, иди в уборную и выкинь “дуньку” в унитаз.
Будучи послушным ребенком, я, конечно же, сделал так, как велела мама.
– А теперь опусти черный резиновый круглый рычажок на бачке.
Я спустил воду и, счастливый, отправился спать. Но, проснувшись утром, вдруг забеспокоился:
– А где же “дунька”?
– Как где? – удивилась мама. – Ты же сам ее спустил в туалет.
Крыть было нечем. Действительно, сам ее спустил. Хоть и под маминым руководством. Осознавая собственную ответственность, я совсем не оплакивал эту потерю.
Я рос следопытом и исследователем. Однажды совершил ужасную вещь: поднял с пола мамину шпильку и засунул ее в розетку. Меня ударило током в 127 вольт. Тогда в Москве было такое напряжение везде, позднее его поменяли на 220 вольт. Как вообще не убило – до сих пор голову ломаю. Я сжег руку, мне мазали ее подсолнечным маслом. Мама водила в больницу. Сколько мне было? Годика два, не больше. В другой раз я засунул себе в нос какие-то бобы, чтобы проверить, пройдут или не пройдут. Прошли, еще как! Доктор их вытащил с большим трудом. В третий раз, барабаня ногами по стене, я загнал в пятку иголку. Тогда почему-то было принято хранить швейные иголки в ковре. Любил глотать стальные шарики от настольных игр – выходили они из меня уже не блестящими, а окисленными и коричневыми. Так я познавал природу человеческого организма.
С общепринятой точки зрения хулиганом я вовсе не был, но озорником был, не скрою. Основным объектом моего озорства часто становился папа. К примеру, такая история. Папа тогда много курил. Улучив как-то момент, я начинил его любимые сигареты “Столичные” головками от спичек. Вот он прикурит, и сигарета вспыхнет у него прямо во рту! Конечно, я ожидал за это выволочки, но папа не сделал мне даже замечания. На следующий день я повторил свою проделку. И снова ноль эмоций. На третий день – тот же результат. Отсутствие ожидаемой реакции напрочь разохотило меня продолжать попытки.
В другой раз я смешал в папиной любимой кружке горчицу, перец, уксус, соль и поднес ему со словами: “Я приготовил тебе вкусное питье. Попробуй!” Папа сделал глоток, зажмурился, как будто от удовольствия… И мне расхотелось. Отец никогда меня не ругал. Хвалил за любую шалость и тем отбивал всякое желание проказничать.
С раннего детства во мне пробудилась любовь к собакам: когда я родился, в нашей семье уже жил взрослый эрдельтерьер по кличке Сенька. Сенька меня недолюбливал и постоянно гонял, потому что в годовалом возрасте я часто ел из его миски. Вскоре папа принял нелегкое решение расстаться с Сенькой, его близким другом, который часто ездил с папой на пленэры и внимательно смотрел, как хозяин пишет этюды маслом. Сеньку увезли в деревню и оставили у каких-то друзей. И вот, представьте, этот пес сорвался с поводка, прошел сотню километров, отыскал дом и улегся прямо возле двери квартиры. Его лапы были сбиты в кровь от долгой дороги. Папа очень тяжело переживал это возвращение. И все-таки Сеньку снова отправили в деревню. Больше он не возвращался: понял, что его не хотят… Какие тяжелые воспоминания…
Любимым лакомством в детстве были вкуснейшие калачи, которые продавались в каждой булочной. Самая лучшая булочная находилась на улице Горького, нынешней Тверской, и до революции носила имя хозяина, купца Ивана Максимовича Филиппова. С приходом к власти большевиков Филипповскую булочную переименовали в булочную № 1. При взгляде на широкий ассортимент этой лавки разбегались глаза: хлеб черный, хлеб белый, сдобные булочки, пироги, сушки, сайки… Самой популярной считалась булочка “Калорийная” с изюмом за 10 копеек. Также любили ватрушки, булочки плетеные и с маком, коржики ржаные за 9 копеек и язычки с повидлом. В булочной, которая находилась близ станции метро “Кропоткинская”, в здании, где сейчас расположен обувной магазин, выпекали сдобу в форме лебедя с глазиком из изюма. К сожалению, сегодняшние кондитерские заполнены круассанами, кейками, данишами, претцелями и маффинами, а настоящего русского калача днем с огнем уже не сыщешь. А национальную культуру надо беречь!
В каждом гастрономе был отдел “Соки-воды”, где висели стеклянные колбы-конусы, наполненные стандартным набором из четырех видов напитков. Это была советская альтернатива отсутствовавшим в то время уличным кафе. Стакан яблочного сока стоил 9 копеек, стакан сливового сока – 8 копеек, стакан томатного – 10 копеек, и настоящая роскошь – виноградный сок за 18 копеек. На прилавке стояло два стакана: в одном – крупная соль, в другом – вода и алюминиевая ложка, которой можно было зачерпнуть соль из первого стакана и подсолить томатный сок.
Наша квартира № 177 в доме на Фрунзенской набережной находилась на последнем, четырнадцатом этаже. Выше только чердак, который облюбовали для своих посиделок ребята постарше. Пойти им было некуда – оставалась подворотня или чердак. А на чердаке все условия: тепло, темно и сухо. Там они курили и допоздна бренчали на гитаре. Кто-то из этих ребят гвоздем очень крупно нацарапал в лифте приснопамятное слово из трех букв. Значения этого слова я не знал, но уже умел читать римские цифры. Поэтому, придя домой, спросил у мамы:
– Кто-то в лифте написал римскими цифрами число XVII. Но ведь этажей в нашем доме только четырнадцать, что они имели в виду?
Вот что значит воспитываться в интеллигентной семье.
В подъезде частенько бывало темно. Лампочки разбивали или выкручивали с завидным постоянством. Потолок был закопчен спичками, которые парни приклеивали к нему с непонятной для ребенка целью. По лестнице приходилось подниматься практически на ощупь и, попав ключом в замочную скважину, стараться как можно скорее открыть замок, чтобы ввалиться в переднюю и спешно захлопнуть за собой дверь. Иногда огоньки сигарет порхали в кромешной темноте чердака и доносилась тихая болтовня.
Вернувшись однажды с прогулки, я обнаружил, что вся наша лестничная клетка залита кровью, в которой плавали пучки волос.
– Да тут убили одного с чердака, – пояснила соседка.
Слава богу, у меня в детстве были няни, которые не спускали с меня глаз и старались никогда не оставлять одного. Няни менялись одна за другой, как узоры в калейдоскопе. Первой няней была деревенская девушка Галя, она смотрела за мной, когда я был совсем малышом. Галя имела обыкновение таскать мамины капроновые чулки со швом из гардероба, носить их, а когда они рвались, выкидывать в мусоропровод на кухне. Как-то раз чулки зацепились за его крышку и Галя была изобличена, ей дали расчет! Эта Галя очень стеснялась произносить слово “яйца”, называя их “энти”. Отправляясь в продуктовый магазин, она спрашивала мою маму: “Татьяна Ильинична, а энтих десяток взять?” Также помню еще одно ее забавное выражение. Холл квартиры или большую прихожую она называла “промеждухолье”. На вопрос: “Галя, где вы оставили сумки?” – та отвечала: “В промеждухолье!”
Потом появилась оперная певица на пенсии. Посмотрев на меня, она сказала своим поставленным голосом:
– Ребенок хороший. Питание будет простое: каждый день мороженое. И ребенку нравится, и готовить не надо.
Стоит ли говорить о том, что проработала она у нас недолго?
Имя третьей няни врезалось мне в память на всю жизнь. Звали ее Клава Печенкина. Приехала она в Москву из села Кулевка Горшеченского района Курской области. Эта простая полуграмотная молодая женщина была счастлива, что работает у настоящей “артиськи”.
Как-то раз она спросила маму:
– Татьяна Ильинична, а в Москве ведьмы есть?
– Нет, Клава, в Москве ведьмы не водятся.
– А у нас в Кулевке есть. Сидим мы как-то с мамкой за столом, щи хлебаем. Вдруг в дверь собака забежала, пронеслась вокруг стола и выбежала вон. Так вот, мать моя ту бабу знала!
В том, что какая-то местная деревенская женщина была оборотнем и могла обратиться в собаку, Клава нисколько не сомневалась, рассказывала об этом просто и обыденно. Живейшим образом она интересовалась всем, что происходит вокруг, и порой ставила маму в тупик неожиданными вопросами:
– Татьяна Ильинична, а вот написано везде: “Вперед, к победе коммунизма”. Это как будет? Нам крикнут: “Геть!”, и мы ка-а-ак побежим?!
– Приблизительно так, – сдержанно отвечала моя тактичная мама.
Переехав из Кулевки в Москву, Клава с удовольствием пользовалась благами тогдашней городской цивилизации. Например, без конца бегала в кинотеатр “Фитиль” на Фрунзенской набережной. Фильм “Римские каникулы”, с большим опозданием вышедший в советский прокат, посмотрела бесчисленное количество раз. Она была заворожена прелестью юной Одри Хепберн и доселе невиданными красотами Рима. И все бы ничего, но, убегая очередной раз в кинотеатр, Клава оставляла меня дома совершенно одного.
С любовью Клавы Печенкиной к голливудскому кинематографу мама еще как-то мирилась. Однако терпение ее лопнуло, когда няня меня заморозила. А случилось это вот как. Клава сдружилась с няней другого мальчика с нашего двора, и вдвоем они любили прогуляться по Фрунзенской набережной, болтая о своем, о девичьем. Только та, вторая няня выходила на прогулку одна, а Клава, которой было велено глаз с меня не спускать, тащила меня за собой. А дело, надо заметить, было зимой. Перед очередным променадом она обрядила меня в зимнюю шубку, посадила в санки и возила три часа по морозу, пока вдоволь не наболталась с подругой. Вернувшись к дому, Клава еле вытащила меня из саночек: я к ним примерз! Как же она перепугалась! Дома она поскорее раздела меня и усадила перед батареей отогреваться. И я, к счастью, отогрелся. И даже не заболел. Но после этого случая Клава Печенкина из села Кулевка тотчас получила расчет. А место няни заняла очень набожная баба Катя, родственница актрисы ЦДТ Люси Гниловой. Баба Катя жила в Филях, в однокомнатной квартирке в невысоком кирпичном доме, где я однажды вместе с ней побывал. Мне запомнились большие иконы в окладах, расставленные в красном углу и украшенные бумажными гофрированными цветами. Новая няня была очень сердечным и добрым человеком. Обидев ее однажды, я сам страшно расстроился и написал ей записку: “Баба Катя, прости меня, что я себя так плохо вел”.
На всю жизнь остался в памяти связанный с ней случай. Как-то мы вышли прогуляться по Фрунзенской набережной. Компанию нам составила родная бабушка моей сестры Наташи – баба Вера Константиновна Монюкова. Эти женщины представляли собой два мира, разделенных настоящей пропастью. Одна была простой деревенской бабкой, другая – настоящей городской интеллигенткой. Их можно было бы сравнить с популярным в 1970-е годы комическим дуэтом “Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична” в исполнении актеров Вадима Тонкова и Бориса Владимирова. Баба Катя рассказывала, как сытно и привольно жилось в деревне, а баба Вера – о том, как прекрасно ей работалось при прежних хозяевах в знаменитом московском магазине “Мюр и Мерилиз”, где она была старшим кассиром. В конце концов эти две совершенно разные женщины сошлись во мнении, что при царе было гораздо лучше, чем при большевиках. Это я запомнил на всю жизнь!
Так мы и прогуливались неспешно по Фрунзенской набережной, пока не увидели огромный грузовик, над открытым кузовом которого высилась гора остовов не то коров, не то лошадей, издававшая отвратительный запах. Это были скелеты с остатками мяса на костях. Говорят, кости крупного рогатого скота перерабатывали на клей. Но на меня, пятилетнего, это дикое зрелище произвело огромное впечатление. Я с ужасом взглянул на бабушек, а они с беспокойством посмотрели на меня…
За год до школы мама все-таки решила отдать меня в детский сад. Находился он на Хамовническом Валу, который тогда назывался Фрунзенским. Там я столкнулся со всеми прелестями советской дошкольной педагогики: новогодним утренником, костюмом зайчика с хвостиком из ваты, празднованием Первомая, красными флажками, омлетом и манной кашей на завтрак, коллективным разучиванием песенки “Солнечный круг, небо вокруг”… Мне хотелось играть с другими детьми в театр, а они играли только в войну. Но именно в детском саду я впервые сильно влюбился. Объектом моих чувств стала девочка по имени Таня Трусова. Перенеся в раннем детстве какое-то тяжелое заболевание, она лишилась волос и ходила с абсолютно лысым черепом. Другие ребята с ней не водились. Наверное, они считали, что девочка без бантика на голове – это какая-то неправильная девочка. Мне же Таня виделась совершенной красавицей и казалась очень оригинальной.
В раннем детстве меня пытались научить играть на фортепиано. Тем более что маме в наследство от отца, Ильи Герасимовича Гулевича, досталось роскошное немецкое пианино фирмы Offenbacher. Созданный в 1900-е годы инструмент выглядел очень элегантно: черный лак, точеные балясины, клавиши из слоновой кости… Ему не хватало лишь бронзовых подсвечников, которые моя бабушка, Мария Григорьевна, собственноручно отвинтила, борясь с мещанством. На этом фамильном пианино родители и решили учить меня музыке, для чего даже наняли репетитора по имени Сергей Владимирович. Мы с ним разучивали нотную грамоту, играли маленькие композиции, одну из которых помню по сей день: “Как под горкой, под горой торговал старик золой”. Под чутким руководством репетитора я даже освоил старинные французские и неаполитанские песенки. Однако вскоре Сергей Владимирович потерял ко мне всяческий интерес. Чтобы не лишиться заработка, он, конечно, продолжал приходить к нам. Давал мне задание играть скучные гаммы, а сам ложился на диван и засыпал. Пианистом я не стал, но эти занятия помогли мне развить музыкальный слух.
Любимые праздники моего детства – Новый год и день рождения, на которые мне чаще всего по моей просьбе дарили хлопушки и гуашевые краски. Стоили они в то время 3 рубля 20 копеек. Не велосипед, не пистолет, а именно гуашь, потому что я всегда хотел рисовать. А использованные хлопушки в детских руках превращались в кукол для моего театра, которые я с радостью мастерил целыми днями. Но лучший подарок сделала моя любимая тетя Ирина Павловна Васильева. На один из дней рождений она подарила мне “Историю костюма” Марии Николаевны Мерцаловой. С этой книги началось мое увлечение историей моды. А любимым чтением долгие годы оставалась Большая советская энциклопедия. В нашей домашней библиотеке имелось полное собрание – пятьдесят один том. Я любил рассматривать вклейки с цветными иллюстрациями на тему разных исторических стилей: барокко, рококо…
В приложении к одному из томов была помещена статья о моем папе. Это был большой повод для гордости.
После ареста и расстрела Лаврентия Берии все подписчики второго издания Большой советской энциклопедии получили по почте следующее извещение: “Подписчику БСЭ. Государственное научное издательство «БСЭ» рекомендует изъять из пятого тома БСЭ 21, 22, 23 и 24 страницы, а также портрет, вклеенный между 22 и 23 страницами, взамен которых вам высылаются страницы с новым текстом. Ножницами или бритвенным лезвием следует отрезать указанные страницы, сохранив близ корешка поля, к которым приклеить новые страницы”. В пятом томе Большой советской энциклопедии на страницах 21–24 была помещена биография Берии. Ее следовало заменить на вкладку с историей и описанием Берингова пролива. У нас, кстати, Берия в пятом томе так и остался, но и вкладку с Беринговым проливом мы тоже сохранили.
Еще одно воспоминание из детства. Год я запомнил точно – 1969-й. Пограничный конфликт на острове Даманский чуть было не привел к войне между СССР и КНР. Мне было десять лет, и я отпечатал одним пальцем на пишущей машинке несколько листовок с текстом “Позор Мао!”. Эти агитки я разбросал по почтовым ящикам в нашем подъезде, чтобы выразить таким образом свою позицию по отношению к бесчинству китайского лидера.
Родители старались всегда брать меня с собой в путешествия. Они считали, что именно путешествия расширяют кругозор, учат общаться с разными людьми, позволяют узнать другой быт, другие нравы, иную кухню и оставляют яркий след в памяти ребенка. Но вывезти нас с сестрой за границу не было никакой возможности, поэтому мы довольствовались поездками по просторам СССР.
В 1962 году состоялась незабываемая поездка с мамой и сестрой в закарпатское село Криворовня, поразившее меня обилием гадюк и высотой гор. По крутым склонам взбирались коровы и лизали шершавыми языками огромные кристаллы каменной соли. Все жители этой деревушки ходили в национальных гуцульских костюмах. В одной из изб жил советский милиционер, в прошлом бандеровец. По берегам горной речки кустились заросли ежевики. И мы, поддавшись очарованию Закарпатья, покупали на местном рынке какие-то яйца-писанки и лежник[12] с ромбовидным рисунком, который привезли на память в Москву. Ехали поездом. Лежник, свернутый в рулон, привезли на Фрунзенскую набережную и из-за обилия поклажи забыли у нашего подъезда. Но, выглянув в окно, я узрел пропажу. Тогда народ был много честнее, воровали меньше. Лежник долго висел над моей кроваткой. Теперь он находится в Художественном музее в Самаре вместе с огромным фондом картин моего папы, переданным туда в надежде на открытие мемориального музея семьи Васильевых.
В Закарпатье мы ездили по совету художника Даниила Георгиевича Нарбута, сына знаменитого Георгия Нарбута – одного из членов художественного объединения “Мир искусства”. Даниил Георгиевич, величественный бородач, большой приятель моего папы, жил в селе Мошны под Черкассами. В 1967 году мы ездили к нему в гости, и эта поездка запомнилась мне особенно. Мы отправились туда с сестрой Наташей и кузиной Леной Гулевич, которая справляла там свое шестнадцатилетие.
Я спал с папой и мамой в белой хатке рядом с печкой, вкусил народный аромат крестьянского быта на Украине. Бегал в село за конфетами и даже удил карасиков в пруду! Правда, в первый и последний раз в жизни, но поймал немало, мы зажарили их и съели с аппетитом. Сестра Наташа и кузина Лена попробовали спать в палатке под шелковицей, но были напуганы тем, что сочные плоды ее всю ночь со стуком падали на палатку, оставляя темно-лиловые следы.
Папа привез с собой лодочный мотор и, к нашей великой радости, катал нас по Ольшанке, притоку Днепра. Часто мотор глох из-за намотавшихся на него водорослей, и мы просили кузину Лену молить новозеландского бога. Дело в том, что Ленин папа, брат моей мамы Дмитрий Ильич Гулевич, был мастером спорта по дзюдо, автором учебника на эту тему, полковником и международным спортивным судьей. Он только что вернулся из Новой Зеландии и привез Лене зеленого пластмассового божка маори на шею. Леночка молилась: “Тики-таки, тики-таки, Йокагама, Нагасаки, Кобе, Нара, хой!” Мы с сестрой с умным видом повторяли, и… мотор оживал! Чудо какое-то!
Папа написал портрет хозяйки нашей хаты бабы Василины, но он ей не понравился. Селянка молвила:
– У меня грязь на портрете тут под носом!
Папа отвечал:
– Это тень!
Однако таких тонкостей живописи хозяйка не понимала.
В Мошны приехали на лето и мои родственники Казанские: кузен Костя, профессор химии, его жена Альбина и сын Саша. Вместе ездили на пикник на пустынный песчаный остров.
Там же мы познакомились с удивительным человеком, Николаем Павловичем Кирьяковым, репатриированным из Харбина офицером Белой армии. Дядя Кока, светский лев и элегантный господин, сам был заядлым картежником и научил мою сестру игре в покер и бридж. Пожалуй, он стал первым представителем белой эмиграции, с которым я познакомился.
Нам так понравилось отдыхать на Украине, что два года спустя мы с большой радостью купили путевки в Дом творчества Союза художников в поселке Седнев под Черниговом. Именно в тех местах снимался первый советский фильм ужасов “Вий”. Я несколько раз заходил в ту самую церковь, под деревянными сводами которой летал гроб с панночкой в исполнении Натальи Варлей.
В Седневе произошло мое знакомство с Соней и Митей Тугариновыми, детьми известного скульптора Софьи Георгиевны Тугариновой, большинство работ которой сегодня находится в Йошкар-Оле. Софья Георгиевна была автором множества “кормильцев”, то есть скульптурных изображений Ленина, за право лепить которого боролись многие советские скульпторы-карьеристы. Митя пошел по стопам матери и тоже стал скульптором, а Соня, как и я, окончила постановочный факультет Школы-студии МХАТ, стала затем в Польше театральным художником с международной биографией и даже работала с Лоркой Мясиным, сыном знаменитого дягилевца Леонида Мясина.
Самым ярким воспоминанием о той поездке осталась ловля ночных бабочек в мужском туалете. Наловить их – это была часть летнего школьного задания по природоведению. Едва только начинало смеркаться, мы с Соней Тугариновой, вооруженные сачками, приходили в туалет и зажигали свет, на который тут же слетались толстые ночные бабочки и начинали судорожно колотиться о горящую лампочку. Но стоило свет погасить, как они моментально разлетались по стенам. В этот момент мы их и отлавливали, чтобы каждой прямо через сачок сделать укол нашатырем.
Мама с сестрой тоже нашли себе увлекательное занятие. По выкройке из польского журнала они сшили сестре Наташе из льна с набивным психоделическим рисунком только что вошедший в моду костюм с брюками клеш. Материалом для этого писка моды послужила желтая с лиловым и зеленым льняная ткань, которая продавалась в местном сельпо и предназначалась для занавесок. Благо мама хорошо шила на руках. А выкройка принадлежала великолепному киевскому скульптору Наталье Дерегус-Лоренс, отдыхавшей с нами в Седневе. Мама была так хороша собой, что Дерегус-Лоренс даже решила вылепить ее бюст. Сеансы ваяния продолжались несколько дней. Но впоследствии бюст был утерян на складах Дома творчества.
На всю жизнь мне запомнились слова скульптора:
– Вот увидите, настанет время, и Украина отделится от СССР. В среде украинской интеллигенции очень сильны националистические чувства.
И это в 1969 году! Представить в то время, что подобное может произойти, – это как поверить в существование внеземных цивилизаций. Я помню, как мама улыбнулась и ответила:
– О чем вы говорите, этого не случится никогда.
Среди других именитых отдыхающих в Седневе была еще одна киевская звезда – Татьяна Яблонская, очень представительная и миловидная дама. Она считалась самой знаменитой художницей из всех, проводивших здесь отпуск, и администрация Дома творчества страшно гордилась оказанной ей честью.
Позднее, когда я стал самостоятельным ребенком, меня стали отправлять в пионерские лагеря. Дважды я побывал в лагере ВТО “Русский лес” под Звенигородом и одиножды – в пионерском лагере Госкино под Вереей. Лагерь “Русский лес” находился на месте сожженной старинной усадьбы, от которой остались пруды, аллея и дорога, мощенная булыжником. Одноэтажные корпуса этого лагеря были отделаны керамическими гербами. Жили мы по четыре ребенка в комнате, но снобизм процветал в этом лагере. Попасть туда было очень трудно, а собравшиеся дети в основном являлись отпрысками знаменитых театральных семей. При лагере находился Дом культуры со сценой, где часто с шефскими концертами выступали артисты эстрады, приезжавшие навестить своих детей. Помню выступление эстрадной певицы по фамилии Славная, которая пела солдатскую песню для детей: “Как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам, сеньоры, не назову”. А иногда сами “пионеры” ставили сцены из спектаклей. Там я впервые увидел будущую актрису Малого театра Елену Доронину, дочь известных артистов – Констанции Роек и Виталия Доронина, которая великолепно играла жену Городничего в “Ревизоре” в сцене соблазнения. На ней было надето платье в крупный цветок, сшитое из лагерной занавески. Мне было не более десяти лет, но впечатление Лена Доронина произвела на всю мою жизнь.
Первой красавицей лагеря считалась Даша Жданова, дочь знаменитого балетного танцовщика Юрия Жданова – постоянного партнера Галины Улановой. Впоследствии Даша вместе со своим мужем уехала в Париж, где мы с ней однажды украдкой встретились. А первым парнем на “деревне” считался рослый и спортивный мальчик Лелюхин – сын главного осветителя Большого театра. Больше всего в лагере я дружил с сыном дирижера Большого театра Кирилла Кондрашина, попросившего в брежневскую эпоху политическое убежище в Голландии. Также в лагере я очень сдружился с Таней Кузнецовой, дочерью характерной танцовщицы Большого театра Фаины Ефремовой. Таня впоследствии стала одним из лучших балетных критиков в нашей стране.
Будучи учеником третьего класса, я с мамой впервые побывал в Ленинграде. Город произвел на меня колоссальное впечатление и до сегодняшнего дня остается любимым российским городом. Мама возила меня в Петергоф, Павловск, Ломоносов. Перед поездкой в Ленинград я тщательнейшим образом изучил по карте план местности. И поскольку зрительная память у меня с детства была превосходная, я, как настоящий экскурсовод, рассказывал маме, где находится тот или иной фонтан, где расположен китайский домик… Уже тогда я говорил маме: “Мне есть дело до всего китайского!” Я горячо полюбил европейское проявление этого интереса к Китаю – стиль шинуазри – и даже недавно делал выставку на эту тему в Риге в Музее моды.
Каждое лето меня вывозили в Литву, в семейное имение “Кривой погурек” возле Вильнюса, откуда можно было отправиться в Латвию и Эстонию. Дважды я ездил с отцом в Крым, где в Гурзуфе мы жили сначала в домике Чехова, а в другой раз – в домике Коровина, принадлежавшем Союзу художников. Именно там я познакомился с художником Николаем Николаевичем Жуковым, рисовавшим Ленина. Крым, где с 1970 года я больше не бывал, запомнился мне нетронутым и очень татарским.
Гостили мы и в Тбилиси у друга моего папы, известного грузинского театрального художника Парнаоза Георгиевича Лапиашвили. Помню обед в грузинском ресторане в Тбилиси – подавали цыплят табака, которые лежали грудой друг на дружке, их было так много, что ребенок просто был не в состоянии их съесть. Тут подошел директор ресторана и в знак особого уважения к именитым гостям из Москвы унес этих остывших цыплят и заменил их… на гору других, таких же, но дымящихся! С пылу с жару, как говорят. В Тбилиси мы познакомились и подружились с женой и детьми художника, а с Нино Лапиашвили, дочерью Парнаоза, я сохраняю дружбу по сей день. Парнаоз Лапиашвили рекомендовал нам отдых в Пасанаури, небольшом поселении на Военно-Грузинской дороге у бурной Куры. Помню дом и кур, которые клевали соседское пшено, за что я был жестоко наказан грузинской девочкой – она расцарапала мне щеку ногтем, и шрам этот остался на долгие годы. В Пасанаури жила русская блондинка из Рязани, вышедшая замуж за местного жителя, очень скучавшая по России и мне, ребенку, подолгу рассказывавшая о своей родине.
Я видел в Грузии прекрасные церкви и разрушенные замки, побывал ребенком в Мцхете и навсегда полюбил эту благодатную святую землю, которая позднее так ласково приняла меня, когда я преподавал в Тбилиси и работал декоратором и художником по костюмам в Национальном грузинском балете с Ниной Ананиашвили.
В 1972 году мы с папой летали в Баку и провели две недели на огромной даче у знаменитого художника Таира Салахова на берегу зеленого Каспийского моря в Нардаране. В его доме меня поразил внутренний дворик, под карнизом которого находилась полка со старинной посеребренной медной утварью из Персии и Азербайджана. Старинные ковши, кувшины, тарелки, блюда и миски. Дача была очень европейской и уютной, при ней находился сад с арбузами и тыквами, где из-за жары мы с папой спали в гамаках; это было так романтично! Таир Салахов тогда написал портрет моего папы, который репродуцируется во всех книгах о творчестве этого мастера. Мы очень подружились с двумя дочерьми Таира, Айдан и Гулей, с которыми до сих пор поддерживаем дружескую связь. Запомнил на всю жизнь шашлыки из осетрины, незабываемые кутабы и черную икру ложками – тогда все это было возможно. В Баку я посетил старый “черный” и новый “белый” город, которые показались мне очень живописными. Теперь с огромной радостью я возвращаюсь в прекрасный и очень современный, блестящий город Баку, где мне довелось проводить выставки предметов из моей коллекции в великолепном пространстве Фонда Гейдара Алиева по приглашению Мехрибан Алиевой.
Когда пришло время учиться, родители определили меня в специальную английскую школу № 29, где уже училась моя сестра. Располагалась школа на улице Кропоткинской, нынешней Пречистенке, в здании бывшего артиллерийского училища, построенного еще перед войной и расформированного в 1950-е годы. Прямо за нашей школой, на тогдашней улице Рылеева, в нынешнем Гагаринском переулке, находился единственный о ту пору в Москве частный особняк. Рядом с домом постройки XIX века был разбит элегантный и ухоженный английский сад, что для Москвы конца 1960-х являлось большой редкостью. По садику бегали два веселых скотчтерьера. Дом был отдан во владение американскому журналисту Эдмунду Стивенсу, жившему там с русской женой Ниной. Нина держала неформальный светский салон, где нашли приют деятели советского андеграунда: Плавинский, Рабин, Зверев, Немухин… Особняк казался таким сказочным и романтичным, что привлекал детей из окрестных школ. И я, конечно, не был исключением. Нынче дом Стивенсов занят посольством Абхазии.
Класс, в который я попал, можно смело назвать интернациональным. Шутка ли – в нем училось столько иностранных детей из дипломатического корпуса! Нана, девочка из Исландии, Джани, мальчик из Италии, Патриция из Чили, Рози из Бангладеш и даже принцесса Непала Налини Рана! Там же училась внучка маршала Баграмяна Карина Наджарова, правнучка всероссийского старосты Калинина Валя Маликова, дочь начальника погранвойск СССР Лена Шевченко, будущий киноактер Боря Токарев, дети советских дипломатов в США – Вова Найденов и Катя Соколова, внучка сталинского министра Зверева, а также талантливые еврейские дети – Женя Гольдгур, Лариса Шнапер, Вера Абрамова, Марина Стружинская, Марина Цысс и Миша Орлов. В классе я больше всего дружил с девочками, и особенно доверительные и дружеские отношения у меня с первого класса сложились с прелестной девочкой из хорошей московской семьи Машей Миловидовой. Меня, как низкорослого и щуплого, посадили с ней за первую парту, и вот уже более полувека я сохраняю с Машей нежную дружбу, а ее дочь Марфа стала моей крестницей.
Машин отец Николай Николаевич Миловидов был одним из авторов памятника М.Ю. Лермонтову у “Красных Ворот”, а мама, Марина Сергеевна Антонович, – известным в ту пору врачом и сестрой поэта Александра Антоновича, писавшего в юмористической колонке “Литературной газеты” под псевдонимом Дык. Эта интеллигентная семья жила в небольшой, но уютной квартире на улице Фурманова (ныне Нащокинский переулок), в разрушенном в 1970-е большом доме писателей. Этот дом со стенами охристого цвета знаменит был тем, что в нем одно время жил Михаил Булгаков, а в подъезде, где находилась Машина квартира, арестовали Осипа Мандельштама, и конвоир, ведший его, провалился на ступеньке лестницы, которую потом заменили на деревянную. Боясь злого рока, мы ее всегда перешагивали, поднимаясь на пятый этаж. Прямо напротив этого дома стоял особняк, в котором жил популярнейший актер Юрий Никулин с семьей, а наискосок от него – угловой дом друга Пушкина, мецената и коллекционера Павла Нащокина.
Семья Маши Миловидовой имела богатую и разветвленную историю. Она, шутя, называла себя Миловидова-Антонович-Пель-Васютинская-Бахвалова-Дык. Прадед ее в 1920-е годы был военным министром Дальневосточной республики, а бабушка Маргарита Петровна Антонович-Бахвалова – актрисой Московского театра им. Ермоловой, где даже играла Катерину в “Грозе” Островского. В 1960-е годы была жива и старенькая Машина прабабушка Марфа Ивановна Бахвалова, жившая в маленькой комнатке за дверцей с мутными рифлеными фигурными стеклами.
Однажды на свой день рождения Маша пригласила несколько наших одноклассников, с которыми мы дружили тогда: Марину Цысс, Геру Щекочихина, Соню Георгиеву, Руслана Бутовского, Мишу Орлова и Лену Григорьеву. Дверь квартиры украшала надутая медицинская перчатка с розой между пальцами. Меня тогда поразил этот декадентский символ Серебряного века. Бабушка Маши научила нас старинной игре в шарады, в которую в детстве играл и мой папа. Мы выбрали слово “Китай”. Сначала изображали кита, ползавшего под тулупом по паркету и брызгавшего водой из резиновой клизмы, а потом хором восклицали: “Ай!” А Соня Георгиева в кимоно старалась изобразить китаянку… Такие удивительные детские игры достались нам из дворянского прошлого.
Помню, как однажды в доме у балерины Большого театра Светланы Щербининой, на дне рождения ее сына Пети Гиссена, великолепную шараду показала нам Янина Жеймо – всеми любимая Золушка. Она взяла свечку и закоптила сажей донышки на тарелках. Затем, погасив верхний свет и оставив гореть ночник, попросила детей повторять за ней все движения. Надо было медленно водить пальцем по дну тарелки, а затем по лбу, щекам, носу. В конце концов мы все испачкались этой сажей. Тогда прекрасная Янина Жеймо зажгла свет и попросила нас подойти к зеркалу. Как же мы хохотали! Ее лицо оставалось чистым, ведь она водила пальцем по чистой тарелке, а мы стали похожи на чертенят. Я запомнил Янину Жеймо миниатюрной, компактной, в длинной колонковой шубе и маленькой шапочке-менингитке, хотя речь идет о 1960-х годах. В их семье существовала старинная польская традиция называть девочек во всех поколениях Янинами. Уже в XXI веке дочка Янины передала в мою коллекцию несколько вещей из маминого гардероба, а сама Янина скончалась в Варшаве, куда уехала из СССР.
Нашей первой учительницей была очаровательная Татьяна Сергеевна Бородкина. На уроки она приходила в строгих очках, носила прическу “бабетта”, чулки со стрелкой, черные лаковые лодочки на небольшой шпильке, костюмы-двойки из джерси. Весь класс любил ее. Но счастье наше было недолгим: уже в третьем классе Татьяну Сергеевну сменили на пожилую и вредную Бастинду – Марию Николаевну Иванову, старую большевичку, при этом не слишком грамотную. Она говорила “без моЁва разрешения в класс не входить”, “какАду”, а меня окрестила “гнилой интеллигенцией”. Но еще два года спустя нашим классным руководителем стала преподаватель английского языка, очень яркая женщина Ирина Ильинична Гофман, которая училась в школе вместе с дочерью Сталина Светланой Аллилуевой и много нам рассказывала об их детских играх. Историю преподавала финка Анна Николаевна Лааксо. Именно она предложила мне прочитать лекцию по истории костюма, выделив для этого целый урок. В качестве наглядного пособия я принес из дома коллекцию дореволюционных фотографий, которые пускал по рядам, параллельно рассказывая о существовавших в XIX веке видах платьев: утренних и чайных, визитных и прогулочных, вечерних и бальных… Это была моя первая в жизни лекция.
Учась в начальной школе, я имел счастье личной встречи со знаменитым в ту пору композитором Дмитрием Борисовичем Кабалевским. Этот мэтр “музыки для детей”, одно время служивший концертмейстером в Центральном детском театре, был приглашен в нашу школу для проведения урока музыки. Это была нагрузка по профсоюзной линии. Встреча длилась всего 45 минут и оставила очень приятные воспоминания. Кабалевский был подтянут и строен, в ту пору ему было уже за шестьдесят. Он ходил в твидовом пиджаке. С нами знаменитый композитор разучил свою маленькую музыкальную пьеску “Двенадцать поросят у самого колодца в густой грязи лежат”. В свое время композитора Дмитрия Кабалевского, обласканного при Сталине властью, хотели даже причислить к группе “композиторов-формалистов”, вместе с Сергеем Прокофьевым, Дмитрием Шостаковичем, Арамом Хачатуряном и Николаем Мясковским. Позволю себе вновь напомнить о том, что советский строй был врагом культуры № 1.
Во главе школы стояла жесткая, если не сказать жестокая, Инна Михайловна Теплова, наводившая страх и ужас не только на учеников, но и на весь преподавательский состав. Я ее раздражал как бельмо на глазу. Эта стойкая коммунистка нещадно чихвостила меня за опоздания, длинные волосы, перешитые в клеш брюки от школьной формы, за то, что я отказывался писать чернилами из-за обилия клякс и предпочитал шариковую ручку… Но более всего Инну Михайловну выводила из терпения моя ранняя и, как ей казалось, незаслуженная слава юного актера и телеведущего. Ведь уже в возрасте восьми лет я сыграл свою первую главную детскую роль в телефильме “Женька-наоборот”. Эта история повествовала о жизненных перипетиях воспитанника детского дома по имени Женька. Съемки проходили на площади Журавлева в бывшем Введенском народном доме, который сегодня называется “Дворец на Яузе”. На взрослые роли были приглашены артисты Центрального детского театра, а на роль маленького Женьки утвердили меня. Очевидно, на решение режиссера повлияло то, что я в то время был по-детдомовски худеньким. Меня нарядили в маечку и шортики, нахлобучили на голову белую панамку и сунули в руку одуванчик. В этом виде я должен был наблюдать, как усыновивший меня художник в исполнении ведущего актера ЦДТ Евгения Владимировича Перова что-то рисует.
– Дяденька, вы шпион? – спрашивал я тучного Перова, напоминавшего Орсона Уэллса.
– Нет, брат, – отвечал он. – Я художник.
– Не обманывайте, таких художников не бывает, – настаивал мой персонаж.
– Нет, бывает, очень даже бывает! Хочешь, я покажу тебе свои рисунки?
Вот и вся роль. Но съемки в этом телефильме открыли для меня дорогу в кино и на телевидение. Вскоре меня пригласили принять участие в программе “Приходи, сказка”. Я изображал мальчика XVI века. Тут моя субтильность оказалась совсем некстати, поэтому, чтобы приблизить меня к образу, даже использовали специальные толщинки. Я снимался с накладным животом, в парике и сделанных из папье-маше башмаках-сабо. Затем последовало приглашение в знаковую для 1960-х годов детскую передачу “Театр «Колокольчик»”, которая выходила раз в неделю. Я изображал Мальчика-Колокольчика из города Динь-Динь. В синей шапочке, представлявшей собой цветок колокольчика, и в зеленом костюмчике с воротником из вырезанных лепестков я под чужую фонограмму чистым звонким голоском “исполнял” такую песенку:
Динь-динь-дили-дон! Кто услышит этот звон, Пусть места занять спешит. На экране серебристом Вы увидите артистов — Каждый очень знаменит. Ты, песенка, скорей Спеши напомнить нам, Что надо быть дружней И пора уже, пора садиться по местам.Съемки проходили на Шаболовке. Главным оператором был Эдуард Рысь. Эта фамилия меня настолько удивила, что запомнилась на всю жизнь. Камеры были совершенно неподъемными. Они передвигались на больших резиновых колесах и тянули за собой тяжеленные кабели. Одному человеку поднять такой кабель было не под силу, поэтому сразу несколько рабочих в специальных рукавицах таскали кабель за оператором по всему павильону. Мой персонаж жил в маленьком домике, откосы которого укрепляли тяжелыми железными квадратными противовесами, называвшимися “крысами”, вокруг “росли” искусственные кусты, а рядом находилась сцена, куда выходили объявленные мной музыкальные коллективы из разных детских садов и школ. Я запомнил одну – детскую школу “Гуси-лебеди”. Весь свой текст я запоминал моментально после первого же прочтения. Репетировала со мной дома мама. Эта способность пригодилось мне много лет спустя, когда я стал ведущим программы “Модный приговор”.
В редакцию приходили сотни писем от мальчиков и девочек со всего Советского Союза. На конверте значилось: “Москва. Телевидение. Театр «Колокольчик». Директору Сане Васильеву”. И письма находили своего адресата! Уже в детские годы я был звездой Первого канала. Мама заставляла меня отвечать на каждое послание.
– Если тебе пишут, надо обязательно ответить, – говорила она.
Я следую этому правилу до сих пор и по возможности стараюсь отвечать на все сообщения, которые мне присылают бесчисленные поклонницы в социальных сетях. Это занимает много времени, но положение обязывает!
А в ту безынтернетную пору мы с мамой закупали открытки в киоске “Союзпечать”, и на каждой я писал “Привет от театра «Колокольчик». Саня Васильев”. Мама относила подписанные открытки на почту. Может быть, кто-то до сих пор хранит мои первые автографы, не подозревая, что Мальчик-Колокольчик вырос в ведущего программы “Модный приговор”.
Уже в начале 1970-х годов в моей жизни возникла передача “Будильник”, которую я вел вместе с маминой приятельницей и коллегой по Детскому театру актрисой Надеждой Румянцевой. Костюм мальчика Будильника, которого я изображал, выглядел очень интересно. На голове у меня был золотой картуз с кольцом на макушке, как звонок на старинном будильнике, а к животу крепился циферблат с двигающимися стрелками. Сама программа состояла из музыкальных номеров и начиналась с песенки:
Он стучит, стучит, День и ночь не спит, Не смыкает глаз будильник, Он не отстает, не спешит вперед, Мой хороший верный друг будильник!Эту песенку я тоже исполнял под фонограмму.
В те годы пленка была в дефиците, поэтому многие программы после трансляции в эфире просто-напросто стирали, поверх записывая что-то новое. Так, не осталось практически ни одной записи “Будильника” конца 1960-х – начала 1970-х годов. На память у меня сохранилась лишь журнальная вырезка, на которой я в костюме Будильника запечатлен рядом с Надеждой Румянцевой. Говорят, что в Финляндии в телеархиве сохранились старые советские передачи, но я еще не искал.
Та же участь постигла и два телевизионных фильма, в которых я снимался. Один из них назывался “Кто спасет парня”. Это была американская драма о двух братьях, один из которых побывал на Вьетнамской войне. Братьев играли Юрий и Виталий Соломины. Я играл сына Юрия Мефодьевича, а роль моей мамы досталась актрисе Малого театра красавице Нелли Корниенко. Помню, что для съемок принес из дома пустые коробки из-под кока-колы, потому что среди реквизита не нашлось ничего подходящего для воссоздания быта американской семьи.
По сюжету у моего героя было очень неблагозвучное имя – Джо Пик. Я заупрямился и попросил режиссера переименовать моего персонажа, мотивируя тем, что по-русски “Джо Пик” звучит как “жопик”. Совершенно не хотелось, чтобы это прозвище ко мне приклеилось. Режиссер пошел навстречу, и меня стали называть Джим Пик.
Действие фильма происходило под Рождество. Я лежал на полу и играл с американской железной дорогой. Красавица Нелли Корниенко наряжала елку. Неожиданно хрупкая игрушка выскользнула из ее рук и вдребезги разбилась. Осколки лежали аккурат на том месте, куда мне по сюжету предстояло опуститься голыми коленками.
– Не садись, там осколки, – шепнула мне моя киномама.
Однако в то время пленку экономили, лишних дублей не делали, и я, чтобы не загубить кадр, бесстрашно опустился прямо на битое стекло и, конечно, порезался. Но дубль был спасен!
Впоследствии я встретился с Юрием Соломиным в Париже, в Лувре. Я подошел к нему, поздоровался, представился, напомнил, что играл однажды его сына. Как же Соломин перепугался! Еще бы! Советский Союз еще не развалился, у власти стоял Черненко. Юрий Мефодьевич в составе труппы Малого театра выехал на гастроли в Париж, рядом наверняка паслись сопровождающие сотрудники КГБ, и вдруг появляется какой-то парень и утверждает, что вместе снимались.
Соломин вытаращил глаза и воскликнул:
– Вы меня с кем-то перепутали! Я нигде не снимался!
А я подумал: “Как странно. Соломин – и нигде не снимался”.
Вспоминаю другой телеспектакль, в съемках которого я принимал участие, – назывался он “Скорпионовы ягоды”. Главную роль в нем исполняла “великая старуха” Малого театра Елена Гоголева. Дело происходило в какой-то деревне. Я появлялся в сцене свадьбы, во время которой Елена Николаевна зычным голосом пела: “Хасбулат удалой, бедна сакля твоя”. Над верхней губой у Гоголевой росли усы. Я смотрел на нее в изумлении. В этом же телеспектакле играла и моя мама.
Конечно, мои роли сложно назвать кинокарьерой, это всего лишь несколько незначительных эпизодов, дальше которых дело не пошло, потому что, окончив школу, я поступил на постановочный факультет Школы-студии МХАТ. И сегодня я счастлив, что не стал актером. В этом случае я не смог бы найти никакой работы на Западе. Только во времена немого кино русские актеры могли рассчитывать на успешную карьеру. Примеры – Алла Назимова, Вера Воронина, Ольга Бакланова, Наталья Лисенко, Наталья Кованько, Иван Мозжухин… Как только появился звук, все они сразу перешли на второстепенные роли шпионов, таксистов, дворецких…
Но начало моей звездной жизни на Центральном телевидении было положено. Телевидение и сейчас меня кормит и поит! Спасибо великому изобретению эмигранта Владимира Зворыкина – телевидению!
Как начиналась коллекция
История основания коллекции восходит к 1960-м годам, она началась с детской страсти к собирательству. Многие люди в школьные годы собирают марки, спичечные этикетки, значки, но, став старше, забрасывают альбомы на антресоли. Должны совпасть разные обстоятельства, чтобы подобное увлечение превратилось в дело всей жизни. Мне повезло: мама – актриса, папа – художник, среди друзей семьи были замечательные люди, в их числе коллекционеры. Да и учился я в старинном дворянском районе Москвы, на улице Кропоткинской, ныне Пречистенке, в те времена, когда Москву нещадно рушили. Особняки и бывшие доходные дома, превратившиеся в коммуналки с коридорной системой, расселяли, и жители коммунальных квартир, переезжая в малогабаритные “хрущобы”, не относили остатки былой роскоши антикварам, которых тогда в Москве почти и не было, а выбрасывали старые вещи на свалку во дворах.
Будучи учеником второго класса английской школы № 29, я ходил по музеям и театрам, набитым бутафорским реквизитом и театральной мебелью, а детство проводил в старинном родовом имении в Литве, поэтому глаз у меня был наметан. Моя литовская кузина, красавица гимнастка Ляля Гулевич, вспоминала, что уже в пятилетнем возрасте я говорил ей:
– Ляленька, не выбрасывай, пожалуйста, свои платья, они все пойдут в мой музей.
Восьми лет от роду я совершенно сознательно ходил по помойкам и подбирал те вещи, которые мне казались знакомыми, родными и близкими. И однажды во дворе дома, где жил Юрий Никулин, в Нащокинском переулке, я обрел икону Николая Чудотворца XVIII века. Она была довольно большой, стояла образом к мусорному контейнеру, и на ней сушилась половая тряпка. С этой иконы все и началось. Она меня охраняет!
Свой каждодневный маршрут я разрабатывал постепенно. Начиная с пятого класса, ежедневно после уроков прохаживался по помойкам, упрятанным в переулках и двориках Остоженки и Пречистенки. Ходил как на работу. В школе меня так и называли – помоечником. Чего я там только не находил! Тогда ведь люди так боролись за жилплощадь в коммунальных квартирах, что выбрасывали все то, что сегодня продают в антикварных магазинах: старинные жестяные коробки из-под конфет и печенья “Дингъ” и “Эйнемъ”, любовную переписку столетней давности, кружевные зонтики, бисерные сумочки, перламутровые веера, кожаные альбомы с фотографиями, чугунные угольные утюги… Люди считали в те темные годы, что это всего лишь старый хлам, хранить который – страшное мещанство и пережиток царского прошлого, а я был тут как тут: подбирал, чистил, реставрировал. В этом мне очень помогала мама, весьма поощрявшая мое увлечение. Она кипятила и отстирывала некоторые мои находки, проверяла их на наличие блох и клопов. Например, однажды по предложению моего однокурсника Кости Звездочетова мне пришлось разбирать квартиру звезды Малого театра, великолепного актера перевоплощений Степана Кузнецова, умершего в далеком 1932 году. В квартире жила его репрессированная вторая жена Галина… Его костюмы попали в музей Малого театра, а мне достались фотографии, негативы, банковские книжки, театральные программки, визитные карточки… и в большом количестве трусы и кальсоны Кузнецова 1910–1920-х годов. Они были до колен, как у футболистов. Когда я все это добро принес домой, мама сказала:
– Сейчас всё будем кипятить!
Я всегда старался выяснить, кому найденные вещи принадлежали. Подсказать имя владельца могли открытки, письма, визитные карточки… На каждую находку я вешал бирку с соответствующим описанием, в специальной тетрадке вел опись стремительно расширяющейся коллекции. Мой папа называл меня систематиком и считал, что в жизни мне это пригодится. И ведь очень пригодилось!
Строения, предназначенные под снос, никогда не запирались, привлекая тем самым под свои своды не только алкоголиков, но и таких исследователей, как я. Беспрепятственно проникнув однажды в готовящийся к капитальному ремонту особнячок по Большому Афанасьевскому переулку, в ту пору – улице Мясковского, я обнаружил внутри кучу старинной мебели карельской березы профессора Щербакова, письма, альбомы… Все эти сокровища сгрудили в один угол как ненужный хлам. А из дома № 37 на Остоженке, где сегодня находится музей Тургенева, как-то выносили на помойку старинные двери. Вооружившись отверткой, я открутил с них дверные ручки. “За них же держался Тургенев!” – говорил я себе.
Возня со старинными вещами доставляла мне огромное удовольствие. Именно поэтому я многое реставрировал. Но реставрация была любительской: я подкрашивал кожу и обновлял ее ланолином, разводил тушь и закрашивал трещинки на старинных сумочках и туфлях. Довольно рано начал делать маленькие экспозиции. Родители как раз приобрели литовскую панельную мебель с полкой, защищенной от пыли раздвижными стеклами. Вот эту самую полку я и начал использовать в качестве витрины под свои экспонаты: раскладывал внутри веера, старинные коробочки, визитные фотографии 1860-х годов, расставлял флакончики… И приглашал школьных приятелей смотреть новую мини-выставку, посвященную какой-то определенной теме. До сих пор помню названия некоторых из них: “Карты и мода”, “Балы”, “Мюр и Мерилиз”…
Комната моя напоминала настоящий музей, по которому я водил экскурсии для своих одноклассников и даже учителей – например педагога по английскому языку Нины Александровны Гамбаровой, а также для друзей семьи. Показывал старинные аптекарские флаконы, коробки из-под конфет, фантики, кружева, бисерное шитье, кошельки, перчатки, бювары, портбукеты, фотографии, таблички страховых обществ и многое другое. Гости приходили от увиденного в восторг, а папа сокрушался:
– Я думал, что мой сын превратит свою комнату в мастерскую, где будет клеить макеты, писать картины, заниматься творчеством, а он только собирает дворянскую старину. Думал, станет вольным художником, а он стал настоящим барчуком в шелковом халате! Ну, что поделаешь – гены!
Мой интерес был направлен на материальную культуру, и об этом все знали, даже писали про меня статьи. Когда я учился на втором курсе Школы-студии МХАТ, в журнале “Юность”, который издавался в ту пору многомиллионным тиражом, опубликовали большой очерк юной журналистки Анны Малышевой “Никуда не деться от Сани Васильева” – про мою страсть к коллекционированию. Эта статья очень помогла моей репутации коллекционера. Мне стали писать письма со всей страны и предлагать в дар старинные журналы, платья, туфли, чулки, шляпки и другой “винтаж” царской России. Мне и сейчас на все мои выставки приносят много даров благодарные зрители. Больше всего на свете я люблю в подарок получать винтажные вещи, а не цветы, брошки, игрушки или шарфики, которые обычно мне презентуют после выступлений.
Чтобы научиться лучше разбираться в старинных вещах, мне приходилось много времени проводить в букинистических магазинах, в которых, надо заметить, в пору моего детства не было такого разнообразия книг, как сегодня. Один из книжных магазинов, куда я регулярно заглядывал, назывался “Дружба” и находился по адресу улица Горького, 15. В нем продавались книги стран социалистического содружества, то есть литература на польском, чешском, немецком, болгарском, венгерском, румынском языках. Поскольку в советское время мало кто владел иностранными языками, магазин чаще всего пустовал. Я приходил и спрашивал, имеются ли в продаже альбомы по искусству. Обязательно находилось что-то вроде “Фарфор музеев Венгрии”, или “Румынская вышивка”, или “Польская резьба по дереву”… Я покупал эти альбомы и дома тщательно изучал. Это было для нас окно в искусство и культуру Европы. Тогда же, помнится, приобрел уникальный американский альбом “Костюм в Голливуде”. До сих пор не понимаю, как он попал к нам на книжный рынок. Этот роскошный фолиант в парчовом переплете издан был в Японии и стоил 110 рублей – мамина месячная зарплата. На его страницах я в детстве впервые встретил имена Глории Свенсон, Мэй Уэст, Луизы Брукс, Марлен Дитрих и Греты Гарбо… Полюбил их всей душой, остался им верен. Теперь в коллекции моего Фонда есть платья и Глории Свенсон, и Марлен Дитрих. Железный занавес трещал о швам!
В каждом букинистическом магазине обязательно находился отдел, посвященный декоративно-прикладному искусству. Именно там можно было найти изданную в 1920-х годах маленьким тиражом знаменитую книгу “Бисер в старинном рукоделии” Валентины Дудоревой, много лет проработавшей научным сотрудником отдела тканей Государственного исторического музея. Или “Старинные подмосковные усадьбы”. Или “Музей 1840-х годов”. С жадностью я изучал каждое из этих изданий: рассматривал черно-белые картинки, вчитывался в текст. А более всего я любил старые книги Георгия Крескентьевича Лукомского, выдающегося русского искусствоведа Серебряного века, впоследствии эмигранта первой волны. Я считаю себя его учеником.
Еще одним важным источником знаний для меня стали музеи – в частности, Государственный музей А.С. Пушкина на Пречистенке, расположенный в бывшей городской усадьбе Хрущевых-Селезневых. Серое и лично для меня неприглядное здание 29-й английской школы находилось аккурат во дворе музея, на месте разрушенной домовой церкви. Рядом остались палаты XVII века. Во дворе пушкинского дома работала замечательная садовница. Она превратила музейный садик в настоящее царство роскошных цветов и кустарников. Гулять там, конечно, было запрещено. Но я был настолько худым, что легко пролезал между жердями ограды и оказывался в этом райском местечке. Глядя сейчас на этот забор, даже представить не могу, как мне это удавалось. Но пролезал ведь!
Часто бывал в Третьяковской галерее, где слушал увлекательные лекции-экскурсии Усольцевой, и в Музее изобразительных искусств им. Пушкина на Волхонке, где однажды мне довелось встретить Лилю Брик. Это была невысокая сутулая женщина с лицом старой куклы, с огромными ресницами и выкрашенными в рыжий цвет волосами, которые она заплетала в хилую косу. На ее скрюченных артритных пальцах сверкали многочисленные перстни, на плечах лежала шаль от Ива Сен-Лорана с длинной бахромой. Как только она появилась в музее, по залу пронесся шелест: “Это же Лиля Брик, сама Лиля Брик…” Позже я подружился с ее пасынком, режиссером-документалистом Василием Катаняном и его женой, переводчиком Инной Генс. Дважды бывал в знаменитой квартире Лили Юрьевны на Кутузовском проспекте, видел потрясающие работы Модильяни, Параджанова, множество икатов[13] и узбекской посуды, украшавших этот дом. Инна Генс даже передала в мою коллекцию два наряда работы Дома моды мадам Gres из гардероба Лили Брик, ранее принадлежавших ее сестре Эльзе Триоле. Самой хозяйки дома в ту пору уже не было на этом свете.
Однажды в ГМИИ им. Пушкина открылась выставка старинного итальянского кружева. В первый же день работы экспозиции, прихватив образцы кружева из своей коллекции, я отправился в музей с подругой – Машей Лавровой. Мы ходили по выставочному залу и сличали мое кружево с тем, что выставлено в витринах, затем делали соответствующие подписи. Так я научился отличать типы кружева и смог реальнее оценить свою коллекцию.
Очередную находку я любыми способами пытался идентифицировать. Даже записался в Государственную театральную библиотеку, где пропадал в свободное время и где однажды познакомился с уникальной русской женщиной, ставшей впоследствии моей наставницей, Марией Николаевной Мерцаловой. Мария Николаевна была знаменитым историком и теоретиком моды, автором многочисленных книг по истории костюма разных времен и народов.
Я впервые встретил ее в библиотечном темном и тусклом кабинете изобразительного искусства. Под мягкой зеленой лампой, в тишине и полумраке, она сидела за столом среди книг и альбомов со старинными модными гравюрами. Конечно, я прекрасно знал, кто такая Мерцалова! Она давно стала легендой. Моя замечательная тетка, Ирина Павловна Васильева, как я уже писал, на один из детских дней рождения подарила мне книгу “История костюма”, написанную Марией Николаевной. Именно с этого издания началась моя любовь к истории моды.
Мерцалова стала первым автором, написавшим в советское время книгу на эту тему. У нее, разумеется, были предшественники, но в дореволюционное время – скажем, родной брат актрисы Веры Комиссаржевской Федор Федорович Комиссаржевский, написавший уникальную книгу “История костюма”; выдающийся русский археолог и историк Иван Егорович Забелин, в двух книгах – “Домашний быт русских царей в XVI–XVII веках” и “Домашний быт русских цариц в XVI–XVII веках” – подробно рассказавший о том, как одевались в допетровское время. В моих любимых журналах “Старые годы” и “Столица и усадьба” регулярно печатались исследовательские статьи об истории моды, например статья “Веер и грация” известного искусствоведа барона Н.Н. Врангеля об истории вееров.
В советское время эту брешь заполнила усидчивая и дотошная исследовательница Мария Николаевна. Тогда, в кабинете изобразительного искусства Театральной библиотеки, Мерцалова обратила на меня внимание, сказав что-то вроде: “Какой милый мальчик”. А я не знал, чем ее заинтересовать! Мне было всего семнадцать лет, я учился на втором курсе Школы-студии МХАТ. Не придумав ничего лучше, я произнес фразу, которую запомнил на всю жизнь:
– Мария Николаевна, а в Литве, когда поднялось польское восстание против России, в моду вошли траурные украшения.
Мерцалова внимательно посмотрела на меня своими пронзительно-голубыми глазами и сказала:
– Молодой человек, если вас интересует история, начните с Библии. Это будет самое полезное чтение. А потом уже переходите ко всему остальному.
Так мы познакомились. Затем Мария Николаевна стала приглашать меня к себе домой. Жила она неподалеку от Тимирязевского парка, в Красностуденческом проезде, в трехкомнатной квартире в стиле “обшарпе”, обставленной старинной усадебной мебелью в стиле ампир. Чего стоил один диван красного дерева с большими лебедями на подлокотниках! Старинное рекамье “дней Александровых прекрасного начала”. Подсвечники с гранеными хрустальными втулками в стиле ампир. Все свободное пространство этой квартиры занимали бесконечные рукописи уже изданных и только готовящихся к изданию книг, напечатанные на машинке и написанные от руки под копирку. На стене висел огромный парный детский портрет 1840-х годов. Готовясь к моему очередному визиту, Мария Николаевна пекла пирог, который называла шанежка, – пышный и сдобный фирменный бисквит. Заваривала чай.
Мерцалова происходила из старинной дворянской семьи. Ее детские годы прошли в Тульской губернии, в имении родителей. Она рассказывала, как внезапно в мае 1917 года выпал снег и ее отец, ученый-механик Николай Иванович Мерцалов, тогда сказал: “Это не к добру”.
– А ведь он был прав, – добавляла от себя Мария Николаевна.
Мерцалову часто приглашали на “Мосфильм” в качестве консультанта по историческому костюму. Так, она помогала другу нашей семьи художнику Николаю Двигубскому, когда тот работал над костюмами к картине Андрона Кончаловского “Дворянское гнездо”. Она даже снялась в небольшом эпизоде в этом фильме! Мария Николаевна страшно раздражала Колю Двигубского, поскольку часто указывала ему на ошибки и анахронизмы. Она ему говорила:
– В России так никогда не бывало, только за границей.
Это замечание относилось к дощатому полу в усадьбе и костюмам в сцене бала, которая невероятно походила на парижский кутюрный показ начала 1960-х годов.
И Коле Двигубскому, который родился во Франции, приходилось соглашаться. Хотя сама Мерцалова, в общем-то, и не знала, как было за границей. Ведь несмотря на то, что практически все книги авторства Марии Николаевны были посвящены истории европейского костюма, сама она за всю жизнь ни разу не выезжала за пределы страны. Свободно читая на французским, немецком и английском языках, работала только в библиотеках. Порой в ее книгах встречались кое-какие несуразности, заметить которые мог только человек, поживший в Европе. Например, она некогда писала: “Когда наступала зима и улицы Парижа заваливало снегом…” О том, что Париж никогда не заваливало снегом, знать она не могла. Уверен, что все отечественные исследователи и искусствоведы сделали бы гораздо больше в своей профессии, если бы не железный занавес, не позволявший им свободно передвигаться по миру и изучать искусство в местах его создания.
Единственным антагонистом Мерцаловой была Раиса Владимировна Захаржевская, долгие годы преподававшая историю костюма в Текстильном институте и на историческом факультете МГУ. Друг друга эти дамы на дух не переносили и никак не могли поделить между собой первенство в области истории моды. Их отношения напоминали вражду Шанель со Скиапарелли в довоенном Париже. Как педагог Захаржевская превосходила Мерцалову. Женщиной Раиса Владимировна была методичной и со всей тщательностью готовилась к каждой лекции, которые всегда сопровождались слайдами, что в 1970-е годы было в новинку. Она всячески старалась развить в своих студентах ассоциативное мышление. Например, одновременно показывала на экране изображение стула и платья, предлагала сравнить форму сиденья и форму кринолина. Лекции Захаржевской были полны противоречий, заставлявших студентов думать. Мерцалова лекций практически не читала. Она была только исследователем и теоретиком.
Они и внешне выглядели как полные антиподы. Захаржевская походила на Иду Рубинштейн с портрета Валентина Серова: рыжая, горбоносая, стройная, изломанная, резкая, строгая и породистая еврейка. Она шла в ногу со временем, интересовалась культурой хиппи, следила за модой. Мерцалова, напротив, была миловидной, грузной, широколицей русской старорежимной барыней. Говорила высоким тоненьким голоском. Одевалась элегантно, но несколько старомодно. Часто носила украшения из ярко-голубого фарфора веджвуд, которые так шли к цвету ее глаз, и видела себя только в эпоху кринолинов. При этом обе были абсолютными титанами в своей профессии и настоящими корифеями истории костюма.
Я учился у обеих. Но когда в двадцать лет сам начал читать лекции, за основу взял методику преподавания именно Захаржевской. А с Мерцаловой нас связывал живой человеческий контакт, который я бы назвал доброй дружбой. Нам удалось сохранить эту дружбу даже после моего отъезда во Францию. Мы регулярно переписывались, иногда созванивались… Мария Николаевна прислала мне свою книгу “Поэзия народного костюма”, на форзаце которой написала: “На память Сане о Родине”. В душе Мерцалова лелеяла надежду однажды навестить меня в Париже. Я был бы счастлив этой возможности! Но не случилось.
Последние годы жизни Мария Николаевна посвятила новой работе – большому четырехтомному изданию “Всеобщей истории костюма всех времен и народов”. Для иллюстрации третьего и четвертого томов Мария Николаевна письменно попросила меня подобрать и описать иллюстрации, что я с радостью и вовремя успел сделать. Эта большая книга замечательного отечественного историка костюма вышла в издании Ирины Фадеевой, энтузиастки печатного дела, ушедшей в женский монастырь вскоре после публикации четырехтомника. Живописный ряд, портреты в цвете – все это мне удалось переснять в музеях разных континентов и стран, ни в одной из которых Мерцаловой за всю ее долгую жизнь так и не довелось побывать.
В 1997 году я прилетел в Москву на празднование восьмидесятипятилетнего юбилея Марии Николаевны, который отмечали в зелено-белых декорациях Оружейной палаты. Из Парижа я привез букет белых роз в ведерке с водой – ровно восемьдесят пять штук, по количеству лет юбилярши. Тогда это было невероятной редкостью.
А в 2000 году Мерцалова скончалась. Ее наследником стал родной племянник Николай Иванович, сын сестры. Он передал мне часть архива Марии Николаевны, некоторые ее рукописи, детские рисунки и вышивки, которые сегодня украшают мой дом в Литве и напоминают об этой удивительной женщине – наставнице, ставшей одной из ключевых фигур в формировании моей личности, открывшей для меня русский народный костюм.
Но вернемся к коллекции. В какой бы город я ни приезжал, я сразу иду на блошиный рынок. А впервые блошиный рынок я посетил в Вильнюсе. Мне было восемь лет, и родители в очередной раз на все лето отправили меня в Литву. В это время в нашем родовом имении наметился небольшой раскол. Одна из маминых кузин, западная белоруска родом из Молодечно Халинка (тетя Галя, Галина Фоминична) Гулевич-Пекарска, уговорила нашу общую бабушку Марию Андреевну Гулевич подарить ей кусочек земли. На этом кусочке Халинка построила очень солидный кирпичный дом с несколькими спальнями. Разумеется, такой порядок вещей решительно не устроил другую мамину кузину, балерину Варшавской оперы и ученицу Брониславы Нижинской Софью Феликсовну Верницкую-Гулевич и ее мужа, инженера Арсения Дмитриевича Гулевича, которые не рассчитывали на какое-либо соседство. Словом, кузины между собой не ладили. Их неприятие по отношению друг к другу усугублялось еще и тем, что Софья была настоящей классической балериной Большого театра в Варшаве, даже снимавшейся в польском довоенном кино “Ada” и ставшей в Вильнюсе хореографом польского фольклорного ансамбля “Вилия”, а Халинка имела лишь амбиции кабаретной певицы и мечтала стать кем-то вроде Ганки Ордонувны – популярной в ту пору польской певицы и актрисы.
В своем доме тетя Галя построила эстраду в форме рояля, к которой со второго этажа спускалась лестница, отделанная лампочками по полу и по потолку, как в польских кабаре 1930-х годов. Она носила лаковые шпильки, надевала черное платье с люрексовой искрой и глубоким декольте, наклеивала ресницы, густо подводила глаза и в полной боевой раскраске, эффектно переставляя ноги со ступеньки на ступеньку, с розой в руке спускалась по лестнице к эстраде. Репертуар у Халинки был довольно однообразный. Она исполняла популярный шлягер тех лет Miłość ci wszystko wybaczy, что означает “Любовь простит все”, и Cicha woda brzegi rwie – “Тихая вода рвет берега”. Примечательно, что единственными зрителями на этих домашних концертах были муж Халинки Виктор Захарович Шоршев – рыбак и охотник, ее кошка Мауричка и восьмилетний я.
В ту пору в Вильнюсе еще работал блошиный рынок под названием Кальвария, Kalvaria, что в переводе с латыни означает “Голгофа”. Разбит этот рынок был на территории церкви, окруженной часовенками. Каждая часовенка символизировала событие, которое останавливало печальное шествие Иисуса до Голгофы. Отыскать на этом рынке можно было хоть черта в ступе. Несколько рядов прилавков занимали старинные вещи: самовары, утюги, старинные фотографии, открытки, сумочки, посуда, подсвечники фраже… Никакой особенной ценности они не имели. Но я с решимостью отправился на этот рынок, сжимая в кулаке три рубля, выпрошенные у Халинки. Я до сих пор храню старинные открытки, приобретенные в то лето в Вильнюсе.
А что же покупала сама Халинка? Повинуясь своей страстной натуре, она покупала новые платья из Польши. Всегда в пол, обязательно из кримплена, по моде конца 1960-х годов, и непременно с крупным цветочным рисунком. Возвращаясь домой, она долго крутилась в обновке перед зеркалом и в конце концов приходила к выводу, что длинное сейчас не носят. В моде длина миди! Тут же тетка хваталась за ножницы, аккуратно отрезала немодную длину, застрачивала край на машинке и, выходя на следующий день к завтраку в обновленном туалете, говорила:
– Миди – это ни туда ни сюда. Гораздо лучше мини!
К вечеру длина юбки укорачивалась вдвое. Но и на этом Халинка не останавливалась. К следующему утру приходило осознание, что мини-платье не выдерживает никакой конкуренции с шортами и короткой маечкой. И снова в ход шли ножницы и швейная машинка. В последней стадии трансформации изначально длинное платье превращалось в бикини с бюстгальтером. Эта история повторялась настолько часто, что гардероб Халинки целиком и полностью состоял из подобных экстравагантных моделей, стихийно созданных собственными руками. При этом, хочу заметить, тетка в то время перешагнула пятидесятилетний рубеж и не могла похвастаться тонким станом. Однако ни то ни другое обстоятельства никак не отразились на ее увлечении модой и страсти к переодеваниям.
Когда муж Халинки профессор Вильнюсской консерватории Болеслав Пекарский скоропостижно скончался, отравившись несвежей рыбой, новоиспеченная вдова первым делом бросилась к портнихе, чтобы заказать шикарный траурный наряд. Ей сшили мини-платье черного цвета с тюлевой фатой в пол. Для полноты образа Халинка приобрела на блошином рынке лаковые черные туфли и черные кружевные перчатки. С букетом черных роз она явилась на отпевание.
– Зал ахнул! – с восторгом вспоминала тетка. – Я была похожа на голливудскую звезду!
Представьте, какая страсть к переодеваниям! Смерть мужа стала не поводом для скорби, а поводом для поиска нового шикарного туалета. Вскоре эта экстравагантная дама вышла замуж за своего прораба.
В отличие от Вильнюса, в Москве в те далекие годы не существовало ни одного блошиного рынка. Зато были антикварные магазины. Правда, назывались они тогда комиссионными, потому что слово “антиквариат” вообще не употреблялось. Первый магазин находился на Октябрьской площади и состоял из нескольких отделов. Один специализировался на бронзе, другой – на фарфоре, третий – на живописи. В живописном отделе по стенам были развешаны портреты, пейзажи и натюрморты в массивных рамах. Помню, что за картину Айвазовского просили 7000 рублей. В ту пору это была стоимость хорошего автомобиля. Последний отдел специализировался на разнообразной старине. Здесь можно было запросто наткнуться на предметы из слоновой кости, веера, портбукеты[14], шкатулки, изделия из венецианской мозаики… Эти мелочи интересовали меня куда больше бронзы, фарфора и даже Айвазовского.
Именно в комиссионном магазине на Октябрьской площади, когда мне было уже двадцать три года, я впервые увидел портбукет. Сделанный из позолоченной латуни, украшенный искусственным жемчугом и перламутровой ручкой, он сразу привлек мое внимание. Стоил он 40 рублей. На тот момент портбукета в моей коллекции еще не было. Я кинулся к продавцу. Но оказалось, что портбукет прямо перед моим носом выписала какая-то эстетствующая грузинка.
Я стою и чуть не плачу. Жду, когда покупательница вернется из сберкассы. Даже пообещал себе, что, если мне удастся заполучить этот портбукет, я обязательно уеду во Францию.
Грузинка вернулась в магазин и сказала:
– У меня нет денег. Может быть, кто-то захочет купить?
– Я хочу! – закричал я.
У меня всегда с собой были наличные – без них в комиссионке делать нечего. Я приобрел первый портбукет для коллекции и вскоре действительно уехал во Францию. Так что эта покупка сыграла немаловажную роль в моей жизни.
Второй комиссионный магазин располагался на Фрунзенской набережной в доме № 54. Он специализировался на продаже антикварной мебели и закрылся совсем недавно, просуществовав около сорока лет. До мебельного антикварного магазина в помещении находился комиссионный магазин старинных роялей и пианино, а потом комиссионный магазин одежды сотрудников дипкорпуса. Я был в числе первых, кому повезло попасть в этот магазин в день его открытия. Помнится, меня поразило обилие мебели пушкинской эпохи: столики, кресла-бочонки, диваны, тумбы, секретеры, шкафы… В основном гарнитуры из карельской березы и совсем немного красного дерева. Среди покупателей я узнал актрису Наталью Селезневу. Вела она себя как настоящая звезда – громко спрашивала у мужа, режиссера Владимира Андреева:
– Милый, как ты думаешь, купить мне эти тумбы карельской березы или не стоит? Нам есть куда их поставить?
Я никогда не бывал в доме милейшей Натальи Игоревны, но видел несколько сюжетов, снятых в ее квартире. Комнаты действительно обставлены с большим вкусом мебелью карельской березы. Поэтому не удивлюсь, если узнаю, что и те тумбы с Фрунзенской набережной актриса приобрела в свою коллекцию. Приобрела и не прогадала. Как не прогадали все те, кто понимал, что советская мебель – ерунда, а вкладываться можно только в антиквариат. Как это делали Ольга Всеволодовна Гернгросс и Изабелла Даниловна Юрьева, собиравшие красное дерево, оперная певица Антонина Нежданова, Лидия Русланова, Леонид Утесов, Игорь Ильинский, Людмила Гурченко, Галина Вишневская и артист оперетты Алексей Феона, купивший мебель карельской березы, принадлежавшую купцу Елисееву, которую затем перепродали в Грузию актеру Рамазу Чхиквадзе и его супруге Наташе.
Со временем магазин на Фрунзенской страшно опошлился: качество ассортимента упало, а цены превосходили все мыслимые пределы. Но там постоянно покупали старинную мебель сотрудники дипмиссий в Москве, перед магазином вечно стояли большие немецкие и голландские фуры, вывозившие эту мебель, увы, ненужную советским людям, за рубеж! Это все я лично наблюдал в 1970-е годы! Теперь ее можно купить в Лондоне на аукционах и вернуть в Россию.
Третий комиссионный магазин располагался тоже на набережной, наискосок от гостиницы “Украина”. Он специализировался на продаже живописи, миниатюр и акварелей. Поскольку от дома этот магазин находился далеко, заглядывал я туда реже, но в свое время приобрел там несколько вещиц, которые до сих пор хранятся у меня.
Финансировал все мои покупки отец. Он видел, что старина – это не просто мимолетная блажь, а страсть, которая имеет продолжение, поэтому всячески поддерживал мои начинания. Художником он был плодовитым – писал по картине в день. В ту пору цены на его работы казались мне фантастическими. Закупочные комиссии Выставочного фонда, Министерства культуры и Музейного фонда оценивали каждую папину картину в 1000 рублей – при средней зарплате в 100–120 рублей – огромные деньги. Поэтому на шестнадцатилетие отец решил сделать мне очень щедрый подарок – 5000 рублей. Такую же сумму я получил, когда мне исполнилось восемнадцать лет. Эти деньги я не прогулял и не прокутил, а целиком потратил на старину, после чего предоставил отцу полную смету своих расходов – что и за какую сумму купил. Столбиком в обычной ученической тетрадке я записывал:
Наперсток серебряный – 3 рубля.
Щеточка для ломберного столика карельской березы – 4 рубля… и так далее.
На подаренные отцом деньги я купил немало мебели, множество прекрасных уникальных старинных книг по истории искусства и, конечно, старинные платья. Первое платье для будущей коллекции я приобрел за 10 рублей, когда мне было семнадцать лет. Этот наряд, сшитый из сиреневого фая, в 1886 году составлял часть приданого одной калужской купчихи. Его мне посоветовала приобрести у своих старых знакомых моя тетя, пианистка Ирина Павловна Васильева. Она была моим добрым ангелом.
Тогда же я придумал расклеивать по Москве напечатанные на машинке объявления: “Куплю старинные сонетки, лорнеты, бисерные кошельки, сумочки, боа из страусовых перьев, платья, зонтики и туфли…” Я понимал, что если просто написать “куплю старинные вещи”, то мне станут предлагать всякую всячину вплоть до прялок, самоваров и утюгов. По указанному в объявлении номеру нашего домашнего телефона мне каждый день звонили старорежимные старушки. Дребезжащим голосом они сообщали:
– У меня для вас кое-что есть. Пишите адрес.
Далее следовало: 3-я Мещанская, дом 3, квартира 8. Звонить два раза. Или что-то в этом роде.
Старушек мои визиты приводили в восторг! У них десятилетиями в шкафах пылились старинные вещи, которые никого не интересовали. И вдруг мое объявление! А у них пенсия рублей 30. Но тут приходил Васильев и накупал на 25 рублей. У старушки был настоящий праздник. Она себе покупала торт и заказывала новые зубы!
Так, через объявление, я познакомился с удивительной Марианной Кавериной, внучкой одного из пайщиков Московского художественного театра. Она сохранила два платья, созданных Надеждой Петровной Ламановой. Одно из них, серое, 1920-х годов, вышитое стеклярусом, я приобрел за 25 рублей. От второго платья отказался, о чем теперь страшно жалею. Это шелковое платье изумрудно-оранжевого цвета было распорото на куски, а я на тот момент не умел хорошо шить и не имел реставраторов. Молодо-зелено!
Так же, через приклеенное к водосточной трубе объявление, на меня вышла кузина известной киноактрисы эпохи нэпа Софочки Магарилл. Софьи Зиновьевны не стало в 1943 году. Она умерла в Алма-Ате от брюшного тифа, а ее кузина жила в Москве и в голодные годы выживала тем, что потихоньку продавала вещи, принадлежавшие актрисе. Торговля у нее была организована как на блошином рынке. На накрытом скатертью столе лежали перевязанные бечевкой мелкие аксессуары. К каждому прилагался ценник: 3 рубля, 5 рублей, 10 рублей… Настоящий магазин на дому.
Тогда же я познакомился с семьей обрусевших немцев по фамилии Шлезингер, у которых приобрел зонтики, пальто, визитные платья… Цены, конечно, кусались. Платье могло стоить 40 рублей, а если из кружева, то и все 80.
Примерно в то же самое время, а речь идет о середине 1970-х годов, я познакомился с известной киноактрисой Еленой Тяпкиной, снимавшейся еще с Любовью Орловой в фильме “Веселые ребята”. Она переезжала с одной квартиры на другую и в ожидании грузовой машины сидела под зонтиком на каком-то пустыре в компании двух очень странных людей – лилипута и великана. Вокруг стояли корзинки, картонки, коробки и тюки. Я подошел к этой экзотичной троице и сказал:
– Какой у вас красивый зонтик!
– С этим зонтиком я снималась в фильме “Веселые ребята”, – сообщила Тяпкина низким поставленным голосом. – Три рубля за него дадите?
У меня нашлись в кармане три рубля, и я тут же купил у нее этот зонтик.
Еще одной находкой тех лет стал гардероб Нины Сергеевны Даниловой, дочери священника Сергея Белокурова, расстрелянного в 1938 году на Бутовском полигоне и только в начале 2000-х канонизированного в святые новомученики. С Ниной Сергеевной еще со школьной скамьи дружила Ирина Павловна Васильева. Она-то нас и познакомила. Приехав в Раменское, я попал в тот самый дом, где жил отец Сергий, на улочке между двумя церквями. Дочь открыла передо мной сундук с платьями и сказала:
– Выбирайте.
Одно из платьев в 1925 году она собственноручно сшила из рясы расстрелянного отца. Сегодня этот скромный наряд из коричневой шерсти вызывает в памяти воспоминания о массовых расстрелах священнослужителей и о том, как приходилось выживать членам их семей. Помните – рукописи не горят? А платья рассказывают нам правдивую историю нашей страны.
Рядом с нашим домом жила театральная художница Валентина Измайловна Лалевич, вдова художника Николая Сосунова, друга моего отца, работавшая долгое время в Центральном детском театре, а позднее – в Театре на Малой Бронной. Она с радостью подарила мне старинные ажурные пальто и кружева. Мой интерес к коллекционированию привлек внимание еще одной знаменитой художницы по костюмам – Лидии Ивановны Наумовой, которая работала в кино. Ее братом был знаменитый актер Михаил Жаров. Лидия Ивановна, добрейшей души человек, жила в районе станции метро “Аэропорт” в маленькой квартире, где наибольшее впечатление на меня произвел шкафчик красного дерева, заполненный альманахами мод XVIII века. Перед шкафчиком стояла шелковая туфелька на небольшом каблучке, из которой, как уверяла Наумова, гусары пили шампанское за здоровье дам.
Когда Лидия Ивановна работала над “Иваном Грозным” Эйзенштейна, для нужд костюмерной были открыты запасники Оружейной палаты. Ведь съемки проходили во время Великой Отечественной войны. Текстильная промышленность тогда переживала глубочайший кризис. Не до кинематографа было. Как вспоминала сама художница, для перекроя ей выдали подлинные церковные облачения из кремлевских запасников. Сохранившиеся куски старинной парчи, вышивки золотом, платки, оплечья Лидия Ивановна подарила мне. Это меня не удивляет! Большое количество раритетной парчи из Кремля было продано большевиками американскому миллиардеру Хаммеру на изготовление дамских сумочек. Несколько из них, 1930-х годов, находятся в коллекции моего Фонда.
Мое увлечение антиквариатом было настолько сильным, что я даже вступил в Общество охраны памятников архитектуры. Взнос оказался копеечным. Точнее, трехкопеечным. За три копейки в месяц я получил то, что в фильме “Бриллиантовая рука” называли “ксивой”, то есть документ. Корочки члена Общества охраны памятников старины открыли передо мной многие двери. Жившие в коммуналках старушки смотрели на меня с большим уважением.
Коллекция моя постоянно расширялась и пополнялась новыми нарядами, но не только XIX века. Довольно рано я смекнул, что вещи XX века очень скоро тоже станут старинными, и начал собирать платья и аксессуары 1920-х, 1930-х, 1940-х, 1950-х и даже начала 1960-х годов, хотя дело происходило в 1970-е. Собрав достаточное количество, 1 мая 1979 года я решил устроить первый публичный показ коллекции – настоящее костюмированное шествие, то, что сегодня принято называть английским словом “хеппенинг”. Почему именно 1 мая? Это число я выбрал неслучайно. Во-первых, прогуливаться по Москве в винтажных нарядах приятней в теплый погожий денек. Во-вторых, маскарад был альтернативой первомайскому параду. В-третьих, в любой другой день нашу компанию могли запросто остановить на улице, спросить, почему болтаемся по городу посреди рабочего дня, не тунеядцы ли? А так – радуемся празднику трудящихся. Разве это запрещено?
Мои многочисленные друзья и подруги с большим энтузиазмом откликнулись на эту затею. Компания подобралась довольно большая и разношерстная. Всего десять – двенадцать человек. Среди участников этих маскарадных шествий были мои подруги и друзья: Маша Миловидова, Маша Лаврова, Тафа Музычкина, Алина Бессарабова, Маша Ефименкова, Аня Малышева, Таня Гутник, Люся Черновская, Лена Шевченко, Касьян Берендт, Миша Торховской, Ваня Маркичев и другие замечательные энтузиасты. Каждому в день маскарада я выдал костюм из своей коллекции. Встретившись под аркой станции метро “Кропоткинская”, мы неспешно отправились гулять по Бульварному кольцу.
Погода стояла замечательная. Припекало солнышко. Мои подруги прятались от его лучей под китайскими шелковыми и бамбуковыми или кружевными русскими зонтиками. По тротуарам беззаботно стучали каблучки босоножек 1930-х годов. Над толпой колыхались старинные шляпки – разных размеров, цветов и фасонов. Сам я был в визитке и пенсне. Реакция прохожих на нашу живописную команду очень разнилась. Одни были уверены, что мы артисты, снимаемся в кино, а где-то в кустах притаился оператор с камерой. Другие шарахались от нас как от огня, думая, что мы иностранные шпионы. Третьи просто крутили пальцем у виска.
Именно в то время, то есть 25 июля 1980 года, в Саратове скончалась моя двоюродная бабушка Ольга Петровна Васильева. В наследство от нее мне достался целый мешок прекрасных платьев 1920-х годов и старинная фамильная мебель красного дерева, принадлежавшая еще роду Чичаговых. Мне стоит подробнее рассказать об этой удивительной женщине, заменившей мне родных бабушек, которые ушли из жизни задолго до моего рождения.
Ольга Петровна Васильева была родной сестрой моего деда. У нас дома ее называли “тетка Ольга”. Пожалуй, она была самым пожилым человеком, которого я когда-либо встречал в жизни. На моем пути возникало немало людей, рожденных в 1890-х годах, еще больше появившихся на свет в 1900-е годы, но вот 1886 года рождения была одна Ольга Петровна, почти ровесница Коко Шанель.
Всю жизнь она посвятила музыке. Окончив в Санкт-Петербурге музыкальные “Курсы Рапгоф”, стала пианисткой и концертмейстером, а после возвращения из Харбина с 1935 года жила в Саратове. Ольга Петровна обожала эпистолярный жанр и регулярно писала нам письма. Начинались они всегда одинаково: “Васильевы, мои дорогие! Самые мои дорогие!” Гимназически-бисерным почерком она писала о своем неспешном житье-бытье, о том, как ежедневно слушает по радио Шостаковича, Глинку и Римского-Корсакова и как скучает по родному Санкт-Петербургу.
В один прекрасный день я решил отправиться в Саратов, чтобы навестить Ольгу Петровну. Купил билет на поезд и запасся сумками с гостинцами, зная, что в Саратове живут довольно голодно: то были времена брежневского застоя. Я привез сосиски, зеленый горошек, курицу, сгущенное молоко, печень трески, сайру и другие милые ее сердцу “деликатесы”.
Жила Ольга Петровна на улице Советской, дом 3, кв. 1, в старинном доме с атлантами на первом этаже, окруженная фамильной мебелью красного дерева, фарфоровыми чашками и бронзовыми лампами. Книжные полки занимал четырехтомный энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, а на рояле стоял большой портрет любимой сестры Екатерины Петровны Нестеровой, супруги художника Михаила Нестерова, тоже приходившейся мне двоюродной бабушкой. Портрет был кисти Федора Булгакова.
Тетка Ольга уже плохо видела, почти не поднималась с кровати, но при этом переодевалась по два раза в день. Меняла шарфики и креп-жоржетовые блузочки – розовую на зеленую, зеленую на желтенькую… И постоянно интересовалась, что теперь носят. С молодых лет мода оставалась одним из главных увлечений ее жизни.
Поэтому я не удивляюсь, откуда во мне такая генетическая страсть к переодеваниям. Она у меня в крови! В одном из писем, адресованных в 1950-х годах моей тете Ирине Павловне Васильевой, Ольга Петровна писала: “Милая Ируненция! Я сшила себе новое пальто в черно-белую куриную лапку и теперь планирую пуговки. Какие бы ты мне посоветовала?” Ируненция ответила: “Черные лучше всего подойдут”. В следующем письме тетка Ольга ответила ей: “Ты ничего не понимаешь в моде! Только оранжевые!”
Второй ее страстью была музыка. Зная об этом, я как-то привез в Саратов запись рок-оперы “Иисус Христос – суперзвезда”. Тетка Ольга с живейшим интересом прослушала сочинение Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса от начала до конца и восхищенно зааплодировала после финальных аккордов.
– Какая красивая музыка! – всплеснула она руками. – А партитуры у тебя нет?
– Партитуры нет, – ответил я. – Но даже если бы была, мы с вами сейчас вряд ли ее разобрали бы…
Комната Ольги Петровны в коммуналке была насквозь пропитана духами “Красная Москва” и одеколоном “Кармен”. Она ими не просто душилась, а обливалась, лежа в постели. Иногда флаконы терялись в щели между стеной и кроватью. Склянки бились, духи разливались по полу, а их стойкий аромат слышался еще на подходе к квартире. В один прекрасный день я принял волевое решение устроить в комнате генеральную уборку. Выбросил мусор, вымел из-под кровати осколки битых флаконов, надраил полы, проветрил помещение… Тетка Ольга во время уборки беспрестанно чихала от поднявшейся пыли и с нетерпением спрашивала:
– Ну, ты уже закончил?
Близким другом Ольги Петровны был Николай Борисевич – оперный певец, баритон, одно время певший в Харбине. В СССР он вернулся уже при Хрущеве, и судьба забросила его в Саратов, где они после десятилетий разлуки встретились с Ольгой Петровной. Дочь Борисевича Вера часто навещала ее, приносила куриный бульон, кормила… Эта добрая харбинка до сих пор живет в Саратове.
Ольга Петровна ушла из жизни в девяносто шесть лет. Оба ее племянника, мой папа и его брат, Петр Павлович, поехали в Саратов на похороны. Тетку Ольгу положили в маленький гробик, который поставили на стол. Отпевали прямо в комнате и похоронили на местном кладбище.
Когда папа вернулся из Саратова, я спросил:
– А что вы сделали с мебелью и платьями Ольги Петровны?
– Там все и осталось, – махнул он рукой.
Я тут же взял билет на поезд и помчался в Саратов. Еще чуть-чуть, и мог не успеть: новые жильцы активно готовились к ремонту и освобождали комнату от ненужных вещей. Я сказал, что хочу забрать имущество, принадлежащее моей семье. Возражений не последовало. Люди, занявшие комнату Ольги Петровны, даже обрадовались – не придется самим выносить хлам. Хламом они называли мебель красного дерева в стиле ампир, принадлежавшую еще моей прабабке дворянке Ольге Васильевне Чичаговой, внучке знаменитого адмирала Павла Васильевича Чичагова. Тетка Ольга берегла эти вещи всю жизнь. И вот теперь они были свалены бесформенной грудой посреди комнаты, чтобы не мешать побелке.
Я задумался: как же мне перевезти эту мебель в Москву? Мне было двадцать лет! Не придумав ничего лучше, отправился на железнодорожную станцию и спросил:
– Где у вас тут грузовые перевозки?
На меня посмотрели как на сумасшедшего.
– Мальчик, записываться нужно за месяц!
Тогда я потребовал отвести меня к начальнику станции. До сих пор понять не могу, откуда во мне тогда взялась такая решительность! Думаю, мной двигал страх потерять семейные реликвии. Когда я представил, что все эти вещи могут сгинуть на помойке, меня охватил настоящий ужас. Меня отвели к начальнице с пергидрольной халой на голове.
– Ваши документы, – потребовала она.
У меня с собой не было ничего, кроме студенческого билета Школы-студии МХАТ. Я протянул ей эти корочки со словами:
– Я сотрудник Московского художественного театра! Мне необходим контейнер для перевозки мебели.
– Но у нас нет свободного контейнера, – упрямилась тетка с халой.
Я стоял на своем:
– А мне он нужен сегодня!
И что вы думаете, дорогие читатели? Благодаря настойчивости и силе гипнотического убеждения я получил контейнер в тот же день! И все это задолго до “Модного приговора”, подарившего мне огромную, многомиллионную популярность. Ликованию моему не было предела.
Контейнер подвезли прямо к дому. Но как перетаскать вещи в контейнер? Я обратил внимание на мальчишек лет по тринадцать-четырнадцать, которые бегали по двору наперегонки. Подошел к ним:
– Хотите заработать на мороженое?
Конечно, они хотели. И с радостью помогли мне перетаскать всю мебель из комнаты в контейнер. Следом погрузили семейную переписку, фотографии, платья, книги и отправили все это в Москву. Получив от меня по два рубля, счастливые мальчишки с гиканьем убежали.
Когда контейнер открыли перед нашим домом на 3-й Фрунзенской, пыль поднялась столбом. Но я чувствовал себя настоящим победителем! С тех пор мне довелось спасать не единожды чужое имущество и даже целые гардеробы. Я не боюсь отправить старинный диван из Чили в Париж или китайский умывальник из Макао в Вильнюс…
В 1982 году я эмигрировал во Францию, где коллекцию пришлось создавать практически заново. Но для меня открылись замечательные блошиные рынки Парижа и его антикварные аукционы. Не скрою: множество старинных портретов, вееров, зонтов и сумочек пришло в мою коллекцию с прилавков парижского блошиного рынка Vanves, который и по сей день остается моим любимым местом поисков и покупок.
С 1983 года я преподавал историю костюма в крупнейшей парижской школе моды Esmod, которая находилась на Больших бульварах возле аукциона Drouot. В перерывах между лекциями я покупал там жилеты XVIII века, старинные туфли, корсажи и ткани. Среди моих студентов были отпрыски родовитых семей, которые не покидали своих дворянских гнезд многие века. Они делились со мной фамильными сокровищами. С одной из них, графиней д’Алькантара, я делаю выставки до сих пор!
Во второй половине 1980-х годов я стал регулярно публиковать статьи о моде и стиле на страницах парижского еженедельника “Русская мысль”. В 1985 году появилась моя заметка о намерении собирать платья работы русских домов моды, созданных эмигрантами в Париже. Первой откликнулась знаменитая парижская манекенщица 1920–1930-х годов баронесса Галина Романовна Дельвиг, у которой я купил платья из гардероба княгини Марии Илиодоровны Орловой и получил много модных фотографий Галины Романовны и ее сестры, не менее знаменитой манекенщицы в доме моды Maggy Rouff Жени Горленко, виконтессы де Кастекс. Воспоминания Магги Руфф, которые вышли на русском языке с моей легкой руки.
Мне помогали советами известные художники-эмигранты: Роман Петрович Тыртов (Эрте), Ростислав Мстиславович Добужинский, Дмитрий Дмитриевич Бушен, Александр Борисович и Екатерина Борисовна Серебряковы. Моя коллекция выросла и за счет гардероба звезды кабаре “Фоли-Бержер” 1920-х годов Халинки Дорсувны, которая разыскала меня и открыла двери личного гардероба, полного вещей со славными грифами прошлых лет. Актер Александр Арбат-Курепов передал в середине 1980-х в мою коллекцию шесть шитых бисером и блестками вечерних платьев 1920-х годов работы дома “Китмир”, принадлежавшего великой княгине Марии Павловне, а также платье Lanvin 1946 года из гардероба знаменитой актрисы русской эмиграции Claude Genia. Но самое крупное приобретение сделано благодаря семье Самсоновых: у меня оказался весь уникальный гардероб Татьяны Никитичны Самсоновой-Налбандовой (1885–1971), хозяйки заводов “Петровская водка”, приехавшей в Париж из Москвы в 1913 году и сохранившей нетронутым свой драгоценный багаж. Многие платья из семьи Самсоновых, неоднократно демонстрировавшиеся во многих странах мира, теперь бережно хранятся в моей коллекции как образцы изысканного русского вкуса.
Другим крупнейшим вкладом в коллекцию был щедрый дар самой Майи Плисецкой, передавшей мне несколько своих платьев работы домов моды Pierre Cardin и Chanel. Уже после смерти великой балерины ее вдовец Родион Константинович Щедрин любезно предложил мне взять в коллекцию другую часть гардероба Майи Михайловны.
Мы встретились с Родионом Константиновичем 6 марта 2017 года в Мюнхене, куда я приехал из Праги по его приглашению. Он назначил мне свидание в своей съемной квартире, но постоянно менял время встречи, несколько раз прося меня явиться на час позже. В результате я пришел ровно в 16:00, секунда в секунду. Позвонив в домофон, тут же услышал голос:
– Саша! Какая точность! Я поражен.
Я поднялся на второй этаж и попал в большую квартиру с довольно аскетичной, но элегантной обстановкой, где Родион Константинович с Майей Михайловной прожили несколько лет. В гостиной стоял рояль. На нем – зажженные свечи, цветы и с десяток портретов Майи. Цветы и портреты я заметил на каждом подоконнике. Казалось, что великая Плисецкая ушла из жизни неделю назад. А ведь с момента ее смерти минуло почти два года.
Меня поразили глаза Щедрина редкого нефритового цвета. Одет он был в зеленую рубашку, из-за чего глаза светились еще больше. Посмотрев на мой красный цилиндр и красное пальто, Родион Константинович произнес:
– Майя была права! Вы Чичиков. Она часто смотрела “Модный приговор” и каждый раз говорила: “Саше нужно играть Чичикова в кино без грима” – и не понимала, куда смотрят режиссеры.
Затем Щедрин даже сфотографировал меня, сказав, что такой красоты он у себя дома еще не видел. Когда он вспоминал Майю, на его глазах появлялись слезы. Говорил, что это главный человек в его жизни, что жизнь с ее уходом опустела… Радовался, что успел поставить ей памятник в Москве.
Родион Константинович передал мне шесть вещей авторства Пьера Кардена, которого Майя чтила больше всех остальных творцов моды. Также он отдал мне несколько пар ее обуви. Среди них оказались серебряные туфельки из последнего номера Плисецкой Ave Maya. Провожал меня Родион Константинович словами:
– Майя всегда говорила: “Все вещи надо отдать Саше – другие выбросят, а он сохранит”.
Этому принципу, так просто сформулированному выдающейся прима-балериной ассолюта, дружившей со мной, я стараюсь следовать всю свою жизнь.
Имение Гулевичей в Литве
Волею судеб в конце XX века я стал помещиком с имением в живописнейшем предместье Вильнюса. По существующему в странах Восточной Европы и в Прибалтике справедливому закону дома и имения, а также земли помещиков, утративших частную собственность в советское время, но располагающих документальными подтверждениями права на обладание оными в предвоенную эпоху, имеют право на реституцию. Это означает, что сам бывший хозяин или члены его семьи могут вновь претендовать на восстановление состояния и получить былые владения. На мой взгляд, этот закон не только справедлив, но и по-человечески нужен и у нас в России. Реституция способствует обогащению обедневшего генофонда, повышению культурного уровня жизни как в столицах, так и в усадьбах, оживлению исторических корней; она позволяет вливать новые капиталы в экономику и приводить в божеский вид многое из старинной недвижимости, частенько находящейся в весьма плачевном состоянии и требующей срочной реставрации.
По закону о реституции мы обрели фамильное имение, которым владела моя семья по материнской линии, – дом с большим участком земли, вишневым и яблоневым садом, цветниками и возделываемыми полями. К счастью, дом, интерьеры которого вы видите на фотографиях, не слишком пострадал и является примером того, что частная инициатива и любовь к родовому гнезду может сделать со зданием, пережившим все же сорок лет власти Советов. В последние годы в нижнем его этаже, как в коммунальной квартире, жили три семьи, а верхний этаж с тремя комнатами оставался во владении нашей семьи. Там жил с 1940 года мамин родственник инженер Арсений Дмитриевич Гулевич с супругой, варшавской балериной Софьей Верницкой. Она была дочерью одного из первых авиаторов царской России Феликса Верницкого, погибшего еще до революции. В этой семье было двое детей, моих троюродных кузенов, которых звали Владимир и Людмила. И мы часто приезжали к ним в гости на каникулы. Стать владельцем этой собственности, возродить ее и заново декорировать в “бабушкином” стиле меня подтолкнули ностальгические воспоминания и желание дать дому его законное значение родового гнезда, в котором протекло счастливое время моего детства, ведь впервые я оказался там в 1959 году, в возрасте одного года, на руках у мамы.
История имения такова. Дед мой Илья Герасимович рос и мужал в Вильно, где его старший брат Митя, Дмитрий Герасимович, был инженером, а потом и казначеем железной дороги. Вместе они решили построить дом в предместье Вильно, Павильнисе, став основателями и пайщиками Виленской колонии, – именно так назывался раньше Павильнис, который составляли дачные участки для железнодорожников на ветке Петербург – Варшава. Предместье располагается на пологом берегу огромной ледниковой реки, образовавшей сотни тысяч лет назад Балтийское море, напротив горы Бельмонт, что означает “Красивая гора”. Старожилы утверждают, будто гору так окрестил Наполеон, когда его Великая армия разбила там бивуак во время кампании 1812 года. Выбрали братья Гулевичи просторное имение помещика Миллера “Кривой погурек”, купили частями землю и стали строить деревянную усадьбу в стиле классических дач чеховского времени – с большим вишневым садом. Дом был построен в 1912 году в два этажа и с застекленной верандой, уютной ковровой и бамбуковой мебелью, с кружевными ламбрекенами, с “Брокгаузом и Ефроном”, с печками, одну из которых Гулевичи прозвали Черной Салли из-за темнокожести ее изразцов в стиле сецессион. Возможно, из этого дома произросло пристрастие мамы к стилю модерн, которому она оставалась верна всю жизнь. В духе начала века она предпочитала сиреневый, серый, фисташковый и коричневый цвета, даже носила особенную прическу с пучком на затылке, как было модно в 1919 году.
Супруга дедушкиного брата Дмитрия, учительница женской гимназии в Ковно, Мария Андреевна Ященко-Гулевич была родом из Шавлей (ныне Шяуляй). “Тетя Маруся” стала для мамы любимой тетушкой, а для меня – единственной из “бабушек”, которых я знал. Она пекла хворост, брусничный пирог и раскладывала пасьянсы, чаще всего “Могилу Наполеона”, глядя через окна низенькой верандочки в цветах на наполеоновскую гору – Бельмонт. И мама полюбила раскладывать пасьянсы и оставалась им верна всю жизнь, предпочитая всему множеству “Могилу Наполеона”, “Шифрованную телеграмму” и “Дамы в плену”. Проводя в детстве летние месяцы с мамой в фамильном имении в Литве, я наслушался преданий о прошлом, вошел в уклад стародавней жизни с прислугой и садом, чудом сохранившимся в советскую эпоху лишь оттого, что Виленский край поздно вошел в состав громадного СССР.
После революции Вильно и наше имение Кривой Погурек отошли к государству Польскому маршала Пилсудского, бывшего, кстати, как и княгиня Эмилия Львова, урожденная Кочановская, нашим соседом по имению. Княгиня Львова имела врожденный дефект речи – вместо буквы “р” она произносила букву “д”. Чтобы выжить в советское время, она держала при доме огородик и торговала клубникой и брусникой. Княгиня регулярно приходила в наше маленькое имение “Кривой погурек” с корзинками, наполненными ягодами, за что получила прозвище “пани Бдусника”. Мой папа, отдыхавший частенько с нами в Павильнисе, обращаясь к княгине, сказал:
– Зд-д-давствуйте, пани Бдусника!
На что та отвечала, ничуть не обидевшись:
– Пдавильно, пдавильно, я именно так говодю!
Рядом же, в усадьбе Маркучай, жил младший сын великого русского поэта Григорий Александрович Пушкин с супругой, виленской помещицей Варварой Мельниковой. Григорий и Варвара Пушкины часто принимали в своем просторном доме маминого дядю Дмитрия Гулевича с супругой. Подумать только, мама моя и я сам находились на расстоянии двух рукопожатий от самого Пушкина!
Имение Гулевичей в Павильнисе славилось лучшими розами в крае. Цвели бульденежи, гортензии, флоксы, пионы, турецкие маки, георгины, спиреи. Дом по-прежнему утопает в зарослях столетней сирени и жасмина. Огромные вековые липы создают живую изгородь нижнего сада, а необъятные дубы – границу усадьбы в верхнем лесу, из которого открывается чудесный вид на старый барочный Вильно с его колокольнями, башнями и куполами. Летом поспевают вишни, яблоки и груши, черная смородина и крыжовник, а осенью – даже и виноград. Имение населено упитанными виноградными улитками – эскарго, экспорт которых во Францию был важен в предвоенное время. Свою версию зимнего сада мама пыталась создать и в московской квартире на Фрунзенской набережной, выращивая всевозможные сорта южноафриканских фиалок, восковой плющ и замечательные вьющиеся растения. Впоследствии комнаты на нижнем этаже сдавались бабушкой в основном служащим железной дороги, а после ее кончины в 1965 году низ дома был продан в чужие руки и превратился в коммуналку.
Когда в начале 1990-х мне все же достались мои любимые комнаты в доме, вид их был, увы, неутешителен. В столовой располагалась мастерская по ремонту автомобилей, веранда была разрушена и заменена кирпичным подобием малоэлегантного бункера. Ярый идеологический противник “евроремонта”, я был вынужден, руководствуясь сохранившимися архивными семейными фотографиями и воспоминаниями мамы, восстановить утраты, прибегнув к музейной реконструкции и реставрации. Так, по старинным видам веранды удалось воссоздать в точности рисунок оконных рам и переплетов, заказать двери – копии утраченных и в антикварных лавках Вильнюса купить старинные замки к ним и недостающие ручки, идентичные сохранившимся с 1902 года. Восстанавливая пол, я ограничился решением снять слои масляной краски, скрывавшей старые, изъеденные жучком и потертые жизнью доски. Именно они, покрытые патиной времени и поволокой тяжелых десятилетий, и сохранили дух усадьбы. Цвет стен мне подсказывали картины, фотографии и назначение комнат. Фисташковый – для спальни, персиковый – для столовой, подсолнечный – для музыкальной гостиной со старинным петербургским роялем фирмы “Diederichs Freres”, соломенный – для веранды и так далее.
Сложности были и с мебелью: в сараях сохранилась лишь малая толика обстановки (да и та в состоянии тлена), которую мне все же удалось восстановить и дополнить. Впоследствии из антикварных лавок Вильнюса, Риги, Парижа и Москвы сподобилось достать необходимые элементы для веранды, двух спален, столовой, музыкальной гостиной и двух холлов. Дело было вовсе не в материальной ценности вещей, а в их соответствии времени и духу семьи. Так, ко мне попал черный диванчик faux renaissance, в точности такой же, какой был в доме у Клавдии Васильевны Игнатович, воспитавшей мою бабушку, Марию Рылову. То, что я его выбрал, не пример ли загадочной “генетической памяти”? Мама была счастлива! Особенно радостной находкой стал бамбуковый гарнитур “Микадо”, выполненный в 1880-х годах на виленской фабрике, который теперь стоит в столовой. Мебель в стиле японизм пользовалась тогда в России большой популярностью. Затем пришла серия венских стульев варшавской фабрики Wojciechów, черный гарнитур “фальшивый Людовик XVI” из Риги и кутаные кресла из подвала котельной на Фрунзенской набережной в Москве.
Одной из уникальных вещей нашей усадьбы является секретер модерн работы моего деда. Он был изготовлен в Вильно в 1908 году по рисунку из журнала “Нива” и отделан выжиганием, что было особенно модно тогда. Еще до революции дедушка увез его в новый дом в Москву. Секретер-путешественник затем достался по наследству моей маме, а после ее развода в 1958 году с Виктором Карловичем Монюковым остался у него. Мне удалось его получить назад – дорогой для семьи подарок от третьей жены Монюкова актрисы Любы Нефедовой – и водрузить его на старое место в доме.
Особенное внимание в усадьбе я уделяю книгам и журналам: тут много польских и русских изданий 1900-х годов, эмигрантских берлинских и парижских изданий 1920–1930-х годов, альбомов со старинными фотографиями и открытками. Старинный граммофон с пластинками, коллекция силуэтов 1900-х годов.
Картины всегда были моей слабостью, и первым, что я привез в “Кривой погурек”, были французские и бельгийские портреты бель эпок. Гордостью интерьера является плакат ведетты “Фоли-Бержер” Халинки Дорсувны за 1928 год, моей парижской приятельницы и вдохновительницы журналистского творчества. Кроме того, там собрано множество театральных работ и пейзажей кисти моего папы, но много и других русских работ. Особенно дорог мне автопортрет русской художницы-эмигрантки Веры Спичаковой, написанный ею в Кракове в 1936 году. После войны Вера эмигрировала в Венесуэлу, где подарила этот портрет приятельнице, другой художнице-эмигрантке Ирине Бородаевской, жившей затем в Чили. В мою бытность художником-декоратором оперы Сантьяго в конце эпохи Пиночета И.П. Бородаевская передала этот портрет Веры мне. Он висел одно время у меня в Париже, а потом нашел себе новый дом в “Кривом погурке”. Или работы известного караимского художника Бориса Эгиза, жившего в 1920-е годы в Константинополе и писавшего цвет эмиграции, – теперь и они в “Кривом погурке”.
Страсть к путешествиям дала мне идею создания в доме китайской спальни на манер Пьера Лоти. Живя и работая в Гонконге в 1990-е годы, тогда еще английской колонии, я частенько наведывался пароходом в португальский Макао на блошиные рынки и привез оттуда кое-какую красную лаковую мебель. Ею я смог обставить эту маленькую комнатку, которую в начале XX века “тетя Маруся” сдавала белорусскому поэту Янке Купале. А из Австралии я привез небольшую коллекцию ларцов и шкатулок 1890-х годов, облицованных иголками дикобраза, сделанных в Индонезии на острове Мадура. Их причудливый орнамент живо напомнил литовское народное ткачество и органично вписался в существовавший интерьер.
Будучи от рождения человеком театра и закулисья, я много лет коллекционировал фотографии с автографами звезд русской сцены Серебряного века и устроил их выставку в усадьбе. Там соседствуют Михаил Чехов и Вахтангов, Мария Кузнецова и Анастасия Вяльцева, братья Адельгейм и Вера Каралли. Поэтические воспоминания о давно ушедшей эпохе, застывшей в нашем доме. Последняя удача – автографы Майи Плисецкой, оставленные ею на старинном гримировальном зеркальце на веранде, когда здесь, в доме Гулевичей, французский телеканал “Арте” снимал о ней документальный фильм. Собрание забавных редкостей нашего дома часто экспонируют в музее А.С. Пушкина в близлежащем Маркучае. Вещи живут и вдохновляют многих, и это не может не радовать наш род.
Ванна в доме – настоящая чугунно-эмалированная гордость на львиных лапах, живое свидетельство прогресса викторианской поры. В доме был даже старинный “домофон” – труба с воронками, установленная между этажами, позволявшая бабушке переговариваться с прислугой Тесей и заказывать обеды из верхней кухни.
Разрушить прошлое, убить его ароматы негодным “комфортабельным” ремонтом или безвкусной реставрацией – дело простое. А вот восстановить старинный деревянный дом со своей историей и тонкой душой – дело куда как посложнее. Скрипят половицы, хлопают от ветра ставни, потрескивают дрова в печках, дымится кузнецовская чашка с “лапсанг сушонгом”, солнечный луч пробивается сквозь тафтяные или ситцевые занавески, поет Ганка Ордонувна о том, что “любовь прощает все”, и вы вновь в тех старых годах, остановить которые нам, кажется, удалось и без машины времени.
Юные годы: фарца, хиппи и “золотая молодежь”
Точные науки всегда давались мне с большим трудом. А сказать по правде, не давались вовсе. Стоя у доски, я абсолютно не понимал, что от меня требуется. Периодическая таблица Менделеева, извлечение корней, геометрические задачи и физические законы приводили меня в ужас. В девятом классе 29-й спецшколы в моем дневнике красовались двойки по физике, химии, геометрии и алгебре. И, признаться, эти науки в жизни мне никогда и ни в чем не пригодились. Но счет деньгам я знаю хорошо – купеческие гены!
Чтобы я не остался на второй год, мама приняла решение перевести меня в так называемую 127-ю школу рабочей молодежи, которая располагалась в Дегтярном переулке в самом центре Москвы. Воспитанники называли это учебное заведение “школой золотой молодежи” или “школой раз-два-семь”. В моем классе учились Антон Табаков, Алеша Аксенов, Лена Ульянова, Женя Лунгин, Маша Зонина, Тина Катаева, Митя Николаев, Миша Каменский, Галя Петрова, Топ Мукасей, Марина Семенова… Сплошь дети знаменитых в СССР родителей. Школьную форму мы не носили, завтраками нас никто не кормил, на линейку не собирали… Учителя не обращали никакого внимания на посещаемость и просили только об одном – не курить у доски!
Занятия в любимой всеми учениками ШРМ № 127 проходили три раза в неделю: понедельник – среда – пятница. Учеников старались не переутомлять.
В ШРМ были замечательные педагоги. Один из них – учитель истории Марк Миронович Нейшуллер. До того как попасть в школу рабочей молодежи, он преподавал в институте, откуда был изгнан за увлечение джазом. Ну да, помните: “Сегодня он танцует джаз, а завтра Родину продаст!”?
Математику вела обаятельная Роза Давыдовна, которая считала меня, по сравнению с другими “светилами” из класса, просто великолепным математиком. Ненавистную мне химию преподавала Алиса Юрьевна Марина, дворянка по происхождению, жившая в одном доме с маминой подругой Ольгой Фрид. Алиса Юрьевна снисходительно относилась к моему неприятию своего предмета и никогда не вызывала к доске. Более того, зная о том, как сильно я увлечен историческим костюмом, она подарила мне целый ворох старинных платьев и тальм, которые принадлежали ее родовитой семье. Когда пришла пора экзаменов, химичка дала нам под запись ответы на все экзаменационные вопросы и объявила:
– Дети, билеты будут лежать по порядку: от двери первый и к окну последний. Считайте и выбирайте сами.
Дело оставалось за малым – вызубрить хотя бы один билет и вытянуть именно его. Стоит ли говорить, что все успешно справились с экзаменом!
Нашим классным руководителем была замечательная и обаятельная Эмилия Элиберовна Бейлина, учитель географии и астрономии, которая по совместительству водила экскурсии по Кремлю на чешском языке. Эмилия Элиберовна до сих здравствует. Своими силами эта неутомимая женщина создала музей школы. Там, на доске знаменитых выпускников нашей элитной ШРМ, мой портрет ныне висит рядом с портретом Коли Баскова. Она пристально следит за моими успехами, не пропускает ни одного выпуска программы “Модный приговор” и приходит на вернисажи. В свое время она пополнила мою коллекцию старинными платьями своей элегантной тетушки.
Поскольку форму в школе “раз-два-семь” не носили, одевались мы кто во что горазд, следуя при этом модным тенденциям. Все, особенно девушки в моем классе: Настя Михальская, Галя Петрова, Оля Волынец – одевались очень стильно и модно. А иконой стиля в классе был миловидный и хипповый Костя Яриков, состоявший в родстве с князьями Урусовыми и ставший известным скульптором. Благодаря тому что мой папа был “выездным”, я имел возможность носить импортные вещи. Из каждой командировки он привозил новые модные наряды всей семье. Как-то я поймал себя на мысли, что на мне нет ни одной советской вещи. Ассортимент магазинов тех лет разнообразием не отличался, поэтому, будучи еще учеником школы № 29, я очень выделялся на фоне одноклассников. Меня даже часто принимали за иностранца, особенно в музеях. Когда я заглядывал в окошечко кассы Третьяковской галереи или Музея изобразительных искусств им. Пушкина, кассирша обязательно уточняла:
– Билет для иностранца?
– С чего вы взяли?
– Не прикидывайтесь. Для иностранца – значит для иностранца! Он дороже!
В конце 1970-х у меня появилась редкая возможность посещать находившийся во французском консульстве киноклуб. Дочь консула Кристина Кадер дружила с моей любимой девушкой Машей Лавровой и выхлопотала для нее пропуск, по которому можно было раз в неделю смотреть французское кино на языке оригинала. Там я посмотрел несколько картин с участием Анни Жирардо, Пьера Ришара и Натали Бай…
Переступить порог консульства, не предъявив удостоверение личности, было невозможно. На входе стоял милиционер, который строго интересовался у каждого визитера, откуда у него пропуск. Меня при входе не остановили ни разу, потому что были уверены: пришел француз.
В консульстве находился почтовый ящик, и, если у вас имелись французские марки и конверты, можно было отправить письмо как будто из Франции в любую точку мира. Благодаря доступу к этому ящику я совершил по-настоящему благородный поступок. А дело было так. Изучая содержимое мусорных баков на улице Чаплыгина около дома № 1 в период моей работы в театре “Современник”, я наткнулся на выброшенный архив виолончелиста Густава Францевича Валашека, чеха по происхождению, женатого на сотруднице шоколадной фабрики “Эйнемъ”, швейцарке по фамилии Морель. Супруги жили в коммунальной квартире и скончались один за другим, а их документы, фотографии, письма оказались на помойке. Я даже поднялся в ту квартиру, где на стенах еще оставались картины, а на полу валялись стеклянные негативы и ворох писем, присланных из Женевы. Это была многолетняя переписка Валашека и Морель с их единственным сыном, которого бабушка в 1918 году увезла в Швейцарию, на свою родину. Выехать следом родители не успели. Так семья была разлучена навсегда.
Я собрал все найденные документы в бандероль, которую отправил из французского консульства прямиком в Женеву по обратному адресу, указанному на конвертах. Вскоре из Женевы мне пришло ответное письмо от сына Валашека и Морель, ставшего в Швейцарии футболистом и тренером. Строчки прыгали, указывая на волнение автора. Он писал: “Как к Вам попал архив моих родителей? Я не имел возможности получить эти документы, мне было отказано во въезде в СССР…” Я люблю творить волшебство и колдовать добро! Но ведь все могло кончиться иначе, не имей я доступа к консульскому почтовому ящику. А доступа могло и не быть, если бы при входе в консульство меня не встречали по одежке иностранного производства. При этом, надо заметить, я неплохо строчил на швейной машинке и запросто мог сам себе сшить батник со шнуровкой на шторные колечки или брюки из полосатого тика, приобретенного в магазине “Русский лен”. Конечно, мои произведения имели весьма примитивный вид, но в начале 1970-х, в эпоху хиппи, эта доморощенность считалась ультрамодной. Я даже джинсы себе шил собственными руками. Кстати, я до сих пор уверен, что советскую власть погубила именно мода. Появление первых фарцовщиков, торговавших импортными вещами, поставило под сомнение устройство нашей страны. Многие задумались: отчего же мы такие передовые, а джинсы сшить не можем? Все время обороняемся, а для людей ничего путного произвести не в состоянии.
Очень модными в 1970-е годы были матроски, тельняшки, галифе, белые офицерские шарфики, солдатские ремни из “Военторга”, расположенного в Москве на проспекте Калинина, нынешней Воздвиженке. Это было место паломничества для многих столичных модников. Однако без предъявления воинского удостоверения приобрести что-либо в “Военторге” не представлялось возможным. И все-таки я нашел выход из положения. Когда возникало желание приобрести очередную матроску и тельняшку, я отправлялся в “Военторг” в компании двух-трех подруг. Подруги перемигивались с солдатиками и, когда устанавливался визуальный контакт, упрашивали их купить необходимую вещицу. В комиссионных магазинах на Тишинке можно было недорого купить черные кожаные пальто офицеров СС немецкой армии, которые, за неимением лучшего, особенно ценились среди богемных советских модников. Там же продавались вышитые косоворотки из чесучи, очень модные в моем окружении.
Вся модная молодежь тех лет делилась на три группы. Модников, одевавшихся в одежду домашнего изготовления, так называемый самопал, называли урлой (от фр. hurler – орать) или урлаками. Носивших фирменные вещи – попсой или попсарями. Третью, самую экстремальную группу длинноволосой молодежи, называли хиппарями.
Иногда “канать под хиппи” могли представители первых двух групп модников. Тысячи урлаков носили коричневые, лиловые и черные брюки клеш, подшитые сломанными металлическими молниями, украшали клеш клиньями из цветной ткани, цепочками и бубенцами. Из обуви урла и попса носили ботинки на платформе с потертым “мраморным” рисунком, на высоком каблуке. Хиппари предпочитали выношенные и раскрашенные кеды, сабо и индийские сандалии. Лидером хиппи в Москве был Юра Бураков по кличке Солнце, а группировавшиеся вокруг него длинноволосые юноши называли себя “Солнечной системой”. Модным местом встречи хиппарей было кафе “Аромат” на Суворовском бульваре, в народе – “Вавилон”, и скверик перед старым зданием МГУ на Манежной площади, так называемый “психодром”. Другим модным местом встречи был прозванный “трубой” длинный подземный переход, тянущийся от Тверской почти до самой Красной площади. От “трубы” начиналась та часть Тверской улицы, которую по аналогии с самой длинной улицей Нью-Йорка именовали не иначе как Бродвеем. Такое название было продиктовано расположением – самый центр, до Кремля подать рукой. К тому же напротив находился “Интурист”, где промышляли валютчики, фарцовщики и ночные бабочки. Последних я лицезрел собственными глазами, когда вместе со своими французскими приятелями и Инной Мозель впервые попал в кафе “Интуриста”. Это были молодые женщины лет тридцати – тридцати пяти, одетые, надо заметить, очень респектабельно. Они не позволяли себе оголяться и отличались друг от друга по цвету одежды: одна была полностью в красном, другая в желтом, третья в зеленом… Но наибольшее впечатление произвела на меня очень вульгарная труженица любовного фронта, с ног до головы облаченная во все белое: брюки-клеш, блузка, широкополая шляпа… Спустившись по лестнице в кафе, она замерла на нижних ступеньках, подбоченилась, расставила широко ноги и громко сказала:
– На …, на … и не ахай!
Я очень любил прогуливаться по Тверской, тогдашней улице Горького, заглядывая то в костюмерную Школы-студии МХАТ к моей любимой Татьяне Александровне Луниной, то в кафе-мороженое “Космос”… Настоящим декадансом было заказать три шарика мороженого со столовой ложкой ликера! Следующей точкой моего маршрута являлось ВТО и Центральный дом актера, тогда еще располагавшиеся на улице Горького. Там же размещался магазин ВТО, где помимо книг о театре, программок и открыток можно было приобрести грим, парики, накладные бороды и крем-пудру “Театральная” пяти тонов: белую, рашель, телесную, розовую и персиковую.
Руководил Домом актера Александр Моисеевич Эскин, а молодежной секцией заведовала моя подруга юности Люся Черновская, дочь героя Советского Союза. Она с большим энтузиазмом устраивала потрясающие вечеринки и творческие капустники, на которые собирался весь цвет актерской братии Москвы.
На одном из таких вечеров приглашенным гостем стала знаменитая целительница Джуна, которая после своего выступления оказалась со мной в одной маленькой узкой комнатке, служившей кабинетом Люсе Черновской. Пара диванчиков и торшер – всё, что в ней помещалось. Джуна была на пике славы, очень модно одета и эффектно накрашена. Ее постоянно слезящиеся глаза, в которые как будто накапали белладонну, были подкрашены зеленоватыми тенями, на щеках алели румяна. Я запомнил длинные пальцы Джуны, красивый маникюр… В какой-то момент она начала рассказывать собравшимся, как происходит процесс исцеления. Мы слушали ее, раскрыв рот. Джуна говорила о том, что целительству нельзя научиться, потому что это – прирожденный дар, и редкий человек может этим похвастаться. Она обвела присутствующих глазами, уставилась на меня, оробевшего, и заявила: “Вот вы, например, можете!” А потом встала и ушла.
Именно в ВТО мне посчастливилось лично встретиться с легендарной актрисой Софьей Гиацинтовой, выпускницей 1-й студии МХАТ, в те годы дамой сильно в летах, небольшого роста, с прямой спиной и элегантной укладкой коротких вьющихся седых волос. Она была автором нашумевшей книги воспоминаний и лучшей подругой актрисы Марии Успенской, Маручи, как называли ее соученики того же выпуска. Вместе с ними учились Ольга Бакланова и Григорий Хмара. И Хмара, и Бакланова, и Успенская стали эмигрантами. Свою подругу Гиацинтова видела только на экране, в фильме “Мост Ватерлоо” с Вивьен Ли в главной роли, где Мария Успенская играла роль русской директрисы балетной труппы.
Также в гостиной ВТО я познакомился с очень знаменитой балетной парой – Надеждой Павловой и Вячеславом Гордеевым. Они были любимцами публики и выглядели очень гармонично на сцене. Зная о моем увлечении стариной, Гордеев, в ту пору довольно состоятельный артист, попросил меня, семнадцатилетнего, помочь ему подобрать старинную мебель для их новой квартиры. Мы отправились в антикварный магазин на Фрунзенской набережной. Вячеслав очень придирчиво рассматривал весь ассортимент огромного магазина и в конце концов был разочарован. Оказалось, что он искал модную в 1970-е годы стенку, но… из карельской березы. Этот забавный эпизод мне запомнился на всю жизнь.
В ВТО при молодежной секции проводились иногда музыкальные вечера. Люся Черновская организовывала для молодых актеров, режиссеров и театральных художников такие развлечения, необходимые в этом возрасте. Такого понятия, как ночной клуб, в СССР не было, но существовали летние открытые танцплощадки и танцевальные вечера. Однажды я побывал на такой танцплощадке с живой музыкой в исполнении группы “Машина времени” во главе с Андреем Макаревичем. Они играли “В Париж он больше не вернется” и свой хит “Марионетки”. Вечер был удачным, я в брюках клеш и в сабо на платформах лихо отплясывал с Катей Масляковой и Леной Григорьевой, моими одноклассницами. А в ВТО живой музыки не было, но имелась пластинка группы АВВА, дико популярной в 1970-е годы. Я носил брюки банан из бордового вельвета и очень стильный свитер из американского трикотажа. Тогда это считалось невероятно модно, я славился своим юношеским гардеробом!
Моими закадычными товарищами тех лет были представители так называемой золотой молодежи. Мы слонялись по всей Москве и часто собирались у кого-нибудь на квартире, на “флэте”, как тогда было модно говорить, а была она у редких людей – большинство жило в коммуналках, где ни о каких сборищах не было и речи. Иногда заглядывали в просторную квартиру знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева, чья дочь Лена входила в нашу компанию. Между собой мы называли Лену “миллионщицей Дербеневой”, поскольку ее папа за сочиненные для кино и Аллы Пугачевой песни получал огромные гонорары, часть которых тратил на пополнение своей и без того внушительной коллекции французского стекла работы Эмиля Галле. Помимо этого он собирал большие старинные русские иконы из церковных иконостасов и изделия из серебра: на шкафу в одной из комнат, как на выставке, стояли серебряные пепельницы, вазы и какие-то фигурки царского времени. А страстью самой Леночки Дербеневой были кубики Рубика. Коллекция этих кубиков хранилась на том же шкафу, рядом с серебряными вазами отца. Поскольку эта головоломка тогда являлась настоящей редкостью, она с радостью дарила кубики своим товарищам.
Также в одном классе со мной училась красавица Настя Михальская – то ли дочка, то ли внучка видного архитектора сталинской эпохи. Жила она с родителями в двухэтажной квартире на улице Горького, куда однажды пригласила всех нас на вечеринку. Сумрачная квартира была вся заставлена павловской и александровской мебелью красного дерева, бронзовыми ампирными часами, а стены украшены старинной живописью пушкинской эпохи. Вообще, в советское время все квартиры состоятельных и интеллигентных людей обставлялись дворянской мебелью пушкинской поры. Только потом я понял, что революции случаются из-за зависти к чужому уровню жизни! Тогда мне казалось, что это самый роскошный дом, который мне довелось увидеть. Рядом с ним меркла даже огромная дача Таира Салахова в Нардаране на Каспийском море.
Многолюдные вечеринки часто устраивал у себя мой друг, поэт и эссеист Касьян Берендт, живший на улице Кибальчича в районе ВДНХ. Поскольку мама Касьяна часто уезжала на дачу, у него образовывалась свободная квартира, где можно было без проблем собраться большой компанией. Мы не курили, почти не выпивали и занимались в основном тем, что слушали запрещенную и недоступную музыку: Deep Purple, Led Zeppelin, Rolling Stones… Но особый восторг у всех вызывала рок-опера “Иисус Христос – суперзвезда”. Я выучил ее наизусть, знал абсолютно все партии и очень любил танцевать под музыку Уэббера.
Еще одним излюбленным местом нашей компании была квартира на Цветном бульваре, в которой жил известный в 1970-х годах персонаж по прозвищу Тин Бин. Стройный красавец, он был одним из лидеров московских хиппарей и обладал внешностью эльфа: кудрявые волосы, огромные глаза, изящные черты лица, тонкие руки… Воспользовавшись длительным отсутствием мамы, которая лежала в больнице, Тин Бин ежедневно устраивал в квартире вечеринки. Его подругой была красивая болгарка Ирэна, нам казавшаяся просто реинкарнацией Запада в те темные брежневские годы. Шутки и розыгрыши очень приветствовались. Однажды я переоделся в сгорбленную старушку, загримировался и позвонил Тину в дверь, пожаловавшись на шум в его квартире. Все гости пришли в ступор и предложили мне чаю, не узнали меня сразу и потом дико смеялись розыгрышу! Круглыми сутками там дым стоял коромыслом. За пару дней до выписки мамы из больницы Тин оглядел квартиру и пришел в ужас: по углам стояли пустые бутылки, пол был усеян осколками битой посуды, повсюду грязь… Настоящий хлев! Тогда Тин Бин позвонил мне как самому ответственному и самому хозяйственному из всей компании.
– На днях вернется мама, помоги мне прибраться! – взмолился он.
Конечно, я тут же приехал. За два дня мы привели квартиру в порядок. Выбросили бутылки, замели осколки, вымыли посуду, разобрали хлам, надраили полы. В благодарность за помощь я получил деревянное резное блюдо из художественных мастерских княгини Тенишевой в Талашкине.
Когда Тин Бин позвонил мне на следующий день после возвращения мамы из больницы, я спросил:
– Ну, как все прошло?
– Мама, увидев квартиру, сказала: “Какой ужас”, – сообщил он. И добавил: – Спасибо тебе, иначе она бы умерла на месте. Если бы она увидела квартиру до нашей уборки, ее бы точно хватил удар.
В годы моей юности со многими творческими персонажами, достойными упоминания, я познакомился в Паланге. Паланга в советское время считалась превосходным местом для отдыха, почти заграничным курортом, куда не каждый человек даже при очень большом желании мог попасть. Там находился теннисный корт, на котором якобы играл сам Черчилль, а главной достопримечательностью являлся дворец и парк с розарием графа Тышкевича и расположенный в нем музей янтаря. Далеко в дюнах пряталась литовская “дача Косыгина”. Хватало и развлечений: дискотеки, кафе “Вайделуте”, променад и рестораны, где в меню названия всех блюд и напитков были переведены на русский язык, и потому коньяк Courvoisier значился как “Суа зверь”. Словом, все в Паланге дышало Европой. Улица Витаутас была центром встреч у литовских хиппарей, которые отличались тем, что всегда носили шарфы, торбы и шапочки, связанные в желто-красно-зеленых цветах в честь довоенного флага Литовской республики.
На вилле бывшего министра Литовской республики Антанаса Венцловы жила красивая актриса и режиссер, миниатюрная и экстравагантная Наташа Огай, жена поэта-диссидента Томаса Венцловы, с маленькой дочерью Зюкой. Она была на одну половину кореянка из Казахстана, на другую – еврейка из Шяуляя, обладала прекрасными певческими способностями, искрометным юмором, в молодости практиковалась в ЦДТ у своего педагога Марии Иосифовны Кнебель и помнила меня с пятилетнего возраста.
Летом в Паланге появлялось множество армян из Еревана, которые, избегая летнего зноя в Закавказье, стремились в прохладную Прибалтику. Они часто привозили импортные вещи, полученные от американских родственников, благодаря чему я стал обладателем вожделенной футболки с фоторисунком серфера на гребне волны, которая мне обошлась в 60 рублей – месячный заработок уборщицы!
В Паланге отдыхала яркая армянка Мария Тер-Маркарян, вещавшая на радио по-итальянски и по-французски, громкая и критичная. Она часто выгуливала свою маленькую дочь возле Дома творчества художников по улице Дауканто, 35. Совсем рядом жил сын одного из Кукрыниксов, художник Соколов с красавицей и модницей женой Ириной. Он настолько полюбил Палангу, что со всей семьей продолжает там жить по сей день.
Главной радостью и вечерним развлечением, кроме прогулок по пляжу с Борей Бельским, Сальвинией Юренайте, Таней Зуйковой и братьями Шмариновыми, была игра в запрещенную тогда настольную игру “Монополия”. Я смастерил ее своими руками, скопировав с американского образца, но переведя все названия на старомосковский лад. Так что мы уже в 1979 году торговали Остоженку, Пречистенку, Столешников переулок и Покровку. Я так пристрастился к этой игре, что был практически всегда в лидерах. “Монополия” научила меня управлять виртуальными деньгами, рисковать, покупать и продавать. Эти знания очень помогли, когда мне пришлось торговаться на аукционах многих стран, покупая экспонаты для моей огромной коллекции костюмов.
Все это происходило в Доме творчества художников, который славился своими именитыми постояльцами. Среди гостей этого дома был и Виталий Вульф, в ту пору переводчик пьес Теннесси Уильямса и Эдварда Олби. О телекарьере тогда он еще не помышлял. Виталий Яковлевич был строен, подтянут, носил обтягивающие брюки синего цвета, и уже тогда проявлялся его едкий характер. Познакомившись со мной, подростком, он задал каверзный вопрос: “А что же ты создал к своим пятнадцати годам? Поведай мне о своих свершениях”. Но к этому возрасту свершений у меня скопилось немало. Я с удовольствием рассказал ему о театре “Колокольчик”, о детской передаче “Будильник”, о кукольном спектакле “Волшебник Изумрудного города” и о начале своей коллекции. Вульф был поражен.
Другими известными постояльцами Дома творчества в Паланге были актеры Василий Лановой и Ирина Купченко. Они держались особняком и выглядели очень красивой парой. Я запомнил короткие голубые шорты Ланового на стройных ногах, его светлую тенниску и модные очки Ирины Купченко. О Купченко я слышал и раньше от художника Николая Двигубского, бывшего ее мужем, поэтому имел представление о ней как о человеке.
По соседству с нами жила весьма экстравагантная курортница, дама, говорившая про себя: “Я Грета где-то”, что означало “я немного напоминаю Грету Гарбо”. Звали ее Татьяна Александровна Хомова, в девичестве Лазыкина. Она была дочерью советских дипломатов, жила в Братиславе и работала преподавателем английского языка. Ее отец, Александр Васильевич Лазыкин, в эпоху Хрущева заведовал шифровальной службой в МИДе, что позволяло его жене, видной и статной Фекле Ивановне Лазыкиной, урожденной Кузнецовой из деревни Редькино на Оке, говорить:
– Санечка, в нашем доме все иностранное – от иголки до стельки в обуви. Мы любим все только заграничное.
Эта семья жила одно время при советском посольстве в Осло, а позднее Фекла Ивановна даже переделала себя в Людмилу Ивановну; никогда не теряла она интереса к жизни и к моде. Лазыкины занимали просторную “дипломатическую квартиру” в элитном сталинском доме возле Строительной выставки в Москве, но потеряли ее после увольнения Александра Васильевича, позволившего себе вольную критику режима в начале 1960-х годов. Его понизили до… вахтера в МИДе! А в квартиру въехал другой известный временщик – Аркадий Шевченко, попросивший затем политического убежища в США. Кстати, его красавица дочь тоже училась со мной в ШРМ № 127.
Татьяна Хомова, несомненно, была для того времени очень прогрессивной женщиной: она прекрасно играла в теннис, превосходно владела английским языком, коротко стриглась, не расставалась с сигаретой, носила обтягивающие белые джинсы и модную обувь на платформе из пробки. В Палангу она приехала со своим сыном Сашей, обладателем рыжей шевелюры, который увлекался спортом и любил бренчать на гитаре. Уже тогда он был выше меня на целую голову, несмотря на то что был года на два младше. Мы очень быстро нашли общий язык и стали закадычными друзьями. Саша хотел знать все о Советском Союзе, а я интересовался, как живется людям на “диком” Западе. Выяснилось, что его бабушка и дедушка со стороны мамы тоже живут на Фрунзенской набережной буквально в паре домов от нас. Мы часто ходили друг к другу в гости, разучивали песни The Beatles, а мой папа даже написал Сашин портрет, назвав его “Парень из Братиславы”. Эта дружба была светлой и юношеской.
Впоследствии, уже в 1983 году, я помог другу Саше получить французскую визу и уехать из Братиславы в Париж, где мы поначалу зарабатывали тем, что пели на улицах русские песни: “Дорогой длинною”, “Очи черные”, “Калинку-малинку”. Пробовали даже петь в парижском метро вместе с Аллой Гладилиной, дочерью известного писателя, но быстро сообразили, что с вагона больше десяти франков собрать нельзя, и вернулись на бульвар Saint-Germain, где за два-три часа зарабатывали триста франков. В 1983 году это были хорошие деньги, на которые можно было жить. Особенно щедро платили в Cafe de la Paix рядом с Парижской оперой. Пением мы промышляли около двух недель. Вскоре я подписал свой первый контракт с театром. А Саша Хома спустя годы уедет в США, оттуда – в Мюнхен, Прагу, снова в Москву, опять в Мюнхен, потом – в Сингапур.
Сейчас он с женой Машей и двумя детьми живет в Новой Зеландии.
Моими ближайшими подругами в юности были Алиса Целкова, дочь художника-нонконформиста Олега Целкова, и Маша Дементьева, дочь балерины Большого театра Нины Кусургашевой. Мне нравились обе. Чаще всего мы собирались в квартире у Маши, которая жила в Большом Афанасьевском переулке в доме работников Большого театра. Это было наше тайное общество. Будучи совсем еще юными, мы поклялись друг другу эмигрировать из Советского Союза, если в 1980 году во время Олимпиады не случится революция. Сказано – сделано. Я уехал в Париж в 1982 году, а Алиса Целкова годом раньше отправилась в США. В Америке она стала злоупотреблять вредными напитками, часто звонила мне по ночам в совершенно невменяемом состоянии и очень рано ушла из жизни. В юности нежная и хрупкая Алиса, с ее огромными ресницами, напоминала фарфоровую статуэтку Серебряного века. Такой же красавицей была ее кузина, популярная в 1980-е годы киноактриса Ольга Топилина, которая тоже выбрала путь эмиграции: с мужем Леонидом Слепаком, сыном известного диссидента и “отказника”, она уехала в США.
Маша Дементьева уехать не решилась. Она училась в немецкой школе № 58 и была известна в Москве по прозвищу Рыжая Маня. Среди ее поклонников были Эдвард Радзинский, Алеша Аксенов, Геннадий Хазанов, Сергей Мажаров, Андрей Кондрашин и сонмище других известных и не очень людей. Неоднократно Машу задерживали “за слишком активную дружбу с югославами” в гостинице “Белград”. Одевалась она всегда весьма откровенно: обтягивающие стан платья макси, высокие платформы, яркий грим “смоуки айз”, цветные румяна на щеках, блестящие украшения, гривны на шее… Ее подругами по этим юношеским эскападам были красотки Наташа Дегтярь и Наташа Крамаревская, дочь известного танцора Большого театра и племянница знаменитого Махмуда Эсамбаева. При небольшом объеме груди Маша носила глубокие декольте. Поэтому, когда Маша наклонялась, чтобы записать какое-то задание, взорам окружающих открывалась красивая перспектива. Однажды учитель истории Марк Миронович сделал ей замечание:
– Маша, я бы хотел, чтобы ваши знания по истории были так же глубоки, как ваше декольте.
Вскочив со своего места, Маша воскликнула:
– Хам и подлец! – и пулей вылетела из класса, громко шарахнув дверью. Она любила порой показать кузькину мать!
Маша не была канонической красавицей, но стройность ее стана, раскованность и внутренняя свобода, которой она обладала, привлекали к ней многочисленных поклонников. Эта рыжая бестия разгуливала в мини-юбке даже по Каиру, где ее мама одно время преподавала в Национальном театре оперы и балета Египта. Еще Маша виртуозно ругалась матом. Я прекрасно помню ее пятнадцатиминутные монологи, в которых не находилось места ни одному цензурному корню. При этом она владела вызывающе правильной литературной речью, поскольку была девушкой из интеллигентной семьи коренных москвичей. Окончив школу “раз-два-семь”, Маша поступила в ГИТИС на театроведческий факультет. Впоследствии она печаталась в “Огоньке”, позднее – в газетах “Сегодня” и “Известия”. Со временем оставила свои театроведческие исследования и занялась общественно-политической журналистикой. Она отправилась в Чечню в самый разгар военных действий. Ездила на БТР под прицельным огнем, брала интервью у Шамиля Басаева. За честное отражение событий, происходивших в начале 1990-х годов в Югославии, ее наградили военным орденом. Маша хорошо научилась говорить по-сербски еще со времен своих “творческих дебютов” в гостинице “Белград”.
Бесшабашная Маша отважно бросалась в новые приключения: переезжала, меняла работу, начинала с нуля. Казалось, в ее жизни было столько экстремальных событий – на несколько жизней хватит. Думаю, что это ее и сгубило. В 2000 году Маша Дементьева умерла от инсульта у себя дома. Избыток жизненных радостей?
Негласными лидерами нашей когорты были Толя Мукасей и Коля Данелия – оба принадлежали к знатным кинематографическим семьям СССР. Толя назвал себя Топом, был высок ростом и хорош собой, впрочем, как и Коля Данелия.
Это костяк, на котором держалась вся компания. Я же был на вторых ролях, несмотря на то что являлся сыном академика и народного художника. Сегодня понимаю, что это – к счастью, ведь и Данелия, и Мукасей ушли из жизни совсем молодыми людьми. Один скончался от передозировки наркотиков, другой разбился насмерть, выпрыгнув из окна. А я ничем пагубным никогда не увлекался.
Наше поколение пережило трагический исход: одни отправились в эмиграцию, другие, оставшиеся, в большинстве своем так и не смогли найти применение своим талантам и увлечениям. В этом я виню советскую власть. Красивые, одаренные и образованные, они не находили себя и не видели никакого будущего, несмотря на принадлежность к знаменитым и состоятельным семьям. Мы все мечтали о свободе – прежде всего свободе передвижения. Не хотели жить при крепостном праве! Мечтали о Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Увлекаясь движением хиппи, фантазировали о путешествиях в Индию и Катманду. Мы все хотели смотреть иностранные фильмы, слушать иностранную музыку, рисовать, писать, танцевать, петь, быть модными, красивыми, востребованными, вырваться из болота серой советской жизни… Но ни у кого из нас не было такой возможности.
До своего отъезда в Париж я жил во внутренней эмиграции. Моими отдушинами стали театр и коллекция старины. Я прекрасно помню, как одна старушка, продававшая мне какой-то фамильный антиквариат, сказала:
– Сдается мне, что вы собираете старину из-за неприятия советской власти. Это у вас эскапизм какой-то!
Так и было. Я этого не скрывал.
– Если бы я мог, то повесил бы за окно изображение какого-то другого города, – сказал я тогда.
Однако вскоре настанет время, и я действительно повешу за окно новое изображение, но не одного города, а целого мира, который открылся передо мной в 1982 году. Но это уже история, достойная другой книги воспоминаний. Жди ее, читатель!
На сцене и за кулисами “Современника”
Одно из самых ранних детских воспоминаний – поход с мамой в театр “Современник”, находившийся тогда еще на площади Маяковского, на спектакль “Белоснежка и семь гномов”. Мне было года два-три. Нас с мамой усадили в первом ряду. Сначала мы увидели злую королеву-мачеху, затем очаровательную Белоснежку в исполнении молоденькой Людмилы Крыловой – первой жены Олега Павловича Табакова. А потом случилось ужасное. На сцену вышли гномы. Но не крошечные гномики, которых я ожидал увидеть, а огромные дядьки – артисты театра “Современник”, чей рост вдвое превышал рост самой Белоснежки. Я тут же поднял дикий крик. Мама была страшно смущена и поспешила унести меня из зрительного зала в артистический буфет. В антракте эти огромные гномы, в своих колпачках, с бородами и в шортиках, по очереди подходили ко мне: сюсюкали, делали “козу”, брали на руки, трепали за щечки… А перед вторым актом нас с мамой пересадили в последний ряд. Тут уж я успокоился, потому что с последнего ряда гномы казались маленькими, какими и должны быть.
А в шестнадцать лет я поступил в театр “Современник” бутафором. Ведь для того, чтобы учиться в школе рабочей молодежи, требовался рабочий стаж. Туда мне помог устроиться директор театра, Леонид Иосифович Эрдман, большой друг мамы и Виталия Яковлевича Вульфа. Большинство моих одноклассников только числились где-то, а я в свободное от учебы время исправно ходил на службу и получал зарплату в 62 рубля. В мои обязанности входило подкрашивать декорации, как только их выносили на сцену. В основном это были двери, окна, стены, деревья, мебель – все в духе социалистического реализма.
При перевозке, монтировке и разборке декорации царапались, обкалывались и оббивались по углам. Перед спектаклем я выходил на сцену с большой деревянной коробкой, в которой стояли гуашевые краски, и подкрашивал каждый скол. Этот прием я до сих пор использую во время подготовки своих выставок. Чтобы старинные туфельки и сумочки смотрелись в витринах как новые, их нужно чуточку подкрасить акварелью.
Если я был свободен от учебы, то приходил в театр даже днем. Работы всегда хватало. Однажды дали задание изготовить бутафорских лягушек для спектакля “Принцесса и дровосек”. Я выреза́л их из поролона и выкрашивал в зеленый цвет. В другой раз крутил бумажные цветочки для распустившихся деревьев в постановке “Вишневый сад”, где Раневскую вдохновенно играла Татьяна Лаврова. Для спектакля “Большевики” сшивал какие-то брошюры, составленные из старинных рукописей Томского университета.
Всегда приходилось красной гуашью подкрашивать пол – половик красного цвета неизвестно почему не подходил по габаритам к декорации. А для одного из главных хитов “Современника”, спектакля “На дне”, раскрашивал глиняные крынки и другой нехитрый скарб горьковских персонажей. Все поручения заведующего бутафорским цехом выполнял с большим удовольствием. Руководителем бутафорского цеха в то время был художник-плакатист Иванов, а заведующей реквизиторским цехом – Лиза Ворона, дама очень полная и приземистая, с характером. До работы в “Современнике” она служила в ЦДТ, хорошо знала мою маму и мне симпатизировала. В самом начале спектакля “На дне” она, не выходя из-за кулис, истошно кричала “Полиция, полиция!”, потом била чем-то тяжелым стекло в цинковом ведре, изображая, как в старом МХТ, бьющееся окно, и имитировала гром с помощью подвешенного большого железного листа. В спектакле “На дне” особенно запомнился мне очень тонкий актер Валентин Никулин в роли Актера.
Из всех актрис “Современника” я выделял Тамару Дегтярёву. Она мне казалась самой талантливой и самой красивой. Помню ее в музыкальном спектакле “Вкус черешни”, в котором звучали песни Булата Окуджавы. Например, такая:
Ах, пане, панове, ах пане, панове, Ах пане, панове, да тепла нет ни на грош. Что было, было, что было, то сплыло, то сплыло, Что было, то сплыло, того уж не вернешь.Партнером Дегтяревой был знаменитый актер Юрий Богатырев. Они составили замечательный дуэт и прекрасно дополняли друг друга в этой польской мелодраме с нехитрым сюжетом о встрече бывших супругов в купе поезда. Декорация к этому спектаклю представляла собой громоздкую конструкцию из металлических труб в виде двух железнодорожных путей, сходящихся в одно купе. Наверху появлялись оба исполнителя и, напевая живым голосом в микрофон с длинным черным шнуром, как в “Голубом огоньке”, спускались вниз. Можно сказать, что этот спектакль в “Современнике” был прообразом западных мюзиклов, но только на двух актеров. Он был очень кассовым. Я помню две атласные блузочки Дегтяревой – персиковую и синюю – при юбке карандаш. Она дважды в спектакле переодевалась. Я любовался ею, а однажды ее шнур запутался в декорациях, и она знаком попросила меня помочь его освободить.
В театре “Современник” были свои иконы стиля. Самой модной актрисой считалась Мария Постникова. Будучи женой австрийца, она одевалась исключительно в вещи австрийского производства. И хотя в театре она ничего существенного не играла, вслед ей смотрели с обожанием и завистью, потому что на весь “Современник” она была практически единственной обладательницей замшевых сапог, вельветовых брюк и дубленки. Другой иконой стиля была актриса Наталья Каташева, которая одевалась очень модно: большие солнечные очки, на голове – шелковый платок-каре, она сама сидела за рулем своих новеньких “жигулей”, любила джинсы клеш и сабо на платформе из пробки. Это была реконструкция советского гламура! Она была дружна с моим кузеном, известным московским ловеласом и красавцем актером Володей Васильевым, потому была мила и со мной.
В “Современнике” я пересмотрел все спектакли, и не по одному разу. Видел “Вечно живых” с гениальной Галиной Волчек в роли Нюрки-хлеборезки. Это было что-то потрясающее! Декорации этого спектакля, обшитые неотбеленной тканью, стояли на поворотном круге и представляли сегменты интерьеров военного времени, которые калейдоскопом на этой карусели менялись. Запомнилась выразительная игра Гарика Леонтьева. Прекрасно помню спектакли “Балаганчик”, “Обыкновенная история”, “Валентин и Валентина” и “Двенадцатую ночь” с великолепной Анастасией Вертинской, прекрасной Мариной Нееловой и сногсшибательным Олегом Табаковым. Декорации этого спектакля были сделаны талантливым грузинским художником Иосифом Сумбаташвили. Они представляли собой металлизированную башню с нишами и проходами, к которой были прикреплены металлические аркообразные мосты на роликах – они вращались и меняли таким образом возможности мизансцен. А вот танцы в этом спектакле репетировала бывшая солистка Большого театра и подруга моей мамы миниатюрная балерина Аллочка Щербинина. Мы встречались с ней на сцене “Современника”. Затем она эмигрировала в Канаду и долгие годы проработала репетитором в Виннипегском королевском балете в Калгари. Мы долго переписывались, но в Канаде, увы, так и не встретились.
Помню очень хорошо “мужской костюм” в серых тонах Марины Нееловой и ее прическу “паж”, очень подходившую ко времени пьесы и моде 1970-х годов. Зрители ждали момента, когда на сцену выйдет Настя Вертинская в образе Оливии в черном траурном платье, покрытая почти непроницаемой вуалью. Скидывая вуаль, она обнажала не только прекрасное лицо, но и глубокий шнурованный вырез своего платья, спускавшийся ниже пупка. Зрительный зал замирал в восхищении. Это было очень эротично и для СССР почти недопустимо. Помню и Дегтяреву в этой роли, но декольте было чуть пристойнее.
С божественной Настей Вертинской мы познакомились в столовой “Современника”, куда я часто заходил, чтобы выпить томатного сока и съесть горбушку черного хлеба с солью. На это я тратил 11 копеек. Нас представил друг другу Стасик Садальский, знавший меня по летнему отдыху в Паланге. Он подозвал меня к столику, за которым сидел с Настей, и спросил:
– Ты знаком с нашей ведущей актрисой Анастасией Вертинской?
Вертинская ответила за меня:
– Кто ж не знает букву “ять”, как и где ее писать.
Много лет спустя, на ужине у меня дома в Париже, я напомнил Насте о нашем знакомстве, и она призналась, что это была любимая поговорка ее папы.
Кстати, именно Анастасия Вертинская дала мне рекомендацию для вступления в комсомол. Ведь в ту пору без членства в рядах ВЛКСМ не принимали в институт, а я готовился поступать в Школу-студию МХАТ.
Стасик Садальский, который был комсоргом “Современника”, и Костя Райкин поручились за то, что я – рабочий класс. С этим я и отправился в райком ВЛКСМ, расположенный у Покровских ворот. Там сидела очень противная тетка.
– Васильев, вы ведь у нас пролетариат? – спросила она.
– Типичный! Бутафором работаю.
– Тогда ответьте на вопрос. Сколько орденов на знамени ВЛКСМ?
– Пять! – ляпнул я наугад.
– Неверно. Орденов семь. Но вы хорошо подготовились!
Тут же назначили собеседование с комитетом комсомола. И снова знакомый вопрос:
– Сколько орденов на знамени ВЛКСМ?
На этот раз я не растерялся и со знанием дела ответил:
– Семь!
– Блестящая подготовка! Поздравляем! Вы приняты!
И мне выдали комсомольский билет, в котором значилось: “Время вступления в ВЛКСМ – ноябрь 1958 года”. А я родился только в декабре 1958-го. Перепутали даты. Но получилось, что комсомольцем я стал еще в утробе матери. Так что стаж у меня огромный. Исключен я был из рядов ВЛКСМ за неуплату членских взносов. Правда, меня это уже мало интересовало: я к тому времени уехал во Францию.
В “Современнике” я очень подружился с прелестной Леной Кореневой, ведущей молодой актрисой, которая делила “Современник” с театром на Малой Бронной. Вместе с ней, Авангардом Леонтьевым и другими артистами, занятыми в спектакле “Валентин и Валентина”, мы ездили на гастроли в Раменское. Играли на сцене местного ДК.
Подкрасив перед началом спектакля незначительно пострадавшие при перевозке из Москвы декорации, я отправился в Раменский краеведческий музей. Там в музейном дворике обнаружил целую свалку списанной мебели XVIII века.
– Могу ли я что-то забрать? – поинтересовался я у одного из рабочих.
– Забирай, – равнодушно махнул он рукой. – Все равно все сожжем.
Немало прекрасных вещей из Раменского краеведческого музея я забросил тогда в наш театральный грузовик с декорациями. Спасенные мной усадебные полочки в стиле рококо до сих пор висят в московской квартире. Я их отреставрировал. Вообще это моя страсть – найти что-нибудь сломанное и отдать в починку. Мне кажется, таким образом я сохраняю артефакты прошлого и бережно передаю их в руки новому поколению.
Школа-студия МХАТ
Первый театральный эскиз я нарисовал в пятилетнем возрасте, сидя в гримерке моей мамы, пока она играла спектакль. Очевидно, меня не с кем было оставить дома, поэтому пришлось в очередной раз взять с собой в театр. А чтобы я не болтался без дела, мама выдала мне альбомные листы, цветные карандаши, пластилин и какие-то лоскутки.
– Тебе задание, – сказала она перед выходом на сцену. – Нужно придумать для Наташи Сальниковой костюм татарской невольницы к сказке “Одолень-трава”.
И, пока мама играла спектакль, я старательно корпел над эскизом. Из ткани вы́резал платье, приклеил его к бумаге, затем кусочками меха отделал шапочку татарской невольницы, из пластилина слепил ей горбатый нос. Получилось очень эффектно. Сделанную работу я торжественно продемонстрировал Наталье Сальниковой. Через стекла своих очков-лисичек она внимательно рассмотрела эскиз и вынесла вердикт:
– Да, я принимаю эту работу!
Стараясь подражать отцу, я совсем ребенком начал мастерить кукол. Брал разбитую рюмку, переворачивал ее, и получалась дама в корсете с большим воротником-фрезой. Ставил спектакли с маленькими марионетками, разыгрывая их в декорациях из диванных подушек. Для одного такого спектакля мне понадобилась бочка меда. Но поскольку мед в пору моего детства продавался исключительно в стеклянной таре, папа расписал под деревянный бочонок обыкновенную баночку из-под меда.
А первый спектакль я оформил в двенадцать лет. Это была сказка “Волшебник Изумрудного города”, которая произвела на меня в детстве огромное впечатление. Она была написана по мотивам американского бестселлера “Удивительный волшебник из страны Оз”, сочиненного в 1900 году Лайменом Фрэнком Баумом. В 1939 году писатель Александр Волков перевел эту прекрасную сказку и адаптировал для отечественного читателя, точно так же, как некогда граф Алексей Толстой превратил итальянского Пиноккио в советского Буратино. Такое было возможно только при наличии железного занавеса – мы многого не знали и принимали авторство этих писателей за чистую монету.
Папа соорудил специально для меня подмакетник и вмонтировал его в обитую золотистым брокаром ширму. Ширму, кстати говоря, я принес с помойки. В этом подмакетнике и происходило действие знаменитой сказки Волкова, для которой я вылепил фигурки всех персонажей: Элли и ее мамы, Гингемы и Бастинды, Виллины и Гудвина, жевунов и летучих обезьян… Сам придумал декорации для каждой сцены, сам освещал спектакль настольной лампой и применял различные фильтры… “Волшебник Изумрудного города” шел под заранее записанную фонограмму, чтобы мне во время действия не отвлекаться на озвучку персонажей. Озвучивать мне помогали сестра Наташа и подруга детства Наташа Сажина – они создавали видимость массовых сцен!
Несколько раз я показывал спектакль зрителям. Школьные товарищи, друзья родителей и родственники с большим интересом смотрели постановку. А Виктор Карлович Монюков даже оставил в специальной книге такую запись: “Очень скоро в Школе-студии МХАТ будет учиться удивительный студент. Он поступит сразу на три факультета – режиссерский, актерский и постановочный. Этим студентом будет Саня Васильев”. Слова Виктора Карловича оказались пророческими: я стал режиссером своей жизни, художником-декоратором по специальности и актером в программе ТВ “Модный приговор”.
Видя мое увлечение рисованием и созданием костюмов, мама, когда пришло время, решила отдать меня в Московское театральное художественно-техническое училище на костюмерное отделение. Правда, скоро с этой идеей пришлось расстаться, поскольку в ТХТУ не предоставляли отсрочку от армии. Тогда обратили внимание на альма-матер моего отца – училище памяти 1905 года, где также существовало театральное отделение. Руководила им знаменитая художница Татьяна Сельвинская, дочь поэта Ильи Львовича Сельвинского.
Из-под крыла Татьяны Ильиничны вышло немало известных театральных художников. Она была весьма оригинальной дамой: любила серебряные подвески, красила волосы то в черный, то в рыжий цвет и носила очень низкую челку в стиле 1920-х годов. Когда встал вопрос о моем поступлении, родители пригласили Татьяну Ильиничну к нам домой, где она, посмотрев на созданные мной декорации к “Волшебнику Изумрудного города” и сказке “Счастливый конец” по книге Екатерины Борисовой, сказала:
– Все очень разнообразно, но нет единого смысла. Не надо делать новую декорацию к каждой сцене, достаточно одной, но с различными трансформациями.
Таким образом Сельвинская одной фразой объяснила мне суть театрально-декорационного искусства. Однако с училищем тоже что-то не сложилось, и у отца возникла идея отправить меня в грузинскую Академию художеств, к художнику Парнаозу Лапиашвили. Но тут уж воспротивилась мама. Она не была готова отпускать ребенка одного в Грузию. В конечном итоге на семейном совете решили, что постановочный факультет Школы-студии МХАТ, находившейся недалеко от дома, – лучший выход из положения.
Благодаря хорошей подготовке я довольно легко сдал вступительные экзамены, хотя требования к поступающим предъявлялись строгие. В просторной аудитории за столами, выставленными буквой “П”, сидели все педагоги постановочного факультета. Трясущиеся от волнения абитуриенты переходили от одного педагога к другому, пересаживаясь по часовой стрелке от стула к стулу, поочередно отвечая на вопросы каждого экзаменатора.
Одно из первых вступительных испытаний выглядело так. Давали абитуриенту стопку открыток с изображением различных картин, пейзажей, портретов, натюрмортов. Требовалось безошибочно определить название работ, их авторов, год написания, размеры и местонахождение каждой из них. Поскольку зрительная память у меня всегда была превосходная, я легко справился с этим заданием. Затем нам предложили по древесным образцам определить породу дерева: где липа, где дуб, где карельская береза, а где красное дерево. И здесь я все угадал.
Замечу, что попасть в Школу-студию было не так-то легко. И не только из-за сложных экзаменов: в гардеробной сидела на вахте старая еврейка София Ароновна, известная тем, что частенько сама проводила “отбор” абитуриентов. Глядя на скромных провинциальных девушек, эта старушка с внешностью бабушки Гурвинека имела обыкновение интересоваться: “Ну что, в артистки собрались? А в зеркало-то на себя смотрели?” Вопрос полностью деморализовывал абитуриенток, и многие в слезах убегали… Мне довелось не раз сидеть с мамой на отборочных экзаменах актерского факультета, так что повидал я многое. Читал и письма желавших поступить к нам учиться. Особенно запомнилось одно: “Зависит ли вступ в вашу Студию от красы лица и рыхлости тела?”
На вступительные экзамены я принес свои ученические работы. Это были натюрморты. Отец не раз, глядя на них, говорил, что у меня хорошее чувство цвета и формы.
Прихватив с собой мольберт и масляные краски, я часто выезжал на этюды, увлекался изображением городских пейзажей… Возможно, этот художественный дар я сам в себе и погубил, целиком посвятив жизнь театру, где умение писать с натуры отнюдь не главное условие для художника. Однако та специальность, которую я выбрал, оказалась настолько уникальной, что дала мне возможность выработать свой собственный почерк, свой неповторимый стиль и почувствовать себя вне сравнения и конкуренции. Поэтому я полагаю, что выбрал единственно верный для себя путь.
Итак, в 1976 году я был принят в Школу-студию МХАТ. Это удивительное театральное учебное заведение находилось в самом центре Москвы и располагало двумя зданиями. Главное, с актерским и режиссерским факультетами, находилось справа от Художественного театра, в здании старинного банка начала XX века, в проезде Художественного театра, дом 3а. Тогда в бывшем Камергерском проезде не было дюжины кафе с террасами и “сочинской атмосферы” сегодняшнего дня. Это была чинная и строгая улица, знаменитая своим букинистическим магазином “Пушкинская лавка”, галантерейным магазином, маленьким магазином “Медицинская книга”, агентством “Финские авиалинии” и рестораном “Актер”, где любили посиживать артисты театра МХАТ и наиболее смелые студенты Школы-студии. Входя в главное здание Школы, мы сразу погружались в строгую, несколько чопорную атмосферу священного храма искусства, в котором ничто не могло ускользнуть от всевидящего ока нашего ректора Вениамина Захаровича Радомысленского. Перед “папой Веней” трепетали все, и я в том числе. Этот служитель большого искусства был небольшого роста, обаятелен, но лысоват, носил строгие костюмы, пил кипяченую воду из графина, всегда стоявшего на покрытом зеленым сукном столе в его величественном кабинете. Дверь кабинета ректора, знаменитого своей коронной фразой “По ко́ням!”, которую он произносил в начале каждого учебного года, была обита дерматином на вате, дабы никто не смог услышать ни словечка из важных разговоров, в этом кабинете происходивших.
Будучи обычным студентом, я ездил в институт на метро, выходя на станции “Проспект Маркса”, ныне “Охотный Ряд”. Мой путь пролегал под портиком колонн Большого театра через ЦУМ, в котором на полу еще оставалась надпись “Мюръ и Мерилизъ”. Однажды я встретился нос к носу со знаменитым премьером Большого театра Марисом Лиепой, который был тогда в зените своей славы. Он произвел на меня сильное впечатление. Время было дневное – видимо, между двумя спектаклями. Поэтому он вышел в ЦУМ из служебного подъезда театра в полном сценического гриме. Яркие осветленные волосы и очень толстый слой ярко-розового тона. В ту пору о полутонах на сцене знали немного, и необычайно розовое лицо мужчины с сильно подведенными голубым карандашом глазами приковывало внимание. То, что хорошо на сцене, в жизни выглядит гротеском.
Здание же моего родного постановочного факультета находилось на Пушечной улице, за зданием Малого театра, в доме, где некогда располагалось Хореографическое училище Большого театра. На парадной лестнице, которую мы делили с Щепкинским училищем, находившимся в том же здании, красовалось большое витражное окно с портретом балерины, стоящей в классической пачке в арабеске, лицом напоминавшей Ольгу Лепешинскую. В балетных залах с дощатыми полами, которые передали постановщикам-мхатовцам, сохранились станки, а в зале, где мы слушали лекции, прежде занимались Майя Плисецкая и Раиса Стручкова. Учебной частью факультета руководила красивая и строгая бывшая актриса Марьяна Яковлевна Белова, жена известного живописца Петра Белова, прославившегося своими полотнами-притчами в эпоху перестройки. Опаздывать на занятия в студии было не принято, но я и это делать умудрялся.
Нам повезло с преподавателями живописи и рисунка. Одним из них была Вера Михайловна Зайцева, театральный художник, внучка Достоевского и человек яркой индивидуальности. Это была невысокого роста элегантная женщина, которая обожала туркменские серебряные украшения. По коридорам Школы-студии она шла, позвякивая монистом и бесчисленными браслетами, украшавшими ее запястья. Не женщина, а ходячая экспозиция среднеазиатского серебра! Эти украшения ее ученицы из Туркменистана присылали в ящиках с курагой, поскольку драгметаллы советская почта не принимала к отправке.
Другим преподавателем был Виктор Владимирович Селиванов, выдающийся мхатовский мебельщик, создававший предметы сценического интерьера еще для спектаклей в постановке Немировича-Данченко. По чертежам Селиванова в мастерских театра изготавливали мебель в стиле ампир, или в стиле второго рококо, или в стиле Николая Первого…
Однажды я задал Виктору Владимировичу давно мучивший меня вопрос:
– А как вы имитируете карельскую березу?
Он ответил:
– Очень просто. Кисточкой раскрашиваем.
В.В. Селиванов – автор книги “Театральная мебель”. На ее страницах он подробно объясняет, как создать, например, кресло-бочонок в стиле ампир или кушетку-рекамье, приводит чертежи и планы зданий столичных и провинциальных театров… Сегодня эта книжица – библиографическая редкость. Кроме того, по рисункам Виктора Владимировича печатались афиши и программки МХАТа, а по его эскизам созданы знаменитые мхатовские фонари, которые сегодня украшают весь Камергерский переулок. Правда, авторство этих фонарей ошибочно приписывают Шехтелю. Но если посмотреть на фотографии фасадной части Художественного театра, сделанные до 1948 года, никаких фонарей на знаменитых улиткообразных кронштейнах мы не увидим. Они появились к 50-летию театра, почти через тридцать лет после смерти Федора Шехтеля. Селиванов во время занятий показывал нам чертежи этих фонарей, подробно рассказывал, как их устанавливали… Ему так виртуозно удалось стилизовать фонари под стиль модерн, что найти отличия не способны даже специалисты по русскому модерну.
Под руководством педагогов мы овладевали академическими навыками рисунка, бесконечно рисовали скульптуры из гипса, древнеримские и древнегреческие барельефы, драпировки. Позднее взялись за написание портретов с натуры. Изображали дам в русских народных и исторических костюмах. Одна из моих соучениц, латышка Анита Знутыня, даже позировала в костюме из спектакля “Анна Каренина”, изготовленном Надеждой Петровной Ламановой в 1937 году.
Рисунок на постановочном факультете вел маститый художник Игорь Владимирович Шнейдер, тоже выпускник Школы-студии, человек тонкий, изысканный и красивый, напоминавший внешностью короля Афганистана. Студентам он часто говаривал: “Сытое брюхо к искусству глухо” – очень верная фраза и сегодня.
Руководителем моего курса был немец Эрвин Петрович Фрезе, один из авторов книги “Художник и театр”, изданной в 1975 году. Он был человеком улыбчивым и добродушным, на мой взгляд, недостаточно строгим со студентами-шалопаями. Отец Фрезе, Петр Александрович, был до революции выдающимся инженером, одним из создателей первого русского автомобиля.
Прекрасным педагогом по конструированию декораций был Алексей Дмитриевич Понсов, окончивший Школу-студию в 1953 году. Он был поклонником театральных художников прошлых лет, восхищался Вильямсом и Дмитриевым. Ярый сторонник павильонов на сцене театра, он учил нас тщательно делать стенки с откосами, двери с притолоками и окна с подоконниками, всегда обтягивать стены мешковиной, будто не замечая, что жизнь движется вперед, а с нею и технология изготовления декораций. Понсов часто рассказывал нам, студентам, всевозможные мхатовские шутки и прибаутки. Помню некоторые: “Книппер – душка, Книппердушка, Книппер – душечка моя!” или то, как маркировали декорации в старом МХАТе – на декорации сзади писали гуашью черного цвета “Левый зад Анны Карениной”.
Лекции по сценическому оборудованию у нас также читал Михаэль Моисеевич Кунин, сын Моисея Абрамовича Кунина, родившегося в Витебске в 1897 году, выдающегося иллюзиониста, телепата и художника, учившегося у Марка Шагала и Роберта Фалька. А историю театрально-декорационного искусства вела молодая и подвижная Наталья Юрьевна Ясулович, жена известного киноактера Игоря Ясуловича. Наташа любила и понимала искусство русского авангарда, вдохновенно рассказывала о Яковлеве, Экстер, Поповой, Степановой, Татлине, Малевиче и привила нам любовь к этому периоду и самой теме.
Чему нас только не учили! Историю русской литературы преподавала Инна Соломоновна Правдина, которая недолюбливала Достоевского, но лекции читала очень эмоционально, часто касаясь ладонями висков. Однажды мы эту гранд-даму разыграли. Недалеко от здания факультета, на Кузнецком Мосту, находился зоомагазин. Там порой продавали степных черепашек. Купив одну, мы спрятали ее в ящик парты, и она гремела и шуршала там на протяжении всего занятия, увлеченно уплетая капустный лист, вызывая недоумение преподавателя и юношеский восторг студентов… За восемьдесят пять лет своей жизни Инна Соломоновна воспитала целую плеяду актеров и постановщиков в любви к русской поэзии и литературе.
Историю западного театра у нас вел Владимир Андреевич Шеховцев, а у актеров – литовец Витас Юргевич Силюнас.
Были у меня и нелюбимые предметы, например сопромат. Его вела Людмила Всеволодовна Солнцева. Но она была обаятельным и светлым человеком и не слишком нагружала меня знаниями по этой сложной отрасли науки.
Английский язык в Школе-студии преподавала Ирина Израилевна Арцис, работавшая переводчиком с Галиной Волчек и Олегом Ефремовым в Шотландии, Канаде, США. А немецкий язык вела бывшая разведчица-нелегалка Антонина Ивановна, которая под вымышленным именем “фрау Мюллер” несколько лет работала во Франкфурте, изображая настоящую немку. После выполнения спецзадания она вместе с мужем и детьми, которые вовсе не говорили по-русски, через Прагу вернулась в СССР и была назначена в Школу-студию преподавать немецкий.
Как мы узнали о ее героическом прошлом? Очень просто – из разговоров. Помните, как в фильме “Семнадцать мгновений весны”: что знают двое, знает и свинья. Во время турпоездки в Болгарию, куда преподавательница отправилась вместе со студентами, моя подруга решила над ней подшутить. Она подкралась сзади в какой-то очереди и на ушко шепнула: “Фрау Мюллер!” Ту чуть удар не хватил! Она решила, что ее рассекретили!
Школа-студия регулярно организовывала туристические поездки для педагогов и студентов в страны Восточной Европы, которые тогда именовались странами соцлагеря.
В семнадцать лет я побывал в Болгарии, в восемнадцать – в Чехословакии, а в двадцать один – в Польше. По советским законам ездить в турпоездки за границу можно было раз в год в социалистические страны и раз в пять лет – в капиталистические. Каждая поездка сопровождалась ворохом документов: анкета, характеристика, заверенная месткомом, профкомом, комсомольской организацией и парткомом. Все вышестоящие инстанции в СССР имели право рекомендовать человека для посещения зарубежных стран. В анкете подробно спрашивали о родственниках за границей, а также интересовались знаниями иностранных языков. Если человек свободно владел языком, он мог быть уверен, что в турпоездку не попадет, так как имел возможность войти в контакт со “вражьей силой”. А если вы писали в ту пору любимые слова “не знаю, не владел, не бывал и не привлекался”, тогда сразу становились подходящим кандидатом для подобных поездок. Во время пребывания за рубежом советским гражданам рекомендовалось ходить тройками и к каждой группе обязательно был прикреплен соглядатай – младший офицер КГБ, который следил за поведением и моральными устоями, царившими среди советских туристов, попавших во вражеское логово. Кстати, именно эти офицеры часто были бабниками, любили выпить и больше других пропадали в магазинах, что естественно – их багаж на таможне не проверяли.
Историю костюма читала Ирина Ипполитовна Малыгина, работавшая одно время художником в Театре на Таганке. Она была женщиной статной, носила черный спенсер на бархатное платье. Студенты за глаза называли ее “Ирина Эполетовна”. Ни одной полноценной лекции за все время обучения Ирина Ипполитовна нам так и не прочла. Каждое ее занятие в конце концов сводилось к воспоминаниям о сотрудничестве с Юрием Петровичем Любимовым.
– Бидермейер! – провозглашала она тему занятия. И поясняла: – Ярко! Легко! Празднично! Вальс! Ну а когда я начинала свою работу с Любимовым над спектаклем “Час пик”…
Или:
– Готика. Утонченно! Возвышенно! Пикообразные окна. Помнится, мы с Юрием Петровичем…
Читая лекцию о моде эпохи Французской революции, она обратилась как-то к братьям Мироненко, моим однокурсникам, которые знали французский, со словами: “Научите студентов, как правильно произносить «энкруая́бли и мервейёзы»[15]”.
Во время лекций Ирина Ипполитовна не пользовалась диапозитивами, а в качестве наглядного материала применяла книжечки с черно-белыми крошечными картинками, которые пускала по рядам. Вовремя сообразив, что никаких знаний по истории костюма от Малыгиной не получу, я прослушал экстерном лекции большого специалиста по истории моды Раисы Владимировны Захаржевской в Московском университете на отделении искусствоведения. Когда об этом узнала Ирина Ипполитовна, она была страшно недовольна. Но я торжествовал!
Моим любимым местом в Школе-студии МХАТ, безусловно, была костюмерная. В те годы ею руководила Татьяна Александровна Лунина, дама красивая, знавшая себе цену. Она была замужем за потомком декабриста Лунина и любила рассказывать, затягиваясь сигареткой, о своем романе с поляком, к которому ездила в 1960-е годы в Польшу. Постоянными “обитателями” костюмерной были Таня Глебова и Ира Белопухова, обе очень интересовались историей костюма и выросли в больших профессионалов. Костюмерная Школы-студии МХАТ имела трагическую судьбу: она дважды горела по вине студенток, не выключивших утюг, за что страдала завхоз Ирина Дмитриевна Дрягина. А гореть было чему! Художественный театр, начиная с 1940-х годов, нещадно списывал исторические костюмы 1900–1930-х годов из отыгранных спектаклей и передавал их в Студийный театр. Для полноты картины скажу, что там хранились костюмы по эскизам Бенуа, Сомова, Добужинского, Крэга, Вильямса, Дмитриева, Васильева-отца, Рындина, Двигубского и многое другое. Для студентов эти костюмы подгонялись, подкорачивались, перешивались, перекрашивались. К тому же черная лестница Школы была полна окурков, которые будущие великие актрисы собирали подолами свих турнюрных юбок. Я же благоговел перед тем, что хранилось в высоких двухэтажных шкафах, покрытых пластиком под ореховое дерево. При нашей костюмерной была и небольшая реквизиторская с кучей старинной посуды, столовых приборов фраже, шкатулок и прочего нужного в постановках скарба. По темной деревянной лестнице можно было подняться на низкий второй этаж в “Мужской отдел”. Вот там-то и пылились отжившие свое костюмы из “Нахлебника”, “Гамлета”, “Ревизора”, “Власти тьмы”, “Горя от ума” и “Скупого рыцаря”. В Художественном театре было принято подписывать фамилии актеров чернильным карандашом и ставить печати ХОТ – Художественный общедоступный театр. Затем название менялось, а с ним и печати, и фамилии. Татьяна Александровна Лунина ко мне благоволила и давала мне рыться в этом прекрасном складе померкнувшей театральной славы. Не боясь пыли и не страдая аллергией, я с радостью навел порядок и развесил все на мужской половине. Наизусть знал все женские платья. Восторгался розовым платьем прекрасной Марии Германовой – Софьи из “Горя от ума”, брюками Михаила Чехова из “Ревизора”, парчовыми золотыми накидками Массалитинова и Книппер из “Гамлета” Гордона Крэга, корсажем из броше бесподобной Ольги Гзовской из “Хозяйки гостиницы” Гольдони, великолепными тюрнюрными костюмами, которые кроила сама Надежда Ламанова к “Анне Карениной”, аппликационными фактурами из “Кола Брюньона”, созданными по эскизам талантливого русского француза Николая Двигубского. Пребывание в учебной костюмерной было моим раем и адом и во многом сформировало меня как историка моды. Это была школа, настоящая и прекрасная. Часть костюмов, описанных выше, удалось сохранить, передав их в Музей К.С. Станиславского, а остальные, увы, канули в Лету…
Лекции по истории русского театра нам читала удивительно стильная и красивая дама Натэлла Сильвестровна Тодрия, дочь известного революционера Сильвестра Тодрии. Рассказывая нам о традициях русской театральной школы, сама она всем сердцем была влюблена во Францию и во все, что с ней связано. Натэлла Сильвестровна прекрасно говорила по-французски. Несмотря на железный занавес, умудрялась часто бывать в Париже по приглашению антиквара, эмигрантки первой волны Натали Оффенштадт. Натали прекрасно одевала Натэллу Сильвестровну, ее элегантность и вкус считались на постановочном факультете эталоном. Натэлла жила на Садовом кольце рядом с планетарием в просторной квартире, обставленной старинной мебелью в стиле русского ампира, в окружении множества французских книг, среди которых доминировали книги о Жане Кокто, Жане Маре, Эдит Пиаф и Грете Гарбо. Именно Натэлла Тодрия стала первой переводчицей книги о Коко Шанель и открыла русскоязычному читателю имя ее ближайшей подруги Миси Серт, чьи мемуары она тоже перевела на русский язык.
Перед самым отъездом в Париж я обратился к Натэлле Сильвестровне:
– Я отправляюсь в совершенно незнакомый город. Не могли бы вы рассказать мне, какой он, Париж?
– Да что я тебе буду рассказывать, – отмахнулась она. – Приедешь и сам все увидишь в первый же день…
Не понаслышке знала о Париже и Татьяна Борисовна Серебрякова, дочь художницы Зинаиды Серебряковой. Во МХАТе она возглавляла живописный цех. После смерти художников-авторов только благодаря ее стараниям были восстановлены декорации и костюмы к спектаклям “Синяя птица”, “Три сестры”, “Горячее сердце”, “Кремлевские куранты”. Татьяна Борисовна очень дружила с моим отцом. Когда он работал во МХАТе, именно Серебрякова помогала ему в оформлении таких постановок, как “Заговор обреченных”, “Ревизор” и “Последний срок”. Мы были счастливы, когда однажды нам объявили, что Татьяна Борисовна придет к нам на курс, чтобы рассказать о жизни и творчестве своей выдающейся матери, с которой она увиделась в Париже в 1960 году после тридцатишестилетней разлуки. Из Франции Татьяна Борисовна тогда вывезла множество картин Зинаиды Евгеньевны и организовала три большие выставки ее работ: в Москве, Ленинграде и Киеве. В дальнейшем эти произведения приобретались закупочными комиссиями и распределялись по всем советским музеям. Гастролируя как-то в Бишкеке, бывшем Фрунзе, я обнаружил в местном художественном музее работу Зинаиды Серебряковой “Виды Марокко”.
Читая нам лекцию о творчестве матери, Татьяна Борисовна на слайдах показывала многие ее работы, которые мы никогда не видели. Она подробно рассказывала о своей поездке в Париж, о том, чем занимается ее брат Александр и сестра Екатерина. В какой-то момент на экране возник фасад парижского дома, где жила Зинаида Серебрякова. Я видел этот дом всего полминуты, пока его изображение не сменил новый слайд. Но этого хватило, чтобы я запомнил его навсегда. Вот что такое фотографическая память! И вот однажды, уже в Париже, выйдя из метро Boulevard Raspail и направляясь на Монпарнас, я снова увидел этот дом. Он стоял передо мной во всем своем великолепии точно такой, каким я его запомнил во время той лекции. Недолго думая, я подошел к подъезду и на одной из табличек нашел фамилию Serebriakoff. Вот это да! Рука сама потянулась к звонку, и спустя некоторое время я услышал тоненький старческий голос:
– Да…
– Здравствуйте! Я приехал из России, я ученик вашей сестры Татьяны Борисовны Серебряковой!
– Открываю. Четвертый этаж.
Так я познакомился с Екатериной, младшей дочерью Зинаиды Серебряковой.
Она радушно приняла меня, напоила чаем, показала двухэтажную мастерскую художницы, поразившую меня своими размерами – метров сто, не меньше. Осматривая дом и мастерскую, я увидел великое множество картин, рисунков, зарисовок. Всего в доме-музее Серебряковой хранилось более четырех тысяч работ! На многих были изображены Катя и Шура. Жили брат и сестра вместе, оба были холостяками и держались друг друга, как голубок и горлица. Узнав о том, что я совсем недавно приехал из Москвы и еще не успел обзавестись знакомствами, они дали мне номер телефона Ростислава Добужинского, сына скончавшегося в 1958-м (в год моего рождения) Мстислава Валериановича, и номер телефона Дмитрия Дмитриевича Бушена, последнего из живых в то время художников “Мира искусства”. Так одна фотография дома на лекции в Школе-студии МХАТ открыла мне потом в Париже целый мир, куда бы я иначе ни за что не попал.
Несколько лекций нашему курсу прочитал сын Василия Качалова – Вадим Васильевич Шверубович, который возглавлял постановочный факультет с 1954 года. Мы его мало знали, потому что в мою студенческую пору он уже был очень пожилым человеком и все реже наведывался в Школу-студию. Это был человек удивительной судьбы. Белогвардеец, участник Гражданской войны, внук священника… Во время Второй мировой войны он попал в плен и оказался в Италии у партизан, за что и подвергся репрессиям, был арестован, отсидел в лагере и спасся лишь благодаря пояску, которым в любые морозы подпоясывал лагерную одежду. Освободившись, Шверубович получил работу, занимал должность заведующего постановочной частью во МХАТе. Но спасло его не провидение, а заступничество отца. Василий Иванович Качалов был любимейшим и популярнейшим актером, носил звание народного артиста СССР и был всячески обласкан советской властью: награжден орденами Ленина и Сталина.
Дед Вадима Васильевича Иоанн Шверубович служил настоятелем церкви Святителя Николая Чудотворца в Вильнюсе. Дом, в котором жила семья священника, принадлежал церкви. Сегодня его украшает памятная доска с надписью на литовском и русском языках: “В этом доме с 1875 г. по 1893 г. жил выдающийся деятель советского искусства Василий Иванович Качалов”.
Когда моя мама, будучи студенткой, в 1946 году впервые оказалась в Вильнюсе, она не раз захаживала в Никольскую церковь. Протоиерей Иоанн в ту пору еще был жив. Дочь Вадима Васильевича, недавно скончавшаяся актриса театра “Современник” Маша Шверубович, была моей коллегой по работе в этом театре.
Совершенно ненужными предметами я считал историю партии и научный коммунизм, но избежать их в ту пору было невозможно. Историю партии преподавал Юрий Павлович Иванов. На одном из занятий он укоризненно попенял мне:
– Что же у вас, Васильев, дома нет собрания сочинений Владимира Ильича Ленина?
Я ответил:
– Собрание сочинений Чехова есть. И Тургенева тоже, и Достоевского, и Толстого. А Ленина нет и никогда не будет.
Оценивая сегодня слова, брошенные десятилетия назад, я поражаюсь своей юношеской смелости. Ведь за подобную дерзость в ту пору можно было запросто вылететь из Школы-студии. Однако я всегда был свободен и независим в своих суждениях. Говорил только то, что думаю.
Про Юрия Павловича Иванова, любителя поплавать в бассейне “Москва”, студенты, зря в корень, сочинили забавные строчки: “Юрий Палыч Иванов летом ходит без штанов!” Иванов изо дня в день внушал студийцам, что коммунизм – это пример высокой нравственности и морали, но сам же стал жертвой своих “высокоморальных” устоев. В подъезде собственного дома его убили неизвестные молодые люди, с которыми он планировал весело провести вечер.
А еще был предмет “Марксистско-ленинская эстетика”, который порой вел у нас Авнер Яковлевич Зись. Порой – потому что он очень любил опаздывать на лекции, минут на 30–40, и часто просто их отменял. Создавалось впечатление, что ни профессор Зись, ни его студенты – никто не верил в необходимость изучения этой пустотелой науки. Помню одну забавную фразу в его устах: “Искусство вечно, бесконечно и нези-и-иблемо!” Этот забавный философ марксизма-ленинизма был знаком с Крупской и являлся личным референтом у министра культуры СССР Екатерины Алексеевны Фурцевой. Он знал, что театральный вуз и его наука несовместимы, и ставил всем подряд пятерки.
Лекции по научному коммунизму читала жена будущего руководителя МХАТа Анатолия Смелянского – Татьяна. Позднее они с мужем стали преподавать в США, где она вела… мировую религию. Невольно задаешься вопросом: верили ли эти люди сами в то, что пропагандировали? Сомневаюсь.
В Школе-студии мне неоднократно доводилось встречаться с прославленным актером Павлом Владимировичем Массальским, воплотившим на сцене Художественного театра образ Вронского в легендарном спектакле Немировича-Данченко “Анна Каренина”. Массальский был заведующим кафедрой актерского мастерства, вел свой курс. Красивый, статный, высокий Павел Владимирович всегда роскошно одевался: твидовые пиджаки, бабочки, кашне… Мне повезло – именно меня Массальский попросил оформить отрывок из толстовского “Воскресенья”, поставленный им для своих студентов. Это была сцена суда над Катюшей Масловой. После показа состоялось обсуждение постановки, во время которого кто-то спросил о лиловом костюме студентки Татуновой:
– Господа, ну разве настоящие бандерши так одеваются? Вы вообще хоть раз бывали в публичном доме?
Массальский отреагировал моментально:
– Конечно, бывал. И не раз.
Много лет спустя я оказался в квартире Павла Владимировича в легендарной высотке на Котельнической набережной. Вся атмосфера была проникнута любовью к театру. Даже занавески любимого секретера Массальского повторяли знаменитый мхатовский занавес с чайкой. Здесь все оставалось как при жизни хозяина. Хотя квартира перешла по наследству к его пасынку, однокурснику моей мамы Константину Градополову.
В молодости Павел Владимирович был дружен с сыном великого Шаляпина Федором, ставшим в эмиграции и художником, и актером. А выдающаяся люстра из кабинета Массальского, так же как и коллекция его фотографий и мхатовских программок, сейчас находится в коллекции Фонда Александра Васильева.
В Школе-студии на актерском факультете преподавали две артистки Художественного театра, заставшие еще Станиславского, – Евгения Николаевна Морес и Анна Михайловна Комолова. Обе травести, обе выходили на сцену в образах Тильтиль и Митиль из “Синей птицы”. А Евгения Морес даже играла Сережу в “Анне Карениной”. Когда МХАТ в 1937 году привез “Анну” на гастроли в Париж, французская критика, особенно эмигрантская, настоящую бурю подняла по этому поводу. Надежда Тэффи писала в своем фельетоне: “Каково же было удивление Анны, когда она, войдя в детскую, вместо своего родного сына Сережи обнаружила в кроватке сложенную пополам не слишком молодую артистку Морес”… Тогда во МХАТе поняли, что нужно на роль Сережи искать настоящего ребенка. Евгению Николаевну в Школе-студии называли “Мореска-юмореска”. Она была крошечного роста, а поседевшие волосы красила черной хной. Много курила, причем исключительно папиросы, носила брюки, всегда рьяно отстаивала свою точку зрения, отважно вступала в любой спор и, может быть, именно в силу бойкости характера в молодости играла исключительно мальчишеские роли. Анне Михайловне Комоловой доставались всегда роли девочек. Ростом она тоже не вышла и, для того чтобы казаться хоть чуточку повыше, носила обувь на каблуках и на платформе. Одежда просто болталась на ее миниатюрной фигурке. Рукава своих любимых водолазок она закатывала до самого предплечья и от руки пришивала цветными нитками – чтобы не спадали. Замужем Анна Михайловна была за красавцем Владимиром Ершовым, актером Художественного театра, человеком пьющим и резким. Папа рассказывал, что на всех банкетах Комолова тайком собирала из недопитых бутылок и стаканов водку, вино и коньяк, сливала все в одну посудину и приносила мужу, который без алкоголя не мог жить. Анна Михайловна Комолова хорошо знала Надежду Ламанову и описывала ее как “даму в платьях в лиловых тонах”. Именно в постановке Анны Михайловны Комоловой я дебютировал в театре.
Для молодых студентов общение с этими артистками эпохи Станиславского и Немировича-Данченко, пусть даже второго плана, было настоящим счастьем. Эти люди застали иную театральную культуру, иную сценическую речь и иные методы изложения драматургического материала. Когда ушло это поколение, оборвалась нить, связывавшая Школу-студию с Художественным театром. Театр стал совсем другим, а название – сохранилось. Помню тяжелые для театра дни, когда по приказу министра культуры СССР его отправили на капитальную реконструкцию. Мой папа, в те годы секретарь правления Союза художников СССР по театральной секции, написал петицию с просьбой не убивать старинный театр, гордость России. На его сцене блистали Станиславский, Москвин, Лилина, Качалов, Книппер, Германова, Степанова, Тарасова, Массальский и много других корифеев. Сцена эта дарила зрителям возможность созерцать настоящие драматургические шедевры, навсегда оставшиеся в памяти культурной России. И, честно сказать, качество спектаклей при новой технологии сцены никак не улучшилось…
Нас, студентов Школы-студии МХАТ, отправили… ломать старое здание – здание, вызывавшее у меня трепет благоговения! Мы грузили трубы и жесть с крыши, складывали какие-то деревянные балки. Своими глазами я видел во дворе груду списанных костюмов. После этой удручающей работы я проник в зрительный зал, темный и пустой. Я хотел попрощаться с родной сценой, для которой мой папа создал столько потрясающих декораций. Поднялся на ярус, вглядывался в сумрачную тьму и понимал, что прошлого не возвратить. Чистым юношеским голоском я начал петь старинный русский романс “Ночь светла, над рекой тихо светит луна…” Почему этот? Думаю, мне вспомнился Серебряный век и потрясающая музыка старых мхатовских спектаклей.
Много позже мне посчастливилось несколько раз работать на сцене этого великого театра, святыни русской культуры.
Продолжая рассказ о Школе-студии, не могу не вспомнить своих однокурсников, с которыми подружился за годы учебы. Со мной учились очень талантливые ребята, ставшие впоследствии знаменитыми художниками-нонконформистами.
Скажем, братья-близнецы Мироненко, Володя и Сережа, вместе с нашими соучениками Костей Звездочетовым и Андреем Филипповым основали в 1978 году арт-группу “Мухомор”. Они записывали музыку в постмодернистской манере, делали абсурдные перформансы, занимались одновременно и живописью, и фотографией. Их судьбы тоже исковеркала эпоха. Костя Звездочетов родился в лагере, где его достойные родители сидели как враги народа с нашей знакомой, редактором Ириной Цигарелли, рьяной поклонницей Юрия Завадского, подвергшегося сталинским репрессиям по обвинению в… троцкизме. А мама братьев Мироненко, выдающаяся певица Надежда Геловани, попала в немецкий плен и была вынуждена выступать в Вене во время войны.
Другой мой однокурсник, Миша Белкин, стал заведующим постановочной частью в Камерном театре Бориса Покровского. Уроженец Крыма Саша Михайлов стал профессиональным художником в Израиле. Кубинец Мигель Фернандес занял видный пост на Кубе.
Главной модницей на нашем курсе считалась Лена Григорьева, с которой я учился с первого класса. Из 29-й школы она перешла следом за мной в школу рабочей молодежи. А узнав, что я поступаю в Школу-студию МХАТ на постановочный факультет, также последовала моему примеру, благо родители дружили с Авнером Зисем. Это была красивая и талантливая лентяйка, которая занятиям в институте предпочитала стильные вечеринки и набеги на женские туалеты на Кузнецком Мосту, где всегда собирались фарцовщицы. Она и сама была профессиональной фарцовщицей. Ее другом был Юра “Солнышко” Бураков, один из основателей московской системы хиппи, а самой близкой подругой – Катя Маслякова, моя однокашница, эмигрировавшая в США. В детстве Лена жила в Староконюшенном переулке в просторной родительской квартире, одну из стен которой украшал портрет ее бабушки кисти Василия Пукирева.
В те редкие дни, когда Леночка все-таки появлялась на лекциях, все студентки Школы сбегались посмотреть, что же на ней надето. Часто это были недоступные большинству сапоги-казаки, велюровые брюки-бананы, полушубок из овчины… И, заметьте, никакого индпошива и самострока! С гордостью Лена Григорьева заявляла:
– На мне только фирма́ и ничего панского!
Панского означало “польского”. А ведь пределом мечтаний для любой советской модницы являлись вещи именно польского производства. Ну, может быть, еще венгерского и румынского. Лена же предпочитала как минимум Югославию. На каждую сессию она приходила разодетая пуще прежнего и вместо чертежа, рисунка или эскиза предъявляла нашему педагогу по декорационному искусству, Алексею Дмитриевичу Понсову, очередную фантастическую отговорку.
– Алексей Дмитриевич, вы не поверите! Такое произошло! – чуть не плача начинала она. – Когда я делала для вас чертеж, соседка принесла кошку. Кошка прыгнула на стол, махнула хвостом и опрокинула стакан с водой. Вода начисто смыла все, что я тушью успела начертить!
– Леночка, а вы бы мне хоть размытый чертеж показали, – еле сдерживая смех, говорил Алексей Дмитриевич.
– Ну что вы, я его сразу же выбросила! Обязательно сделаю новый!
Это повторялось каждую сессию.
На курс старше нас учился Петя Пастернак, внук прославленного поэта. Этот талантливый и заметный парень невысокого роста со стрижкой “паж” в стиле ренессанс пользовался большим успехом у девушек. Одна из моих подруг, Вера Зоркая, племянница кинокритика Неи Марковны Зоркой, очень тянулась к нему. На курс младше училась Вита Севрюкова – один из самых востребованных и плодовитых современных театральных художников в нашей стране. Долгое время она была главным художником во МХАТе им. Горького, руководимом Татьяной Дорониной. Еще младше – Саша Боровский, сын знаменитого театрального художника Давида Боровского, ныне главный художник МХТ имени Чехова.
Студентом я часто бывал на курсовых экзаменах актерского факультета и на дипломных спектаклях. Одним из самых незабываемых спектаклей моей юности я считаю постановку мюзикла “Моя прекрасная леди”, которую осуществил на сцене Школы-студии Олег Герасимов, наш проректор. Декорации к этой постановке делал талантливый художник Александр Окунь, впоследствии эмигрировавший в США и ставший главным художником в Диснейленде. Мюзикл шел в белых движущихся декорациях с бумажными элементами, герои были в очень правдивых костюмах 1900-х годов. Я был еще школьником, когда увидел в роли Элизы Дулиттл красивую, стройную, прекрасно певшую Наталью Егорову, – теперь она народная артистка РФ и актриса МХАТа. Это был веселый и звонкий спектакль, в котором профессора Хиггинса сыграл Владимир Левашев, Пикеринга – Вася Куприянов, а экономку – Люда Дмитриева. Все участники постановки впоследствии преуспели в профессии, а сам курс Виктора Карловича Монюкова выделился в самостоятельный Новый драматический театр.
Мы очень дружили в студенческие годы с Мариной Голуб, учившейся на параллельном актерском курсе. Жила Марина на Комсомольском проспекте с мамой, артисткой “Москонцерта” Людмилой Голуб, отчимом Григорием Ефимовичем, офицером ГРУ, и бабушкой Анастасией Ивановной. Анастасия Ивановна была простой деревенской женщиной. Каждое утро она будила дочку Люду словами:
– Люд, вот ты все спишь, а Зыкина уж по радиво поет!
Анастасия Ивановна искренне верила, что по радио все идет в прямой трансляции, и если в восемь утра на “Маяке” поет Зыкина, то это она сама стоит перед микрофоном, в то время как ее дочь-лентяйка еще валяется в кровати. Бабушка Марины часто выходила на лавочку перед подъездом, где собирались соседские старушки, и проводила с ними разъяснительные беседы относительно ценообразования гонораров артистов эстрады. Старушки были шокированы величиной заработка Людмилы Голуб, на что Анастасия Ивановна отвечала:
– Ну вот за что артистам деньги плотят? Вот я вам сейчас объясню. Вот ты надень кобеднешное платье, выдь на сцену прям к микрофону и скажи: “Зрасьте, товарищи!” Ну что, выйдешь? Не выйдешь – обосрешься! Вот за это им деньги и плотят.
Этот забавный эпизод часто повторяла сама Марина Голуб.
Благодаря яркой внешности и впечатляющим формам Марина мужским вниманием обделена никогда не была. Однако всех ее ухажеров бабушка безжалостно отваживала. Она выразительно обрисовывала руками женственный силуэт любимой внучки и заявляла растерянному кавалеру:
– Это все колесы, колесы, а ехать-то тут не на чем.
К сожалению, не все мужчины, сраженные Марининой аппетитностью, отличались джентльменским поведением. Один как-то раз даже забежал следом за ней в лифт – как сказали бы в криминальной хронике, с целью совершения насильственных действий. Спасло Марину чувство юмора. Когда маньяк расстегнул ширинку и спустил брюки, она громко расхохоталась и сквозь смех спросила:
– Ты этим собираешься меня насиловать?!
Насильник был посрамлен. Весь его запал моментально пропал. Он выскочил из лифта и кинулся наутек.
В моей памяти сохранилось множество забавных историй, связанных с Мариной. Однажды, придя ко мне домой, она заинтересовалась тумбой карельской березы. А спустя некоторое время в какой-то творческой дискуссии с руководителем своего курса Монюковым сказала:
– Виктор Карлович, вот вы ищите для отрывка буржуйку. А я такую буржуйку из карельской березы видела у Сани Васильева! Он нам наверняка сможет ее одолжить.
Или другая курьезная история. Разбирая на занятии по сценической речи актерские отрывки, моя мама выписала каждому студенту его ошибки. Марина, ознакомившись со списком неточностей в произношении текста роли, осталась недовольна.
– Татьяна Ильинична, а где это я говорю “шоп свеч”?! – возмущенно осведомилась она.
Мама удивилась:
– Какой еще “шоп свеч”, Марина?
– Ну вот же, вы мне сами написали: “шоп свеч”, – не унималась Голуб.
Мама взяла в руки записочку и еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Но быстро взяла себя в руки и объяснила:
– Да не “шоп свеч” тут написано, а mon cher.
Марина была очень заметной и увлекающейся студенткой. В юношеские годы она была страстно влюблена в своего однокурсника, известного актера кино Митю Золотухина. Местом их встреч была гримерка рядом с костюмерной, в которой Марина как-то потеряла в порыве страсти серьгу, а мы так и не смогли ее отыскать.
Окончив Школу-студию МХАТ в 1979 году, Марина блестяще сыграла роль Долли Левай в выпускном спектакле “Hello, Dolly!”. Она так замечательно пела и так великолепно играла, что я посмотрел этот феерический спектакль, кажется, десяток раз. Там было много ярких ролей. Вторую женскую роль играла Оля Шлыкова, а роль забавной старушки – Наташа Храбровицкая, эмигрировавшая в Берлин. А костюмы к этому мюзиклу сделала Танечка, выпускница ТХТУ. Мой папа написал портрет Марины Голуб в одном из ее костюмов для “Hello, Dolly!”.
Однако несмотря на многочисленные таланты, Марина не сразу нашла свое место под солнцем. В труппу Художественного театра ее не взяли. Она пришлась ко двору лишь в театре “Шалом”, где тоже звезд с неба не хватала. Одно время Марина даже пыталась переселиться в Канаду, ближе к своим однокурсникам, но не задалось. Уже в конце 1990-х – начале 2000-х годов ее стали приглашать сниматься в сериалах, рекламных роликах, в кино – сначала в эпизодах, потом в главных ролях. А в 2002 году Марина триумфально вошла во МХАТ, которому самозабвенно служила до своего трагического ухода из жизни.
Учась в Школе-студии, я очень любил посещать бывший филиал Художественного театра, в здании которого сегодня располагается Театр наций, а до 1917 года находился театр Корша. По студенческому билету можно было бесплатно попасть на любой спектакль. Помню знаменитую постановку “Мария Стюарт” с Ангелиной Степановой в роли Елизаветы, королевы Англии, и Людмилой Сухолинской, заменившей Аллу Тарасову в роли Марии. Роль Елизаветы затем прекрасно играла Евгения Ханаева – одна из прославленных однокурсниц моей мамы. Спектакль мне показался скучным, а вот декорации, имитирующие витражи и костюмы эпохи Ренессанса, произвели большое впечатление. Костюмы стражников из этого спектакля до сих пор сохранились в костюмерной МХАТ.
Но мало кто знает, что мне и самому приходилось выходить на мхатовскую сцену в здании театра на Тверском бульваре, прозванном теперь “женским”. Всех учащихся постановочного факультета подрядили изображать юнкеров во втором акте спектакля “Дни Турбиных” во время массовой сцены в Киевской гимназии. В костюмерной мы получали сценические костюмы: шинель, фуражку и сапоги. Поскольку я в то время не отличался крепким телосложением, для меня еле-еле смогли подобрать подходящую по размеру шинель.
От массовки требовалось после слов “Генерал фон Шрат случайно зацепил брюками револьвер и попал себе на голова” закричать: “Не верим! Гетмана давай! Давай гетмана!” На сцене стоял рояль без одной ножки, и, чтобы он не упал, мы его постоянно поддерживали. Один из юнкеров в какой-то момент садился за этот рояль и начинал играть. А остальные пели:
Я не знаю, зачем и кому это нужно, Кто послал их на смерть недрожавшей рукой, Только так беспощадно, так зло и ненужно Опустили их в Вечный Покой.Вот и вся роль. Но каждый спектакль “Дни Турбиных” становился настоящим событием в моей жизни. Я выходил на сцену, преисполненный радости и гордости, с волнением произносил немудреный текст.
Елену Тальберг играла однокурсница моей мамы, актриса Маргарита Юрьева, урожденная Юрге. Она была хороша собой, но в свои пятьдесят лет на роль двадцатичетырехлетней девушки уже не годилась. А меня тогда возмущало, что серое платье, в котором она выходила на сцену, застегивалось на молнию. Никаких молний в конце 1918 года не существовало. Это была типичная ошибка практически всех театральных художников советского времени, создававших костюмы для исторических постановок по современным им лекалам. Но публика была невзыскательная.
Когда на четвертом курсе перед нами встал вопрос о прохождении практики, многие мои однокурсники остановили выбор на разных театрах. Я же, очевидно предчувствуя, что в будущем свяжу свою жизнь с музейным делом, отправился в Дом-музей Станиславского, где мне предложили составить описание коллекции Константина Сергеевича. Мало кто знает, что один из создателей Художественного театра собирал исторические костюмы и в запасниках музея сохранилось немало нарядов его мамы Елизаветы Васильевны: черные платья из бархата броше, доломаны, визитные платья… Еще Станиславский собирал на блошиных рынках старинные вещи, которые могли пригодиться в театре: кокошники, кички, душегреи, часть которых использовалась в спектакле “Снегурочка”… Также в фондах хранилось плиссированное платье-дельфос от Мариано Фортуни, в котором выходила на сцену первая исполнительница роли Молока в спектакле “Синяя птица”. Конечно, в то время я понятия не имел, что такое дельфос. Только в 1984 году в Венеции мне довелось посетить музей Мариано Фортуни, расположенный в палаццо Орфеи, и увидеть его платья-туники – дельфосы, а затем и приобрести несколько в свою коллекцию.
Многолетним сотрудником Дома-музея Станиславского был родной племянник Константина Сергеевича Степан Степанович Балашов, сын его младшей сестры, оперной певицы Марии Сергеевны Алексеевой. Этот невысокий сухонький старичок, проживший почти сто лет, был настоящим хранителем истории рода Алексеевых. При жизни он не дал мне ни одной семейной фотографии. Когда же Степана Степановича не стало, уже в начале 2000-х годов, наследники отнесли в букинистический магазин С. Ляха в Петербурге весь его архив, который я целиком и приобрел.
В доме, где прошли последние семнадцать лет жизни Станиславского, сохранились очарование старины и атмосфера его времени. Губительная реставрация не касалась этих стен. В мою бытность студентом все оставалось как при жизни Константина Сергеевича: и зеркала, и скрипучие половицы, и роспись темперой на потолках, и чехлы на мебели, и даже проводка. Смотрительницами работали старушки – настоящие ровесницы века, каждой лет по восемьдесят. Я был молоденький, хорошенький, увлекался историей театра и обожал слушать их рассказы. Конечно же, они меня за это страшно полюбили. Одна из пожилых смотрительниц, помнится, рассказала, что во времена нэпа “улица красных фонарей” находилась в Москве на Петровских линиях, между Петровкой и Неглинкой. По ее словам, девушки легкого поведения носили яркие платья с заниженной талией по моде 1920-х годов, набросив на плечи бархатные манто с объемными меховыми воротниками. Чтобы подать знак потенциальным клиентам, девушки как бы невзначай отгибали полу своего манто, демонстрируя цветочную аппликацию на подкладке.
В мои обязанности входило описание и каталогизация коллекции исторического костюма из фондов музея. Подписи я делал от руки – почему-то в музее в ту пору не нашлось даже пишущей машинки. Съемкой коллекции занимался главный фотограф Московского Художественного театра Игорь Абрамович Александров, часто бывавший у своих родственников в Париже. За неимением мужского манекена какие-то вещи он фотографировал прямо на мне.
Затем мне пришла в голову идея создания в стенах Дома-музея Станиславского выставки под названием “От коллекции к спектаклю”. В экспозиции были представлены костюмы и эскизы к таким спектаклям, как “Горе от ума”, “Снегурочка”, “Царь Федор”, “Месяц в деревне”… Кстати, я даже пополнил коллекцию музея реквизитом из “Месяца в деревне”. Это была хранившаяся в костюмерной Школы-студии кожаная коробка для журналов, вышитая гарусом по канве. Ее уже собирались списать в утиль и сжечь. Но я не дал этого сделать. Все это сохранялось благодаря многолетнему директору музея, актеру Владлену Давыдову, также соученику моей мамы.
В Доме Станиславского я провел незабываемый год жизни, узнал много нового по истории костюма. Выяснил, что такое сантюр, корсаж, лиф, разоре, гродетур, гроденапль… Я вообще этих слов раньше не слышал. На базе коллекции из запасников Дома-музея Станиславского я написал дипломную работу, которая называлась “Русский интерьер в спектаклях, оформленных Мстиславом Добужинским на сцене МХАТ”. Я анализировал такие постановки, как “Месяц в деревне”, “Нахлебник” и “Где тонко, там и рвется”.
Научным руководителем моего диплома стала искусствовед Флора Яковлевна Сыркина, вдова художника Александра Тышлера. С Тышлером близко дружил мой папа, поэтому я бывал на всех его вернисажах и всегда восторгался портретами дам, у которых на головах вместо шляп красовались скворечники, самовары, карусели, крепости и даже целые города.
Именно умнейшая Флора Яковлевна дала мне первый урок по самопиару. Когда я приходил в ее огромную квартиру на Тверской, обставленную мебелью красного дерева, она, облаченная в длинный пеньюар с леопардовым принтом, меня встречала словами:
– Садись за стол и читай вслух, что ты написал.
Я начинал:
– В ходе моих исследований мне удалось…
Флора Яковлевна обрывала меня на полуслове:
– Все не так! Слушай, как надо. – И она продолжала по-своему: – В результате многих месяцев титанических усилий, напряженной учебы и работы мне удалось совершить уникальное открытие…
В мою сдержанную речь она вставляла такие эпитеты и обороты, которые заставляли окружающих взглянуть на меня совсем другими глазами. И она была права! Если усилия, то титанические. Если учеба, то напряженная. А если открытие, то уж точно уникальное!
Диплом я защитил на “отлично”, несмотря на то что не сумел ответить на каверзный вопрос председателя экзаменационной комиссии искусствоведа Милицы Николаевны Пожарской. Она спросила:
– Кто в 1898 году поставлял в МХТ живые цветы?
Имени поставщика я не знал. Но кто бы мог тогда подумать, что Бог пошлет мне в Париже встречу и сотрудничество с сыном Мстислава Добужинского Ростиславом Мстиславовичем! Прочитав мою дипломную работу, он признался, что лучше о спектаклях его отца никто никогда не писал.
Уже получая персональную стипендию имени К.С. Станиславского, я закончил учебу в Школе-студии МХАТ декорациями и костюмами к дипломному спектаклю по пьесе Роберта Болта “Виват, Королева, виват!” в постановке Анны Михайловны Комоловой. Главные роли в нем исполняли Диана Рахимова, Наташа Царева, Александр Балуев и Павел Каплевич. Это был курс замечательного педагога Ивана Михайловича Тарханова. О том, чтобы изготовить самому костюмы XVI века, не было и речи. Пришлось подбирать в костюмерной МХАТа. Предоставить вещи из спектакля “Мария Стюарт” мне наотрез отказались, потому что он еще фигурировал в репертуаре театра. Но зато я отыскал списанные мужские колеты работы Александра Бенуа из спектакля “Скупой рыцарь” в постановке Станиславского 1912 года и костюмы по эскизам Вадима Рындина для шекспировской “Зимней сказки” постановке Михаила Кедрова 1958 года. Этого мне хватило, чтобы нарядить всех персонажей дипломного спектакля.
Из надувного круга для бассейна я изготовил вертюгаден, который носила на бедрах королева Елизавета. В XVI веке этот округлый валик, позволявший юбке держать форму, набивали опилками и морской травой. При виде моего изобретения молодая и талантливая Диана Рахимова заупрямилась.
– Я не выйду на сцену с кругом на талии! – решительно заявила она. – Это ужасно!
– Еще как выйдешь! – возразил я и буквально силой натянул на Диану спасательный круг, а сверху надел платье.
Как же она меня потом благодарила! За то, что образ создал. За опору для локтей. Посмотрев успешную сдачу спектакля, мой педагог по истории костюма Ирина Ипполитовна Малыгина вынесла свой вердикт:
– У меня нет замечаний, ты все хорошо сделал. Но убери все эти украшения с бутафорскими бриллиантами: тогда их не было.
Увы, ей было невдомек, что огранка алмазов в бриллианты, так называемая “антверпенская роза”, датируется еще концом XV века и возникла сразу после изгнания евреев из Испании.
Слово учителя – закон. Конечно, я тут же снял с Королевы все украшения. И лишь спустя время узнал, что небольшие бриллианты из Голконды уже в XIII веке стали появляться на инкрустированных регалиях власти европейских королей. А в эпоху Елизаветы Английской носили украшения с алмазами. Но тогда мне и в голову не пришло ставить под сомнение слова профессора. Как было приятно дебютировать в 1980 году в роли художника профессионального спектакля!
Но все это дела давно минувших дней. Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что своим успехом я обязан Школе-студии МХАТ. Только благодаря глубоким теоретическим и практическим знаниям, полученным в ее стенах, я в свои двадцать четыре года сумел устроиться на работу в лучшую парижскую школу моды Esmod. Потому что знал больше, чем мои французские коллеги. Ведь у меня была возможность перенимать опыт у выдающихся театральных художников, работать с уникальным наследием старого МХАТа и познакомиться с техникой пошивочных мастерских дореволюционной России. Ну где бы еще я узнал, что такое “роспись фунтиком”? Теперь-то никому и в голову не приходит, что все вышивки в театре имитировались специальной клейкой массой, наподобие клея ПВА, которая продавалась в театральных магазинах расфасованная по пузырькам. Эта субстанция имела несколько оттенков: белый, зеленый, красный; к ним можно было добавить золотой или серебряный порошок. Полученную смесь заливали в маленький фунтик, сделанный из целлофана, проделывали крошечное отверстие в уголке и выдавливали на ткань любой орнамент, который застывал, не растекаясь. Очень кропотливая работа! В каждом театре обязательно имелся специалист по росписи фунтиком.
А важным человеком в театре считалась красильщица. Совершенно утраченная сегодня профессия. Красильщица подбирала цвет, чтобы попасть в тон эскиза. Если художник требовал особый оттенок розового, которого в продаже не находилось, ничего не оставалось, как взять похожую светлую ткань и покрасить. Красильщиц называли детьми подземелья. Ведь они весь рабочий день проводили в подвальном помещении с тусклым освещением, где в огромных чанах кипели и бурлили химикаты. От испарений у них были красные лица и изуродованные руки, потому что приходилось нырять в кипящие чаны без перчаток. Такая красильщица имелась в Большом театре, во МХАТе… Я сам в западных театрах неоднократно использовал прием покраски ткани, за что меня нещадно критиковали:
– Вы что, не знаете, что анилин запрещен, потому что он экологически вреден?!
Тогда приходилось заниматься покраской тайком, в гостинице или на съемной квартире. Я брал кастрюльку, кипятил в краске ткань, просушивал и приносил в театр.
К сожалению, сегодня эти уникальные театральные ремесла по росписи ткани ушли в небытие.
А однажды нас, студентов постановочного факультета, погнали в мастерские Большого театра расписывать декорации к спектаклю “Бал-маскарад”, которые создал Николай Александрович Бенуа. Это был беспрецедентный в истории советского театра случай, когда художника из “Ла Скала” пригласили в Большой театр. В мастерской нам показали, как, расчертив на метровые квадраты огромный задник сцены, переносить на него угольком на длинной палке рисунок с эскиза. Мы научились и этой премудрости! И когда во время работы над спектаклем “Дон Кихот” для Национального балета Португалии мне пришлось уже самому расписывать задник сцены, я использовал именно эту методику.
Кстати, во время практики в Большом театре судьба занесла меня на Петровку в монастырь, где находился один из филиалов мастерских по пошиву концертных костюмов. Именно там я встретился со знаменитой певицей Людмилой Зыкиной, которая произвела на меня огромное впечатление. Она вышла из мастерской после примерки концертного платья, но одета была совершенно по-западному. Она была в костюме-двойке из шерстяного джерси ярко-красного, томатного оттенка. Ее темные волосы были зачесаны в форму высокой халы. Зыкина села за руль новенькой вишневой девятки и, посмотрев на меня с интересом, на большой скорости умчалась прочь. Помнится, я подумал: “Какая современная женщина, и насколько ложно представление народа о ее русском образе!”
Школа-студия МХАТ научила меня всему. В какой бы стране мира мне ни доводилось потом оформлять спектакли, а я их оформил около ста двадцати, никакие трудности не могли застать меня врасплох. Школа!
Первая любовь и эмиграция
В Москве у меня могла сложиться великолепная карьера, которую мне обеспечили бы родители, – все-таки я был сыном народного художника РСФСР и профессора Школы-студии МХАТ. Мама видела меня театральным художником, и я, отучившись на постановочном факультете, даже начал сотрудничать с модным тогда Театром на Малой Бронной, которым руководил Александр Дунаев и где одним из очередных режиссеров был знаменитый Анатолий Эфрос.
Мы с отцом работали на дунаевской постановке пьесы “Волки и овцы”. Папа занимался декорациями, а мне поручил эскизы костюмов. И если вы думаете, что я получал поблажки от него, вы глубоко заблуждаетесь. Папа был очень строг и все мои действия подвергал бесконечной критике. То и дело я слышал: “Карман ниже! Пуговицы меньше! Кантик шире! Ты столько книг накупил, такую коллекцию собрал – и не умеешь нарисовать нормальный кантик?! Как ты можешь допускать такие ошибки?! Переделывай!” Сыном я был дома, а в театре – рядовым сотрудником, которого по головке никто не гладил.
Труппа Театра на Малой Бронной была разделена на два лагеря: одну часть артистов занимал в своих постановках Эфрос, другую – Дунаев. Как будто два совершенно разных театра соседствовали друг с другом под одной крышей. И если Эфроса уже при жизни называли гением, то Дунаева считали просто хорошим крепким режиссером, работавшим в традиционной, классической манере.
Бесспорной примой театра была Ольга Михайловна Яковлева, которая в 1967 году вслед за Эфросом перешла в труппу из “Ленкома”. Играла она настолько талантливо, органично и проникновенно, что полностью оправдывала положение первой актрисы. Зрители шли на Ольгу Яковлеву. Я видел не один спектакль с ее участием: “Отелло”, “Три сестры”, “Месяц в деревне”… И каждый раз у публики в зале на глазах стояли слезы. Но в театре завоевать расположение Ольги Яковлевой было невозможно. О крутом ее нраве ходили легенды. Во время подготовки спектакля “Месяц в деревне” Ольга Михайловна, недовольная работой заведующей костюмерной частью Коротковой, в ярости на две части разорвала сшитое для нее платье со словами:
– Вы плохой костюмер!
Та не растерялась и ответила:
– А вы плохая актриса.
Яковлева была очень стильной и стройной дамой и благодаря замужеству с известным футболистом Игорем Нетто обладала эффектным “заграничным” гардеробом. Как сейчас вижу ее на вершине лестницы в театре, одетую во что-то темно-зеленое и леопардовое, окруженную стайкой молодых актрис, словно императрица своими фрейлинами…
Мне повезло: посмотрев “Волки и овцы”, актриса обратила на меня свое царственное внимание. Однажды она даже приехала к нам на Фрунзенскую, чтобы увидеть мою коллекцию старинных платьев и фотографий. Эфрос в то время как раз ставил спектакль “Три сестры”, костюмы и декорации к которому создавал друг и протеже моего отца художник Валерий Яковлевич Левенталь. Узнав, что Яковлева была у меня дома, он страшно приревновал. Встретив меня во дворике театра, Левенталь процедил:
– Мы уж как-нибудь обойдемся без ваших знаний…
Помнится, я очень удивился, откуда у признанного мэтра такая ревность по отношению к бывшему студенту.
В костюмах Ольга Яковлева толк знала и тщательно следила за деталями своих сценических образов. Позднее, когда в 1980-е годы Ольга Яковлева окажется в Париже и проведет там несколько лет, мы с ней подружимся и станем много ближе.
Главную роль помещицы Купавиной в спектакле “Волки и овцы” играла другая ведущая актриса Театра на Малой Бронной – Анна Антоненко-Луконина, которая была женой знаменитого советского поэта Михаила Луконина. Этим обстоятельством она очень гордилась и регулярно напоминала, что именем мужа еще при его жизни назвали пароход. Еще одна главная роль Глафиры досталась Ольге Остроумовой, чье имя тогда гремело благодаря фильму “А зори здесь тихие”. Остроумова в работе была очень мила и предупредительна, а Антоненко-Луконина постоянно требовала, чтобы я сделал ей костюм, в котором она казалась бы стройнее и моложе. Перед каждым спектаклем она по-балетному густо, на манер Джины Лоллобриджиды, подводила глаза – получались настоящие рельсы, белилами дорисовывала объем глазному яблоку, клеила длинные закрученные ресницы, надевала парик с буклями из натуральных волос шатенки и, чтобы нос из зрительного зала казался изящней и короче, снизу его румянила. Выразительный грим Антоненко-Лукониной позволял зрителям даже из последнего ряда разглядеть каждую черточку ее лица.
Костюмы по моим эскизам шились в ателье “Москонцерта”, расположенном тогда в высотном доме на Котельнической набережной. Несмотря на то что ткань закупили самого ужасного качества – дешевый вискозный атлас и хлопчатобумажный бархат, – костюмы получились на славу, просто загляденье. Оценить их я пригласил Марию Николаевну Мерцалову, которая для меня была главным судьей. Посмотрев спектакль, она сказала:
– Великолепные костюмы! Я засмотрелась на платье помещицы Купавиной с бантиками и полосочками! Сама всегда мечтала о таком!
Работая в Театре на Малой Бронной, я услышал одну парадоксальную историю, к которой и сам позднее оказался причастен. В конце 1970-х во время туристической поездки работников этого театра в Португалию и Францию артист Александр Курепов, оказавшись в Париже, попросил политического убежища. Он был, как и я, выпускником Школы-студии МХАТ по курсу Софьи Станиславовны Пилявской – сын и брат цирковых клоунов, желавший покорить мир. В театре он играл мало, на Малой Бронной у него была эпизодическая роль в спектакле “Покровские ворота”, где он катался по сцене на роликовых коньках. И все же о Саше было кому переживать: в труппе играла его гражданская жена, прехорошенькая молодая актриса, которую он не взял с собой. Еще в Москве оставались сын и первая жена Курепова – и вдруг такой, подобный нуриевскому, прыжок в неизвестность. Конечно, замена в спектаклях Саше тут же нашлась, но коллеги тайком обсуждали парижскую судьбу беглеца. Многим в ту пору мечталось увидеть мир, сыграть на европейской сцене. Курепову это удалось. После долгих мытарств он по протекции французской актрисы русского происхождения Натали Нерваль попал в труппу “Комеди Франсез” и вскоре обзавелся псевдонимом Александр Арбат. В Париже Саша встретил и свою новую любовь, высокую парижанку с золотым сердцем, эффектную блондинку Светлану Самсонову, переводчицу. Она так полюбила своего русского мужа, что родила ему двух дочерей – Таню и Алену, а еще двух – Александру и Наташу Вотран, дочерей ее погибшей в автокатастрофе сестры, – удочерила. Саша Курепов – не только отец большого семейства, но и организатор парижской драматической школы по системе К.С. Станиславского, которая называется “Школа Арбат”.
Именно Саша Курепов даст мне в Париже работу преподавателя истории моды в этой небольшой драматической школе, и только лишь потому, что я оформлял костюмы к спектаклю “Волки и овцы” в его любимом Театре на Малой Бронной! Ну и еще, наверное, потому, что у нас с ним общая альма-матер, Школа-студия МХАТ…
Судьба и в дальнейшем была благосклонна к Александру Арбату-Курепову. Снявшись в нескольких французских кинофильмах, он получил главную роль в триллере “Диагональ слона” (1984), ленте о беглом советском шахматисте. Роль эту он сыграл великолепно, не потерявшись в грандиозном актерском составе: в фильме снимались Мишель Пиколли, Лив Ульман, Лесли Карон. Фильм получил во Франции несколько наград, и лицо беглого московского актера украшало многие афиши Парижа. И окончательный триумф – “Диагональ слона” награжден в Голливуде премией “Оскар” как лучший иностранный фильм.
Семье Куреповых и Самсоновых – мой низкий поклон! Они сыграют огромную роль в моей парижской карьере, в становлении как популярного театрального художника и модной медиаперсоны.
Но вернемся в Москву, в Театр на Малой Бронной. В ту же пору я начал в качестве художника-постановщика работать в кино. Катя Гердт, дочь актера Зиновия Гердта, окончившая режиссерский факультет ВГИКа, пригласила меня оформить свой дебютный короткометражный фильм под названием “Любовное письмо лорда Байрона” по пьесе Теннесси Уильямса. В центре сюжета была некая старая дева, хранившая у себя в комоде любовное письмо от Байрона, адресованное ее бабушке. Действие происходило в Новом Орлеане. От меня требовалось создать два костюма и американский интерьер начала XX века. Интерьер я оформил, принеся из дома множество удивительных старинных вещей из своей коллекции. Вещи эти привели Катю Гердт в восторг, так что сегодня меня вовсе не удивляет, что она стала владелицей интерьерного салона в винтажном стиле, который разместился в некогда любимом нашей семьей овощном магазине на Фрунзенской набережной недалеко от нашего дома.
Планов и перспектив было множество. Я учился в аспирантуре Академии художеств, работал с Александром Дунаевым над постановкой “Бесприданницы” в театре Комсомольска-на-Амуре, где познакомился с режиссером Ефимом Звеняцким и старой актрисой театра Михоэлса Раисой Шаховской, коллегой Этель Ковенской. Получил предложение от молодого режиссера Михаила Цитриняка оформить спектакль “Сказки старого дома” и от собственного дяди Петра Павловича Васильева, предложившего мне сделать костюмы к пьесе Островского “Бедность – не порок” в Саратовском ТЮЗе и для Аллы Азариной.
К тому же мое имя часто появлялось в прессе, что для советского времени было почти беспрецедентно: тогда на страницах газет практически не писали об отдельных личностях. Вот о школе, отряде, классе, любом другом коллективе – пожалуйста. А тут… В “Московском комсомольце” вышла статья Анны Малышевой, дочери моего частного педагога из МГУ по русской литературе Любови Михайловны Малышевой, под названием “Эпоха в шкатулке”, посвященная собранной мной коллекции старины. Расширенный вариант этого материала с фотографиями под заголовком “Никуда не деться от Сани Васильева” был опубликован в журнале “Юность”. После этих публикаций обо мне даже сняли для болгарского телевидения документальный фильм. Словом, будущее сулило только благополучие, востребованность и возможности, от которых так не хотелось отказываться. И все-таки пришлось все бросить и уехать во Францию. Главной причиной тому стала любовь. Как говорят французы, cherchez la femme.
Я без памяти влюбился в обаятельную и талантливую юную художницу Машу Лаврову, по отцу Ященко. Познакомились мы в школе № 127, где Маша училась на два класса младше меня. Едва увидев ее, я понял: эта девушка лучше всех на свете. Роман закрутил нас, как в вихре. Мы не могли наговориться, не могли надышаться друг на друга. Дневные долгие прогулки, путешествие по городам Золотого кольца, по старинным усадьбам Подмосковья, в Литву, в Латвию и в Эстонию – все было незабываемо и неповторимо. Все впервые: первое объятие, первый поцелуй, первая близость…
В школе Машу называли парижанкой, ведь с двенадцати до пятнадцати лет она жила в столице Франции, куда отправили работать ее отца Олега Ященко – сотрудника Министерства внешней торговли. Машина мама Инна Лаврова работала при посольстве переводчиком с французского языка. Во время строительства нового здания посольства она была прикреплена к главному архитектору, каталонцу Ги Торрану. Француз по уши влюбился в свою переводчицу, и она… ответила ему взаимностью. Жить со своим мужем Олегом Инна больше не могла. Впрочем, он к тому времени тоже закрутил роман с собственной секретаршей. Расстались, можно сказать, друзьями. В школе при посольстве, где училась Маша, было только восемь классов, и, чтобы получить аттестат, ей нужно было съездить доучиться в Москву. В московской французской школе дела не заладились, надо было куда-то переходить. Куда? Ну разумеется, в ту самую знаменитую 127-ю школу рабочей молодежи, где доучивались до аттестата многие дети творческих родителей. Но бабушке Машины документы отдавать отказались, пришлось на три дня прилететь из Парижа маме. То есть это Инна Лаврова думала, что на три дня… В день маминого отъезда выслали из Парижа Машиного отца и ее младшую сестру Катю – и всё, мышеловка захлопнулась. Началась многолетняя борьба за счастье, за право воссоединиться с любимым человеком.
21 декабря 1981 года Инна Лаврова объявила голодовку, которая продолжалась тридцать восемь дней. Она требовала разрешения на заключение брака с иностранцем. Однако в эпоху Брежнева связать свою жизнь с иностранцем нашим соотечественникам было крайне тяжело. Брак с иноземцем?! Как такое возможно?! Ни в коем случае… если, конечно, ты не соглашался сразу сотрудничать с соответствующими органами. Но Ги Торран, каталонец из Перпиньяна, оказался человеком упрямым. Большими трудами и финансовыми вложениями он все-таки добился разрешения жениться на русской женщине, а впоследствии – и того, чтобы ее выпустили из СССР. Этой цели ему удалось достичь ни больше ни меньше как через тогдашнего президента Франции Франсуа Миттерана, с которым Торран вместе учился и который в то время прибыл в СССР для подписания договора о поставках газа из Советского Союза во Францию – речь шла о газопроводе из Уфы, называвшемся “Газодюк”. И вот, как рассказывают, в беседе со всемогущим правителем Леонидом Брежневым французский президент сказал: “Я ратифицирую договор на строительство газопровода только в случае, если вы дадите возможность трем советским женщинам воссоединиться с французами”. Одна из этих дам жила в Киеве, вторая в Сочи, а третья – мать моей возлюбленной Маши – в Москве. И генсек неожиданно дал добро. Вот таким образом наши женщины были обменяны на газопровод. И в один день, буквально в двадцать четыре часа, Ги Торрана впустили в Москву, позволили зарегистрировать брак с Инной Лавровой и, более того, сразу разрешили им и двум их дочерям вылететь в Париж. Это случилось в феврале 1982 года.
Пока Инна билась словно рыба об лед с непобедимой системой, Маша училась в нашей любимой школе, выгуливала роскошного колли по кличке Гийом и почти ежедневно занималась живописью и рисунком. Ее тяга к живописи была генетической – она приходится родственницей художнику Московского Художественного театра Владимиру Егорову, создавшему незабываемое оформление к спектаклю 1908 года “Синяя птица”.
Я ухаживал за ней не так, как обычно ухаживают за девушками. Вместо цветов дарил булочки “Калорийные” по 10 копеек, а свидания мы назначали у метро “Кропоткинская”, откуда с обоюдной радостью начинали обход помоек. Маша и я с большим азартом рылись в мусорных баках и вокруг них и радовались каждой находке, которая могла стать частью моей коллекции.
Из каждой своей поездки – будь то Варшава или Братислава – я писал Маше письма, которые она сохранила и спустя годы передала мне их копии. С радостью привожу на этих страницах строки, написанные мной около сорока лет назад:
25.05.80
Моя милая, дорогая, маленькая девочка! Пишу тебе из Кракова. Краков – очень большой, но мне не очень нравится. Несмотря на то что он очень старинный, он весь по цвету в стиле немецкой оккупации. Но одно очень интересно для тебя, что все камни мостовой только сиреневые и фиолетовые. Я говорю все время по-польски, и даже в музее мне не верят, что я не есть поляк, что мой акцент есть хороший. Пока всё. Помню тебя каждый день, утром, днем и вечером. А ночью я сплю. Люблю тебя очень, целую крепко. Будь счастливой.
10.07.80
Ко мне в комнату залетела ночная бабочка, она бьется вокруг лампы, потом затихает. Я не один. Не могу отделаться от мысли о тебе. Всегда, когда вечер и я предоставлен самому себе. Что ты сейчас делаешь? Наверное, не читаешь, а просто спишь, как и в прошлом году в это время, только не так…
Вчера из-за маминого дня рождения так закрутился, что послал поздравление с праздником лишь сегодня. Но ты простишь!
Завтра, вернее уже сегодня, твой день рождения. Время идет, и с этим тоже я тебя поздравляю, моя деточка. Как с тобой уверенно, как хорошо можно себя чувствовать, когда ты рядом. Обязательно напиши мне о своем быте и “культурных” новостях. Это все для меня интересно. Не грусти только, не скучай!
Вечер. Сегодня ты уехала, я еще был с тобой рядом, а теперь один. Все совсем недавно, сейчас. Уже поздно. Сейчас думаю о тебе, потому что один, потому что свободен от дел, потому что есть время подумать хоть немного времени о тебе, только о тебе.
Мне хорошо с тобой, я так серьезнее, могу многое решать и выбирать. Какое счастье, чтобы ты была здесь и у меня рядом, дома мы бы сидели рядом, смотрели друг на друга. Увы, это иллюзии. Возможно, в августе, когда мои родители уедут, это станет правдой. Что мечтать!
Мне блаженно сейчас, когда я могу быть с тобой наедине, когда я чувствую тебя, моя нежная, милая, родная. Только ты не обмани меня! Будет очень горько!
Мое сердце, радость, счастье! Где ты? Что ты делаешь теперь? Будем нежными, добрыми, хорошими. Когда-нибудь. Ну, вот и всё. Пора спать. Нельзя так волноваться. Думаю о тебе, моя. Целую сейчас. Еще напишу завтра. Это такое счастье – думать о тебе!
Вдвоем мы совершили несколько прекрасных романтических путешествий к Балтийскому морю. Побывали в Юрмале, Паланге, Кясму. Кясму – это небольшой поселок в Эстонии, расположенный на берегу моря и знаменитый своими пляжами с песком сиреневого цвета. Во времена моей юности это местечко облюбовали московские интеллектуалы. К примеру, в Кясму каждое лето проводила Анастасия Цветаева, с которой я там и познакомился. Это была невысокая старушка в очень выцветшем сером пыльнике образца 1950 года, небольшой шляпке и довольно стоптанной обуви. Она всегда шагала в сторону пляжа в окружении своих московских почитательниц – близких ей по возрасту дам. Среди других персонажей этого местечка я вспоминаю московского поэта Андрея Монастырского.
Во время наших с Машей поездок я сорил деньгами направо и налево и под конец поездки оставался без копейки в кармане. Сегодня я бы отправился к ближайшему банкомату и снял необходимую сумму. Но на дворе стоял 1981 год, банкоматов и кредитных карт не существовало даже в Эстонии, где мы в конце концов оказались, поэтому нам не оставалось ничего иного, как сдавать во вторсырье собранные на дороге бутылки. На вырученные за стеклотару деньги была куплена огромная головка эстонского сыра. Предвкушая сытный обед, мы попробовали по кусочку и тут же выплюнули: сыр оказался невероятно соленым. Есть его было невозможно. Тогда мы пошли на маленькую хитрость. Нашли свободный прилавок на местном рынке, разрезали сыр пополам, и Маша, повязав голову косынкой, расхваливала сыр по-французски и лихо продала каждую часть по цене целой головки.
Мы мечтали пожениться, иметь детей и уехать в Париж, в который я влюбился заочно, по Машиным рассказам. Маша, не стану скрывать, страшно не нравилась моей маме. Мама знала, что Маша уедет во Францию, и боялась меня потерять. Но родители всегда хотели мне счастья и потому говорили только одно: “Там мы не сможем тебе так помочь, как здесь”. Они считали, что я выбираю более сложный, но и более интересный путь в жизни, который они никогда бы не сумели мне обеспечить. Это сейчас за деньги можно любого ребенка отправить учится в Швейцарию, в Англию, во Францию или в Америку, можно купить дом или квартиру хоть в Лондоне, хоть в Лозанне… А тогда мы жили в другой стране. При всей, не скрою, обеспеченности моих родителей они не могли даже представить покупку жилья за границей, потому что такой возможности просто не существовало в природе. Вот почему родители мои понимали, что, если я уеду из страны, они ничем не смогут мне помочь.
Но мы с Машей не сдавались. В Советском Союзе получить разрешение на выезд было практически невозможно. Даже в турпоездку вдвоем бы нас никто не выпустил. Дабы ускорить процесс выезда, я помог своей девушке познакомиться с англичанином Ричардом Пойндером, филологом-славистом, и инициировал заключение их брака. Покупал ей свадебное платье у Наташи Огай, смотрел из такси на улице Горького, как жених и невеста отправляются в обществе лучшей Машиной подруги, красивой художницы Оли Мелемед, ужинать в “Интурист”. Плакал от бессилия и злости.
Но и сам не терял времени даром – искал возможность жениться на француженке. Иного шанса попасть в Париж в эпоху брежневского застоя не было. Как это осуществить, я не представлял. Понимал одно: только в этом моя надежда, мое спасение… Любовь прощает все! Я собирался идти вслед за своей любовью, а это было не просто трудно – практически нереально.
Будучи тогда студентом четвертого курса, я проходил практику в прекрасном и очень атмосферном Доме-музее Станиславского. И вот как-то раз зимой, в понедельник, проходя через прихожую, я увидел, как некая женщина в элегантной дубленке ломится в закрытую дверь. “Кто же это такой настойчивый? – пронеслось в голове. – Ведь каждый знает, что музеи по понедельникам закрыты”. Я отпер дверь. На пороге стояла девушка.
– Приходите, пожалуйста, завтра, – вежливо сказал я. – Сегодня музей не работает.
Нежданная гостья огорчилась и на ломаном русском языке произнесла:
– Как жалко, я скоро улетаю во Францию…
– Во Францию?! – оживился я. – Вы-то мне как раз и нужны! Как вас зовут?
– Мари-Лор.
– Чем вы занимаетесь в Москве?
– Изучаю русский язык в университете.
– Скажите, Мари-Лор, а есть ли у вас подруги-француженки?
– Есть, и много!
– Дайте тогда ваш телефончик.
На следующий день я встретился с Мари-Лор и ее подругами. Я был стройным, обаятельным, модно одетым и состоятельным юношей. Молодым француженкам было приятно познакомиться с русским, который мог достать билеты в Большой театр, пригласить в ресторан, прокатить в такси, с которым можно было посмеяться и поговорить по-французски. К тому времени я с максимальной интенсивностью посещал курсы французского языка с погружением в языковую среду. С самого первого занятия мы говорили только по-французски, разыгрывали бытовые примитивные сценки на тему “встреча в магазине” или “встреча в поезде”. Помнится, для меня стало откровением, что многие слова, которые мы ежедневно употребляем, пришли из французского языка: пиджак, жакет, жилет, этаж, суп, маршрут, аэропорт, колье, макияж, лампа, панталоны… и масса других. Кстати, вместе со мной эти курсы посещала и Людмила Черновская, и знаменитый композитор Александр Зацепин, также готовившийся уехать во Францию.
Своих новых французских приятельниц я приглашал к себе домой, показывал коллекцию старинных костюмов – она была небольшая, но уже существовала. Девушки примеряли наряды и фотографировались, а я изображал старинного фотографа со штативом. Каждая из них была по-своему хороша. Но больше всего мне симпатизировала Анна Мишелина Жанна Бодимон. Милейшее и очень привлекательное создание, она изучала в МГУ русский язык.
У нас с Анной были честные отношения. В костюмерной Школы-студии МХАТ, сидя на мешке со старинной обувью из спектакля “Пиквикский клуб”, я сказал:
– Анна, выходи за меня замуж, увези меня с собой во Францию.
– Хорошо, я тебе помогу, – ответила Анна. – Таким людям, как ты, здесь нет места. А во Франции ты можешь расцвести и кем-то стать…
Общение с иностранками не прошло мимо всевидящего ока КГБ. За мной начали шпионить. Собственно, выслеживал меня все время один и тот же молодой человек весьма приметной, я бы сказал, кавказской наружности, который неоднократно попадался мне на глаза то в метро, то на улице. Звонок из органов не заставил себя ждать. Мне была назначена встреча на нейтральной территории, а именно перед зданием ТАСС на Тверском бульваре.
– Как я вас узнаю? – спросил я, стараясь заставить свой голос не дрожать.
– Не волнуйтесь, я сам вас узнаю.
Конечно же, это оказался тот самый человек, который всюду таскался за нашей французской компанией. Он развернул перед моим носом корочки Комитета государственной безопасности и тут же снова спрятал их в нагрудный карман. Я мельком увидел печать и блеклое фото, но не успел различить ни единого слова. Фамилию он не сказал, представился Давидом.
– В записной книжке одного испанского дипломата мы нашли номер вашего телефона, – сообщил мой топтун. – Нам известно, что этот испанец является членом франкистской фашистской организации.
В гостях у английского журналиста и переводчика Питера Темпеста, с детьми которого, Джейн и Ричардом, я дружил, так как мы учились в одной школе, мне действительно довелось познакомиться с каким-то испанцем. Вообще, компании в этом доме собирались интернациональные и я раздавал свой телефон налево и направо, не видя в этом ничего предосудительного. Но нужно было что-то отвечать.
– Послушайте, я видел-то его от силы семь минут. Никаких разговоров о политике мы не вели, и я не могу знать, в какой организации он состоит. А в чем, собственно, дело?
– Мы бы хотели, чтобы вы с ним почаще встречались.
– Некогда мне с ним встречаться, у меня преддипломная практика, – попытался выкрутиться я.
– Но это дело государственной важности.
– А отметки кто будет мне ставить в диплом?
– Мы все организуем!
– Знаете, я предпочитаю жить своим трудом. Дайте мне подумать и позвоните через месяц.
Ровно через месяц в квартире раздался звонок, за которым последовал вопрос:
– Ну, что вы решили?
– У меня дипломный экзамен, совсем нет времени с вами говорить! – выпалил я и положил трубку.
Прошло время, прежде чем мне опять позвонили. Мы снова условились о встрече. На этот раз мой соглядатай подъехал на “жигулях” и предложил прокатиться вокруг Манежной площади. В машине он спросил:
– Каково ваше решение?
– Знаете, я совершенно не умею держать язык за зубами. Я такой болтун, что не справлюсь с этой работой и обязательно выдам себя, поэтому решил вам отказать.
– Вы не боитесь, что у ваших родителей могут возникнуть из-за вас проблемы по службе? – попытался напугать меня он.
– Это шантаж!
– А того, что ваши планы жениться на француженке будут нарушены, вы тоже не боитесь?
– Воля ваша, – ответил я. – Но сотрудничать с вами я не стану.
Конечно, мне стали чинить препоны. Когда я подавал в загс необходимые документы, мне без конца указывали на ошибки, которые затягивали весь процесс. То подпись не та, то фамилия переведена неверно… Продолжаться эта волокита могла бесконечно. И я решил пойти другим путем. Я располагал некоторой суммой франков, на что как жених француженки имел законное право, и с ними я бегал в валютный магазин “Березка”, куда пускали только иностранцев. На входе я предъявлял проездной парижского метро – оранжевую карточку, на которую наклеил свою фотографию. В “Березке”, как, впрочем, и в других местах, мою липовую ксиву без тени сомнения принимали за удостоверение личности. Еще бы, ведь одет я был всегда с иголочки и вполне сносно изъяснялся на французском языке… Я покупал, например, духи Chanel и относил их в бюро переводов.
– Что вы, не надо, – говорили мне.
А я отвечал:
– Надо, потому что перевод документов мне необходим завтра.
За взятки советская чиновничья машина работала как отлаженный механизм. Она и сейчас так работает.
В конце концов нас с Анной расписали в Грибоедовском загсе. Потом был ужин в ресторане “Самарканд” на Неглинке. На свадьбу приехала вся семья Анны: мама – прокурор, папа – фабрикант и тетя, владелица старинного винодельческого хозяйства в Бордо. А с ними и две Аннины закадычные подруги – англичанка и немка. После регистрации брака Анна уехала во Францию и вскоре прислала мне приглашение.
Но меня еще год и два месяца не выпускали из страны. Сначала я подал документы на летнюю туристическую поездку во Францию, но сразу же получил отказ с формулировкой “нецелесообразно” и разрешением подавать новое заявление не раньше, чем через год. Об этом мне сообщила сотрудница ОВИРа, авторитарная и полная товарищ Баймасова. Но я опять пошел окольными путями – стал заводить знакомства в соответствующих кругах, дарил всем тетушкам из ОВИРа духи Climat и Fidji. Одна из них, большая любительница французских духов и павловопосадских шалей, однажды бросила мне мимоходом и полушепотом:
– Если хотите выехать во Францию, не подавайте документы на временный выезд – вас не выпустят. Подавайте на постоянное жительство – тогда дадут разрешение немедленно.
– Что такое вы мне советуете?! – перепугался я.
Я же понимал: это окончательно отрежет меня от родины, ведь тогда слово “постоянное” означало “на всю жизнь”. Из “постоянки” нельзя было приехать домой. Отъезд на постоянное место жительства за границу фактически означал бесповоротный разрыв со всеми, кто здесь оставался… И я все же решил опять подавать заявление на временный выезд. Почему-то на этот раз разрешение дали без проволочек.
В процессе своих предотъездных мытарств я успел познакомиться с начальником ОВИРа. Ему я приносил купленный в той же “Березке” коньяк Camus, он тут же задергивал шторки на окне, оставляя щелку, и смотрел, не засек ли нас кто-нибудь в момент передачи взятки. Бутылку он запирал в ящик и деловито обещал: “Разберемся”.
Вот этот-то всемогущий начальник вызвал меня к себе дня за два-три до выезда и дал на подпись бумагу, в которой, помимо прочего, говорилось: “Обязуюсь не встречаться с представителями белой эмиграции, не посещать кафе и рестораны, а также кабаре «Распутин» и «Царевич», избегать походов в православные храмы, посещаемые эмигрантами…” Разумеется, я тут же расписался напротив каждого пункта, но, к счастью для вас, дорогие читатели, не выполнил ни одного обязательства. Я воспользовался этой филькиной грамотой как шпаргалкой с подсказками, куда стоит идти в первую очередь. Так позднее родилась моя книга-бестселлер “Красота в изгнании” о творчестве русской эмиграции первой волны в области моды.
Выездная виза и паспорт обошлись мне очень дорого – в 301 рубль (300 рублей за визу и рубль за паспорт). Бесплатную французскую визу поставили в тот же день в посольстве Франции. В отделении “Аэрофлота” на Фрунзенской набережной я приобрел билет, который стоил чуть ли не 600 рублей – астрономическая сумма для советского человека! Тут же можно было поменять 300 рублей на 3000 франков.
Придя домой, я услышал телефонный звонок. Звонили из “Аэрофлота”. Девушка на другом конце провода дрожащим голосом заявила, что мне дали билет по ошибке, потому что я за него не расплатился, и попросила вернуть его. Опомнились, но поздно! Через полчаса после моего возвращения домой раздался резкий звонок в дверь. Я посмотрел в глазок – на пороге стояли двое солдат и милиционер. Я испуганно затаил дыхание, боясь пошевелиться и издать малейший звук. Звонили долго и настойчиво. А когда звонок стих, из-под двери показался листок бумаги. Я поднял его. Это была повестка на имя… Петра Александровича Васильева. Ошибка ли это, безалаберность ли – мне все равно. Я порвал повестку и спустил в унитаз, зная, что завтра улетаю в Париж. Следующую ночь на всякий случай провел у сестры, которая, выйдя замуж, жила отдельно от нас на Кутузовском проспекте. Родители не снимали трубку телефона.
Когда пришел час ехать в аэропорт, папа побежал ловить такси. Но подальше от дома, думая, что во дворе может стоять подставная машина. Пока отца не было, в квартире зазвонил телефон.
– Говорят из военкомата. Вы Васильев? Повестку получили?
– Нет, не получил…
– А мы вам высылали.
– Ну, не знаю… Кажется, только подписью можно доказать получение повестки, разве нет?
– Мы вас ожидаем завтра в шесть часов утра, с вещами, на призывном пункте для отправки к месту несения военной службы в Афганистан.
– Очень приятно, но я сегодня улетаю в Париж. У меня на руках билет, виза и паспорт.
– Как?!
– Явлюсь к вам через три месяца. Пока я даже не прошел медкомиссию. Вы ничего не знаете о состоянии моего здоровья и психики, вы не знаете, что я женат на гражданке Франции. К тому же я числюсь в аспирантуре. Не думаю, что вам нужен такой вояка.
Теперь я думаю, что меня целенаправленно хотели напугать… И что же? Вышло совсем неплохо!
Маша, как я писал выше, с матерью и сестрой уже улетела 19 февраля 1982 года во Францию на постоянное место жительства. Их ждала неизвестность – и разлука с родиной навсегда… Вряд ли я подберу слова, которые передали бы испытанный мною ужас: для меня отъезд Маши стал даже не драмой, я пережил настоящую трагедию. Со мной остались только воспоминания и последние ее слова: “Ты обязательно должен приехать ко мне! Я тебя буду ждать…” Дальше были письма, полные любви.
В Шереметьево меня провожала мама. По дороге мы дрожали как осиновые листья – безумно боялись: а вдруг не посадят в самолет, вдруг передумают и решат срочно отправить в армию, вдруг арестуют?!
– Я знаю, что ты оттуда никогда не вернешься, – сказала она.
Сам я тогда еще не представлял, чем обернется мой отъезд. Мне было двадцать три года. Но родители отдавали себе отчет в ситуации, казавшейся им безвыходной. Вновь нам довелось увидеться только восемь лет спустя…
Конечно, после моего отъезда папу с должности сняли: сначала из секретарей правления Союза театральных художников перевели на пост секретаря по художественным материалам, то есть заведующего кисточками и мольбертами. Но и этого показалось мало – вскоре папу отправили на пенсию. И звание “Народный художник СССР”, к которому он был представлен, ему так и не дали – только из-за того, что сын был за границей. Так он и остался народным художником РСФСР. Но ни папа, ни мама ни разу не упрекнули меня за мой отъезд…
В аэропорту проверили мой багаж. Таможенники не обнаружили ничего ценного, кроме матрешки в подарок, оренбургского пухового платка и скудного набора летних вещей.
Прощальные объятия, торопливые поцелуи, слезы в маминых глазах… И вот я остался один в зале ожидания. У барной стойки у меня сразу потребовали франки – за сок или за чай. Все вокруг были уверены, что я француз. Какой-то господин даже спросил, что ему посмотреть в Париже.
Драма началась после того, как я сел в самолет. В течение часа, показавшегося мне бесконечностью, мы не взлетали. Я сидел в холодном поту, уверенный, что являюсь виновником задержки. В голове крутилась только одна мысль: “Вот сейчас меня снимут с рейса”. Рядом со мной сидел молодой человек, бельгиец по имени Жан-Клод Вутерс. Он был балетным танцовщиком, работал в труппе Мориса Бежара и летел из Токио в Париж через Москву. Я сказал ему по-английски:
– У меня большие проблемы, сейчас меня будут снимать с самолета (как в фильме “Белые ночи” с Барышниковым, вышедшем на экраны много позже). Защитите меня, пожалуйста!
Он начал меня успокаивать:
– Не волнуйтесь, я вас отстою!
И вдруг в самолете появились две измученные женщины в изуродованных, распоротых туфлях – мать и дочь, которые насовсем уезжали из Армении во Францию. Таможенники в поисках бриллиантов изрезали им ножом каблуки. Бриллианты обнаружить не удалось…
Это было 1 июня 1982 года. На всю жизнь запомнил я эту дату, открывшую мне новый мир. Самолет взлетел и увлек меня в небеса, унося далеко от родины. Я летел в другую, неизвестную мне жизнь, подарившую мне счастье новизны и удивительных открытий, которые лишь юность дарит людям. Впереди меня ждал Париж – столица мировой моды, в котором я получил образование и сформировался как профессиональный историк моды, раскрылся как театральный художник, лектор и коллекционер. Именно Париж открыл для меня личные встречи и архивы первой русской эмиграции, изучению творчества которой я посвятил несколько десятилетий своей жизни.
Указатель имен
Абдулов, Осип Наумович 73
Абрамова, Вера 14, 350
Аверкиев, Дмитрий Васильевич 108
Аверченко, Гая 244
Агамирова, Тамилла Суджаевна 156
Адельгейм, Рафаил Львович 397
Адельгейм, Роберт Львович 397
Аджубей, Алексей Иванович 294
Аджубей, Иван Алексеевич 294
Азарина, Алла Александровна 14, 269, 468
Айвазовский, Иван Константинович 106, 229, 375, 376
Аксаков, Сергей Тимофеевич 285
Аксенов, Алексей Васильевич 399, 415
Александра Федоровна (Алиса Гессен-Дармштадтская) 39
Александров, Григорий Васильевич 225
Александров, Игорь Абрамович 457
Алексеева, Анна 164
Алексеева, Мария Сергеевна 456
Алексей Николаевич (Романов) 214
Алехина, Татьяна 11
Алиев, Гейдар Алирза оглы 349
Алиева, Мехрибан Ариф кызы 349
Аллилуева, Светлана Иосифовна 353
Альенде, Сальвадор 310
Ананиашвили, Нина Гедевановна 255, 349
Андерсен, Ганс Христиан 285
Андреев, Владимир Александрович 95–98
Андреев, Владимир Алексеевич 377
Андреев, Николай Андреевич 86
Андриевич, Валентин Валентинович 312, 313
Андросов, Михаил Тимофеевич 324
Анофриев, Олег Андреевич 248, 322, 331
Антокольская, Наталья Николаевна 101
Антоненко-Луконина, Анна Васильевна 465
Антонович (Дык), Александр 351
Антонович, Марина Сергеевна 351
Антонович-Бахвалова, Маргарита Петровна 351
Апраксин, Николай 258
Аралова, Вера Ипполитовна 90, 91, 189, 288–290
Арбат-Курепов, Александр Сергеевич 389, 466, 467
Аргышев, Евгений Викторович 282
Аринушкин (классный надзиратель) 45
Артём, Александр Родионович 48
Архипова, Ирина Константиновна 295
Арцис, Ирина Израилевна 436
Асеев, Николай Николаевич 256
Афиногенов, Александр Николаевич 92
Афромеева, Вера Михайловна 214
Ахматова, Анна Андреевна 9, 256, 282
Бабель, Исаак Эммануилович 288
Багинова, Маргарита 249
Багорская, Евгения Петровна 70
Багорская-Дашковская, Юлия Антоновна 69, 70
Баграмян, Иван Христофорович 350
Базарова, Нина Васильевна 218
Бай, Натали 401
Байрон, Джордж Гордон 468
Бакланова, Ольга Владимировна 224, 245, 359, 406
Бакунин, Михаил Александрович 48
Балашов, Степан Степанович 456
Балуев, Александр Николаевич 459
Бальзак, Оноре де 103
Бальмонт, Константин Дмитриевич 24
Баранцев, Анатолий Иванович 295
Барков, Евгений Алексеевич см. Иванов-Барков, Евгений Алексеевич
Барто, Агния Львовна 282, 312
Барто, Павел Николаевич 282
Баратов (актер) 98
Барышников, Михаил Николаевич 483
Басаев, Шамиль Салманович 416
Басков, Николай Викторович 400
Баулин 48
Баум, Лаймен Фрэнк 428
Бахвалова, Марфа Ивановна см. Миловидова, Марфа Ивановна
Бачурин, Евгений Владимирович 271
Бедный, Демьян 25, 61, 62
Бежар, Морис 483
Безыменский, Александр Ильич 96
Бейлина, Эмилия Элиберовна 400
Беклешева, Екатерина Терентьевна 273
Белкин, Михаил 449
Белов, Петр Алексеевич 433
Белова, Марьяна Яковлевна 433
Белокуров, Владимир Вячеславович 306–308
Белокуров, Сергей 380
Белопухова, Ирина 439
Бельский, Борис Феликсович 411
Белый, Андрей 86
Беляева, Нина 301, 302
Беляева (Баташёва), Тамара Сергеевна 111
Бенуа, Александр Николаевич 11, 439, 459
Бенуа, Николай Александрович 462
Березкин, Виктор Иосифович 149
Берендт, Касьян (Александр) Владимирович 14, 383, 408
Берия, Лаврентий Павлович 341, 342
Берлянт, Людмила Леонидовна 244
Берсенев, Иван Николаевич 291
Бессарабова, Алина 14, 383
Бианки, Виталий Валентинович 213
Билль-Белоцерковский, Владимир Наумович 127, 170
Бин, Тин (Александр) 409, 410
Бирман, Серафима Германовна 315
Блинников, Сергей Капитонович 164, 177
Блок, Александр Александрович 24, 27, 283
Блюменфельд, Юлия Осиповна 233, 234
Богатырёв, Александр Зиновьевич 101
Богатырёв, Юрий Георгиевич 421
Богацинцевич, Светлана 259
Богданов, Михаил Александрович 189
де Богурдон, Жаклин 258
Бодимон, Анна Мишелина Жанна 476, 479
Бологовская, Наталья Петровна 257
Болотова, Жанна Андреевна 295
Болт, Роберт 459
Болтунов, Вадим Борисович 303–305
Болтунова, Злата Борисовна 305
Бондаренко, Андрей Леонидович 14
Бондаренко, Нелли Александровна 235
Бондарчук, Сергей Федорович 235
Борисевич, Вера Николаевна 386
Борисевич, Николай 385, 386
Борисова, Екатерина Борисовна 297, 429
Боровский, Александр Давидович 450
Боровский-Бродский, Давид Львович 115, 450
Бородаевская, Ирина Петровна 258, 397
Бородкина, Татьяна Сергеевна 352, 353
Бородин, Александр Порфирьевич 237
Бортников, Геннадий Леонидович 218
Брежнев, Леонид Ильич 276, 310, 325, 347, 384, 470, 475
Брехт, Бертольт 287
Брик, Лиля Юрьевна 230, 366, 367
Бродский, Исаак Израилевич 86
Брукс, Луиза 365
Брызжев, Александр Павлович 21, 24, 63
Брызжев, Виктор Александрович 21
Брызжев, Павел Александрович 21, 24
Брызжева, Нина Александровна см. Васильева, Нина Александровна
Брызжева (Розанова), Акилина Павловна 21–23, 26–28, 34, 35, 37–39, 42, 43, 45, 47, 51, 55, 56, 65, 69, 72, 74, 150, 213
Брюс, Яков Вилимович 85
Брюсов, Валерий Яковлевич 86
Буденный, Семен Михайлович 193, 289
Буковский, Владимир Константинович 310
Булатов, Алексей Алексеевич 14
Булгаков, Михаил Афанасьевич 10, 12, 65, 113, 278, 351
Булгаков, Сергей Николаевич 77
Булгаков, Федор Сергеевич 77, 252, 384
Бураков, Юрий («Солнце») 404, 449
Бутовский, Руслан 351
Бушен, Дмитрий Дмитриевич 389, 443
Ваганова, Агриппина Яковлевна 266
Валашек, Густав Францевич 402
Валевская, Валентина Герасимовна 164
Валертинский, Валерий 58
Вальц, Карл Федорович 191
Вангенхейм, Густав фон 168
Варлей, Наталья Владимировна 330, 344
Варфоломеев, Иван Поликарпович 9, 214
Васильев, Александр Павлович 9, 12, 13, 21, 23–25, 30, 34, 36, 38, 42, 43, 51, 52, 55, 65, 66, 68, 71–73, 77–201, 205–207, 209–212, 215, 216, 218–223, 225–233, 236–239, 249–251, 255, 257, 259, 260, 271, 274, 276, 287–290, 293, 299, 311–313, 318, 329, 334, 335, 341, 343, 344, 348, 349, 352, 361, 363, 364, 378, 381, 386, 394, 397, 401, 413, 427–429, 431, 439, 441, 447, 458, 463, 474, 478, 481–483
Васильев, Алексей Петрович 64, 77, 209
Васильев, Владимир Владимирович 235
Васильев, Владимир Петрович 12, 234, 235, 422
Васильев, Павел Петрович 9, 21–23, 25, 27–34, 37, 39–41, 43–48, 50, 51, 54–56, 63–66, 69–74, 77, 79, 95, 206–211, 214, 217, 218, 237, 383
Васильев, Петр Павлович (дядя) 12, 21–74, 78, 87, 92, 95, 134, 135, 161, 210, 212, 233–236, 272, 386, 468
Васильев, Петр Павлович (прадед) 63, 150, 208, 209
Васильев, Юрий (Георгий) Петрович 64, 77, 209
Васильев-Маркичев, Владимир Петрович 236
Васильева (Нестерова), Екатерина Петровна 64, 70, 77, 209, 214, 384
Васильева, Ирина Павловна 21, 22, 25, 30, 34, 36, 38, 42, 51, 52, 66, 72, 73, 95, 211–213, 218, 233, 237, 341, 368, 378, 380, 385
Васильева, Мария Владимировна 235
Васильева, Наталья Петровна 21, 64, 77, 209, 214
Васильева, Нина Александровна 9, 21–30, 33–39, 42, 43, 45, 47, 48, 51, 52, 54–56, 60, 63, 65–67, 69, 73, 74, 77, 95, 96, 101, 206, 207, 209–212, 217
Васильева, Оксана 235
Васильева, Ольга Петровна 9, 43, 64, 77, 86, 209, 214, 383–386
Васильева, Татьяна Ильинична см. Гулевич, Татьяна Ильинична
Васнецов, Виктор Михайлович 68
Вахтангов, Евгений Багратионович 397
Ведекинд, Херман 250, 259
Веласкес, Диего 124
Велихов-Тарховский, Михаил 313
Венцлова, Антанас 410
Венцлова, Томас 410
Верещагин, Василий Васильевич 183
Верди, Джузеппе 181
Верницкая, Софья Феликсовна 373, 392
Верницкий, Феликс Эдуардович 392
Вертинская, Анастасия Александровна 14, 422–424
Вертинский, Александр Николаевич 423
Ветрова, Татьяна 111
да Винчи, Леонардо 143
Вилковир, Ирина Ефимовна 91, 189
Вильямс, Петр Владимирович 178, 435, 439
Винтергальтер, Франц Ксавье 262
Вишневецкая, Софья Касьяновна 30
Вишневская, Галина Павловна 270, 299, 377
Вишневский, Всеволод Витальевич 180
Вишневский, Феликс Евгеньевич 264, 265
Влади, Марина 302
Владимиров, Борис Павлович 339
Власов, Игорь Павлович 321
Вовси, Аркадий Григорьевич 111
Воздвиженская, Анна Вячеславовна 14
Войтехов, Борис Ильич 163
Волков, Александр Мелентьевич 428
Волков, Борис Иванович 150, 178
Волконский, Андрей Михайлович 282
Волконский, Николай Осипович 73
Волова, Гетель см. Барто, Агния Львовна
Волчек, Галина Борисовна 422, 436
Волынец, Ольга 401
Ворона, Елизавета 420, 421
Воронина, Вера 359
Воронов, Иван Дмитриевич 111
Вотран, Александра 466
Вотран, Наталья 466
Врангель, Николай Николаевич 368
Врубель, Михаил Александрович 68
Всеволодская-Голушкевич (фон Гернгросс), Ольга Всеволодовна 265–270, 377
Всеволодский-Гернгросс, Всеволод Николаевич 265
Вульф, Виталий Яковлевич 412, 419
Вульф, Ирина Сергеевна 120
Вутерс, Жан-Клод 483
Высоцкий, Владимир Семенович 283
Вяльцева, Анастасия Дмитриевна 397
Гавриил Константинович (Романов) 265
Галансков, Юрий Тимофеевич 324
Галинская, Лёля 301
Галле, Эмиль 408
Гамбарова, Нина Александровна 364
Гамсахурдия, Авксентий Александрович 255
Ганка Ордонувна 373, 398
Гарбер, Елизавета Моисеевна 297
Гарбо, Грета 365, 412, 441
Гарин-Михайловский, Николай Георгиевич 22
Гауди, Антонио 288
Гейерманс, Герман 59
Геловани, Надежда 449
Генс, Инна Юлиусовна 367
Георгиева, Роза 258, 259
Георгиева, Софья 351, 352
Георгиевская, Анастасия Павловна 254
Герага, Павел Иосифович 164
Герасимов, Александр Михайлович 124
Герасимов, Олег Георгиевич 451
Гердт, Зиновий Ефимович 467
Гердт, Екатерина Зиновьевна 467, 468
Герман, Анна 297
Германова, Мария Николаевна 440, 447
Герцен, Александр Иванович 253
Гзовская, Ольга Владимировна 440
Гиацинтова, Софья Владимировна 315, 406
Гинзбург, Александр Ильич 324, 325
Гинзбург-Жолковская, Арина Сергеевна 325
Гиссен, Петр Леонидович 352
Гладилин, Анатолий Тихонович 414
Гладилина, Алла Анатольевна 414
Глебов, Петр Петрович 260–262, 313
Глебова, Елена Петровна 261, 313
Глебова (Левицкая), Марина Алексеевна 260–262, 313
Глебова, Ольга Петровна 14, 261, 313
Глебова, Татьяна 439
Глинка, Михаил Иванович 9, 244, 384
Глуховская, Софья 251
Гнилова, Людмила Владимировна 14, 324, 339
Гоголева, Елена Николаевна 359
Гоголь, Николай Васильевич 113, 127, 206
Годецкий, Станислав Иоаннович 207
Гойя, Франсиско 221
Голикова, Нонна Юрьевна 12, 13
Голицын, Андрей Кириллович 286
Голицына, Ирина 286
Голованов, Николай Семенович 307
Головин, Александр Яковлевич 86
Головко, Арсений Григорьевич 278, 279
Головко, Кира Николаевна 260, 278–280
Голуб, Анастасия Ивановна 451, 452
Голуб, Григорий Ефимович 451
Голуб, Людмила Сергеевна 451, 452
Голуб, Марина Григорьевна 276, 279, 451–454
Голушкевич, Владимир 268
Гольдгур, Женя 350
Гольдони, Карло 440
Гольц, Георгий Павлович 191
Гончаров, Андрей Александрович 108, 111
Гончаров, Иван Александрович 32
Горбачев, Михаил Сергеевич 257
Гордеев, Вячеслав Михайлович 406
Горленко, Евгения (виконтесса Женя де Кастекс) 388
Горький, Максим 10, 22, 24, 43, 72, 114, 178, 181, 206, 420
Готлиб (Медведев), Михаил Ефимович 164
Гофман, Ирина Ильинична 353
Гофман, Эрнст Теодор Амадей 210
Градополов, Константин 446
Гремиславский, Иван Яковлевич 123, 173
Грибов, Алексей Николаевич 164, 177
Грибоедов, Александр Сергеевич 178, 262
Григ, Эдвард 62
Григорьева, Елена 351, 407, 449, 450
Грипич, Алексей Львович 103
Гулевич, Арсений Анатольевич 242
Гулевич, Арсений Дмитриевич 373, 392
Гулевич, Владимир (Владас) Арсеньевич 13, 392
Гулевич, Владимир Сергеевич 242
Гулевич, Дмитрий Герасимович 392–394
Гулевич, Дмитрий Ильич 243, 344
Гулевич, Елена Дмитриевна 343, 344, 361
Гулевич, Илья Герасимович 241–243, 340, 392, 396
Гулевич, Людмила Арсеньевна 13, 392
Гулевич (Рылова), Мария Григорьевна 241–243, 305, 306, 340, 394, 396, 398
Гулевич, Татьяна Ильинична 9, 13, 218–222, 224, 225, 227, 228, 231, 236, 238, 239, 241, 243, 244, 246–260, 267, 270, 271, 274–279, 281–284, 286, 287, 293, 296, 299, 303, 305–307, 315, 318–323, 325, 328–331, 333, 334, 336–338, 340, 342–347, 356, 357, 359, 361–363, 391–396, 399, 419, 423, 427, 429, 430, 443, 446, 453–455, 457, 463, 474, 478, 481–483
Гулевич-Пекарская, Халинка (Галина Фоминична) 242, 373–375
Гулевич-Ященко, Мария Андреевна 373, 393, 397
Гурченко, Людмила Марковна 377
Гусев, Василий Фомич 92
Гусев, Виктор Михайлович 168
Гутник, Татьяна 158, 383
Давыдов, Владлен Семенович 457
Дальский, Мамонт Викторович 270
Дамский, Владимир Маркович 163
Данелия, Николай 416
Данилова, Нина Сергеевна 380
Данкман, Инна Александровна 221
Данте, Алигьери 181
Дарвин, Чарльз 52
Даргомыжский, Александр Сергеевич 92
Даттон, Томас 208
Двигубский, Николай Львович 369, 370, 412, 439, 440
Дегтярева, Тамара Васильевна 421, 423
Дегтярь, Наталья 415
Делоне, Вадим Николаевич 310
Дельвиг, Галина Романовна 388
Дементьева, Мария Юрьевна 414–416
Дербенёв, Леонид Петрович 407, 408
Дербенёва, Елена Леонидовна 407, 408
Дербин, Павел 98
Деревянко, Владимир Ильич 255
Дерегус, Михаил Гордеевич 252
Дерегус-Лоренс, Наталья Михайловна 345
Джуна (Давиташвили, Евгения Ювашевна) 405, 406
Дзиган, Ефим Львович 111
Диккенс, Чарльз 69, 85
Диодоров, Борис Аркадьевич 285, 286
Дитрих, Марлен 365
Дмитриев, Владимир Владимирович 123–125, 178, 323, 435, 439
Дмитриева, Людмила Борисовна 451
Добужинский, Мстислав Валерианович 11, 291, 443, 458, 459
Добужинский, Ростислав Мстиславович 389, 439, 443, 459
Долецкая, Алена Станиславовна 14, 305
Долецкий, Станислав Яковлевич 305
Долматовский, Евгений Аронович 308–310
Донатов, Иосиф Александрович 108
Донская, Евгения Захаровна 273
Донская, Мария Григорьевна 273
Доронин, Виталий Дмитриевич 347
Доронина, Елена Витальевна 347
Доронина, Татьяна Васильевна 450
Дорсувна, Халинка 389, 396
Достоевский, Федор Михайлович 10, 39, 114, 115, 127–132, 137, 198, 206, 433, 436, 444
Дрябин, Иван 214
Дрябина, Ольга Петровна см. Васильева, Ольга Петровна
Дрягина, Ирина Дмитриевна 439
Дудорева, Валентина 366
Дунаев, Александр Леонидович 463, 468
Дуров, Лев Константинович 322
Дьякова, Тамара 91, 189
Дягилев, Сергей Павлович 9, 274
Евгения (Эухения Палафокс) 10
Евреинов, Николай Николаевич 70
Евтушенко, Евгений Александрович 309
Егоров, Владимир Евгеньевич 471
Егорова, Наталья Сергеевна 451
Екатерина II 9, 207, 263
Екатерина Медичи 222, 223
Елизавета I 10, 460
Енджеевская, Светлана 312
Ермак Тимофеевич 183
Ершов, Владимир Львович 447
Ершов, Иван Никитич 100
Ершов, Петр Павлович 231
Есенин, Сергей Александрович 71, 86
Ефименкова, Мария 383
Ефремов, А. 110, 111
Ефремов, Олег Николаевич 248, 277, 319, 436
Ефремова, Фаина Порфирьевна 347
Жаров, Михаил Иванович 381
Жданов, Юрий Тимофеевич 347
Жданова, Дарья Юрьевна 347
Жеймо, Янина Болеславовна 352
Жирардо, Анни 300, 401
Жихарева, Елизавета Тимофеевна 316
Жуков, Николай Николаевич 348
Забелин, Иван Егорович 368
Завадский, Юрий Александрович 86, 103, 112, 114, 120, 127, 130, 132, 137, 151, 161, 163–167, 169–172, 218, 223, 225, 226, 296, 449
Зайцев, Вячеслав Михайлович 268
Зайцева, Вера Михайловна 433
Замчалова, Наталья 258
Захаржевская, Раиса Владимировна 370, 371, 438
Захаров, Марк Анатольевич 160, 287
Заходер, Борис Владимирович 312
Зацепин, Александр Сергеевич 476
Збарская, Регина Николаевна 272
Збарский, Лев Борисович 272
Звездочетов, Константин 362, 448
Звеняцкий, Ефим Семенович 468
Зверев (руководитель студии в Томске) 59
Зверев, Анатолий Тимофеевич 350
Зверев, Арсений Григорьевич 350
Зворыкин, Владимир Козьмич 359
Зворыкина, Аксинья Ивановна 208
Зернов, Михаил 80
Зернова (учитель русского языка) 80
Зимин, Владимир Михайлович 91, 189, 332
Зись, Авнер Яковлевич 444, 449
Змойро, Эдуард Петрович 318, 319
Знутыня, Анита 434
Золотарев, Николай Николаевич 189
Золотухин, Дмитрий Львович 279, 453
Зонина, Мария 399
Зоркая, Вера 450
Зоркая, Нея Марковна 450
Зуйкова, Татьяна Георгиевна 411
Зыкина, Людмила Георгиевна 286, 451, 462
Иванов (руководитель бутафорского цеха, художник-плакатист) 420
Иванов, Александр Андреевич 142
Иванов, Георгий Владимирович 278
Иванов, Михаил Васильевич 234
Иванов, Юрий Павлович 444
Иванов-Барков, Евгений Алексеевич 123
Иванова, Антонина Ивановна 436
Иванова, Галина Андреевна 319
Иванова, Мария Николаевна 353
Иванова, Наталья Михайловна 234
Игнатов, Петр 308
Игнатова, Кюнна Николаевна 306–308
Игнатович, Клавдия Васильевна 241, 395
Иловайская-Альберти, Ирина Алексеевна 325
Ильинский, Игорь Владимирович 119, 122, 134, 215, 377
Иогансон, Борис Владимирович 148, 312
Иогансон, Нина Александровна 148, 312
Ипатьев, Николай Николаевич 46
Истомина, Галина Генриховна 14
Кабалевский, Дмитрий Борисович 353
Каверина, Марианна 379
Кавешников, Сергей 298
Кадер, Кристина 401
Казанская, Альбина 344
Казанский, Александр Константинович 344
Казанский, Константин Серафимович 95, 237, 344
Казанский, Серафим Константинович 95, 237
Калинин, Михаил Иванович 350
Каменский, Михаил Александрович 399
Кандинский, Василий Васильевич 86
Канцель, Владимир Семенович 73, 81
Каплевич, Павел Михайлович 459
Капустина, Надежда Алексеевна 215
Каралли, Вера Алексеевна 397
Карамзин, Николай Михайлович 263, 265
Карден, Пьер 390
Карон, Лесли 467
Карпенко, Зоя 244
Карташёва, Ирина Павловна 14
Катаев, Валентин Петрович 328
Катаева, Тина 399
Катанян, Василий Васильевич 367
Каташёва, Наталья Сергеевна 422
Кассиль, Лев Абрамович 328
Качалов (Шверубович), Василий Иванович 245, 443, 447
Кедров, Михаил Николаевич 112, 123, 172–177, 459
Кейтхудова, Нонна 305
Кемарская, Надежда Федоровна 234
Кившенко, Алексей Данилович 169
Киркоров, Филипп Бедросович 286
Кирьяков, Николай Павлович 344
Киселев, Юрий Петрович 101
Кисель-Загорянский (актер) 98
Китаев, Март Фролович 115
Кнебель, Мария Осиповна 252, 321, 411
Книппер-Чехова, Ольга Леонардовна 9, 247, 435, 440, 447
Кнушевицкая, Мария Святославовна 14, 220–223
Кованько, Наталья Ивановна 359
Ковенская, Лина 14
Ковенская, Этель Львовна 224, 225, 296–298, 468
Коган, Лев Лейзерович 297, 298
Козловский, Александр Александрович 64, 77, 207, 214
Козловский, Александр Александрович (сын) 214
Кокто, Жан 441
Колева, Марина Святославовна 14
Колесаев, Валентин Сергеевич 102, 108, 111, 329
Колибри, Ян см. Фрид, Ян Борисович
Колчак, Александр Васильевич 49, 50, 54, 217
Комиссаржевская, Вера Федоровна 368
Комиссаржевский, Федор Федорович 11, 368
Комов, Илья Олегович 291
Комов, Олег Константинович 290, 291
Комолова, Анна Михайловна 446, 447, 459
Кондратова, Елена 281
Кондратова, Нина Владимировна 281
Кондрашин, Андрей 415
Кондрашин, Кирилл Петрович 347
Конский, Григорий Григорьевич 164
Конфорти, Иосиф 258
Кончаловский, Андрей (Андрон) Сергеевич 369
Кончаловский, Петр Петрович 86
Кондрашин, Петр Кириллович 347
Коншина, Александра Ивановна 280
Коонен, Алиса Георгиевна 244
Корвалан, Вивиана 310
Корвалан, Луис 310
Корвалан, Мария 310
Коренева, Елена Алексеевна 424
Коржавин, Наум Моисеевич 256
Корин, Павел Дмитриевич 262
Коркина, Ляля 91
Коркошко, Светлана Ивановна 280
Корнакова, Екатерина Ивановна 315
Корниенко, Нелли Ивановна 358
Коровин, Константин Алексеевич 191, 348
Короткова (заведующая костюмерной частью) 464
Корчак, Януш 329
Косыгин, Алексей Николаевич 410
Коти, Франсуа 34
Коцюбинский, Михаил Михайлович 69
Крамарский (учитель) 64
Крамаревская, Наталья 415
Красильникова, Нина 244
Кристалинская, Майя Владимировна 286
Кройер, Унни 160
Кройер, Харальдур 160
Крон, Александр Александрович 176
Круглый, Лев Борисович 258
Крупская, Надежда Константиновна 445
Крылова, Людмила Ивановна 419
Крэг, Эдвард Гордон 11, 439, 440
Кузнецов, Степан Леонидович 362, 363
Кузнецова, Валентина Николаевна 234
Кузнецова, Виктория Георгиевна 14
Кузнецова, Галина 362
Кузнецова, Мария Николаевна 397
Кузнецова, Татьяна Анатольевна 14, 347
Кулиджанов, Лев Александрович 303
Куприн, Александр Иванович 295
Куприна, Ксения Александровна 295, 296
Куприянов, Василий Ильич 451
Куприянова, Маргарита Григорьевна 319, 320, 329
Курепова, Алена Александровна 466
Курепова, Татьяна Александровна 466
Кунин, Михаэль Моисеевич 435
Кунин, Моисей Абрамович 435
Купченко, Ирина Петровна 412
Курилко, Михаил Иванович 319
Кустодиев, Борис Михайлович 86
Кусургашева, Нина Федоровна 413
Кутузов, Михаил Илларионович 169
Лааксо, Анна Николаевна 353
Лабас, Александр Аркадьевич 102
Лаврецкий, Константин Генрихович 103
Лаврова, Екатерина 470, 471, 482
Лаврова, Инна 469–471, 482
Лаврова (Ященко; Пойндер), Мария Олеговна 14, 229, 303, 367, 383, 401, 469–474
Лаврова, Татьяна Евгеньевна 420
Ладыженская, Виктория Ефимовна 185, 187
Ладыженский, Ефим Бенционович 182–187, 288, 290
Лазыкин, Александр Васильевич 412, 413
Лазыкина (Кузнецова), Фекла (Людмила) Ивановна 412, 413
Лалевич, Валентина Измайловна 381
Ламанова, Надежда Петровна 246, 278, 280, 379, 434, 440, 447
Ламм, Ольга Павловна 237
Ламм, Павел Александрович 237
Лановой, Василий Семенович 412
Лапиашвили, Нино Парнаозовна 348
Лапиашвили, Парнаоз Георгиевич 348, 429
Левашёв, Владимир Сергеевич 451
Левенталь, Валерий Яковлевич 158, 159, 464
Левитан, Исаак Ильич 87
Левитан, Юрий Борисович 104
Левицкий, Юрий Николаевич 164
Леди (Люси) Дафф Гордон 10, 208
Лелюхин, Борис 347
Лемешев, Сергей Яковлевич 214
Ленин, Владимир Ильич 71, 73, 226, 263, 322, 328, 345, 348, 444
Ленина (актриса) 97
Ленч, Леонид Сергеевич 163
Леонкавалло, Руджеро 152
Леонидов, Леонид Миронович 164
Леонов, Леонид Максимович 113
Леонтьев, Авангард Николаевич 422, 425
Лепешинская, Ольга Васильевна 432
Лермонтов, Михаил Юрьевич 351
Лескова, Татьяна Юрьевна 258
Ли, Вивьен 406
Ливанова (Любовская), Вера Матвеевна 91
Лидер, Даниил Данилович 115
Лиепа, Андрис Марисович 255
Лиепа, Илзе Марисовна 255
Лиепа, Марис Эдуардович 432
Лилина, Мария Петровна 447
Лисенко, Наталья Андриановна 359
Литовцева, Нина Николаевна 245
Лихачев, Василий Ильич 315
Лобанов, Андрей Михайлович 73, 108, 111, 112
Лоллобриджида, Джина 465
Лопато, Людмила Ильинична 258
Лордкипанидзе, Георгий 294
Лордкипанидзе, Натэлла Георгиевна 14, 293, 294
Лоти, Пьер 397
Лукашевич, Магдалина Генриховна 250, 315, 316, 322, 325–327
Лукомский, Владислав Крескентьевич 366
Луконин, Михаил Кузьмич 465
Лунгин, Евгений Семенович 399
Лунин, Михаил Сергеевич 439
Лунина, Татьяна Александровна 405, 439, 440
Лучишкин, Сергей Алексеевич 101
Лысенко, Николай Витальевич 33
Львова (Кочановская), Эмилия 393, 394
Любимов, Юрий Петрович 318, 438
Людовик XIV 10
Магарилл, Софья Зиновьевна 379
Мажаров, Сергей Леонидович 415
Майков, Аполлон Александрович 24, 25
Макаревич, Андрей Вадимович 407
Македонская, Ирина Владимировна 255
Маклейн, Ширли 330
Максимов, Алексей Матвеевич 164
Максимова, Антонина Михайловна 111
Малевич, Казимир Северинович 86, 435
Маликова, Валентина 14, 350
Малинкина, Тамара 14
Малыгина, Ирина Ипполитовна 437, 438, 460
Малышева, Анна Витальевна 280, 364, 383, 468
Малышева, Любовь Михайловна 468
Мальшет (актер) 98
Маляревский, Павел Григорьевич 330
Мандельштам, Осип Эмильевич 351
Мануков, Григорий Иванович 14
Мао Цзэдун 325, 342
Маре, Жан 441
Марецкая, Вера Петровна 163–165, 223, 226, 251
Ма́рина, Алиса Юрьевна 400
Мария Павловна 389
Мария-Антуанетта 326
Маркичев, Иван 383
Маркичева, Ольга 14, 235, 236
Марков, Леонид Васильевич 170
Марсо, Марсель 273
Мартенс, Владимир Яковлевич 134
Маршак, Самуил Яковлевич 312, 322
Масленникова, Елена 14
Маслов, Иван 244
Маслякова, Екатерина 407, 449
Массалитинов, Николай Осипович 440
Массальский, Павел Владимирович 445–447
Матвеев, Александр Терентьевич 86
Матвеев, Сергей Арсеньевич 89
Матисс, Анри 147
Маяковский, Владимир Владимирович 25, 71, 73, 86
Медведев, Юрий Николаевич 111
Межиров, Александр Петрович 19
Мейерхольд, Всеволод Эмильевич 86, 318
Мелемед-Брумберг, Ольга Виленовна 14, 474
Мельникова, Варвара 394
Меньковская, Валерия Николаевна 276, 325
Мережковский, Дмитрий Сергеевич 24
Меркурьев, Василий Васильевич 101
Мерцалов, Николай Иванович 369
Мерцалова, Мария Николаевна 239, 260, 341, 367–372, 466
де Местр, Жозеф 207
Метерлинк, Морис 299
Миклина, Светлана 301
Миловидов, Николай Николаевич 351
Миловидова, Мария Николаевна 14, 350–352, 383
Миловидова, Марфа (дочь) 350
Миловидова, Марфа Ивановна (бабушка) 351, 352
Минелли, Лайза 294, 295
Мирбо, Октав 56
Мироненко, Владимир 14, 438, 448, 449
Мироненко, Сергей 438, 448, 449
Миттеран, Франсуа 470
Михайлов (первый муж Васильевой (Брызжевой) Нины Александровны) 207
Михайлов, Александр 449
Михалков, Сергей Владимирович 252, 277, 321
Михальская, Анастасия 401, 408
Михальченко, Алла Анатольевна 255
Михоэлс, Нина Соломоновна 298
Михоэлс, Соломон Михайлович 58, 296, 298, 318, 468
Модильяни, Амедео 367
Мозель, Инна 404
Мозжухин, Иван Ильич 359
Моисеев, Игорь Александрович 235
Моисеенко, Владимир Николаевич 189
Моисеенко, Евсей Евсеевич 124
Молин, Эдвард 208
Молине, Уильям 208
Монастырский, Андрей Викторович 473
Мондрус, Лариса Израилевна 272
Монюков (Франке), Виктор Карлович 247–250, 259, 276, 283, 396, 428, 451, 452
Монюкова, Вера Константиновна 339
Монюкова, Наталья 249
Мордвинов, Николай Дмитриевич 163, 164
Морес, Евгения Николаевна 446
де Морни см. Трубецкая, Софья Сергеевна
Москвин, Иван Михайлович 245, 447
Музычкина, Наталья 14, 383
Мукасей, Анатолий (Топ) 399, 416
Мукосеева, Маргарита Антиоховна 290
Муравьева, Ирина Вадимовна 331
Мусоргский, Модест Петрович 9, 237
Мясин, Леонид Федорович 345
Мясин, Лорка Леонидович 345
Мясковский, Николай Яковлевич 354
Надеждина, Татьяна Дмитриевна 14, 249, 251, 315, 316, 322
Наджарова, Карина 350
Назимова, Алла 359
Найдёнов, Владимир 350
Найдёнов, Сергей Александрович 168
Наполеон Бонапарт 37, 169, 392, 393
Наппельбаум, Моисей Соломонович 252
Нарбут, Георгий Иванович 343
Нарбут, Даниил Георгиевич 343
Наумова, Лидия Ивановна 381
Нащокин, Павел Воинович 351
Недзвецкий, Юрий Владимирович 255
Неёлова, Марина Мстиславовна 422, 423
Нежданова, Антонина Васильевна 307, 377
Незлобин, Константин Николаевич 315, 316
Нейман, Матвей Семенович 323
Нейшуллер, Марк Миронович 400, 415
Некрасов, Николай Алексеевич 24
Немирович-Данченко, Владимир Иванович 125, 245, 280, 281, 433, 445, 447
Немоляева, Светлана Владимировна 236
Немухин, Владимир Николаевич 350
Нерваль, Натали 466
Неру, Джавахарлал 320
Нестеров, Алексей Михайлович 77
Нестеров, Михаил Васильевич 9, 35, 64, 68, 70, 72, 73, 77, 86, 87, 89, 214–217, 384
Нестерова, Наталья Михайловна 77, 216, 217
Нестерова-Титова, Вера Михайловна 214
Нестерова-Шрётер, Ольга Михайловна 214, 216
Нестор 67
Нетто, Игорь Александрович 464
Нефёдова, Любовь Тимофеевна 396
Нижинская, Бронислава Фоминична 373
Никитин, Иван Саввич 24, 25
Никич, Анатолий Юрьевич 150, 151, 192–195, 260, 311, 312
Никогосян, Николай Багратович 252
Николаев, Дмитрий Александрович 399
Николаев, Сергей Филиппович 188–192
Николаев, Юрий Александрович 295
Николай I 433
Николай II 305
Никонов, Михаил Семенович 111
Никонова, Наталья Михайловна 329
Никулин, Валентин Юрьевич 421
Никулин, Юрий Владимирович 243, 351, 362
Никулина (Волконская), Елизавета Григорьевна 245, 246
Нисс-Гольдман, Нина Ильинична 290
Новожилова, Галина Григорьевна 329
Нуреев, Рудольф Хаметович 466
Образцов, Сергей Владимирович 273, 312
Овидий 181
Огай-Рамер, Наташа 14, 410, 474
Оганесян, Анаит Вачеевна 157
Одлей, Джеймс 208
Озеров, Николай Николаевич 244
Окуджава, Булат Шалвович 421
Окунев, Михаил Гаврилович 306
Окунь, Александр Леонидович 451
Олби, Эдвард 412
Орлов, Алексей Григорьевич 302
Орлов, Михаил 14, 350, 351
Орлова, Любовь Петровна 12, 223–225, 251, 287, 289, 380
Орлова, Мария Илиодоровна 388
Островский, Александр Николаевич 10, 78, 109, 113–119, 137, 178, 206, 236, 249, 351, 468
Остроумова, Ольга Михайловна 14, 465
Оффенштадт, Натали 440
Охлопков, Николай Павлович 86
Павлов, Иван Петрович 72
Павлов, Павел Григорьевич 248
Павлова, Надежда Васильевна 406
Палиашвили, Захарий Петрович 180
Панов, Валерий Матвеевич 298
Панчев, Панчо 331
Папанин, Иван Дмитриевич 21
Параджанов, Сергей Иосифович 367
Пастернак, Борис Леонидович 450
Пастернак, Петр 450
Паттерсон, Джим 289, 290
Паттерсон, Ирина 290
Паттерсон, Ллойд (младший) 289
Паттерсон, Ллойд (старший) 289
Паттерсон, Том 289
Паустовский, Константин Георгиевич 244
Пекарева-Гольдман, Нисс Александровна 290
Пекарский, Болеслав 375
Пельтцер, Татьяна Ивановна 287
Перов, Евгений Владимирович 354
Перро, Шарль 68
Петр I 263
Петров-Водкин, Кузьма Сергеевич 72
Петрова, Анна Николаевна 267
Петрова, Галина 399, 401
Печенкина, Клавдия 337–339
Печников, Геннадий Михайлович 248, 249, 320
Печникова, Татьяна Геннадьевна 14
Пешкова, Екатерина Павловна 217
Пиаф, Эдит 441
Пикассо, Пабло 123, 124
Пиколли, Мишель 467
Пилсудский, Юзеф 393
Пилявская, Софья Станиславовна 246, 260, 466
Пименов, Юрий Иванович 163
Пиночет, Аугусто 310, 397
Плавинский, Дмитрий Петрович 350
Плисецкая, Майя Михайловна 255, 389, 390, 398, 433
Плятт, Ростислав Янович 160, 163, 170, 287
Погодин, Аркадий Соломонович 244
Погодин, Николай Федорович 287
Пожарская, Милица Николаевна 459
Пойндер, Маша см. Лаврова, Мария Олеговна
Пойндер, Ричард 474
Покровский, Борис Александрович 449
Полевой, Борис Николаевич 127
Понсов, Алексей Дмитриевич 435, 450
Попов, Алексей Дмитриевич 59
Попов, Борис Никанорович 91, 94
Попов, Валентин Васильевич 189
Попова, Любовь Сергеевна 435
Постникова (Раймозер), Мария Михайловна 422
Правдина, Инна Соломоновна 435, 436
Преображенский, Борис Владимирович 150, 192, 193, 311, 312
Проби, Елизавета Карловна 207, 208
Проби, Питер 208
Прокофьев, Сергей Сергеевич 181, 354
Прут, Иосиф Леонидович 101, 117
Пуаре, Поль 10
Пугачева, Алла Борисовна 286, 407
Пуговкин, Михаил Иванович 247
Пузанков 48, 49
Пукирев, Василий Владимирович 449
Пучинина (актриса) 97
Пушкин, Александр Сергеевич 142, 178, 265, 283, 284, 290, 291, 324, 351, 366, 377, 394, 408
Пушкин, Григорий Александрович 394
Пятецкая, Маргарита Александровна 164
Рабин, Оскар Яковлевич 350
Рабинович, Исаак Моисеевич 178
Рабинович, Михаил 163, 165
Радзинский, Эдвард Станиславович 415
Радомысленский, Вениамин Захарович 245, 277, 284, 431
Раздольский, Борис Евгеньевич 207
Райкин, Константин Аркадьевич 424
Райс, Тим 385
Рана, Налини 350
Раневская, Фаина Георгиевна 170, 171, 223, 224, 251, 283, 287
Рассохин (актер) 98
Рахимова, Диана Фидаевна 459, 460
Рахманинов, Сергей Васильевич 72
Ребров, Вячеслав Степанович 168, 169
Рембрандт 264
Репин, Илья Ефимович 106
Ржанов, Анатолий Васильевич 305, 306
Ржанова, Елена Сергеевна 305, 306
Римский-Корсаков, Николай Андреевич 9, 384
Ришар, Пьер 300, 401
Роек, Констанция Францевна 347
Розов, Виктор Сергеевич 252, 281, 286, 287, 330
Розова, Татьяна Викторовна 287
Рокотов, Федор Степанович 326
Ромадин, Николай Михайлович 252
Ромашина, Татьяна Анатольевна 157
Ронен, Меир 186
де Рос, Уильям (лорд Хелмсли) 208
Ростан, Эдмон 315
Рубакин, Николай Александрович 30
Рубина, Дина Ильинична 290
Рубинштейн, Ида Львовна 371
Румянцева, Надежда Васильевна 253, 330, 357
Русланова, Лидия Андреевна 377
Руфф, Магги 388
Рыжов, Николай Иванович 164
Рылова, Мария Григорьевна см. Гулевич, Мария Григорьевна
Рындин, Вадим Федорович 122, 178–182, 439, 459
Рындина, Лидия Дмитриевна 315
Рысь, Эдуард 355
Сабуров-Долинин, С.П. 58
Саввина, Ия Сергеевна 218
Садальский, Станислав Юрьевич 14, 423, 424
Сажин, Виктор 294
Сажина, Наталья Викторовна 14, 294, 428
Салахов, Таир Теймур оглы 349, 408
Салахова, Айдан Таировна 14, 349
Салахова, Алагез Таировна 14, 349
Сальникова, Наталья Гавриловна 14, 315, 322, 325, 329, 427
Самсонова, Идея 244
Самсонова, Светлана 466
Самсонова-Налбандова, Татьяна Никитична 389
Саричева, Елизавета Федоровна 253, 254, 284
Сарьян, Мартирос Сергеевич 163
Сахаров, Евгений Иванович 80
Сахновский, Василий Григорьевич 245
Свенсон, Глория 365
Светлов, Михаил Аркадьевич 256
Свищев, Аркадий 91
Северянин (Лотарев), Игорь Васильевич 315
Севрюкова, Виктория Ивановна 450
Сезанн, Поль 124
Селезнева, Наталья Игоревна 377
Селиванов, Виктор Владимирович 280, 433, 434
Сельвинская, Татьяна Ильинична 159, 429
Сельвинский, Илья Львович 159, 429
Селях, Наталья см. Сальникова, Наталья
Селях, Олег 325
Семенова, Марина 399
Сен-Лоран, Ив 366
Серебровский, Владимир Глебович 226
Серебряков, Александр Борисович 389, 442
Серебрякова, Екатерина Борисовна 389, 442
Серебрякова, Зинаида Евгеньевна 441, 442
Серебрякова, Татьяна Борисовна 123, 441, 442
Серёжников, Василий Константинович 25
Серов, Валентин Александрович 229, 282, 371
Серов, Дмитрий Михайлович 229, 282
Серова, Сюзанна Павловна 14, 281, 282
Серт, Миси 441
Силюнас, Витас Юргевич 436
Симонов, Александр 325, 326
Симонов, Константин Михайлович 108, 110
Симонов, Николай Константинович 101
Скиапарелли, Эльза 370
Скобелев, Михаил Дмитриевич 183
Скорик, Николай Лаврентьевич 287
Славянова, Зинаида Михайловна 25
Слепак, Владимир Семенович 414
Слепак, Леонид Владимирович 414
Смелянская, Татьяна Николаевна 445
Смелянский, Анатолий Миронович 239, 445
Смирнов, Алексей Глебович (фон Раух) 264
Смит, Мартин Круз 302
Снеговский, Василий Константинович 14
Соболева, Антонина (Тося) Алексеевна 323
Соколов, Владимир Николаевич 411
Соколов, Николай Александрович 411
Соколова, Екатерина 350
Соколова, Ирина 411
Солнцева, Людмила Всеволодовна 436
Соловьев, Владимир Александрович 168
Соловьев, Владимир Романович 101
Соломин, Виталий Мефодьевич 357
Соломин, Юрий Мефодьевич 236, 357–359
Сомов, Константин Андреевич 439
Соснин, Николай Николаевич 68, 70
Сосунов, Николай Николаевич 91, 92, 94, 101–103, 117, 381
Софья Алексееевна 263
Сперантова, Валентина Александровна 328
Спичакова, Вера Федоровна 397
Сталин, Иосиф Виссарионович 245, 271, 353
Станиславская, Елизавета Васильевна 456
Станиславский, Константин Сергеевич 59, 72, 86, 125, 154, 198, 199, 245, 281, 446, 447, 456, 459
Старк, Ольга Александровна 258
Степанова, Ангелина Осиповна 447, 454
Степанова, Варвара Федоровна 435
Стивенс, Нина Андреевна 350
Стивенс, Эдмунд 350
Строев, Юрий 251
Стругацкий, Аркадий Натанович 283
Стружинская, Марина 350
Струйская, Александра 326
Стручкова, Раиса Степановна 433
Сулержицкий, Леопольд Антонович 59
Сумбаташвили, Иосиф Георгиевич 422
Суриков, Василий Иванович 142, 183
Сухово-Кобылин, Александр Васильевич 101
Сухолинская, Людмила Марковна 454
Сушкевич, Борис Михайлович 92
Сыркина, Флора Яковлевна 458
Сытина, Нина 111
Табаков, Антон Олегович 399
Табаков, Олег Павлович 247, 281, 419, 422
Таиров, Александр Яковлевич 86, 244, 318
Танеев, Сергей Иванович 237
Танюк, Лесь Степанович 324
Тарасова, Алла Константиновна 123, 276, 447, 454
Тарханов, Иван Михайлович 459
Тарханов, Михаил Михайлович 245
Татлин, Владимир Евграфович 9, 176, 252, 435
Теккерей, Уильям 181
Темпест, Джейн 477
Темпест, Питер 477
Темпест, Ричард 477
Тенишева, Мария Клавдиевна 409
Теплова, Инна Михайловна 354
Тер-Маркарян, Мария 411
Терешкова, Валентина Владимировна 298
Терновская, Нинель Федоровна 14, 329
Товстоногов, Георгий Александрович 252, 305
Товстоногова, Натела Александровна 305
Тодрия, Натэлла Сильвестровна 440, 441
Тодрия, Сильвестр Ясевич 440
Токарев, Борис Александрович 350
Токарева, Виктория Самойловна 249
Толкунов, Андрей Львович 257
Толкунов, Митя 257
Толкунова, Валентина Васильевна 286
Толкунова, Наталья Викторовна 13, 219, 238, 249, 256–258, 306, 322, 339, 342–345, 349, 428, 481
Толстая-Загадская (графиня) 262
Толстой, Алексей Николаевич 22, 46, 428
Толстой, Лев Николаевич 10, 23, 39, 61, 62, 103, 206, 285, 444, 445
Толубеев, Юрий Владимирович 101
Тонков, Вадим Сергеевич 339
Топилина, Ольга 414
Торран, Ги 469–471
Торховской, Михаил 383
Торчинский 47
Триоле, Эльза 367
Триполитова, Ксения Артуровна 258, 326
Тройницкий, Сергей Николаевич 245
Тропинин, Василий Андреевич 265
Трошин, Владимир Константинович 247
Трояновский, Иван 91
Трубецкая, Елизавета Эсперовна 262
Трубецкая, Софья Сергеевна (герцогиня де Морни) 262
Трусова, Татьяна 340
Тугаринов, Дмитрий Никитич 345
Тугаринова, Софья Георгиевна 345
Тугаринова, Софья Никитична 345
Туманова, Валентина Алексеевна 14, 324
Тургенев, Иван Сергеевич 10, 11, 24, 26, 206, 212, 285, 291, 363, 444
Туров (актер) 98
Турчинович, Марина Александровна 253
Тыртов, Роман Петрович см. Эрте
Тышкевич, Феликс 410
Тышлер, Александр Григорьевич 163, 178, 179, 458
Тэффи, Надежда (Лохвицкая, Надежда Александровна) 446
Тяпкина, Елена Алексеевна 380
Уильямс, Теннесси 412, 467
Уланова, Галина Сергеевна 215, 347
Ульман, Лив 467
Ульянова, Анна Ильинична 322
Ульянова, Елена Михайловна 399
Ульянова, Мария Александровна 328
Усольцева, Наталья Николаевна 366
Успенская, Мария Алексеевна 406
Утёсов, Леонид Осипович 377
Уэббер, Эндрю Ллойд 385, 409
Уэллс, Орсон 354
Уэст, Мэй 365
Фаберже, Карл 256, 284
Фаворский, Владимир Андреевич 86
Фадеев, Александр Александрович 180
Фадеева, Ирина 372
Фальк, Роберт Рафаилович 435
Фатеева, Наталья Николаевна 260
Федоровский, Федор Федорович 86
Федотов, П. 111
Феона, Алексей Николаевич 377
Фернандес, Мигель 449
Филипп II Орлеанский 222
Филиппов, Андрей 448
Филиппов, Иван Максимович 335
Филиппова, Карина Степановна 14, 238, 239, 256, 283–286
Финци (Трифунович), Мара 259
Фламмарион, Камиль 30
Флетчер, Джон 108
Фомин, Владимир Иоаннович 207
Фомичева, Маргарита 244
Фортуни, Мариано 456
Фрадкина, Елена Михайловна 30
Фрезе, Петр Александрович 435
Фрезе, Эрвин Петрович 434, 435
Фрид, Ольга Юльевна 251, 267, 274–278, 331, 400
Фрид (Фридлянд; Колибри), Ян Борисович 59, 60
Фурцева, Екатерина Алексеевна 445
де Фюнес, Луи 300
Хазанов, Геннадий Викторович 415
Хаммер, Арманд 382
Ханаева, Евгения Никандровна 454
Ханжонков, Александр Алексеевич 22
Хачатурян, Арам Ильич 297, 354
Хемингуэй, Эрнест 288, 294
Хепберн, Одри 330, 338
Херсонский (директор училища) 45
Хлебников, Велимир 86
Хлевинский (первый муж Васильевой Натальи Петровны) 214
Хлевинская, Елена Дмитриевна 13, 243
Хмара, Григорий Михайлович 245, 406
Хмельницкая, Людмила Матвеевна 14, 276
Холмогоров, Николай Михайлович 101
Хома, Александр Стефанович 14, 413, 414
Хомова (Лазыкина), Татьяна Александровна 412, 413
Храбровицкая, Наталья Даниловна 453
Хрущев, Никита Сергеевич 281, 294, 386, 412
Хштоян, Вилли Вартанович 330
Хштоян, Карина Виллиевна 330
Царева, Наталья 459
Цветаева, Анастасия Ивановна 473
Цветаева, Марина Ивановна 256, 282
Целков, Олег Николаевич 229, 272, 414
Целкова, Алиса Олеговна 229, 414
Целкова, Антонина Константиновна 272, 273
Цигарелли, Ирина 449
Цискаридзе, Николай Максимович 255
Цитриняк, Михаил Григорьевич 468
Цифринович, Владимир Ефимович 271
Цифринович, Марта Владимировна 244, 270–274
Цифринович, Цива Марковна 271
Цысс, Марина 350, 351
Чайковский, Петр Ильич 9, 127, 237
Чарская, Лидия Алексеевна 57, 58
Черепанов, Михаил Васильевич 32
Черненко, Константин Устинович 358
Черновская, Людмила 14, 383, 405, 407, 476
Черчилль, Уинстон 410
Чехов, Антон Павлович 9–11, 24, 48, 113, 114, 119–126, 178, 206, 244, 245, 348, 392, 444
Чехов, Михаил Павлович 71, 245, 315, 318, 397, 440
Чижова, О.И. 102
Чириков, Евгений Николаевич 68
Чичагов, Василий Павлович 208
Чичагов, Василий Яковлевич 9, 207, 237
Чичагов, Михаил Николаевич 22, 210
Чичагов, Павел Васильевич 9, 207, 386
Чичагова-Васильева, Ольга Васильевна 208, 209, 386
Чкалов, Валерий Павлович 306
Чуковский, Корней Иванович 23, 27, 312
Чхиквадзе, Наталия Владимировна 377
Чхиквадзе, Рамаз Григорьевич 377
Шагал, Марк Захарович 435
Шадр, Иван Дмитриевич 86
Шаляпин, Федор Иванович 72, 190, 191, 244, 332, 446
Шаляпин, Федор Федорович 446
Шанель, Коко 370, 384, 441
Шапошникова, Людмила Викторовна 221
Шапс, Марк 186, 187
Шарапова, Арина Аяновна 14
Шатуновский, Виллиан Зиновьевич 164
Шах-Азизов, Константин Язонович 252, 324
Шаховская, Раиса Сергеевна 468
Шверубович, Вадим Васильевич 443, 444
Шверубович, Василий Иванович см. Качалов, Василий Иванович
Шверубович, Иоанн 443, 444
Шверубович, Мария Вадимовна 444
Швядайте-Уоллер, Юрате Дайнисовна 14
Шевченко, Аркадий Николаевич 300, 350, 413
Шевченко, Елена Аркадьевна 14, 300, 350, 383, 413
Шевченко, Тарас Григорьевич 69
Шейнцис, Олег Аронович 287, 288
Шекспир, Уильям 180, 217, 459
Шер, Татьяна Борисовна 14
Шереметев, Василий Павлович 260, 262–265
Шереметев, Павел Сергеевич 263
Шереметев, Петр Борисович 263
Шереметева, Евдокия Васильевна 262
Шереметева, Ирина Владимировна 262–264, 280
Шершаков, Николай Филиппович 81
Шестаков (актер) 97
Шефер, Нинель Андреевна 14, 276, 315, 321–323, 333
Шеховцев, Владимир Андреевич 436
Шехтель, Федор Осипович 434
Шиплер, Давид 185
Шифман, Матвей Исаевич 14, 276
Шифман, Юлия Матвеевна 14, 276, 278
Шифрин, Ниссон Абрамович 150, 178
Шишкин, Иван Иванович 106
Шлыкова, Ольга 453
Шмаринов, Алексей Алексеевич 411
Шмидт, Петр Петрович 39
Шнайдер, Инна Платоновна 298
Шнапер, Лариса 350
Шнейдер, Игорь Владимирович 434
Шнейдеров, Владимир Адольфович 298
Шолом-Алейхем 296
Шоршев, Виктор Захарович 373
Шостакович, Дмитрий Дмитриевич 309, 354, 384
Шрётер, Ирина Викторовна 216, 217
Штейн, Александр Петрович 78
Шток, Исидор Владимирович 108
Шульженко, Клавдия Ивановна 214, 286
Щедрин, Родион Константинович 389, 390
Щекочихин, Гера 351
Щербаков (профессор) 363
Щербинина, Алла Борисовна 255, 423
Щербинина, Светлана Борисовна 352
Щукин, Анатолий Михайлович 322
Эгиз, Борис Исаакович 397
Эйгес, Ольга Вячеславовна 91
Эйзенштейн, Сергей Михайлович 59, 381
Экстер, Александра Александровна 435
Энгельс, Фридрих 226
Энке, Наталья Владимировна 258
Эрдман, Леонид Иосифович 419
Эрте (Тыртов, Роман Петрович) 11, 389
Эсамбаев, Махмуд Алисултанович 415
Эскин, Александр Моисеевич 405
Эфрос, Анатолий Васильевич 102, 251, 286, 463, 464
Эфтимиу, Виктор 235
Юон, Константин Федорович 86
Юренайте, Сальвиния 411
Юрова, Елена Сергеевна 14
Юрьева, Изабелла Даниловна 377
Юрьева (Юрге), Маргарита Валентиновна 14, 276, 455
Юткевич, Сергей Иосифович 302
Яблонская, Татьяна Ниловна 346
Яковлев, Владимир Игоревич 435
Яковлева, Ольга Михайловна 14, 464, 465
Якуб, Евгений Николаевич 89, 288
Янка Купала 397
Яриков, Константин Петрович 401
Яров, Сергей Григорьевич 164
Ясулович, Игорь Николаевич 435
Ясулович, Наталья Юрьевна 14, 435
Ященко, Мария Олеговна см. Лаврова, Мария Олеговна
Ященко, Олег 469, 470
Иллюстрации
Примечания
1
Артём Александр Родионович (наст. фамилия Артемьев; 1842–1914) – актер. Играл в МХТ с момента основания театра. Роли Фирса и Чебутыкина были написаны Чеховым специально для Артёма.
(обратно)2
Водолив – рабочий на барже.
(обратно)3
Неточность автора: остяки – обобщающий этноним проживающих в Сибири народов (хантов, кетов, югов, селькупов).
(обратно)4
Аралова Вера Ипполитовна (1911–2001) – график, живописец, ведущий художник-модельер Всесоюзного дома моделей. Заслуженный художник РСФСР. Подробнее о В.И. Араловой см. в главе “Ближний круг” воспоминаний А.А. Васильева.
(обратно)5
Всероссийское театральное общество.
(обратно)6
Дмитриев Владимир Владимирович (1900–1948) – театральный художник, Заслуженный деятель искусств РСФСР. С 1938 г. – ведущий художник МХАТ им. Горького, с 1941 по 1948 г. – главный художник театра.
(обратно)7
Березкин Виктор Иосифович (1934–2010), автор монографии “Творчество А.П. Васильева” (М.: Изобразительное искусство, 1979). См. также: Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. М.: ЛКИ, 2010. Т. 7. Сценографы России. Александр Васильев. Март Китаев. Энар Стенберг.
(обратно)8
В 1936 г. в Москве началось движение по “переброске” молодых театров из столицы в крупные центры Советского Союза, за которым скрывалась политическая “чистка” театральной среды. Театр-студия Завадского был переведен в Ростов-на-Дону, где сам режиссер и костяк его труппы – Плятт, Марецкая, Мордвинов и другие – провели четыре года, с 1936-го по 1940-й. Здание ростовского театра было построено в 1935 г. и отличалось громадными размерами.
(обратно)9
В 2007 г. местности было возвращено прежнее название.
(обратно)10
Речь идет об алмазе “Регент”, принадлежавшем регенту Филиппу II Орлеанскому.
(обратно)11
Фурка – передвижная часть сценического оборудования, площадка на роликах.
(обратно)12
Карпатский лежник – правильное название лижнык (укр. лiжник) – гуцульский шерстяной плед.
(обратно)13
Икат – название ручной техники изготовления и окрашивания ткани и часто самой ткани, созданной в этой технике.
(обратно)14
Портбукет – аксессуар в виде небольшого футляра для цветов, который крепится к платью или носится в руках.
(обратно)15
les Incroyables et Merveilleuses – во Франции периода Директории (1795–1799) название модников и модниц из роялистски настроенной “золотой молодежи”.
(обратно)


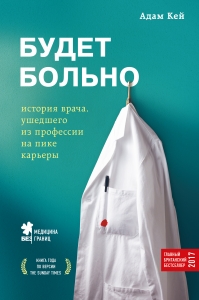

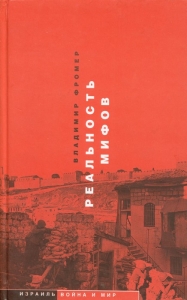
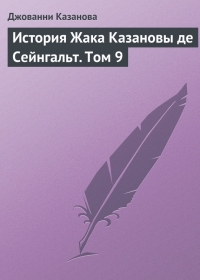
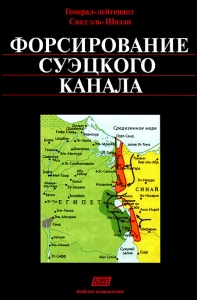

Комментарии к книге «Фамильные ценности», Александр Александрович Васильев
Всего 0 комментариев