Филип Аллен Грин Держи его за руку. Истории о жизни, смерти и праве на ошибку в экстренной медицине
Посвящается моей семье
Автор опирался на собственный врачебный опыт, но все истории, персонажи, детали и даже некоторые медицинские приемы являются вымышленными. Любые совпадения с реальными людьми, живущими или покинувшими этот мир, случайны. Никакие части этой книги не могут быть воспроизведены без письменного разрешения автора.
Ошибка
Иногда мне бывает скучно. Пациенты приходят только с ангиной и зубной болью. И в такие дни я чувствую себя скорее социальным работником и утешителем, чем врачом из приемного покоя. И тогда я играю в игру.
Я вхожу в палату, не заглядывая в карту пациента. Я иду просто так. Я вхожу, не представляя, кто там находится и почему. В первую секунду, пока человек не успел еще ничего сказать, я пытаюсь понять, кто он, какова его история и почему он оказался в приемном покое.
В этой игре больше смысла, чем может показаться. И я вам сейчас это продемонстрирую.
Я отдергиваю шторку и вхожу в смотровую № 2. Быстро оглядевшись, стараюсь сразу же собрать максимум информации.
В палате трое.
Я совершенно сознательно не смотрю на пациента на кровати. С ним двое, мужчина и женщина. Мужчина сидит на жестком пластиковом стуле у стены, уставившись перед собой. Что ж, начнем с него. Я знаю, что, если внимательно наблюдать, то станет понятна вся история.
Я изучаю мужчину. Ему уже под пятьдесят. На нем угольно-черный деловой костюм. Хорошая, дорогая ткань. Белоснежная рубашка идеально отглажена и накрахмалена. Мужчина слегка наклонился вперед, и красный шелковый галстук блеснул, привлекая мое внимание. Красная ткань испещрена мелкими золотистыми квадратиками. Узел завязан с идеальной точностью и симметрией. Это явно что-то означает, и я присматриваюсь еще пристальнее.
На левой руке мужчины часы «Ролекс». Ремешок отливает серебром. Циферблат перламутрово-белый, с тремя стрелками, показывающими время. Самая маленькая бежит, отсчитывая секунду за секундой. Корпус часов золотой — он сразу же дает понять, что время этого человека стоит дорого.
Я наблюдаю за мужчиной. Он чуть-чуть сдвигает руку, и часы вмиг заливают комнату мириадами искр. Чтобы засверкать, им достаточно даже слабого света люминесцентных ламп. Я сразу же понимаю, что одни его часы стоят дороже машины, на которой я приехал сегодня утром на работу. Не могу не подумать: «Этот человек совсем не такой, как я».
Я отлично знаю, что с такими людьми нельзя расслабляться. Достаточно малейшего промаха в общении — и на больницу обрушится шквал писем и жалоб. Но это нормально. Я работаю уже давно, и меня это не пугает, не злит и даже не беспокоит. В этой комнате мне предстоит совершать ежедневный ритуал. Я мысленно советую себе быть осторожным и продолжаю изучение.
Волосы у мужчины черные, чуть тронутые сединой — волосы руководителя, мне кажется, они должны называться именно так. Густые, буквально дышащие мужской силой и энергией. Каждая прядка тщательно уложена. Волосы этого человека сверкают почти так же, как его часы.
Он поднимает голову, чтобы взглянуть на меня. Я замечаю, что маленькая прядка выбилась из идеальной прически. Чуть выше уха. Эта прядка нарушает идеальную линию стрижки, вносит ощущение неправильности. Совсем чуть-чуть, но все же. У такого мужчины это, может, и ничего не значит. И одновременно сразу все.
Что-то не так.
Мужчина чисто выбрит, кожа у него гладкая и здоровая. Тонкие, черные, почти итальянские брови. Светло-голубые интеллигентные глаза. Он смотрит на меня так же изучающе, как и я на него. Сильный подбородок довершает цельный образ. Ему не нужно улыбаться, чтобы я понял: зубы его идеальны, симметричны и абсолютно белы.
Под глазами я замечаю темные круги. Похоже, он плохо спал. Конечно, это лишь предположение, но круги говорят не просто об усталости. Возможно, какие-то события, помимо работы, начали оттягивать его силы, ранее направленные только на достижения. Впрочем, может быть, это всего лишь следы, оставшиеся от очередного успешного слияния и поглощения. Я этого не знаю — пока не знаю.
Странно видеть такого человека здесь — даже если он просто сопровождает пациента. Я работаю в маленьком приемном покое крошечной больницы провинциального городка, затерянного в глуши. Я удивляюсь, как такой человек оказался в приемном покое именно здесь, вдали от мегаполисов. Он не похож на тех, кто приезжает на рыбалку или охоту. И уж точно он не похож на фермера. Но что-то привело его сюда, вырвало из его мира. Нечто такое, что не терпит отлагательств. Я присматриваюсь.
Морщины, складки и круги на его лице создают выражение, которое мне трудно понять. По крайней мере, с ходу. Я чувствую, что он мастерски контролирует эмоции. Но моя задача — читать по лицам и телам так же хорошо, как он читает биржевые бюллетени. В изгибе губ я улавливаю раздражение. Брови выдают гнев. В наклоне головы чувствуется легкий страх.
Но есть что-то еще, нечто такое, чего он не хочет показывать никому. Он скрывает это так хорошо, что даже при всем своем опыте я чуть было не упускаю это. Я наверняка упустил бы, если бы увидел мужчину в начале своей карьеры, 41 422 пациента тому назад. Но не сейчас.
В непроницаемой стальной броне, покрывающей этого человека, я замечаю тонкую, нежную нить, нить нежности и печали. Я не могу понять, что творится в душе этого человека, но понимаю, почему он хочет — нет, почему он должен — скрыть это от всего мира. Он старается скрыть это в прищуре глаз, за сверканием череды брутальных успехов. Но эта нить все равно остается с ним. Теперь я это вижу, вижу отчетливо. Печаль и нежность захлестнули его, как весеннее половодье, сбили с ног и потащили в ущелье, откуда ему не выбраться. Он тонет в этом водовороте печали, и ни деньги, ни власть, ни ярость не помогут ему выбраться.
Рядом с ним пустой стул.
Дальше сидит женщина.
Она чуть моложе мужчины.
Я не вижу ее лица, она отвернулась от меня.
Женщина уперлась локтями в колени и смотрит на экран смартфона. Она держит его нежно и любовно, словно младенца. Ярко-красные ногти выделяются на бело-золотом iPhone. Пальцы женщины длинные и элегантные, как у знаменитой пианистки или нейрохирурга. Она постукивает по иконкам, листает экраны, словно отправляя слуг исполнять свои поручения.
Руки у нее тонкие и гладкие, но довольно накачанные. Я замечаю небольшие крепкие бицепсы, четко обрисовавшиеся под кожей. Такие бицепсы буквально кричат про йогу, пилатес, личных тренеров, зеленые смузи и выведение токсинов из организма после обильных праздничных трапез.
Длинные русые волосы собраны на затылке в хвост и элегантно ниспадают до середины спины. Хвост скрепляет небольшая серебристая заколка, усыпанная сверкающими кристаллами, наверное, бриллиантами. Они сверкают даже ярче, чем «Ролекс» мужчины.
На женщине легкая шелковая рубашка золотистого цвета с глубоким вырезом на спине. Я хорошо вижу позвонки под кожей. Каждый позвонок — небольшой аккуратный бугорок, расположенный на равном расстоянии от верхнего и нижнего. Ничто не выбивается из общей картины, нет ничего ни слишком большого, ни слишком маленького. До этого момента я и не сознавал, что позвоночник может быть столь безупречным.
Кожа покрыта красивым темным загаром. Она буквально сияет от веганской диеты и принимаемых витаминов. Женщина барабанит пальцами по экрану смартфона, и небольшие волны прокатываются по мышцам спины. Я замираю в почтительном восхищении перед этой царственной красотой, заглянувшей в наш скромный городок. Совершенно ясно, что жизнь этой холеной дамы ничем не похожа на мою.
На полу возле ее ног стоит сумочка с полукруглыми бамбуковыми ручками. Золотые и серебряные пряжки соединяют ручки с самой сумочкой. Бамбук отполирован до идеальной гладкости. Ручки переливаются всеми оттенками коричневого. Кремово-белая полоса лишний раз подчеркивает благородство темных тонов и фактуру дерева.
На мой непросвещенный взгляд, цвет сумочки похож на цвет мокрой скаковой лошади, вышедшей из реки. Оттенок кожи отличается от бамбука. Я никогда прежде не видел такого коричневого цвета. Присмотревшись, я понимаю, что это яркий, глубокий, сияющий коричневый, сравнить который можно только со вспаханной по весне почвой. С землей, которую только что перевернули и разрыхлили. С землей, которая ждет семян, готовая поделиться с ними своей жизненной силой. Серебристые пряжки и бамбуковые кнопки гармонично дополняют эту сумочку.
Но тут я замечаю нечто странное — нечто ужасное, чего никогда не должно быть. Сумочка брошена. Идеальная коричневая кожа соприкасается с нашим истоптанным линолеумом. А содержимое рассыпалось под стулом, и женщина не поднимает свои вещи.
Моя секунда почти истекла.
Я поворачиваюсь к пациенту.
На постели лежит старик. Носы его потрепанных ковбойских сапог торчат вверх, как два острых камня в поле. На сапогах я замечаю прилипшие солому и грязь. Мусор осыпался прямо на простыни. На старике вылинявшие голубые джинсы. И на них я тоже вижу следы фермерского труда в поле.
Старика должны были переодеть в больничную одежду. Так поступают со всеми пациентами. Но местные мужчины всегда отказываются снимать ботинки и джинсы. Иногда, входя в палату, я вижу их в ковбойских шляпах. Так живут в этом захолустье.
На бедрах джинсы вылиняли сильнее — наверное, он часто вытирал о них руки, когда работал в поле. Наверное, он правша, потому что правое бедро вылиняло сильнее левого. Широкий кожаный ремень с пряжкой шириной в два кулака удерживает джинсы на талии — старик очень худ.
Пряжка ремня плоская и серебристая. Я замечаю на ней какое-то изображение. Мустанг взвился на дыбы, ковбой одной рукой держит поводья, а другую вытянул, чтобы сохранить равновесие. Шляпа взмывает над его головой. Вверху надпись «Чемпион Пендлтона 1942», внизу «Только вперед». Странно, но я понимаю, что и этот человек не похож на меня.
Старик лежит на кровати без рубашки. Грудь его поросла седыми волосами. На груди татуировка: два морских пехотинца поднимают флаг над Иводзимой. Пациент прерывисто дышит, и татуировка то поднимается, то опускается.
Я всматриваюсь в его лицо.
Старик явно устал и уже готов прекратить борьбу. Волосы его исчезли от химиотерапии, остались только брови. Кожа обвисла, свет в глазах угас. Он безразлично смотрит перед собой. На лбу выступили капли пота. Конец близок.
Мужчина и женщина поднимаются навстречу мне. Женщина стоит с одной стороны кровати, мужчина с другой. Женщина положила свою украшенную бриллиантами руку на плечо старика. Пальцы мужчины с нежностью поглаживают его жилистую, дочерна загорелую шею.
Я перевожу взгляд с одного на другого. И у всех я с удивлением вижу слезы. Слезы катятся по похожим носам, щекам, подбородкам. Слезы текут из одинаковых голубых глаз. Картинка сложилась!
Дочь и сын вернулись домой, чтобы проститься с отцом.
Я смотрю, как брат и сестра садятся у постели. Старик все еще судорожно хватает ртом воздух. Неожиданно он замечает детей. Он с трудом поднимает руки. Брат и сестра наклоняются к отцу. Он обнимает их за плечи, словно они еще маленькие. Они прижимаются к изможденному болезнью телу. Старик тяжело вздыхает и ждет конца.
Я стою перед ними — и у меня неожиданно наступает прозрение.
Я совершил ужасную ошибку.
Эти люди такие же, как я…
Переход
В те времена, когда цвет крови еще казался мне ярким, а от звука сирен сердце начинало учащенно биться, в те времена, когда я ловко управлялся с пациентами приемного покоя, как ковбой — с двумя пистолетами на поясе, тогда я ходил по приемному покою и болтал чепуху.
— Ну что ж, приступим, — говорил я. — Приступим.
Я только что окончил ординатуру, завершил курс обучения. Я был молодым доктором в новеньком белом халате и стремился испытать себя и свои умения. Я был готов ко всему, что подбросит мне мир.
— Приступим, — говорил я.
И мир принимал мой вызов.
И подбрасывал.
* * *
Ей семнадцать. На ней бело-голубая футбольная форма, все еще влажная от пота после тренировки. На груди я вижу большую белую цифру «7». Над номером — маленький тигренок, талисман. Он выпустил когти, прижал уши и припал к земле, готовый броситься на того, кто по глупости решит оспорить его первенство.
На каждом рукаве маленькие цифры «7», окруженные футбольными мячиками, — полагаю, каждый мячик означает забитый девушкой гол. Мне хочется остановиться и посчитать забитые голы, но у меня нет времени. «Надо же, — думаю я, — а она немало голов забила». Мячики символизируют столько голов, что я искренне изумляюсь. За ними семерку почти не видно. Счастливую семерку.
У девушки прямые русые волосы, собранные в хвост на затылке, чтобы не мешать во время тренировки. Волосы удерживает тонкая резинка.
Я подхожу к ней справа. Ее привезли несколько секунд назад. Кожа лица у девушки ровная и гладкая, с несколькими прыщиками. Каждый прыщик старательно замазан тональным кремом. На зубах у нее брекеты. Судя по выражению лица, девушка любит лошадей, кошек или щенков, а может, и всех сразу. Я моментально чувствую в молодых эту счастливую доброту по отношению к жизни, когда весь их мир состоит из дней рождений с воздушными шариками, любящих родителей и заботливых учителей. Ей нравятся браслеты. Не изысканные серебряные штучки, а дешевые, пластиковые или из резинок — такие носят подростки. Все правое запястье покрыто браслетами, словно одной широкой разноцветной резиновой лентой. Из браслетов выглядывают глазки старых часов Hello Kitty. Школьная куртка упала с каталки и валяется на полу. Я вижу на ней четыре футбольных значка, приколотых над буквами названия команды колледжа. Наверное, девушка уже заканчивает учебу. Еще четыре значка она заслужила за кросс и четыре — за баскетбол. Судя по всему, жизнь у нее напряженная.
Я отпихиваю куртку в сторону, чтобы встать прямо у изголовья кровати и провести осмотр. В приемном покое царит хаос — много народу, громкие нервные голоса, позвякивание инструментов, звук рвущейся упаковки одноразовых шприцев, трубок и катетеров. Отделение живет своей жизнью.
— Родители приедут через тридцать пять минут! — кричит кто-то.
Да, на этой девушке чисто девичьи разноцветные браслеты и часы Hello Kitty, но им меня не обмануть. Я знаю, кто эта девушка.
Она — боевой конь.
Она настоящая спортсменка. По-настоящему атлетичная.
Я вижу напряженные и подрагивающие мышцы на ее правой руке и ноге. Они способны мгновенно рвануться и прийти в движение. Девушка готова пересечь любое футбольное поле и атаковать ворота противника, готова забить победный гол с такой силой, что вратаря попросту сметет.
Я начинаю осмотр.
Я обследую ее голову. Сначала свечу фонариком в правый глаз. От света зрачок сужается, как и должно быть. Я отвожу фонарик, и зрачок расширяется. Рефлекс абсолютно здоровый — такой девушка и была девятнадцать минут и восемнадцать секунд назад.
Я осматриваю ее правое ухо. Барабанная перепонка розовая, как ногти на правой руке девушки. Об этом я как-то забыл. Ногти у девушки розовые, но в лаке есть блестки, которые отражают свет. Правая барабанная перепонка не блестит. Она просто розовая. Ухо ничем не примечательное. Мочка проколота. В ухе я вижу маленькую серебряную сережку в форме футбольного мяча. Мысленно я представляю, с какой радостью и восторгом она открывала коробочку с этими маленькими футбольными сережками в день рождения. Я не знаю, какую сережку увижу в ее левом ухе — может быть, это будет волейбольный мяч или мяч для софтбола. Это было бы неудивительно. У нее столько значков — стипендия в колледже ей давно обеспечена.
Я достаю стетоскоп и начинаю слушать. Легкое чистое. Каждый вдох сильный и здоровый. Эта девушка могла бы пробежать милю меньше чем за семь минут на одном лишь правом легком. Я поднимаю стетоскоп, пока сестра специальными ножницами разрезает форму со счастливым номером «7». Я вижу, как несколько футбольных мячиков под большими блестящими лезвиями распадаются на половинки.
Перехожу к животу. Правая сторона не напряжена, она мягкая, как и должно быть. Я ощущаю под пальцами печень — не потому что девушка пьет, а потому что жира у нее не больше восьми процентов. Если бы она напрягла живот, то округлый нижний край печени, несомненно, скрылся бы под твердыми мышцами, которые перекатываются под кожей.
Мысленно я вижу, как футбольная команда под палящим августовским солнцем выполняет приседание за приседанием. Я слышу, как девушка кричит подругам по команде: «В этом году мы победим на чемпионате штата! В этом году мы победим на чемпионате штата!» И подруги откликаются с той же энергией и яростью: «В этом году мы победим!» Тренер стоит рядом, уперев руки в бока, и с восхищением качает головой. У него никогда еще не было столь мотивированного и упорного игрока, яростно желающего победить.
С правой стороной таза все в порядке. Правое бедро выглядит нормально. Я нажимаю, чтобы выявить признаки вывиха или перелома. Все в порядке. Тазовые кости, по крайней мере справа, находятся в нормальном состоянии. Кости пружинят под моим нажимом — наверное, так же энергично вскакивает девушка, когда противники сбивают ее с ног.
Под футбольными шортами на девушке голубые эластичные шортики для бега. Они плотно облегают верхнюю часть правого бедра. Мышцы даже сейчас сохраняют форму. Я чувствую, что это результат усердных тренировок, энергичного спринта, забегов на длинные дистанции и дней, проведенных в спортивном зале в мечтах о чемпионате штата. Мысленно я слышу голос девушки. «Я приведу команду к победе! Я приведу команду к победе!» — твердит она, занимаясь на тренажере для ног, которым пользуются все футболисты. Она занимается, пока ноги не перестают ее слушаться, а кожа не начинает блестеть от пота.
Руками в перчатках я ощупываю правую ногу, выискивая травмы или растяжения. Ничего. Моя рука не может обхватить ее правый квадрицепс, и я сразу же думаю о бесчисленных приседаниях, которые она выполняет каждое утро перед уроками. Я вижу, как она изматывает себя до предела, уставившись на фотографию на стене: ее команда принимает кубок за второе место на чемпионате штата в прошлом году.
Но не в этом.
«Я приведу команду к победе!» — твердит она. Она целый год поднимается в половине пятого и пробегает пять миль[1] в темноте под дождем, снегом и ветром. Она изматывает себя, свое тело и свою команду до предела. В этом году она капитан. Она старшая. Она лидер. «Я приведу команду к победе на чемпионате штата!» — твердит она, хватая ртом воздух. Под декабрьским дождем тускло светят уличные фонари. Мимо проезжает мальчишка-газетчик. Он недоверчиво трясет головой, увидев девушку в футбольных шортах, которая пробегает мимо него в такую рань.
С правым коленом тоже все в порядке. Ни вывихов, ни растяжений. Со связками все отлично. Большеберцовая кость ровная и длинная. С такими длинными ногами и накачанными мышцами она, наверное, была настоящей фурией на поле, а на беговой дорожке обгоняла 95 процентов мальчишек.
Но ей этого было мало.
«Я приведу команду к победе на чемпионате штата!» — твердит она себе каждый вечер, вглядываясь в свое отражение в зеркале. Она повторяет это снова и снова, пока не засыпает. И просыпается она с той же мыслью.
Я осматриваю ее правую ступню. На ней бело-голубые футбольные кроссовки «адидас», идеально подходящие к ее форме. Шипы на подошве только начали стираться. Думаю, она часто надевала новые кроссовки на тренировку. Вся команда зависит от нее. Она звезда, альфа. Именно благодаря ей через восемь дней команда будет играть на чемпионате штата — второй год подряд.
Достаточно взглянуть на нее, чтобы понять: в этом году студенты колледжа присутствовали на всех играх своей команды. Все хотели поймать взгляд девушки, которая смогла возглавить команду и уверенно повела ее к чемпионскому титулу. Нет, потрепанные кроссовки не для этих ног. Слишком многое — и слишком многие! — зависит от них.
«Я приведу команду к победе на чемпионате штата!» — мысленно слышу я в последний раз.
Я обхожу изголовье кровати и начинаю обследовать левую сторону ее тела.
Волосы упали ей на лицо. Изо рта торчит пластиковая эндотрахеальная трубка, чтобы она могла дышать. Я не обращаю на это внимания. Я свечу фонариком в ее левый глаз. Я вижу гигантскую черную дыру, втягивающую в себя все чемпионаты, всю команду, всех тех, чьей жизни коснулась эта девушка. Я вижу пустую, бездонную черноту.
Зрачок расширен. Он не реагирует на свет, потому что что-то происходит в мозгу этой девушки, что-то кровоточит и расширяется, давя и сплющивая ее потенциал в ограниченном пространстве черепа. Все то, кем она является и кем может стать, секунда за секундой исчезает в этой бездне.
Я отвожу волосы с левого уха девушки. Волосы слиплись и стали жесткими от запекшейся крови. Мне приходится отдирать их от кожи. Они шуршат, как сухая паста, и трескаются под пальцами.
Я заглядываю в левое ухо. Барабанная перепонка темная. За ней скопилась кровь и теперь выдавливает ее наружу. Где-то произошел перелом черепа, где-то там, за ухом. Похоже, будущему этой девушки пришел конец. Просто я еще этого не вижу.
Я прощупываю позвоночник в области шеи. Шея тонкая и длинная. Представляю, как девушка мотала головой, злясь на подруг по команде, которые играли не в полную силу. «Я приведу команду к победе!» — кричала она. «В этом году мы станем чемпионами штата!» — подхватывали остальные и изо всех сил старались ни в чем не уступать своему бесстрашному капитану. Я прощупываю шею позвонок за позвонком. Позвонок за позвонком… Я прощупываю шею, как слепой, который читает азбуку Брайля. И вот я нахожу тот, что стоит не на месте. Вот он.
Шейные позвонки защищают спинной мозг. Когда кости сдвигаются, он повреждается. Спинной мозг не рассчитан на растяжение. Иногда, если приложить слишком большую силу, он не выдерживает. Кости ломаются и разрывают или перерезают спинной мозг. Пальцы сигнализируют мне, что этот позвонок выступает слишком сильно. Даже если в нашем маленьком приемном покое дежурил бы лучший нейрохирург, он ничего не смог бы сделать.
Я перехожу к левой стороне тела. Когда я прикладываю стетоскоп к коже, она хрустит, как воздушный рис. Даже мизерного веса моего стетоскопа для девушки слишком много. Я чувствую, как сжимается ее грудь. Похоже, ребра сломаны, они повредили легкое. Я прислушиваюсь. Дыхание девушки прерывистое, хриплое и темное — если звук может быть темным. Я понимаю, что она действительно дышит только правым легким. Сейчас ее тело бежит ту самую милю за четыре минуты на одном легком. Я слышу, как в левом легком что-то клокочет. Оно полно жидкости — жидкость проникла в легкое, когда то рухнуло, как старый рекорд под ударом нового чемпиона.
Я нажимаю на левую сторону живота девушки, пальцы мои прощупывают внутренности. Живот более напряжен, чем всего тридцать секунд назад. Нижние левые ребра грудной клетки расходятся ровно настолько, чтобы я понял масштабы бедствия. Эти ребра защищают селезенку, как вратарь ворота. На сей раз они не справились. Мне не нужен ультразвук или томограф, чтобы понять: селезенка разорвалась. Взорвалась, как взорвались трибуны, когда эта девушка забила решающий гол на последней минуте игры, которая вывела ее команду на чемпионат штата в этом году.
«Мы не уступим!» — кричала она своей команде. «Мы станем чемпионами штата!» — отвечали ей. Таз девушки стабилен.
Это хорошо. Я так думаю.
В левый пах воткнулся большой кусок острого металла. Он колышется вместе с током крови из бедренной артерии. «Как скорой удалось довезти ее живой?» — думаю я. Над девушкой склонился самый рослый медбрат нашей больницы. Он всем весом зажал кулаком артерию, пытаясь перекрыть ток крови. На его лбу выступил пот. Под его руками из левого квадрицепса торчит осколок белой кости.
— Где хирург? — кричу я.
— Он по локоть в кишках — оперирует перитонит! — кричит кто-то в ответ.
— Где другой хирург?
— Его нет в городе…
— Где вертолет?! — спрашиваю я.
— Отпадает. Медики уже звонили. Слишком сильный ветер — вертолет не может взлететь, — тихо отвечают мне.
Я чувствую, что остался в этом мире в полном одиночестве.
«Чертов городишко!» — думаю я.
Могучий медбрат надавливает на артерию изо всех сил. Но ему приходится бороться против элитной сердечно-сосудистой системы, которая яростно сопротивляется, напитанная адреналином. Это вам не старушка с носовым кровотечением. Если врач уберет руки, кровь забьет со всей силой, словно из пожарного шланга.
«Почему она все еще жива?» — думаю я. Она наверняка потеряла очень много крови.
И тут, словно отвечая на мой вопрос, девушка замирает.
— Где ее родители? — кричу я, и голос мой дрожит.
— Будут через полчаса! — кричит кто-то в ответ.
— Скажите им, чтобы поторопились.
Я стараюсь сделать все, что в моих силах, — как эта девушка, когда ставила рекорды штата. Я собираюсь и вспоминаю все, что знаю. Я напрягаюсь изо всех сил — и то же делает вся моя команда. Я провожу все манипуляции, которые только могу вспомнить. Когда идеи у меня кончаются, я прошу советов. Я не хочу останавливаться. Я не хочу зачеркивать будущее, обещавшее быть таким ярким. Я не хочу быть тем, кто выдернет вилку из розетки.
Но это именно я.
Когда я, наконец, произношу: «Стоп!» — крови снаружи уже больше, чем осталось внутри. Это ужасно.
Мы использовали всю кровь, что была в нашей маленькой больнице, за пятнадцать коротких минут. Она вливалась и выливалась.
Девушка умерла.
— Родители приехали… Родители приехали, — тихо произносит регистраторша.
«Они опоздали на три чертовы минуты», — думаю я.
Мне предстоит говорить с ними.
Я медленно снимаю свою форму. Голубой материал покрыт ярко-красными пятнами. Я снимаю маску, перчатки. Все покрыто кровью — мы боролись до конца. Мы изо всех сил старались сохранить ей жизнь.
Вот только усилия наши — и наши молитвы — ни к чему не привели.
— Я нормально выгляжу? — спрашиваю я у стоящей рядом сестры. Она ошеломлена произошедшим.
Сестра смотрит на меня. Она понимает, о чем я спрашиваю. Она берет полотенце и вытирает капли крови с моего лица. Я прошу проверить еще раз, на всякий случай. Все в порядке. Крови нет, ни одной капли. Отец и мать не должны увидеть на мне ее кровь.
Иногда врачи чувствуют себя самыми одинокими в мире. Сестры и врачи расступаются. Они отходят в сторону, притворяясь, что заняты бумагами, оборудованием, уборкой.
Я ценю это. Я ценю возможность подготовиться.
Я выхожу в коридор, который ведет к залу ожидания. В коридоре пусто. Ни пациентов, никого. Я слышу свои шаги по полу, застеленному линолеумом. Окон в коридоре нет. Я не могу выглянуть и увидеть горы на юге. Здесь только я. Я иду на встречу с родителями.
Я стараюсь не думать о собственной дочери, о своих сыновьях. Я стараюсь не думать о том, что мне предстоит. Я стараюсь не думать, как ужасно будет получать приглашения о приеме в университеты, когда абитуриента больше нет.
Я открываю дверь. Родители сидят на диване, держась за руки. Так футболисты сидят на скамье во время последней игры года, в последнюю минуту все еще надеясь на победу, на чудо.
Только не сегодня.
Со временем я забуду о крови на ее волосах, о раздробленной груди, сломанной ноге и поврежденной артерии. Другие травмы вытеснят из моей памяти эти воспоминания. Но я никогда не забываю лица. Лица, которые умоляют меня сказать, что произошло чудо, что мы спасли их дочь, что все еще есть надежда.
Я сажусь напротив. Правая рука начинает дрожать. Я удерживаю ее левой рукой, делаю глубокий вдох, сосредоточиваюсь и начинаю говорить:
— Вашу дочь сбил пьяный водитель, когда она возвращалась с тренировки. Мы сделали все, что могли, — все, что можно было сделать, и даже больше. Но она умерла. Она умерла.
Мои слова становятся для них переходом. Переходом от семьи назад, к паре. Я стараюсь не думать об этом. Но мне не всегда удается контролировать свои мысли.
Я всегда пытаюсь сказать что-то еще. Что-то мудрое, глубокое и утешительное. Что-нибудь. Что угодно. Но я проходил через это много раз и понимаю, что сказать мне нечего. Я вижу, как рушится их вселенная. Она разлетается вдребезги у меня на глазах. Их жизнь разрушается и рассыпается, как пыль на ветру. Тысячи осколков летят в разные стороны. Мои слова уничтожили все — все, кем они были, кто они есть и кем будут.
Я сижу, изо всех сил сжимая правую руку, чтобы та перестала дрожать. Ногти впиваются в ладони. Мне больно, но я сжимаю руку еще сильнее. Я заставляю себя думать о чем-то другом.
«Не сейчас, — твержу я себе, — не сейчас». Я подумаю об этом позже. А сейчас я должен собраться. Прошло пятьдесят восемь минут после начала двенадцатичасовой смены первого дня рабочей недели. Будет еще четырнадцать пациентов. Нам нужно пережить эту травму. Я — единственный врач в приемном покое. Я не могу думать об этом сейчас. Я не должен думать об этом сейчас.
Приходят священники. Они садятся рядом с родителями. Через несколько минут я провожу их в смотровую, чтобы они простились. Я хочу быть там. Я должен быть там, тихо стоять в стороне, когда они будут плакать. Я должен помочь им проститься. Должен ответить на все вопросы. Быть еще одним, кто никогда не забудет их дочь. Я выхожу в коридор. Мимо меня к залу ожидания бегут девушки в спортивной форме. Они плачут. Они уже знают. Я вижу родителей другой девушки, которые идут вслед за ними. Вижу бабушек и дедушек. Мимо меня проходят тренеры. Они — словно падающие звезды, которые сгорают у меня на глазах одна за другой.
Но мне нужно работать. Я не могу думать об этом прямо сейчас. «Не сейчас, не сейчас», — твержу я себе.
Я вхожу к другому поступившему пациенту, сажусь. У девочки болят ушки. Девочке четыре года. Она носится по комнате, волосы ее собраны в хвост на затылке. Хвост стягивает резинка. Родители шутят, что сегодня им пришлось долго ждать. Они стараются быть веселыми, милыми и дружелюбными. Я ценю это больше, чем они могут себе представить.
Я пытаюсь улыбаться, пытаюсь делать вид, что все в порядке. «Не сейчас, — твержу я себе, — не сейчас».
Я пережил эту смену. Через двенадцать часов я вхожу в свой дом.
Дети бросаются ко мне и крепко обнимают.
— Как прошел день? — спрашивает жена.
Я не успеваю ответить, как младший ударяется головой об угол и начинает плакать. Жена опускается на колени и целует его.
— Все хорошо, — лгу я. — На работе все в порядке.
— Ты не можешь отвезти мальчиков на тренировку? — спрашивает жена. — И знаешь, кого сегодня вызывали к директору школы? — она переводит взгляд на нашего старшего. — Поговори с ним!
— Хорошо, — киваю я, стараясь забыть то, что случилось в больнице.
— И еще одно. Мы получили счет за прием у дантиста. Они снова вышли за рамки нашей страховки. Ты не можешь позвонить им, когда будет время? Может быть, пока будет идти тренировка? Я сказала им, что ты перезвонишь. По-моему, ту женщину зовут Шерри. Когда будешь звонить, позови Шерри.
— Хорошо.
Я вхожу в гостиную. «Не сейчас, — твержу я себе, — не сейчас». Забудь об этом. Не впускай это сюда.
Ночью я не могу заснуть. Я поднимаюсь и хожу по дому. Темно. Дом кажется пустым, хотя вся семья в сборе. Я ощущаю тревогу и покрываюсь потом.
«Не сейчас, — твержу я себе, — не сейчас».
Я принимаю снотворное и засыпаю.
На следующий день я иду на работу.
Через шесть дней неделя закончилась. Работа вымотала меня. У меня нет сил. Голова постоянно болит. Суставы не слушаются. Я пытаюсь выйти на пробежку, но ноги и руки, похоже, забыли, как работать в команде. На подбородке выступила сыпь. Я сплю не больше часа. Но все же я пережил эту неделю. Я все сделал. Я выполнил свой долг до конца.
У меня выходной, но жена работает, а дети учатся. Когда я проснусь, их уже не будет дома.
Я делаю себе сэндвич с арахисовым маслом и мармеладом, кладу в коробку и убираю в рюкзак. Затем сажусь на мотоцикл и два часа еду по проселочной дороге в горы.
Я нахожу спокойное место с видом на каньон и развожу маленький костер. Готовлю себе чай — зеленый чай с мятой. В горячую воду добавляю сосновых иголок.
Когда все сделано, я подхожу к краю обрыва. Над металлической кружкой поднимается пар с запахом мяты и сосны. Я снова сажусь, прислонясь спиной к старому дереву.
И тогда я открываю потайной ящик в своей голове.
Я снова вижу ту девушку, ее родителей, приемный покой, себя самого, свою семью, этот город и эту жизнь.
Как драгоценные камни, найденные на дне реки, перебираю их в своей голове, верчу на ярком солнечном свете, изучаю, пытаюсь понять.
Это части головоломки, которые я не могу сложить вместе. Я пробую разные комбинации, разные сочетания, но все не так. Как бы я ни складывал детали, края не совпадают. Между ними остаются уродливые пустоты. Через какое-то время я сдаюсь. Прихлебываю чай и смотрю, как в небе парит ястреб, выписывая круги в тихом воздухе. Может быть, лучше оставить эти кусочки так, как есть. Может быть, вся проблема в том, что я пытаюсь их собрать… Однако несобранная головоломка тревожит меня и не дает о себе забыть.
Но делать нечего. На следующий день я готовлюсь к новой рабочей неделе. Я допиваю кофе, ставлю чашку в раковину и тут краем глаза замечаю газету на кухонной столешнице.
У меня перехватывает дыхание. Правая рука начинает дрожать.
Полстраницы занимает большая фотография женской футбольной команды. Девушки стоят на пьедестале, сооруженном посреди футбольного поля. На них бело-голубая форма. Я вижу маленьких тигров на их футболках.
Я пристально рассматриваю фотографию. Рядом с каждым тигром на каждой футболке пришита маленькая цифра «7». Перед девушками стоит огромный золотой кубок. Девушки опустились на колени и склонили головы. У них подняты правые руки. Указательные пальцы направлены к небу.
В центре стоит вратарь. Ее голова тоже склонена, как у остальных. Но она подняла обе руки. Она держит футболку с номером «7», подняв ее высоко над головой.
Я касаюсь фотографии пальцами, чтобы убедиться в ее реальности.
Она реальна.
«НАКОНЕЦ-ТО ЧЕМПИОНЫ ШТАТА!» — гласит заголовок.
Я один в кухне. Сердце у меня часто бьется. Кусочки головоломки неожиданно сложились, а пустоты между ними заполнились.
«Ты сделала это, — шепчу я футболке с номером „7“ на фотографии. — Ты привела свою команду к победе. Ты всегда этого хотела. Ты сделала это, и они победили. Теперь ты свободна. Покойся с миром».
Ночное дежурство
Шесть утра.
До конца ночного дежурства остался час.
Дождливый февральский вторник.
Я пью кофе и смотрю, как дождь барабанит по лужам во дворе приемного покоя. На улице темно. Луч фонаря разрезает дождь и туман и теряется в темноте.
Я делаю глоток. Кофе крепкий, темный. В этот час кофе творит чудеса. Делаю еще один медленный глоток, сжимая стеклянную кружку обеими руками.
Остался всего час.
В приемном покое пусто. Уборщицы все закончили. Они отмыли полы приемного покоя от крови, рвоты и экскрементов. Они смыли черную грязь, которую принесли на своей обуви пациенты и их родственники. Полы снова сверкают белизной. В них отражаются параллельные ряды люминесцентных ламп, тихо гудящих над головой.
Все каталки приготовлены к дневной смене. Все застелены тонкими белыми хлопковыми простынями. Простыни туго натянуты на жесткие черные пластиковые матрасы. В изголовье каждой каталки лежит подушка.
Телевизоры не работают. Ни сериалов, ни ток-шоу, ни CNN, ни Fox News. He звонят мобильные телефоны, не мигают тревожные лампочки.
Все тихо.
И спокойно.
Пока.
Я бужу пациентов в пять часов. Из-за дождя я дал пьяницам поспать лишний час. Я бужу их, они зевают и трут налитые кровью глаза на небритых лицах. Они не спорят, не просят сэндвич, даже не благодарят. Они могут лишь подняться навстречу новому дню. Они знают, что я оказал им огромную услугу, позволив выспаться здесь. Это исключение — дождь сегодня слишком сильный.
Пьянчуги поднимаются и один за другим скрываются в темноте под дождем. Они напоминают мне лосей, которых я иногда вижу, когда выезжаю за город, в горы. Они движутся медленно, осторожно, аккуратно. Я понимаю, что они нащупывают свой путь в жизни и неуверенно его прокладывают. Каждый ищет еду или выпивку — так еще один день будет прожит.
Я смотрю, как последний останавливается прямо за стеклянной дверью приемного покоя. Он роется в мусорном баке, выискивая бутылки, чтобы обменять их на несколько пенни или даже на целый доллар. Но ему ничего не удается найти. Он стряхивает капли дождя с головы, взваливает на плечо мешок и уходит в темноту вслед за своими товарищами по несчастью, направляясь на все четыре стороны.
Я прислоняюсь к стойке с медицинскими рациями. Всю ночь они передавали сигналы тревоги, но сейчас умолкли. Я делаю еще один глоток кофе. В дальнем конце зала сидит медсестра и что-то внимательно изучает в компьютере. На мониторе сияет голубое небо и высятся зеленые пальмы. Девушка кликает на баннер — ее мечты явно где-то далеко. В нескольких метрах от нее сидит медбрат. Ему уже за пятьдесят. Волосы поседели. На плечи он накинул белое больничное одеяло, а ноги скрестил и положил на соседний стул. Голова его клонится набок. Он спит. Я вижу, как подрагивают его руки и ноги. Наверное, ему снится новорожденный, которого мы спасли этой ночью.
Приемный покой готовится к новому дню. Через двадцать минут придут медсестры следующей смены. Все начнется сначала. Ночная смена уступит место дневной. Вскоре появятся пациенты, и приемное отделение заполнится. Раздастся вой сирен скорой помощи, будут кричать младенцы. Большинство пациентов мы спасем, но кто-то умрет.
Дневная смена будет бегать, спешить, делать все, что в их силах, чтобы помочь всем. Они устанут и вымотаются, как мы пару часов назад, когда приемный покой был полон. Через двенадцать часов мы встретимся, и они будут такими же, как мы сейчас, — усталыми, с серыми лицами и покрасневшими глазами.
Когда мы вернемся, зал будет выглядеть не так, как сейчас. Здесь будет полно пациентов, будет шумно и суетливо. Но сейчас, на короткий момент, в приемном покое царит тишина.
Я делаю еще один глоток. Кофе почти кончился. Дождь барабанит по лужам за окном.
«Да, — думаю я. — Если знаешь, где искать, то покой можно найти везде. Даже здесь».
Команда
Олень прыгает. Он скользит по мокрой грязи, взмывает в небо и падает прямо перед яркобелыми фарами «тойоты камри».
Водителю кажется, что олень рухнул с неба, словно брошенный чьей-то гигантской рукой, невидимо нависающей над проселочной дорогой. Копыта оленя гулко ударяются о дорогу, длинные ноги сгибаются, чтобы скомпенсировать силу удара. Резкие тени пробегают по боку оленя — машина быстро приближается. Мышцы спины сокращаются, готовясь отправить животное в новый прыжок, к другому краю дороги.
Водителя охватывает ужас. На скорости семьдесят шесть миль в час у него нет времени что-то сделать, даже нажать на тормоз. Решетка радиатора таранит оленя. Фары на мгновение гаснут, а потом начинают моргать красным и белым светом. Олень исчезает во мраке. Его больше нет в этом мире.
Водитель реагирует, но уже слишком поздно. Он выкручивает руль в сторону. Машина начинает скользить. Паника водителя усиливается, и он резко выкручивает руль в противоположном направлении. «Тойоту» разворачивает к дороге, прочь от белых столбиков, которые возникают в свете фар, как клавиши рояля, падающие с неба. Колеса скрипят и скользят по асфальту, дорога начинает мстить. Машина переворачивается раз, потом еще раз, еще… Когда она останавливается, то перестает быть машиной — это искореженный стальной гроб. Масло капает, бензин вытекает, над горячим радиатором в холодном ночном воздухе поднимается пар. Троих из четверых подростков, сидевших в машине, тоже больше нет.
Какое-то время в машине никто не двигается. Воцаряется тишина. Вдруг тишину нарушает тихий плач. Груда металла позвякивает и содрогается. Через разбитое заднее стекло выбирается юноша в порванном смокинге. Он падает на землю, перекатывается на спину. Он лежит, глядя на мерцающие в небольшом просвете между тучами звезды. Парень дрожит, сердце его отчаянно бьется. Он прислушивается к звуку вращения одного из колес. Рядом с ним груда металла, которая только что была машиной.
Сейчас 1:38 ночи. Суббота. Маленький городок. — Док, — меня трясут за плечо. — Док, проснитесь. У нас травма.
Я сажусь на кровати и потираю лицо. На подбородке пробилась щетина. Во рту пересохло — слишком много кофе. Мне снился наш старый пес — он кидался в озеро за брошенной палкой. Он никогда в жизни этого не делал. Я смотрю на часы. 2:04 утра. Черт!
Я выхожу в зал. Ночная медсестра Сьюзен включает свет. Приемный покой оживает. Из громкоговорителя раздается голос:
— Внимание! Травматологи — в приемный покой! — пауза и снова: — Внимание! Травматологи — в приемный покой!
Я улыбаюсь. Наша команда состоит из четырех человек. Когда я работал в большом городе, у нас было около двадцати разных специалистов, техников, медсестер, администраторов и хирургов. Так было и днем, и ночью. Порой специалистов было столько, что некоторых приходилось выгонять, чтобы освободить место для пациентов.
Здесь все иначе. Здесь есть врач (то есть я), медсестра приемного покоя, техник и еще одна сестра, которую прислали из отделения.
Я подхожу к рации, прислушиваюсь. Но рация молчит.
— Что у нас? — спрашиваю я у Сьюзен.
Она качает головой. Сьюзен — ночная медсестра больницы.
— Четыре подростка. Трое погибли на месте. Один еще жив. Они везут его сюда.
Сердце у меня сжимается.
У меня трое подростков.
Вечер пятницы в маленьком городке. Сегодня выпускной. Мои сыновья отправились на танцы. Мысленно я подсчитываю шансы. В школе восемьдесят шесть старшеклассников. Три шанса из восьмидесяти шести, что один из погибших мальчишек — мой сын. Или, если считать правильно, шансы один к двадцати восьми.
Неважно, как считать.
Я пытаюсь вспомнить, что говорила жена: чем дети собирались заняться после танцев. Смотрю на часы. Они должны уже быть дома. Но они же подростки, и сегодня выпускной. Что подростки делают после танцев? Меня начинает бить дрожь. Я тоже был подростком.
Это тревожное чувство охватывает меня каждые выходные с тех пор, как мои сыновья стали старшеклассниками. Я называю это «пятничная дрожь». Мы — единственный приемный покой в городе. Я — единственный неспящий врач скорой помощи во всем округе. Каждый раз, когда рация сообщает об автомобильной аварии или травме, меня охватывает ужас. Я думаю только об одном: смогу ли я это сделать? смогу ли я лечить собственного ребенка?
Я знаю, что это страшный вопрос, который не следует задавать. Об этом даже думать нельзя. И все же это часть моей жизни, часть жизни в маленьком американском городке. Это реальный, сильный, холодный страх, с которым я живу постоянно.
«Смогу ли я сделать это? — спрашиваю я себя. — Не придется ли мне делать это сегодня ночью?» Я покрываюсь холодным потом.
— Где это случилось? — спрашиваю я.
Сестра с головой ушла в бумаги.
— Сьюзен, где случилась авария?
Она поднимает глаза.
— Извините… На горе Джексона.
Она отвечает, но не слушает. Я вспоминаю, что у нее дочь-подросток. Девушка учится вместе с моими сыновьями.
Сьюзен терзают те же мысли, что и меня.
Я не религиозный человек. Я не хожу в церковь по воскресеньям, хотя и следовало бы. Но голову даю на отсечение, что во время работы я молюсь больше, чем любой прихожанин. И сейчас я молюсь про себя: «Господи, пусть это не окажется кто-то из моих сыновей!»
Можно ли об этом молиться? Можно ли молиться, чтобы мертвым в разбитой машине сейчас лежал чей-то чужой сын, а не мой? Что подумает Господь о такой молитве? Я не знаю, но продолжаю молиться.
«Господи, пусть это будет чей-то чужой ребенок!»
По выражению лица Сьюзен я понимаю, что она молится о том же.
— Как далеко?
— В десяти минутах.
— Вы сказали, что выжил мальчик?
Сьюзен медленно кивает.
Я знаю, что она думает о своей дочери.
Я слышу звук ключей в двери, ведущей в коридор. Дверь открывается. Влетает Том, наш техник. Волосы у него стоят дыбом, а на щеке образовалась красная вмятина — спал он на чем-то твердом. Том — парень крупный и жизнерадостный. Он всегда готов прийти на помощь, что бы от него ни требовалось. Если понадобится искусственная вентиляция легких, именно он будет подключать аппарат, который поможет пациенту дышать.
— Что случилось, док?
Том улыбается. Пот выступил у него на лбу — так он торопился. Я рассказываю. Улыбка исчезает.
— Черт!
Том проводит рукой по лбу, вытирая пот. Все веселье прошло. Его сын учится вместе с моим старшим. Они вместе играют в бейсбол. В прошлом году его парень сумел вывести команду в плей-офф. Он молодец.
Звонит телефон. Я поднимаю трубку. Это диспетчер.
— Док, это Энн. Они на горе Джексона. Рация снова не работает. Я перезвоню вам, если что-то узнаю.
Я вешаю трубку. Нам остается только ждать. Гора Джексона — одна из гор к югу от города. Она целиком покрыта лесом и служит границей между двумя округами. Это не гора в обычном смысле слова, но все дети называют ее именно так. Все в городе знают, что происходит на горе Джексона. Мы все знаем, потому что и сами когда-то были детьми.
Вдоль извилистых тропинок там журчат ручьи, зеленеют луга, высятся елки. Это большой район на краю огромного национального лесного парка. Гора Джексона — идеальное место для походов, пикников, костров, то есть для всего, чем любят заниматься подростки, когда родителей нет рядом.
Проблема в том, что на тысячу квадратных миль леса приходится всего два шерифа. Один из нашего округа, второй — из соседнего. И совершенно ясно, что они особо не тратят время на прочесывание леса в поисках загулявших подростков. У них и без того работы хватает.
Гора Джексона — прекрасное место. Я обожал эту гору, когда учился в старших классах, но как же я ненавижу ее сегодня! За пятнадцать лет, прошедших с моего возвращения в родной город, мне довелось осматривать множество пьяных водителей, нашедших свою смерть на извилистых горных дорогах.
Звякает лифт. Двери открываются.
Пришла Аманда, одна из ночных медсестер отделения. Она страстная курильщица и любительница жареного. Но она лучшая медсестра. У нее тоже есть дочь-подросток. Я видел девушку буквально накануне дежурства. Мой младший пригласил ее на выпускной.
Аманда входит, и я сразу же чувствую запах табака. Уверен, что она снова курила в туалете для персонала наверху. Она видит наши лица.
— Что у нас? — спрашивает она.
Мы рассказываем. Она делает глубокий вдох, сцепляет пальцы и направляется во вторую смотровую. Пора готовиться.
Мы — команда приемного покоя. Мы — ловцы над пропастью во ржи. Нас четверо — это очень мало. Мы одни на сто миль вокруг. И нам никто не поможет — только мы можем помочь друг другу.
Сначала мы одеваемся и надеваем перчатки. Все молчат. Я затягиваю завязки на хирургической форме Тома, поворачиваюсь к нему спиной, и он затягивает завязки на моей форме. Аманда завязывает костюм Сьюзен и поворачивается, чтобы та завязала ей. Я достаю коробку с масками с прозрачными пластиковыми щитками и протягиваю всем по очереди. Потом надеваю маску сам.
Том и Аманда выкатывают из смотровой каталку и вкатывают кровать. Кровать эта более жесткая, чем обычно. На такой кровати можно сделать рентгеновский снимок, не тревожа пациента. На ней можно выполнять массаж сердца, и пациент не будет проваливаться в матрас. Она водонепроницаемая, так что мы можем вскрыть грудную клетку и ввести в нее трубки и даже запустить сердце в ожидании медицинского вертолета. Кровать способна выдержать многое — в надежде на чудо порой приходится совершать ужасные вещи.
Когда люди думают о скорой помощи, они сразу же вспоминают массаж сердца и чудесные исцеления. Они вспоминают то, что делает врачей, медсестер и работников приемного покоя одной командной. Но на самом деле все не так.
В такие моменты, когда мы стоим вокруг пустой каталки, каждый из нас думает о собственных сыновьях и дочерях.
Мы ждем. Все молчат.
Я снова начинаю молиться: «Господи, пусть это будет не мой сын. Пожалуйста, прошу тебя, не заставляй меня реанимировать собственного ребенка. Не требуй этого от меня».
Странно, но я знаю, что могу сделать это. Я знаю, что могу отключить эмоции и заняться реанимацией с холодным расчетом — если придется. Внутри меня есть надежный выключатель, который напрочь отключает все чувства.
Но за это приходится платить.
За годы я на горьком опыте убедился, что стоит выключить чувства, как включить их становится все труднее и труднее. Если случай очень тяжелый, очень прискорбный, то проходят недели, прежде чем удается восстановить прежнюю чувствительность. Если бы мне пришлось реанимировать кого-то из родных, я бы отключил все эмоции. Я никогда бы не сделал этого, но если бы на моих руках умирал близкий человек, мне пришлось бы. Этот выключатель всегда со мной, днем и ночью. Я знаю, что если мне придется отклю-чить эмоции надолго, то я перестану существовать.
Не поймите меня превратно. Я могу сделать это в считаные секунды. Я знаю, потому что заставлял себя мысленно проделывать это снова и снова. Если будет нужно, я смогу сделать это и спасти их. Я не предам их, когда они будут нуждаться во мне больше всего.
— Что за машина? — тихо спрашивает Аманда.
Она стоит, сцепив руки в перчатках перед собой. Я понимаю, что она молится, чтобы это была не ее дочь. Меня поражает мысль, что она молится, чтобы это был не ее ребенок — а мой. Я ее понимаю. Мы вчетвером стоим, обратив лица во мрак. Такое испытывают немногие в этом мире.
— Они не сказали, — отвечаю я.
Замечаю, что Том что-то набирает на телефоне. Он набирает, и набирает, и набирает. Тот, кому он пишет, не отвечает. Глаза Тома блестят, лицо напрягается. Потом он делает глубокий вдох и откладывает телефон в сторону.
Мне тоже хочется написать мальчикам или жене. Но если они не ответят, что тогда? Я должен быть готов ко всему. Это моя работа. За это мне платят.
Мы ждем. В нашей единственной школе восемьдесят шесть старшеклассников. У нас четверых там учится шесть подростков. Шансы становятся ниже. Один к четырнадцати, что чей-то ребенок окажется в этой машине. «Пятничная дрожь» усиливается. Плохие шансы.
Меня начинает мутить: «Пожалуйста, Господи! Пусть это будет не мой ребенок. Пусть мои дети вернутся домой. Не заставляй меня сегодня использовать выключатель. Я все еще могу помогать людям. Дай мне шанс».
Аманда думает о том же.
— Нам надо перестать встречаться таким коллективом, — тихо шучу я. Все фыркают. — Кто-нибудь может узнать о нас четверых.
Аманда немного расслабляется.
— Мы — команда, — говорит она.
— Мы — команда, — повторяем мы.
Это наша старая шутка только для нас четверых. Когда-то это было смешно. Но сейчас во мраке ночи шутка приносит нам мало утешения.
Мы слышим вой сирен.
Мы смотрим друг на друга. Порой те, кого я знаю только по работе, становятся для меня ближе всех родных.
Последние приготовления во второй смотровой. Мы готовы. Я полностью доверяю своей команде. Я знаю, что они сделают все от них зависящее, что бы ни произошло в ближайшие тридцать секунд. Все они прошли боевое крещение. Это мои однополчане. Моя семья.
Во двор въезжает скорая помощь. Сирены смолкают. Открывается дверь.
Я нащупываю внутренний выключатель на случай, если Бог не услышал сегодня моих молитв. Рука ложится на выключатель, готовая мгновенно нажать на него. «Я не буду смотреть в лицо», — твержу я себе. Если это мой сын, я не буду смотреть ему в лицо. Я нажму выключатель и сделаю все, что нужно. Я прокручиваю в голове порядок действий. Я понимаю, что готов ко всему. Сомнения прочь. Я совершенно опустошен. Все мои чувства исчезли.
Раздается грохот каталки с пациентом. Я не слышу звуков аппарата искусственного дыхания.
— Мы сделаем это, — тихо произношу я.
Каталку ввозят в зал.
На ней сидит мальчик в смокинге. Лицо и смокинг покрыты пятнами крови, но, судя по всему, кровь не его. Он плачет. Похоже, он не пострадал. Сопровождающий медик, который тренирует моих мальчишек в баскетбольной команде, что-то говорит, но мы слышим только одно:
— Ребята из пригорода… Ребята из пригорода… И в этот момент я понимаю, что он молился о том же, что и я. Только он молился, когда скорая помощь неслась на гору Джексона к месту аварии и над его головой выла сирена. Он молился, чтобы в аварию попал не его ребенок. Но он молился и о том, чтобы, если это окажется его сын, суметь отключить свои чувства и сделать все необходимое, чего бы это ему ни стоило. Он тоже часть команды.
Мы все вздыхаем с облегчением.
Господь услышал наши молитвы.
* * *
В соседнем округе шериф в темноте стоит перед небольшим домом. С неба льет дождь. Капли собираются на полях шляпы, а потом стекают прямо на лицо шерифа.
На стене гаража закреплено баскетбольное кольцо, на дорожке лежит мяч. На флагштоке у дверей поник мокрый флаг с изображением эмблемы команды. В доме спит жена шерифа, она и не заметила непогоды.
Шерифа бьет дрожь, но не от холода. Сегодня он единственный шериф на весь округ.
Он тоже узнал об аварии.
Он дрожит.
Ему нужно отключить свои чувства — целиком и полностью.
3.14 утра. Суббота. Маленький городок.
Спаситель
Однажды я совершил глупость.
Я попытался сосчитать, сколько мертвых младенцев держал в своих руках.
Этой ночью они пришли ко мне во сне. Серые младенцы. Синие младенцы. Обмякшие тельца. Окоченевшие тельца. Крупные младенцы, маленькие, безобразные, милые. Младенцы в подгузниках. Младенцы в крохотных платьицах с розовыми бантиками. Младенцы, почерневшие от пожара, побелевшие от переохлаждения. Младенцы, о которых я не могу писать, потому что это слишком ужасно.
Я верчусь в постели. Я не могу спать.
И в следующее же дежурство у меня был еще один мертвый младенец.
* * *
Визжат тормоза. Я поднимаю глаза и вижу, как во двор влетает автомобиль. Машина старая, «шеви нова». Грязная, помятая машина зеленого цвета. В ней полно народу. Машина тормозит и останавливается. Она чуть-чуть покачивается — подвеска давно сломана и стала бесполезной. Открывается правая задняя дверь. До меня доносятся звуки песни Scorpions «Rock You Like a Hurricane» — стерео в машине включено на полную громкость. Из машины выходит девушка и останавливается. Ей за двадцать. Руки у нее длинные и тонкие, как лапки паука. Я замечаю следы уколов на обеих руках — длинные линии небольших черных шрамов.
Кожа на руках девушки покрыта струпьями и оспинами. Она наркоманка, ширялыцица, кислотница, торчок.
Я сразу понимаю — она сидит на метамфетамине.
Об этом говорит все. Типичная наркоша. Острый маленький носик на ее лице словно бросает вызов окружающему миру. В носу я замечаю ярко-оранжевое кольцо. Четыре пластиковых сережки украшают левое ухо и еще пять — правое. Все сережки разноцветные — как маленькие радуги. Девушка гримасничает. Зубов у нее почти нет. Метамфетаминовый рот — так мы это называем.
Спутанные волосы неряшливыми прядями свисают с головы. Когда-то они были светлыми, но от грязи почернели. Я вижу, как она наклоняется к заднему сиденью. Сальные пряди закрывают лицо. Она поворачивается и встряхивает головой. Волосы разлетаются, как одежда танцующего дервиша.
Сердце у меня начинает колотиться быстрее. Я шагаю к входным дверям. Сенсор ощущает мое приближение, и двери распахиваются. Я уже знаю, что она взяла с заднего сиденья такой машины в такой день.
Мужские руки подают ей маленький сверток, завернутый в голубое одеяльце. Мужчину я не вижу. Девушка хватает сверток, что-то кричит водителю.
Словно отвечая ей, ревет двигатель, машина срывается с места, ее окутывают клубы черного дыма. Задняя дверь захлопывается, и машина исчезает.
Девушка этого не замечает. Она уже бежит ко мне. Одеяльце разворачивается и падает на землю. Я смотрю, что у нее в руках. Это не сверток. Это то единственное, чем только и может быть.
Младенец.
Мертвый младенец.
Серый безжизненный младенец.
Она несет его на руках, как батон черствого хлеба. Неловко поддерживает затылок ладонью, тельце ребенка лежит на ее покрытой шрамами и струпьями руке. Она бежит, а маленькие ручки и ножки болтаются, словно у тряпичной куклы.
Еще есть надежда.
Тельце еще не окоченело.
Она сует ребенка мне в руки. Тельце еще теплое. Надежда не умерла. Я вбегаю в смотровую, девушка следует за мной.
— Вызывай реанимацию! — кричу я, пробегая с безжизненным тельцем на руках мимо стола.
— Розовый код, вторая смотровая! Розовый код, вторая смотровая! — раздается над головой голос секретаря.
Я кладу серое тельце на белую простыню. Ручки раскинуты в стороны — маленький Иисус на кресте. Темно-зеленые глаза, не моргая, смотрят в потолок смотровой, словно младенец застыл в изумлении перед жестокостью жизни.
Он не дышит.
Пульса нет.
Это мальчик.
У него большой, круглый, напряженный живот, умилительные толстенькие пальчики и ножки. Кожа у него гладкая — если бы не серый цвет, она казалась бы совершенно здоровой. На головке блестящие черные волосики, как маленькая шапочка. Понятно, что кто-то хорошо ухаживал за этим ребенком.
Новая надежда.
Маленькое тельце лежит передо мной. Ребенок не движется, не дышит. Проходят секунды ожидания — ожидания наших действий. С чего начать, когда перед тобой мертвый младенец? С массажа сердца? С искусственного дыхания? С проверки уровня сахара? С внутривенного катетера, чтобы ввести лекарства? С проверки на травмы или на синдром детского сотрясения? С оценки состояния кожи? С измерения температуры?
Ответ: да.
Начать нужно со всего этого.
Молодая медсестра обхватывает грудь младенца. Большими пальцами она начинает нажимать на грудину — так реанимируют младенцев. Я замечаю, что ногти у нее покрашены в разные цвета — красный и синий. «Как это удивительно», — думаю я.
Цветные ногти ритмично движутся вверх и вниз, надавливая на грудь младенца. Раз-два, три-четыре, пять-шесть, семь-восемь, девять-десять. Сестра считает вслух с каждым нажатием:
— Раз-два, три-четыре, пять-шесть, семь-восемь, девять-десять.
Голос у сестры сильный и четкий.
Никакой протокол не предписывает считать вслух. Но ты можешь сосредоточиться на цифрах, не думая о том, что крутится у тебя в голове. Сестра беременна. Я стараюсь не думать о том, каково ей реанимировать мертвого младенца, когда в ее животе живет собственное дитя. Но она профессионал. Она сосредоточена на своей работе. Она не отступает. Цифры слетают с ее языка.
— Раз-два, три-четыре, пять-шесть, семь-восемь, девять-десять.
Младенцы рождены, чтобы выживать, несмотря на всю враждебность мира. Они — конечный продукт эволюции, созданный для выживания в мире, полном хищников. Хищники — это дикие звери, инфекции, родители-наркоманы, автомобильные аварии… Вы сами знаете. Но младенцы сильнее, чем вы думаете. Стоит дать им шанс, и они чаще всего находят способ уцепиться за жизнь.
Когда неожиданно умирают взрослые, то в девяти случаях из десяти у них отказывает сердце. У младенцев с той же частотой проблема заключается в дыхательных путях. Дыхательные пути обеспечивают младенца кислородом. Это его билет в жизнь. Массаж грудной клетки нормализует кровообращение, но без притока кислорода кровь — это всего лишь телесная жидкость, омывающая органы.
Я заглядываю младенцу в рот. Зубов у него нет, как у девушки, но десны блестящие и розовые, хотя уже и начали сереть. Я не вижу ничего, что блокировало бы дыхание.
Я смотрю на девушку. Она стоит под распятием, висящим над дверью. Скрестила руки на груди и вцепилась в плечи, обхватив себя. В ярко-белом свете смотровой я вижу сотни маленьких кратеров под струпьями. Ими покрыт каждый дюйм кожи рук девушки.
На ней черная футболка, слишком просторная для болезненно худого тела. На футболке изображение мультипликационного героя Йосемити Сэма с двумя пистолетами. Только это не пистолеты, а шприцы. Слова под картинкой поблекли и растрескались, но я все же могу прочесть: «Колись с лучшими, умри с остальными». Йосемити Сэм улыбается. Девушка — нет.
— Что случилось? — спрашиваю я.
Девушка раскачивается взад и вперед, резко жестикулирует руками. Я узнаю гиперактивность напичканного метамфетамином мозга. Выброс адреналина еще больше усиливает моторику. По лицу девушки я вижу, что у нее возникает миллион мыслей в секунду. Секунды кажутся ей вечностью. Неудивительно, что метамфетамин называют «спидами».
— Я не знаю… Я не знаю! Не знаю!
Она повторяет одно и то же, словно игла проигрывателя в ее мозгу попала на поврежденную дорожку. Она понимает, что говорит что-то не то. Руки она держит перед лицом, не касаясь ладонями щек. И вдруг пальцы ее сгибаются и начинают судорожно бегать по лицу, словно напитанная метамфетамином морская звезда, разыскивающая пищу на дне. Это было бы даже красиво, если бы не было так ужасно.
— Есть какие-то медицинские проблемы? Он доношенный? Вы были с ним у врача?
Я говорю, а руки мои движутся так же быстро, как и ее. Но мои движения осмысленны. Я распаковываю, достаю и собираю стальной ларингоскоп. На конце загорается лампочка. Инструмент готов к действию.
Мои вопросы возбуждают девушку еще сильнее.
— Я не знаю! — кричит она. — Я не знаю! Не знаю!
Она вырывает клок волос, чтобы подчеркнуть правдивость своих слов. Ладонь у нее почему-то липкая, и волосы прилипают к ней. Это становится последней каплей. Девушка трясет рукой, пытаясь стряхнуть клок волос, словно это ядовитый скорпион, вновь и вновь вонзающий в нее свое жало.
Она будто забыла, что у нее есть вторая рука, которой можно сорвать волосы с ладони. Она трет ладонь о спинку стула, потом вдруг падает на пол и опрокидывает стул и лоток с инструментами. Флаконы с лекарствами взмывают в воздух, как рой стеклянных пчел в летний день.
Девушка поднимается на ноги. С ладони свисают длинные, грязные волосы. Девушка видит мертвого младенца и вспоминает, зачем она здесь. Она замирает от ужаса. Мне хочется крикнуть ей: «Ты убила ребенка своей наркоманией! Ты, в своей футболке с Йосемити Сэмом!» Но я молчу. Я должен работать.
Я ввожу ларингоскоп в рот младенца и поднимаю язычок. Смотрю в горло ребенка. И тут я вижу крохотную красно-желтую пластиковую бусину — она зажата между голосовыми связками и полностью блокирует дыхательные пути, убивая младенца.
— Обструкция дыхательных путей, — громко произношу я.
Хватаю эндотрахеальную трубку № 4, специальную для младенцев. Трубка из прозрачного пластика чуть толще карандаша. Один ее конец можно подключить к дыхательному аппарату. Другой конец слегка скошен, чтобы пройти между голосовыми связками. Как только трубка будет установлена, воздух начнет поступать в легкие, а отработанный выходить.
Я сосредоточиваюсь на своей задаче, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Сейчас для меня во всем мире есть только маленькая бусина между связками. Все годы подготовки. Все бессонные ночи. Всё, что я есть, сейчас сосредоточено в этой крохотной пластиковой бусине. Левой рукой я держу ларингоскоп, указательным и большим пальцами зажимаю эндотрахеальную трубку, как карандаш. Сейчас я вижу только ее. Я осторожно подвожу скошенный край к бусине.
Щелк.
Красно-желтая бусина освобождается. Я включаю отсос и вытаскиваю ее. Дело сделано. Дыхательные пути открыты.
Я отступаю, хватаю фиолетовый дыхательный мешок и накладываю кислородную маску на лицо младенца. Я сжимаю мешок, нагнетая воздух в легкие. Кислород начинает насыщать кровь. Медсестра продолжает нажимать на грудь младенца, и кровь разгоняется по всему телу.
Я представляю, как крохотные гемоглобиновые солдатики бегут изо всех сил со свежими молекулами кислорода. Они перепрыгивают через другие клетки, срезают углы и ныряют в голодающие, умирающие, задыхающиеся органы, доставляя все необходимое.
Медсестра нажимает на грудину большими пальцами. Она продолжает считать вслух. Лицо ее сосредоточено. Я понимаю, что этот младенец не умрет — не в ее смену.
— Раз-два, три-четыре, пять-шесть, семь-восемь, девять-десять.
И вот происходит нечто прекрасное. Маленький серый младенец розовеет. Розовеет. Это цвет насыщенной кислородом крови. Розовый. Цвет жизни. Розовый. Цвет солнца, поднимающегося над горами и несущего тепло и свет тем, кто погибает в снегу вдали от всех, кого любит.
Розовый.
Мы качаем воздух еще минуту.
— Остановись, — говорю я и проверяю пульс на шее младенца.
Сестра поднимает руки, но она готова тут же продолжить свою работу. Пальцы ее скрещены над грудью младенца. Маленькая грудь начинает двигаться, и я ощущаю пульс.
Он дышит!
На мгновение он замирает, а потом ручки и ножки начинают сгибаться и двигаться. Ротик раскрывается. Младенец делает глубокий вдох и начинает кричать, как кричат все младенцы, чтобы сообщить миру: они пришли.
Никогда не слышал ничего приятнее.
Я знал, что этот младенец выживет.
Тут с громким стуком распахивается дверь. Мы замираем. Дверь сносит два стула и ударяется о стену.
В двери стоит женщина. Она быстро осматривается. Ей тоже за двадцать, но на ней форма официантки из кафе «Тако Гарден». На зеленом фартуке я замечаю мелкие красно-желтые бусины — прямо над бейджиком на правой стороне груди.
Она видит младенца и кидается к нему. Подхватывает на руки и прижимает к себе. Она рыдает, а младенец кричит от радости, что жив. Маленькие ручки и ножки энергично сгибаются и раскачиваются. Ребенок полон жизненных сил.
Женщина начинает укачивать младенца. Кожа ее рук чистая, гладкая, розовая и здоровая.
— Все хорошо, — твердит она. — Мамочка здесь. Все хорошо…
Мать поворачивается к девушке в майке с Йосемити Сэмом. Наркоманка отступает. Все тело ее подергивается. Она не может стоять спокойно. Мышцы лица вздрагивают. С ладони все еще свисают волосы. Но она смотрит матери прямо в лицо.
— Ты спасла моего младенца! Ты спасла моего ребенка!
Женщина подходит к девушке с руками, покрытыми струпьями. Слезы текут по лицу матери. Она протягивает девушке ребенка.
— Подержи его! Ты его спасла!
Мать поворачивается ко мне.
— Он подавился. Я была на парковке, на работе. Ключи случайно оставила в закрытой машине. А эта девушка, — она указывает на девушку-наркоманку, — она была в соседней машине. Она просто сидела там с друзьями. Я не знала, что делать, — женщина заплакала. — А она знала. Эта девушка, эта прекрасная девушка схватила моего ребенка, и ее друзья привезли его сюда на своей машине. Они даже не стали ждать меня.
Мать утирает слезы.
— Но все хорошо. Все хорошо. Они сделали это для него. Она сделала это для него. Она спасла моего мальчика!
Я смотрю, как она протягивает ребенка наркоманке.
Девушка в черной футболке с Йосемити Сэмом берет ребенка и устраивает его поудобнее на своих исколотых руках. Она все еще не может стоять спокойно. Ноги ее движутся в странном танце, но руки любовно укачивают малыша, словно это ее собственный ребенок. В ее глазах появляется свет. Она смотрит на крохотного мальчика и улыбается беззубой улыбкой. Младенец отвечает ей такой же беззубой улыбкой. И я понимаю.
Эта девушка — герой, даритель жизни, защитник, благодетель, суперзвезда.
Она — Спаситель. Мы называем таких людей «Спаситель».
Status epilepticus
У девушки судороги.
Тело ее изгибается, скручивается и гнется, словно змея, попавшая на ограду, к которой подведен электрический ток. Девушка извивается на каталке перед нами. Бледное лицо ее покрыто потом, русые волосы потемнели от влаги. Мышцы сокращаются с такой силой, что кажется, ее хрупкое тело переломится.
В приемном покое тихо. Слышен лишь скрежет ее зубов. Девушка не контролирует свое тело.
Это судороги. Так тело девушки «кричит» от каждого напряжения мышц.
Рядом со мной стоит ее отец. Дрожащими пальцами он гладит дочь по голове, пытаясь отвести влажные пряди с искаженного болью лица. Пальцы его движутся в ритме тонико-клонических судорог, которые терзают ее тело. Я делаю глубокий вдох и начинаю свою молитву: «Остановись, припадок, прекратись. Остановись, припадок, прекратись».
Я твержу это мысленно. Я твержу это всем своим телом, повторяю в ритме жестокого танца приступа.
«Остановись, припадок, прекратись».
Мне нужно просто ждать. Я должен дождаться, когда лекарство подействует. Нужно лишь дать ему время.
Я гляжу на отца, который стоит рядом со мной и смотрит на свою тринадцатилетнюю дочь. На его лице я читаю печаль такую глубокую, темную и всеохватывающую, что я сам ощущаю ее в своей груди. Печаль эта впивается в меня и гложет с каждой новой судорогой тела девочки.
«Остановись, припадок, прекратись».
«Остановись, припадок, прекратись».
Я мысленно повторяю эти слова. Снова. И снова. И снова.
Кожа девушки сереет — падает уровень кислорода. Мозг ее забывает, как дышать. Если я дам ей успокоительное и интубирую, то не буду знать, продолжается ли припадок. Но если этого не сделать, она просто перестанет дышать навсегда. Это уловка-22, игра, в которой не выиграет никто, — казино на «Титанике», плывущем навстречу айсбергу.
Но мне нужно сделать выбор.
Отец смотрит на дочь, гладит ее по голове, ждет. Я знаю, что у нее были приступы и прежде, — слишком уж тихая печаль отца, наблюдающего, как его единственная дочь погибает у него на глазах. Он не паникует, не рыдает. Он видел сотни, может быть, тысячи судорог — может быть, даже больше, чем я. Каждый такой приступ забирает у его дочери часть ее самой. Они уносят ее, понемногу уносят туда, за горизонт, куда нам нет дороги.
«Остановись, припадок, прекратись».
«Остановись, припадок, прекратись».
Внутри у меня все сжимается. Мое дыхание становится поверхностным, руки начинают дрожать. Может быть, это тот самый приступ, который никогда не кончится. Может быть, это костер, предвестник пожара, который дотла сожжет все на своем пути. Я знаю, что должен это остановить, иначе эта девушка сгорит, и от нее останется лишь пустая, обгорелая оболочка.
Я смотрю на часы. Зеленые светящиеся цифры замерли, словно написанные на стене. Я ввел девушке четыре препарата. Я продолжаю вводить препараты, пытаясь загасить пламя, ревущее прямо передо мной.
Часы бесстрастно показывают, что с момента последней дозы прошла всего минута. Шестьдесят секунд. Одна крохотная секунда за другой. Время в приемном покое не делает исключений ни для кого…
Мне нужно продержаться еще немного.
Я смотрю на ее мать. Женщина стоит с отсутствующим выражением лица. Я знаю это выражение. Она полностью опустошена. Припадок за припадком лишал ее сил, пока однажды сил не осталось вовсе. Сейчас она где-то далеко. Я не могу винить ее. Человек способен вынести не все. Однажды у него не остается сил.
«Остановись, припадок, прекратись».
«Остановись, припадок, прекратись».
Цифра на часах сменяется новой. Прошло две минуты.
Девушка сереет и синеет. Я ввожу новую дозу лекарства. Я готов действовать. Я вскрываю набор для интубации, пытаясь ворваться в пылающий дом, прежде чем он сгорит дотла.
Но тут припадок прекращается. Гореть больше нечему. Движения замирают. Неожиданная тишина становится оглушительной. Я снова смотрю на монитор, фиксирующий сердцебиение. Я знаю, что дыхание возвращается.
Остается только ждать.
Ждать.
Ждать.
Уровень кислорода продолжает снижаться, и монитор подает сигнал тревоги. Сирены воют, как две перепуганные тонущие собаки. В приемном покое все замерли, хотя какофония тревожных сигналов уже невыносима.
Я смотрю на мать девушки. Она пустым взглядом глядит перед собой, не обращая внимания на звуки. Мне кажется, что она мысленно составляет список. Может быть, она пытается вспомнить, ходила ли в магазин во вторник или в среду. А, может, она ни о чем не думает. Может быть, она просто исчерпала себя до дна.
Медсестра ловит мой взгляд. Мы смотрим друг на друга. Она знает, что я знаю. Ждать. Мы тихо киваем друг другу, пытаясь подбодрить. Дыхание возвращается.
Я перевожу взгляд на отца девушки, а он смотрит на дочь, пытаясь помочь ей дышать, хотя и понимает, что это не в его силах. Но он пытается. Я вижу это по его лицу. Он не сдается — по крайней мере, пока. Жизнь по капле вытекает из него. Но он держится. Я вижу, что он не пасует перед этим ужасом. Он готов бороться с ним до конца, чего бы это ни стоило ему самому, его рассудку и его душе.
Девушка громко хватает воздух ртом. Я отвлекаюсь от своих мыслей. Вдох. Еще один. Еще… Ее мозг вспоминает, как дышать. Уровень кислорода повышается, кожа розовеет, девушка начинает двигаться. Лекарство помогло — или молитва? Мне этого никогда не узнать.
Девушка открывает глаза, видит мать. Мать улыбается, но взгляд дочери остается пустым. Глаза ее смотрят по сторонам, ища что-то — или кого-то. Они видят меня, медсестру, комнату, лампочки и мониторы. На всем этом взгляд девушки не задерживается. Мозг отчаянно пытается осознать, что он видит… «Нет, не то, не то, не то».
И вот она видит отца. Взгляд останавливается. Отец плачет, как плакал десять тысяч раз до этого и будет плакать десять тысяч раз после. Я вижу, как ее взгляд замирает на лице отца — это далекий маяк, горящий в тумане ее разума. Понемногу она начинает двигаться к этому ровному свету. Мы наблюдаем, как его дочь возвращается к нам, как та змея, что вселилась в ее тело, уползает в далекий мрак, где притаится до следующего раза.
Девушка смотрит на отца. И тут приходит понимание — кто он и почему он плачет. Она слабо улыбается ему. Он берет ее за руку.
И в этот момент я понимаю, почему он так боролся.
По пять припадков за ночь, каждую ночь, восемь лет подряд, говорят мне родители. Приступы возникли из ниоткуда. Ни у кого в семье этого не было. Никаких медицинских проблем. Просто все началось однажды и с тех пор не кончается. Они сделали все анализы, перепробовали все лекарства. Они побывали у всех специалистов — а потом по второму кругу. Им сказали, что больше обращаться не к кому. И лекарств больше не осталось.
Я кладу руку на плечо отца и стою рядом, чувствуя себя недостойным находиться рядом с этой истерзанной, обнаженной душой. Мне слишком хорошо известно, что надеяться глупо, но я продолжаю молча молиться Богу, которого я знал когда-то…
«Еще лишь раз».
«Еще лишь раз».
«Спаси эту душу».
Семья
Они нашли его в канаве. Он лежал, скорчившись, за кустами. Весь он был обмотан плотным коричневым брезентом и серебристым скотчем. Бегун, который обнаружил его, решил, что перед ним труп, но потом брезент зашевелился, человек обругал собаку бегуна и пополз в кусты.
Бегун позвонил 911. Приехала полиция. Они попытались поставить человека на ноги, но тот был слишком пьян. Тогда полицейские вызвали врачей. Приехала скорая. После быстрого осмотра медики загрузили человека в машину и повезли в наш приемный покой.
Я стоял у стола сестры, когда услышал вызов по рации. Медики сообщили, что везут пьяного бомжа, обнаруженного у Шотс-Крик. Я с трудом удержался, чтобы не броситься к рации и не потребовать, чтобы они оставили его там, где нашли.
Впрочем, было уже слишком поздно.
Я услышал сирены.
Он вернулся.
* * *
Медики вкатывают каталку в приемный покой. Бомж сидит на каталке, а медики толкают ее. Заметив, что на него все смотрят, он улыбается. Весьма картинно машет рукой, словно звезда парада на праздничной платформе. Раздается сердитое ворчание персонала. Я с отвращением трясу головой. Он замечает мой взгляд и еще шире улыбается беззубым ртом. Совершенно ясно, что все это ему страшно нравится.
Сегодня его привезли к нам в сорок второй раз за последние двенадцать месяцев. И ни разу он не был трезвым. Судя по всему, сегодня не исключение.
Я делаю записи за столом, пока бомжом занимаются сестры. Через несколько минут они приготовят его к осмотру. Я пытаюсь заставить себя пойти и осмотреть его, но никакой аутотренинг не помогает. Пусть подождет, пока я осмотрю всех остальных пациентов приемного покоя.
Через двадцать минут у меня не остается пациентов. Я снова сажусь за компьютер. К сожалению, сегодня у нас маловато работы. Кроме бомжа, у нас всего три пациента. Может быть, оставить его в смотровой до прихода следующей смены? На десять часов… Впрочем, ему все равно некуда идти, и он останется у нас.
Я тяжело вздыхаю и понимаю, что выхода нет. Я ввожу его имя и записываю себя лечащим врачом. Экран фиксирует мою решимость. Сегодня бомж жалуется на боль в спине. Я задумываюсь: необычная жалоба. Может быть, сегодня с ним действительно что-то не так?
Я выхожу из компьютерной базы, встаю из-за стола и направляюсь к третьей смотровой. Прохожу мимо сестры, которая обрабатывала бомжа, — она театрально прикладывает руку ко лбу и закатывает глаза. Я с трудом сдерживаю смех — по крайней мере, в этом мы с ней едины.
Я вхожу в смотровую. Свет приглушен. Бомж спит. Сегодня на нем выцветшая черная бейсболка с бледно-желтыми словами «Ветеран Вьетнама» — слова написаны впереди и на левом боку. Между словами «ветеран» и «Вьетнама» вышито множество разноцветных флажков.
Под бейсболкой скрываются курчавые русые волосы. Они растут повсюду, выбиваются из-под бейсболки, покрывают лицо, плечи и грудь, словно кто-то опрокинул на этого человека ведро мокрых водорослей. Он весь в грязи. По запаху я понимаю, что он не принимал душ уже очень давно.
Я слегка покашливаю, обозначая свое присутствие. Он храпит, не обращая на меня внимания. Я трясу кровать за спинку. Он что-то бормочет про собаку и чешет бороду. На простыню падает маленький зеленый листок.
Я включаю свет. Бомж натягивает бейсболку на глаза. При свете я вижу в его бороде листочки и палочки — ночь он провел на улице.
— Просыпайтесь! — я трясу кровать сильнее.
Он перекатывается на бок, прикрывая лицо рукой.
— Оставь меня в покое! — рычит он.
На кровать падают листья. На бомже грязная фланелевая рубашка, сплошь покрытая листьями, сучками и семенами. Под рубашкой желтая, задубевшая от пота футболка, разорванная на груди. На рубашке я вижу пару серых военных жетонов. Один приколот правильно, другой вверх ногами.
Может быть, просто дать ему проспаться? У меня есть более важные и приятные занятия. Я же знаю, чего он хочет. А пока он спит, я могу быть уверенным в том, где он находится.
Я стою, а бомж сучит ногами, сбрасывая простыню на пол. На нем новые коричневые брюки, подвязанные веревкой с большим узлом. Уверен, что какой-то магазин явно недосчитался пары брюк.
— Просыпайтесь! — повторяю я.
— Я никому не мешаю, док! Дайте мне поспать! — ворчит бомж, дергая ногами так, словно он плывет.
Я вздыхаю, осторожно снимаю с кровати его рюкзак и кладу его на пол. На рюкзаке несмываемым маркером написано его имя.
Скутер.
— Скутер! — кричу я. — Скутер! Просыпайтесь!
Я пинаю колесо кровати, и она вся содрогается.
Бомж кашляет и плюется.
— В чем дело, парень? Ну правда!
Я делаю глубокий вдох, чтобы не пнуть кровать сильнее. Я представляю, как здорово было бы выкатить ее сейчас на парковку и пнуть, чтобы она покатилась по дороге вниз. Да, я потеряю работу и лицензию, но зато никогда, никогда в жизни больше не увижу Скутера. Да, негуманно, но за двенадцать месяцев терпению моему пришел конец.
Все началось примерно год назад, когда он впервые появился в городе. Как большинство бродяг, он сразу же направился в приемный покой. Все бродяги, прибывая в новый город, первым делом интересуются, где больница. Они узнают, трудно ли там получить обезболивающие, сурова ли охрана, выгонит ли охранник бомжа из приемного покоя в дождливый или слишком жаркий день. Во всех городах больницы разные. Возможно, поэтому бродячая жизнь многих так привлекает.
Но Скутер не был похож на бродягу. Появившись, он встал в очередь в приемную. Физических жалоб у него не было. Он попросил форму заявления — хотел стать волонтером больницы.
Никто не представлял, что делать. Такого никогда не случалось. Да, у нас было несколько волонтеров — старшеклассники, мечтающие стать врачами, и пожилые дамы из Ротари-клуба, которые любили поболтать. Нам вовсе не нужен был беззубый, бездомный, вечно пьяный волонтер.
Секретарша миссис Дауэр попыталась сказать ему, что волонтеры нам не нужны. Скутер быстро указал ей, что волонтеры не получают зарплаты и работают добровольно. Они препирались несколько минут, а потом миссис Дауэр все же дала ему заявление. Он заполнил бланк, отдал его секретарше и ушел.
Его заявление дважды рассматривала администрация, но ответом было категорическое «нет». Он не может быть волонтером, пока не вымоется и не протрезвеет. Это не обсуждается. Скутер долго умолял, упрашивал, даже слезу пустил. И мы заключили с ним сделку: мы рассмотрим его кандидатуру, если он пройдет детокс-программу и бросит пить. Он хотел, чтобы мы гарантировали ему это место, когда он вернется. Мы же ясно дали понять, что так дела не делаются. В конце концов, он сдался. Мы отправили его на детокс, и он ушел.
Через три недели он вернулся. Он был достаточно трезв, чтобы заполнить второе заявление. На следующий день он не пришел на собеседование. Я отправил скорую прогуляться под мостом, и они нашли его там с бутылкой водки. Мы думали, что на этом все и кончится.
Не угадали.
Через пару дней Скутер вернулся вновь. На нем была новая рубашка, явно позаимствованная в магазине. Рубашка была ему страшно велика, но он старался. Он заполнил заявление, сказал, что хочет бросить пить и работать в больнице. Его снова погрузили на скорую и отправили в реабилитационный центр. Он вернулся через неделю. Нам сообщили, что его выгнали: он пронес в центр спиртное.
После этого он передумал быть волонтером. Теперь он решил, что ему следует подать заявление на работу. Скутер вознамерился стать охранником приемного покоя. О прошлом опыте работы он написал: «Служил в армии».
Администрация снова рассмотрела заявление. Никто не хотел казаться предвзятым по отношению к бездомному ветерану — если он действительно был ветераном. Но ответ последовал тот же: нет. По той же причине. Либо он бросает пить, либо уходит. И мы снова погрузили его в скорую помощь и отослали в реабилитационный центр.
Знаю, это звучит ужасно. Но именно так все и было. Клянусь.
На сей раз он провел в центре два дня, выписался и вернулся под мост. Пару недель Скутер пытался получить работу в приемном покое. Экспедитор, завхоз — ему подходило все. Он подавал заявление, ему отказывали: «Пока не протрезвеешь, работы не будет. У нас и без тебя дел полно». Какое-то время Скутер просто слонялся по залу ожидания. Но вскоре пациенты стали жаловаться на подозрительного типа и требовать, чтобы мы его прогнали.
Администрация собралась на последнее совещание. Скутеру запретили приходить в приемный покой, если у него нет жалоб. Именно мне пришлось объяснять ему ситуацию. Он плакал. Крупные пьяные слезы текли по щекам и терялись в бороде.
После этого он больше не пытался работать у нас.
Это было три месяца назад.
— Скутер! — я дергаю его за палец ноги, высовывающийся из дыры в ботинке. — Скутер, проснитесь! Мне нужно кое-что сделать!
Он с головой укрывается больничной простыней, словно это его личный брезент.
— Оставьте меня в покое, док!
— Я не могу оставить вас в покое. Это приемный покой. Вы — пациент.
Он умолкает.
— Вы повредили спину? — спрашиваю я.
Он бормочет что-то неразборчивое.
— Что? — переспрашиваю я, теряя терпение.
Он снова что-то бормочет.
— Снимите простыню и говорите со мной как взрослый человек, иначе я снова велю сестрам отправить вас к психиатрам, — я потираю шею, стараясь не напрягаться. — Вы повредили спину или нет?
При этих словах он неожиданно сбрасывает простыню и смотрит на меня с широкой усмешкой.
— Я хочу покончить с собой, — говорит он, довольный тем, что заставил меня спрашивать про спину.
Я издаю громкий стон.
— Черт побери, Скутер, у нас есть настоящие больные! У нас нет времени на игры.
— Я суицидник, док. Если вы меня прогоните, я убью себя.
Именно это он всегда и говорит.
Заявив, что хочет покончить с собой, он обеспечивает себе койку в больнице, пока не появится кризисный психолог. В нашем штате таков закон.
Отличный закон для тех, кто ночует под брезентом. Достаточно заявить про желание покончить с собой — и тебе обеспечены трехразовое питание и чистая постель. Хотя бы на день.
Для врачей это ужасный закон. Мы должны кормить бомжа, выслушивать его жалобы практически на все и держать его у себя, пока не приедет кризисный психолог и не оценит его состояние.
Если бы он просто тихо лежал в постели, как большинство пациентов, все было бы не так плохо. Но речь идет о Скутере. Спиртное заставляет его думать, что он здесь работает и является частью нашей семьи. Если оставить его без присмотра, он выскользнет из палаты и начнет перебирать полотенца, коробки, носить пациентам воду или кофе и делать то, чего пьяный бездомный в больнице делать не должен.
Пару раз он даже ухитрялся найти где-то стетоскоп и заявиться в палату, представившись врачом. Это было бы смешно, если бы разбираться с жалобами пациентов и родственников приходилось не мне.
— Су-и-цид-ник… — повторяет Скутер, с удовольствием пробуя это слово на вкус.
Он садится в постели и закладывает руки за голову.
Скрещивает ноги и издает довольный вздох, словно только что прилетел в тропики и после двенадцатичасового перелета оказался на пляже. Затем театральным жестом нажимает кнопку вызова медсестры.
— Чем могу помочь? — слышу я голос секретарши.
— Это Скутер, — он хлопает в ладоши и потирает их для вящего эффекта. — Что у нас сегодня в меню?
Я слышу стон секретарши.
Скутер подмигивает мне:
— Я проголодался.
Я с отвращением машу рукой и ухожу.
Честно говоря, я не представляю, что с ним делать. Не скажу, кто именно, но недавно врач и несколько сестер скинулись и купили ему билет на автобус до Нового Орлеана. Они предложили ему еще и сертификат на бесплатный ужин в лучшем ресторане Нового Орлеана по приезде. Идея казалась им хорошей.
Когда мы вручили Скутеру билет, он пьяно разрыдался, разорвал билет и сказал, что никто еще не относился к нему с такой добротой. И он никогда не покинет столь любящую семью. Медсестры весьма откровенно пояснили, что он не является частью этой семьи. Но Скутер их не слушал. В конце концов, мне — то есть тому врачу, который и купил злополучный билет — пришлось оттаскивать сестер от него и напоминать, что душить бездомного пьяницу нехорошо.
Снова оживает рация. Я выхожу в холл. Пора начинать медицинскую подготовку Скутера к психиатрическому освидетельствованию. Им понадобится анализ крови на наркотики и алкоголь — только после этого они решат, стоит ли его осматривать. Пройдет два часа, прежде чем анализы будут готовы. И тогда уровень алкоголя в крови снизится, чтобы его можно было осматривать.
Скутер пьет постоянно. В его крови уровень алкоголя не снижается. Нам придется ждать долго. Мы даем ему специальные лекарства, и когда уровень алкоголя снижается, вызываем кризисного психолога. Он сообщает, сколько у него пациентов до Скутера. Когда подойдет наша очередь, он сядет в машину и направится к нам. Я уже подумываю, что нам пора сдаться и выделить Скутеру постоянное помещение в больнице.
Впрочем, хватит тратить время на мысли о Скутере. Прибывает новый пациент. Пора за работу. Я принимаю следующего пациента. Его зовут Дэвис. Он тоже жалуется на боль в спине. Я просматриваю его карту. Информации немного. Последний адрес — почтовый ящик в Калифорнии. В графе «место жительства» указано «бездомный». Интересно, знает ли его Скутер. Я продолжаю читать. Никакой медицинской информации. Двадцать восемь лет. Главная жалоба — хроническая боль в спине. Травм не было. Кончились обезболивающие, нужен новый рецепт.
В больнице маленького городка всегда знаешь, кто местный, а кто нет. Иногда появляются люди, которых мы никогда не видели. Которые не принадлежат к нашему кругу. Которым нужны таблетки, неприятности или и то и другое сразу.
Его положили во вторую смотровую, потому что в шестой чинят розетки. Неважно. Я вхожу и сразу же настораживаюсь. На кровати, скрестив ноги, сидит крупный мужчина. Голова его чисто выбрита. На ногах черные высокие военные ботинки на шнурках. Увидев меня, он крутится из стороны в сторону, потягивая спину. Он крутится так энергично, что я слышу, как скрипят суставы, и вижу, как набухают вены на шее. Он усмехается. На нем черные штаны и красная футболка. Футболка туго обтягивает могучие бицепсы и кубики на животе. Когда он поворачивается, мышцы на руках впечатляюще перекатываются. Либо он всерьез занимается бодибилдингом, либо сидит на стероидах. Второе предположение кажется мне более верным.
Под левым глазом я вижу три вытатуированные слезы. Нос слегка свернут набок — судя по всему, его не раз ломали. Небольшие шрамы разбросаны по широкому лбу и скулам. Это шрамы уличного бойца. На мускулистой шее я замечаю татуировку в виде фиолетовой паутины. Маленький черный паук размером с монетку свисает на паутинке прямо с кадыка — каждый раз, когда парень глотает, паук движется на своей паутине. Бррр…
— Много работы, док?
Он протягивает руку. Я вижу на косточках татуировку G-O-D-S. Мельком смотрю на левую руку — W-I–L-L. «Божья воля». Очень мило.
— Не так чтобы очень.
Я пожимаю ему руку. Он сжимает мою ладонь слишком сильно, чтобы я поморщился, и с улыбкой смотрит на меня. Это своего рода вызов. Мы оба знаем это.
В зале начинается какая-то суета. Я слышу, как кто-то кричит на Скутера. Мы оба поворачиваемся к стеклянной двери и видим, как сестра за руку тащит Скутера в его палату.
Дэвис смеется.
Я поворачиваюсь к нему.
— Чем я могу вам помочь? — спрашиваю я.
— Это вы скажите — вы же доктор.
Он хищно усмехается, демонстрируя свое остроумие. Я смотрю на него с полным безразличием. Он отпускает мою руку.
Такова работа в приемном покое.
Мы молчим секунд двадцать. Я знаю то, чего, возможно, не замечает он. Во-первых, я нахожусь между ним и дверью. Во-вторых, я вижу его руки. В-третьих, его ноги все еще скрещены на кровати.
— Чем могу вам помочь? — спрашиваю я.
— Ну хорошо, дох-тур, — говорит он. — Пару лет назад в армии я повредил спину. Я служил в спецназе.
Он смотрит на меня, ожидая, что я в этом усомнюсь.
Я молчу.
— Во время прыжка я сломал шесть костей спины. У меня было три операции. Я наполовину железный, док, — он усмехается собственной шутке, но лицо его серьезно. — Я очень терпелив к боли. Армейские врачи всегда удивлялись, — он пощелкивает пальцами. — Но травма была такой серьезной, что мне нужны обезболивающие. Нормального человека такая боль давно убила бы.
Он умолкает и смотрит на меня. Я чувствую, что он пытается понять, удалось ли ему меня убедить.
Я давно научился не выдавать своих мыслей. И он продолжает.
— Мой врач в Калифорнии. Лекарства украли в автобусе.
Он опускает ноги на пол. Я чуть-чуть отступаю назад.
— Я позвонил врачу, и он велел идти в местную больницу выписать лекарства. Прежде чем ситуация выйдет из-под контроля.
Он снова поворачивает торс из стороны в сторону, и мне хочется сказать, что он слишком подвижен для человека, страдающего сильной болью. Но я не идиот.
— Когда мне плохо, я выхожу из себя.
Он снова улыбается, но это уже не улыбка, а настоящий оскал.
Я остаюсь спокоен. Скучающим, нейтральным тоном спрашиваю:
— Где болит?
Я подхожу к постели, чтобы осмотреть его спину. Он неожиданно отшатывается от меня и поднимает руки, чтобы я остановился.
— Эй, мне не нравится, как вы на меня смотрите. Вы немного агрессивны, дох-тур, — он снова пристально смотрит мне в глаза.
Это тоже часть игры. Он хочет, чтобы я ответил. Он хочет спровоцировать меня, затеять спор, скандал, а потом запугать меня своими размерами. Я знаю эту игру. Ему она, возможно, внове, но я не вчера начал работать в больнице.
Я не обращаю внимания на его слова, притворяясь, что не понимаю.
— Так вы хотите, чтобы я осмотрел вашу спину, или нет? — спокойно спрашиваю я.
Он молчит, потом кивает.
— За тем я и пришел.
Едва я касаюсь его поясницы, как он кричит от острой боли.
— Господи боже, вы вызвали судорогу!
Он падает на кровать и начинает кататься по ней с громкими стонами. Я бы посмеялся над этой глупой игрой, но понимаю, что для него это не игра.
Для него это охота.
Я стою, не двигаясь, словно не понимаю, что происходит. Я играю в дурачка. Мне нужно быть очень осторожным. Стоит закатить глаза или вздохнуть, и он может врезать мне со всей дури. Я чувствую, как внутри него ворочается накачанный стероидами монстр. Достаточно одного неверно выбранного слова, и он вырвется на волю.
Через минуту парень перестает стонать.
— Мне нужны обезболивающие, док. Очень нужны! У меня сломано пять костей в спине. Пять!
Он поднимает вверх пять пальцев, и я замечаю на каждом серебряное кольцо.
Он даже легенду свою не выучил — минуту назад сломанных костей было шесть. А может быть, он хочет, чтобы я указал на это и начался спор.
— Они собираются сделать новую операцию. Я жду одобрения страховой компании.
— Это от армии? — спрашиваю я.
Он непонимающе смотрит на меня, но быстро спохватывается.
— Да-да, от армии. У меня осталась страховка.
Он пытается прикрыть свой промах, но слишком поздно. Пауза говорит мне обо всем.
Он чувствует, что облажался, и начинает злиться.
— Боль слишком сильная, — он вцепляется в поручни кровати, костяшки белеют. — Она сводит меня с ума. Боль сводит меня с ума.
Я отступаю, увеличивая расстояние между нами. Это добром не кончится. Мне хочется дать ему таблетки и покончить с этим. Но, как любой врач приемного покоя, я знаю, что стоит так поступить, и завтра он потребует больше — и послезавтра, и каждый день.
Таких людей нужно останавливать сразу же.
Не поймите меня превратно. Если бы я считал, что у него есть реальная проблема, я бы сразу же выписал ему таблетки. Но это не так. Я чувствую, что он мне врет.
Я указываю на плакат об обезболивающих на стене и самым занудным бюрократическим тоном разъясняю политику касательно наркотических средств:
— Мы не выписываем потерянные рецепты на наркотики.
«Особенно тем, кто появился ниоткуда и захотел таблеток», — мысленно добавляю я.
И тут я слышу голос в громкоговорителе:
— Охрана в приемный покой! Охрана в приемный покой!
Я смущенно оглядываюсь. Со мной все в порядке. Охрана мне не нужна. А потом я понимаю, что все дело в Скутере.
Голос оператора распаляет Дэвиса, словно в костер плеснули бензином. Он переводит взгляд с колонки на потолке на меня и обратно.
— Вы вызвали охрану, док?
Он напрягается, мышцы перекатываются под кожей. Он похож на собаку, готовую к драке. Он сжимает и разжимает кулаки. Если бы он знал, что наш охранник — это шестидесятилетний санитар-пенсионер, то не напрягался бы так. И я добавляю этот случай в список преступлений Скутера. В следующий раз я сразу отправлю его к психиатрам и покончу с этим.
Дэвис неожиданно меняет тактику.
— Без проблем, док. Без проблем. Мне не нужны неприятности, только помощь, — он снова усмехается и становится моим лучшим другом. — Вы живете здесь, док? Прелестная женушка и детишки?
Вот она, завуалированная угроза. Этот парень побывал во многих больницах. Он испытал множество трюков и приемов, чтобы повлиять на врачей.
— Какие кости у вас были сломаны? — спрашиваю я, не обращая внимания на вопрос.
Он хмурится.
— Это произошло, когда я служил в армии, — повторяет он.
— Какие кости спины у вас сломаны? — медленно повторяю я.
До него доходит, что от меня он таблеток не получит. Он это понимает. Решение принято. Я этого не скрываю.
Он поднимается и нависает надо мной.
— Вы служили в армии? — спрашивает он.
— Нет.
— Я служил ради таких, как вы. Я рисковал жизнью. И единственная благодарность — это переломанная спина и докторишки, которые не хотят дать мне обезболивающие.
Он делает шаг ко мне.
Он распахивает рубашку, обнажая идеальные кубики пресса. На животе татуировка — перевернутое распятие. Дэвис поворачивается и тычет кулаком в правую почку.
— Здесь. Болит здесь, док.
Глаза его расширяются от злости. Он снова тычет кулаком.
— Вот так, так болит.
Он ударяет себя еще сильнее. На коже остается красный след. Я не могу не заметить, что после трех операций не осталось ни одного шрама.
— Вы хотите, чтобы я просто страдал от боли? Верно? — он смотрит мне прямо в глаза. — Вот здесь — положите сюда руку.
Я отступаю, но недостаточно быстро.
Он хватает меня за запястье.
— Здесь, док. Хотите узнать, каково это?
Я пытаюсь вырвать руку, но не могу. Я в ловушке. Мы стоим, я пытаюсь вырваться, он сжимает мою руку огромными пальцами.
За спиной раздается голос:
— Проблемы, док?
Я поворачиваюсь. Это Скутер. Он стоит в дверях, слегка покачиваясь. Черная вьетнамская бейсболка свалилась с головы. Он теребит свои военные жетоны.
— Нет, Скутер, все в порядке. Возвращайтесь в свою палату.
Скутер стоит, переводя взгляд с Дэвиса на меня. Моя рука все еще зажата мертвой хваткой. Никто не двигается. Я буквально вижу, как пьяные шестеренки вращаются в голове Скутера, словно он пытается осмыслить ситуацию.
Наконец Дэвис зловещим шепотом произносит:
— Да, Скутер, возвращайся в свою палату, пока никто не пострадал.
Прежде чем я успеваю среагировать, Скутер прыгает вперед и хватает Дэвиса за запястье, освобождая мою руку каким-то ловким захватом. Свободной рукой он толкает Дэвиса, прижимает его к стене. Маленький паук на шее здоровяка дергается под большим пальцем Скутера.
Я замираю, боясь пошевелиться.
Скутер нажимает сильнее, я слышу щелчок сустава. Ноги Дэвиса слабеют, он чуть не падает, но Скутер прижимает его к стене, поигрывая пальцами по шее.
— Скутер! — окликаю я.
Скутер наклоняется и что-то шепчет Дэвису на ухо. Лицо здоровяка бледнеет. Кажется, что он сейчас заплачет. Куда делся тот монстр, которым он был всего минуту назад?
Парень начинает дрожать. На мгновение мне кажется, что Скутер сейчас его убьет. Но в последнюю минуту он отпускает здоровяка и отступает назад. Дэвис падает на колени, кашляя и давясь. Я замечаю, что средний палец у него вывихнут. Не говоря ни слова, он поднимается и выбегает прочь, словно отшлепанный ребенок.
Скутер поворачивается с самым спокойным видом.
— Я когда-то служил в армии, — поясняет он.
Он пожимает плечами и снова касается военных жетонов.
— Верю, — отвечаю я.
Задыхаясь, в комнату вбегает наш старый охранник, видит бродягу и качает головой.
— Снова проблемы из-за Скутера, док? — спрашивает он.
Я смотрю на Скутера.
— Из-за Скутера? — я кладу руку ему на плечо. — От него нет проблем. Он — один из нас.
Иногда оказывается, что человеку нужен лишь шанс проявить себя.
Так что если вы увидите охранника (кстати, он не пьет уже шесть меся цев) без зубов и с густой бородой, то вам лучше послушаться, когда он при кажет вам сидеть на месте. И не приставайте к нему: он — член семьи.
Руки
Я смотрю, как она умирает.
Ей восемьдесят шесть лет, два месяца, двадцать три дня, четыре часа, шесть минут и девятнадцать секунд. Нет, уже двадцать секунд.
Я стою возле кровати в приемном покое. На потолке палаты висит огромная лампа. Ослепительный свет направлен прямо на кровать, на которой сидит женщина, положив одну руку на живот, а другой прикрывая глаза от яркого света.
— Извините, — говорю я и выключаю лампу.
Приходится несколько раз моргнуть, прежде чем глаза привыкают к изменению освещения. Женщина слегка покачивается и не обращает на меня внимания. Я замечаю ее длинные прямые волосы, которые доходят почти до талии. С каждым покачиванием несколько прядей на долю секунды зависают в воздухе. Они похожи на тонкие нити паутинки на ветру. Волосы у нее белые, серебристые и густые. Как у умирающей женщины могут быть такие живые волосы? «И все же они у нее есть», — думаю я про себя. Я смотрю на монитор. Давление восемьдесят три на сорок. Слишком низкое. Еще в ско-рой помощи ей поставили две большие капельницы. Оба аппарата работают на полную мощность, низкое гудение моторов наполняет комнату. Физиологический раствор капает в прозрачные пластиковые трубки, подведенные к ее рукам. Жидкость поступает в кровеносные сосуды. Поступает с той же скоростью, с какой вытекает кровь. У пациентки аневризма, и кровь вытекает в брюшную полость.
У нее аневризма аорты — крупнейшего кровеносного сосуда человеческого тела. Это живой трубопровод, который идет от сердца по грудной клетке и дальше в живот. Затем аорта разветвляется на более мелкие бедренные артерии. Аневризма у пациентки располагается чуть выше места разветвления, прямо в самой широкой части сосуда.
С каждым биением сердца кровь выплескивается из сосуда. Восемьдесят шесть лет высокого давления сказались на состоянии трубопровода. Сейчас он растянут, как воздушный шар, и рвется с каждым ударом. Кровь вытекает, сочится, стенки утончаются и рвутся, готовые лопнуть совсем. Когда это произойдет, она умрет.
Я стою рядом с зондом ультразвука. Напряженный живот пациентки смазан специальным голубоватым гелем. Десять секунд назад я приложил зонд к ее животу и увидел внутри большой черный шар. Это могло означать только одно.
— У вас в животе прорвалась аневризма, — произнес я, отводя взгляд от экрана. — Если не сделать операцию немедленно, вы умрете.
Так я и сказал: операция или смерть. Она может умереть, даже если выберет операцию, но так у нее хотя бы будет шанс. Без операции смерть гарантирована. Иногда нужно просто дать людям возможность выбора. Сегодня ее очередь выбирать.
Ей нужно принять решение. И нужно сделать это немедленно. Ждать нельзя. Каждая секунда повышает вероятность смерти на операционном столе.
Я замечаю, что она все еще держится левой рукой за бок — наверное, ей больно. На руке серебряное кольцо с маленьким бриллиантом и рубином. Одно гнездо пустое — второй рубин выпал, и она не заменила его. Я походя думаю, почему так случилось. Конечно, она не могла этого не заметить. Наверное, она решила, что починит кольцо позже. Вот только теперь «позже» может и не быть.
Такова жизнь. Я вижу, как колышется рука на животе — с каждым ударом сердца она слегка поднимается. Я почему-то думаю о беременной женщине, которая прислушивается к толчкам своего еще не родившегося ребенка. Уверен, что пациентка чувствует толчки своей аорты — точно так же, как будущая мать — удары маленькой ножки. Только эти толчки приведут к концу, а не к началу. При моих словах ее рука слегка соскальзывает вбок, и я замечаю, что женщина теряет интерес к тому, что толкается в ее животе.
Я жду, что она кивнет. Жду, что она скажет: «Да, помогите мне. Мне больно». Ей достаточно лишь сказать. Я готов выбежать из палаты и вызвать хирурга. Это по-настоящему экстренная операция. Аневризма — это бомба, и когда она взорвется, сделать уже ничего будет нельзя. У меня начинает кружиться голова, и я понимаю, что затаил дыхание. Я медленно выдыхаю и пытаюсь заставить себя расслабиться. Странно, что этот случай так сильно меня задел. Не моя жизнь висит на волоске. Останется эта женщина жить или умрет, у меня ничего не изменится. И все же сердце колотится в груди так, словно от ее решения зависит и моя жизнь.
Она по-прежнему молчит. Левой рукой отводит несколько непослушных прядей с лица. На мгновение взор ее затуманивается. Женщина смотрит вдаль. «О чем она думает?» — задаюсь я вопросом. Проходит еще несколько секунд. Я покашливаю — не хочу ее торопить, но часы неумолимо тикают.
Она моргает, и я понимаю, что она приняла решение. Я наклоняюсь вперед. Она смотрит на меня, а потом делает нечто невероятное.
Она улыбается.
Несмотря на ужасную боль, она мне улыбается. В эту минуту я понимаю, что передо мной смелая женщина. Женщина, которая не боялась жить и теперь, как это ни невероятно, не боится умирать. Я пытаюсь сглотнуть, но во рту у меня пересохло. Я знаю, что она скажет, и это меня пугает. Я не такой смелый, как она. Пока еще нет.
— Если я откажусь от операции и умру, вы сможете сделать так, чтобы мне не было больно? Я замираю на секунду, пытаясь тщательно подобрать слова. Я хочу быть уверенным в том, что скажу. Мои слова будут последними в ее жизни, поэтому я не хочу ее обманывать. Я хочу, чтобы она умерла, слыша правду, какой бы та ни была.
— Да. Да, я могу это сделать, — киваю я. — Обещаю, что боль мы снимем.
Что бы ни случилось, больно вам не будет.
Хотя бы избавить ее от страданий я в состоянии.
Она стискивает зубы от очередного приступа боли, хватается за живот обеими руками и стонет. На лбу ее выступает пот. А потом она снова говорит:
— Обещайте мне. Обещайте, что вы останетесь со мной, чтобы мне не было больно.
Боль вызывает у нее страх. Страх неизвестности. Страх перед тем, где она окажется уже через час, через день, через год. Но она смелая. Она способна справиться со всем, даже со страхом.
Я мысленно пролистываю список остальных пациентов приемного покоя. Женщина с болью в животе — по-видимому, желудочный грипп. Двадцатитрехлетний парень с зубной болью. Пятилетняя девочка с температурой — простуда. Кашляющий старик. Подросток, пытавшийся покончить с собой. Женщина с болью в груди… И куча бумажной работы, которую нужно закончить.
Всем придется подождать. Им это не понравится. Они будут злиться на меня, если это затянется. Они наверняка заполнят больничные анкеты и напишут, что я заставил их ждать. Я пожимаю плечами. Когда они приготовятся умереть, я буду здесь и приму их. И тогда наступит их очередь заставлять других ждать.
— Да, — говорю я. — Обещаю. Я вас не оставлю.
Она кивает. Седые волосы колышутся. Лицо ее слегка расслабляется.
— Хорошо, — шепчет она, собираясь с духом, и смотрит мне прямо в глаза. — Я не хочу операции, — она умолкает, не отводя взгляда. — Я готова умереть. Давайте сделаем это.
Холодок пробегает у меня по спине. Вам кажется, что после пятнадцати лет работы подобные вещи не должны меня трогать. Но они все еще трогают меня.
Удивительно, но я ничего о ней не знаю. Совсем ничего. Ее просто доставили в приемный покой на каталке, с жалобами на боль в животе и низкое давление. Десять минут назад я и не подозревал о ее существовании, а теперь я буду тем, кто окажется рядом с ней в смертный час.
— Мне кого-нибудь вызвать? — спрашиваю я.
— Они не успеют. Им ехать часов шесть или больше. Мои дети живут за горами.
— Хотите, я им позвоню?
Она смотрит на меня.
— Нет. Посидите рядом со мной. Они только что приезжали на День благодарения. Пусть они запомнят меня такой, как на праздничном ужине. Просто скажите им, что я умерла быстро.
— Хорошо, — отвечаю я.
Входит сестра и дает ей морфин. Я вижу, как лицо женщины расслабляется — боль отступает под напором опиатов.
— Хотите, я посижу с ней? — спрашивает сестра.
Пациентка смотрит на меня. Я вспоминаю свое обещание.
— Нет, не нужно. Я вызову вас, если ей понадобится еще обезболивающее.
Сестра пожимает плечами и выходит.
Мы снова остаемся вдвоем.
Я бросаю взгляд на монитор. Шестьдесят восемь на тридцать два. Все кончится быстро.
Она закрывает глаза и откидывается на подушки. О чем она думает? О чем бы думал я в последние минуты жизни? О семье? О работе? Стал бы я думать о том, что происходит, когда наше время на земле заканчивается? Не знаю. Придется дождаться своей очереди, как всем остальным.
Мы сидим молча. Негромко пищит монитор. Я думаю о своей жизни. В последнее время я почти выгорел. Мне кажется, что я делаю одно и то же, бессмысленно бегая по замкнутому кругу. Сотрудники злятся. Пациенты злятся. Раздраженные пациенты, их недовольные супруги, братья и сестры. Порой кажется, что весь этот гнев направлен на меня, потому что им просто больше не на кого его направить. Иногда мне хочется сказать людям: «Я не виноват, что вы заболели». Но я знаю, что им будет легче, если они смогут накричать на меня. Они хотя бы смогут на кого-то накричать. Но потом мне хочется все бросить, уйти и никогда не возвращаться. Мне хочется сказать: «Я тоже болен. Я тоже устал». Мне хочется возразить. Но я никогда этого не делаю. А потом что-то происходит. Я смотрю на нее. Она умирает. Я — последний человек, с которым она разговаривает. Последний, кого она видит. Последний человек на этой планете, который внимал ее голосу, видел ее лицо, слышал ее кашель и улавливал ее улыбку.
Именно поэтому я стал врачом. Не потому, что могу зашить рану, вправить вывих или сделать массаж сердца.
Я стал врачом, чтобы быть с людьми в самые важные моменты. Чтобы стоять на краю обрыва вместе с другим человеком и вместе с ним вглядываться во мрак неизвестности. Я стал врачом, потому что тоже боюсь. Потому что хочу хоть как-то ослабить страх — не только свой, но и страх всех людей.
Она открывает глаза и немного хмурится. Гримаса боли проскальзывает по ее лицу.
— Вам больно? — спрашиваю я.
Она смущенно кивает.
— Я не хочу, чтобы вы страдали, — говорю я. — Не бойтесь сказать мне.
Я вызываю медсестру.
— Еще десять морфина.
Сестра кивает, достает препарат и вводит его в капельницу. Я киваю в ответ, и сестра выходит. У нее есть и другие пациенты.
— Спасибо, — говорит женщина и садится.
Моя рука лежит на поручнях рядом с ней. Она берет меня за руку и крепко сжимает.
— Спасибо, что сидите со мной.
Я краснею.
— Что вы… — бормочу я. — Что вы…
— Как вас зовут? — спрашивает она.
— Я доктор Грин, — привычно отвечаю я.
Она удивленно моргает.
— Нет, как ваше имя?
Я не сразу ее понимаю. Иногда я бываю таким тугодумом. Но потом до меня все же доходит:
— Меня зовут Филип.
— Привет, Филип, я — Энн, — она легонько пожимает мою руку.
— Привет, Энн. Рад знакомству.
Я улыбаюсь, мы пожимаем руки, словно встретились в первый и последний раз — впрочем, так и есть.
— Я тоже рада, — улыбается она.
Мы пожимаем руки.
Держать руку умирающего человека очень печально, но в то же время и прекрасно. Ужасно и прекрасно. Монитор фиксирует каждый удар ее сердца, каждый ее вздох, уровень кислорода в крови и артериальное давление. В одной этой комнате три компьютера, не считая специального робота для лечения инсульта. Я впервые думаю, что меня окружает столько же приборов, сколько и пилота космического шаттла.
Но ни один из них не поможет мне в такую минуту.
Я держу ее за руку, и этого достаточно. Это рука матери, жены и дочери. Это человеческая рука. Так приятно держать ее руку. Это же так просто. Это лучшее, что я сделал в этой больнице за несколько месяцев. На мгновение я забываю про гнев, про усталость. Забываю обо всем, что не имеет значения.
Энн бледнеет прямо на глазах. У нее почти не осталось крови. Кровь вытекает в живот. Я смотрю на монитор. Пятьдесят на двадцать два. Двадцать восемь ударов сердца в минуту. Линии на мониторе становятся все более ровными. Я замечаю, что ее сердце пропускает отдельные удары.
Она снова открывает глаза и поворачивается ко мне. Она улыбается — широкая, теплая, добрая улыбка. Это драгоценный подарок, который я сохраню навсегда.
— Спасибо, Филип, — шепчет она.
А потом она умирает.
Я все еще держу ее за руку. Рука теплая, но я знаю, что Энн ушла. Я держу ее, даже когда линия на мониторе становится абсолютно прямой. Я не хочу отпускать ее первым. Обещание есть обещание.
Я медленно поднимаюсь. «Как странно, — думаю я. — Как странно, что именно этим я зарабатываю на жизнь».
Сигнал монитора нарушает тишину, как церковный колокол на далеком холме. Я подхожу и выключаю его.
В комнате становится тихо. Я слышу шум приемного покоя. Другие пациенты. Другие люди с их проблемами. Мне не хочется уходить — не хочется уходить сейчас.
Почему-то я вспоминаю разговор на вечеринке несколько лет назад. Собеседник, узнав, что я работаю врачом приемного покоя, спросил:
— Что мне делать, если кто-то будет умирать, а помощь окажется слишком далеко?
Тогда я рассказал про попытки освободить дыхательные пути, остановить кровотечение, про массаж сердца.
— Но если все это не поможет? — настаивал он. — Если я буду знать, что человек умирает? Что мне делать?
Тогда я не знал, что ответить. Но теперь, благодаря моей подруге Энн, я знаю ответ. И скажу его вам, потому что тому человеку ответить уже не могу.
Бояться такого момента совершенно естественно и нормально. Назовите себя, назовите свое имя. И возьмите человека за руку, когда он будет покидать этот мир. Этого будет достаточно.
Этого будет достаточно.
В Вайоминге снег
Хлопья снега размером с ладошку новорожденного падают за стеклянными дверями приемного покоя. Я наблюдаю, как стремительно белеет нижняя часть дверей. Хлопья налипают на окно, стирая черноту зимней ночи. Снег сыплется с неба, ярко вспыхивает в луче фонаря и тут же исчезает, соприкоснувшись с теплым стеклом окна.
Я сижу у окна и смотрю на снег. В приемном покое пусто. Больше шести часов у нас нет ни одного пациента. Пурга полностью остановила всякое движение. Моя одинокая медсестра поднялась куда-то наверх, чтобы немного поспать. Я не возражаю. Хоть когда-то это место кажется безопасной гаванью в опасном внешнем мире. Мне нужно отключиться. Отключиться от смерти, от травм. Отключиться от бесконечного потока страдающих людей. Поддавшись импульсу, я записался на трехмесячное дежурство в самом отдаленном уголке Вайоминга, какой мне только удалось найти.
Я сыт по горло экстренной медициной. В молодости я с восторгом брался за любую травму. Меня увлекали эти истории. Я чувствовал себя в первом ряду захватывающего шоу. Сегодня мне хочется просто сидеть и смотреть, как падает снег за окном. И хорошо бы это продолжалось все мое дежурство. Мне нужно время подумать. Развязать узел историй, затянутый в моей голове. Люди, даты, смерти — все они сплелись в один запутанный и непонятный клубок.
Я пытаюсь вспомнить историю каждого пациента. Слепой ребенок с обожженным лицом — он пострадал в автокатастрофе или на пожаре? Женщина, утонувшая в Рождество, — это была та, с вытатуированным на груди собственным портретом, или нет? Или татуировка была у той, что утонула в пруду? Или у той, что упала с причала? В моей голове смешалось столько лиц, что я уже не могу в них разобраться.
Мне стыдно за свое беспамятство. Я должен помнить. Разве не должны живые помнить тех, кого больше нет с нами? Я делаю глубокий вдох. Не надо злиться. Нужно разобраться.
За стеклянными дверями вспыхивают два ярких луча. Это прерывает мои размышления. Фары грузовика приближаются прямо ко входу в приемный покой и ослепляют меня. Я сижу за столом и всматриваюсь в ночь. На улице кто-то есть. Прежде чем я успеваю подняться, фары моргают, потом еще раз. Кто-то появляется перед машиной.
Тяжелые удары кулака по дверям нарушают тишину. Я все еще ослеплен светом фар. Кулак стучит снова и снова, изо всех сил. С дверей осыпается налипший снег.
Я прищуриваюсь. В ярком свете приемного покоя трудно разглядеть что-то в ночном мраке. Я беру со стола свой стетоскоп, вешаю его на шею и бегу к дверям. Прижавшись лицом к холодному стеклу, пытаюсь рассмотреть, что происходит во дворе. В дверь колотит пожилой мужчина в пальто с поднятым из-за метели воротником. Он бьет кулаком прямо в то место, где мое лицо. Я отшатываюсь.
— Хватит таращиться на меня! — кричит мужчина. — Откройте эту чертову дверь!
Я нажимаю кнопку, и дверь отъезжает в сторону. Сугроб, наметенный с внешней стороны, падает прямо на пол приемного покоя, не давая двери закрыться. Снег повсюду.
— Моя жена в машине… Мне кажется, у нее инсульт!
Я не успеваю ответить, а он уже скрывается в ночи. Я почти не вижу его за снегопадом.
Тряхнув головой, я выбегаю под снег. Ночью в Вайоминге ужасно холодно. У меня мгновенно перехватывает дыхание, и я прикрываю рот ладонью, как маской. Я шагаю на свет, с трудом пробираясь по колено в снегу. Стараюсь идти по следам мужчины, но снегопад такой сильный, что их мгновенно заметает. С каждым шагом снег насыпается мне в ботинки.
Парковка кажется другой планетой. В свете фар я вижу валящий с неба снег. Снежные хлопья крутятся в воздухе и летят во все стороны. У меня начинает кружиться голова. Трудно даже стоять прямо, не то что идти. Мне приходится притормозить, чтобы не упасть.
Я вижу пожилого мужчину. Он стоит возле открытой дверцы старого фермерского грузовика. Двигатель еще работает. Дизель ревет и стучит — даже метель его не заглушает. Я иду к машине, а мужчина отступает и жестами просит меня поторопиться.
Я хватаюсь за ручку машины, чтобы не упасть. Хорошо бы влажная ладонь не прилипла к металлу. Открываю дверцу. Оценив ситуацию, чувствую, что мир вокруг меня замирает. На переднем сиденье я вижу пожилую женщину. Она тяжело осела и наклонилась вперед, словно во сне. Голова ее почти касается приборной панели. На ней домашнее красно-синее платье с длинными рукавами. Тонкая золотая цепочка покачивается в свете приборов. На цепочке крестик. На горизонтальной перекладине сидят два золотых ангела, их босые ножки свисают, словно у детей на качелях, руками они держатся за верхушку креста. Покачивание крестика гипнотизирует меня, как и падающий снег.
Я забираюсь в грузовик. Снег с крыши сыплется мне на руки. Я стряхиваю снег, пытаясь удержать равновесие. Указательным и средним пальцами правой руки стараюсь нащупать пульс на сонной артерии женщины. Мои пальцы ищут пульс, жизнь, надежду. Когда я касаюсь ее шеи, женщина не шевелится. Кожа холодная, как снег вокруг меня. Я считаю до шестидесяти, чтобы окончательно удостовериться. А потом рука моя падает.
Я выпрыгиваю прямо в снег, делаю глубокий вдох и поворачиваюсь к мужчине:
— Она умерла, сэр, — дважды повторяю я. — Она умерла.
Мы стоим лицом к лицу. Он смотрит на меня, тело его напряжено, левая рука держится за ручку дверцы рядом с моей. В кустистых бровях застревает снег, и они становятся еще белее, чем были. Мы оба не движемся.
Я произношу громче — вдруг он не расслышал меня за шумом дизеля.
— Она…
Я не успеваю закончить, как он правой рукой наносит мне сильный удар в челюсть. Искры сыплются у меня из глаз, когда я ударяюсь головой о раму дверцы. Я выставляю ногу, чтобы защититься от нового удара.
Но удара нет.
— Сукин ты сын, тащи ее в больницу и лечи! Или я вышибу тебе мозги прямо здесь! — старик не то кричит, не то рыдает, потрясая в воздухе морщинистыми кулаками.
Я моргаю и пытаюсь выпрямиться. В ушах у меня звенит, челюсть адски болит. Я поворачиваюсь и отстегиваю мертвую женщину. С трудом взваливаю ее на плечи и по снегу тащу в приемный покой. Я не могу не заметить, что голова ее остается в том же положении — даже на моих плечах. Она окоченела. Она не просто мертва, она давно мертва.
Я спотыкаюсь, скольжу, чуть не падаю, но мне все же удается добраться до приемного покоя. Теперь меня слепят не фары, а огромная светящаяся табличка «ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ» над стеклянными дверями.
Двери открыты, наметенный снег не дает им закрыться, но он уже начал таять. Я ковыляю в небольшую смотровую, с трудом удерживая на плечах пожилую женщину. Я оглядываюсь вокруг в надежде, что сестра спустилась. Не повезло. В приемном покое только я.
Со стоном я сгружаю тело на каталку. Голова с громким стуком ударяется о поручни. Женщина лежит на боку. Ее тело все еще в сидячем положении — она слишком окоченела, чтобы распрямиться. Я пытаюсь начать с дыхательных путей. Перекатываю женщину на спину, но колени ее остаются согнутыми. Она опять заваливается на бок. Я пытаюсь снова. И снова. Я не могу положить ее на спину. Придется реанимировать на боку.
Я берусь за оборудование для дыхательных путей и начинаю. Я знаю, что женщина мертва. Но порой членам семьи нужно видеть, что врач пытается спасти их близких, и я это понимаю. Это часть моей работы. Я буду работать для него, хотя и знаю, что уже ничем не могу помочь его супруге. Я поднимаю глаза, чтобы убедиться, что он видит.
Мужчины в приемном покое нет. Всего секунду назад он был за моей спиной, на парковке. Я останавливаюсь, не зная, что делать. А вдруг он упал? Что, если он лежит в снегу где-то между больницей и своим грузовиком? Женщина все равно мертва.
Я громко чертыхаюсь и выбегаю на улицу. Пробегаю половину парковки, прежде чем до меня доходит. Оглядываюсь вокруг, не веря собственным глазам. Грузовик уехал. Мужчина исчез. Я остался один. На парковке сохранились лишь следы, да и те быстро заметает снегом. Я стою, не двигаясь, по колено в снегу, не зная, что делать дальше.
За моей спиной начинает звучать сирена и моргать большая красная вывеска «Приемный покой». Я понимаю, что нужно вернуться. Поворачиваюсь и шагаю на свет, к единственному убежищу, доступному для меня посреди этой бури.
Вернувшись, я обнаруживаю, что сестра уже спустилась. Она увидела фары грузовика в окно наверху.
— Что случилось? — спрашивает она, глядя на тело.
Она входит за мной в смотровую. Тело женщины лежит на каталке на боку.
— Помогите мне, — говорю я.
Мы расправляем тело пожилой женщины, чтобы она лежала на спине. Накрываем ее чистой белой простыней, оставив только лицо. Я осторожно закрываю ее глаза. Теперь кажется, что женщина спит. Я снимаю ее крестик с ангелами и кладу ей на грудь. Золотой крестик поблескивает на белой простыне.
— Я вызову Джона. Ему приехать прямо сейчас? — спрашивает сестра.
Джон — это наш коронер.
Я смотрю на улицу. Снег засыпает пустую парковку.
— Скажите ему, чтобы он приехал, когда рассветет.
Сестра кивает.
— Зовите меня, если я вам понадоблюсь.
— Спасибо, — благодарю я.
Она поворачивается и уходит наверх, чтобы поспать еще немного.
Я задерживаюсь в комнате с пожилой женщиной. Мне не хочется оставлять ее в одиночестве, хотя она и мертва. Никого нельзя бросать дважды за одну ночь.
— Может быть, он любил вас так сильно, что не мог вынести вашей смерти, — говорю я. — Иногда такое случается. Иногда люди просто не могут этого вынести.
Она не отвечает. Я смотрю вниз и не знаю, что еще сказать. Прислоняюсь к стене и слушаю гудение люминесцентных ламп. Я стараюсь не надеяться, но все же надеюсь.
Проходит двадцать минут — и я слышу звук. На парковку въезжает грузовик. Старый дизель рычит, и метели не заглушить этот звук.
Двигатель смолкает. Хлопает дверца, потом еще одна.
Я подхожу к дверям, нажимаю кнопку и стою у входа, вглядываясь в снег. Царит полная темнота. В свете вывески я вижу, как кружатся снежные хлопья. Пока я ничего не различаю.
Потом появляется старик. По глубокому снегу он идет медленно и осторожно. Он не спешит. Я понимаю, что он знает. Он знает, что она умерла. Под руки его держат две девочки лет пятнадцати — внучки женщины, лежащей в приемном покое. Старик кажется очень слабым. Создается впечатление, что он в любой момент может рухнуть. Но я знаю, что этого не случится. Две крепкие фермерские девочки следят за каждым его шагом.
Я стою в дверях, чтобы они не закрылись автоматически. По лицам девочек я понимаю, что они тоже знают. Но я понимаю, что с ними все будет хорошо. И со стариком. Они поддерживают друг друга в этот момент, как и должны. Как все должны.
Может быть, и со мной тоже все будет хорошо. Может быть, мне не нужно помнить лица мертвых. Может быть, мне нужно помнить лица живых.
В конце концов, именно они пока еще здесь.
Своя игра
Это Алекс Требек.
Ведущий телевизионного шоу «Своя игра».
Я слышу его голос из телевизора еще до того, как войти в комнату. «Он сидел за столом, а над ним на конском волосе был подвешен обнаженный меч».
Я отдергиваю шторку и вхожу.
— Здравствуйте, я… — начинаю я.
Женщина поднимает руку, делая знак, чтобы я подождал.
— Дамокл — говорит она, не отрывая взгляд от телевизора.
Я стою в дверях, придерживая шторку, и жду.
Участник шоу отвечает: «Дамокл».
«Правильно», — слышу я голос Алекса в телевизоре. Он повторяет ответ участника.
Женщина в палате отрывается от телевизора. Она машет мне, приглашая войти. Ей уже за пятьдесят. На лице широкая улыбка. Волосы поседели. Доброе лицо, поношенные, но красивые туфли, дешевое зеленое колечко на правом указательном пальце, потрепанный серый шерстяной свитер с тонким голубым узором на манжетах, ногти, покрытые лаком. И уставшие глаза.
Она массирует шею матери.
Маленькая женщина сидит на каталке рядом с ней. Спина ее согнулась от возраста. На почти лысой голове лишь несколько прядей тонких белоснежных волос. На левом глазу бельмо. Я смотрю, как она отводит волоски с лица, заправляя их за уши указательным пальцем. Палец согнут почти под прямым углом — его изувечил ревматоидный артрит. Все пальцы женщины согнуты, суставы отекли и деформировались от болезни. Даже не представляю, как она ест такими изуродованными руками. Она чувствует, что я смотрю на нее. Здоровый глаз мельком глядит на меня и тут же возвращается к Алексу Требеку.
Судя по ее карте, ей девяносто семь лет.
— Мама, доктор пришел…
Дочь легонько трясет мать за плечо, затем складывает руки на коленях и начинает постукивать указательным пальцем с колечком. Она выпрямляет спину и откашливается, чтобы побеседовать со мной.
Мы знакомимся.
У матери уже три дня боли в груди. Они возникают и проходят. В какой-то момент все в порядке, старушка сидит в кресле, смотрит старые записи «Своей игры», а потом хватается за грудь, и ее любимая розовая ночная рубашка промокает от пота. Она потеет так сильно, что на кресле появляются лужицы. Приступ потливости длится минут десять, обычно до следующей рекламной паузы.
Дочь улыбается и переводит взгляд на мать.
— Мама, когда у тебя снова начались боли?
Дочь протягивает руку и осторожно круговыми движениями массирует матери спину между лопатками. Старушка не отрывает единственного здорового глаза от Алекса, не обращая на нас внимания.
Я подхожу к кровати.
— Сейчас вы ощущаете боль в груди?
Старушка не смотрит на меня.
— Говорите громче, она почти не слышит, — говорит мне дочь. — И еще она…
Женщина дважды постукивает указательным пальцем по виску.
Я хмурюсь, не понимая.
Дочь поднимается и подходит ко мне. Она прикладывает руки ко рту, как ребенок, когда хочет сказать что-то по секрету, наклоняется ко мне и шепчет на ухо. Я чувствую себя неловко.
— У нее деменция в последней стадии.
Я киваю и немного отступаю назад. Дочь возвращается на свое место и снова складывает руки. Указательный палец постукивает по колену.
— Сейчас у вас что-то болит? — спрашиваю я как можно громче, осматривая старушку.
— Мама, у тебя что-то болит? — громко и монотонно спрашивает дочь, копируя мою интонацию.
Старушка непонимающе смотрит на меня и наклоняется вбок, чтобы разглядеть телевизор за моей спиной.
Дочь пожимает плечами, словно говоря: «Видите… У нее деменция».
Я обследую пациентку. Она очень чистая. Некоторые пожилые пациенты прибывают с крошками еды на подбородке, другие — в рваной и грязной одежде, неумытые. Но не эта старушка. Она очень чистая.
— Она в хорошей форме для девяноста семи лет. Она живет с вами?
Дочь улыбается.
— Да, я за ней ухаживаю.
— Вы отлично справляетесь.
Лицо женщины проясняется.
— Я люблю свою маму.
— Это заметно, — улыбаюсь я в ответ.
Через час я возвращаюсь с анализом крови. В телевизоре идет «Своя игра». Я стою в дверях, ожидая.
«Греческие духи смерти», — говорит Алекс.
— Керы, — отвечает женщина.
«Керы», — правильно отвечает участник.
Женщина снова сияет улыбкой.
На этот раз я не улыбаюсь в ответ. Я сажусь на стул между ними.
— У вашей мамы был инфаркт, — говорю я. — В ее крови повышенное содержание тропонина. Боль в груди связана с сердцем.
Дочь бледнеет. Палец начинает постукивать быстрее.
Я превращаюсь в настоящего врача.
— Обычно, когда у человека инфаркт, мы вводим инструмент, чтобы найти закупорку сосуда, а когда находим, устанавливаем стент. Иногда стент не работает, и приходится делать операцию на открытом сердце.
Я умолкаю, мои слова повисают в воздухе. Я надеюсь, что женщина меня поймет. Ее матери девяносто семь лет. Но женщина молчит. И я продолжаю.
— Как вы считаете, чего захочет ваша мать? Захочет ли она проходить такую процедуру? И операцию, если понадобится? В ее возрасте любые процедуры рискованны.
Дочь продолжает постукивать пальцем. Она, не мигая, смотрит на меня.
Я продолжаю.
— Другой вариант — положить ее в больницу, ухаживать за ней и проводить лекарственную терапию. Без болезненных и тяжелых процедур.
Дочь неожиданно хмурится, словно мои слова стали для нее пощечиной. Она только сейчас поняла, что я сказал.
— Если вы можете ей помочь, вы не должны лишать ее этого, — резко говорит она.
Женщина подходит к матери и садится рядом с ней, защитным жестом обнимая ее за плечи.
— Сделайте все.
Она смотрит на меня, словно бросая мне вызов, чтобы я предложил другой вариант.
Я сдаюсь.
— Я вызову кардиолога, — поднимаясь, говорю я. — Мы сделаем все, что сможем.
— Сделайте все, — повторяет она.
Я пытаюсь улыбнуться, но не могу.
— Мы сделаем. Вы являетесь ее опекуном?
Дочь не смотрит на меня. Вместе с матерью она вперилась в экран телевизора.
— Да, — отвечает она, не отрывая взгляда от Алекса.
— Извините, но у кардиолога будет еще один вопрос, — дочь смотрит на экран, избегая глядеть на меня. — Если произойдет остановка сердца, мы должны подключать ее к аппаратам, или у нее есть отказ от реанимации?
— Да, да… Я уже сказала вам, да! — голос ее становится громче. Правая рука лежит на поручне кровати, указательный палец отчаянно стучит. Зеленое кольцо бренчит по блестящей стали поручня. — Я хочу, чтобы вы позаботились о ней. Она заботилась обо мне. Я хочу, чтобы вы сделали для нее все возможное.
— Разумеется, — киваю я, словно это вполне разумно.
«Сизиф», — произносит Алекс, когда я выхожу. Через час я сижу за столом, заполняя документы. Рядом со мной пикает монитор телеметрии. Девять линий отражают сердцебиение девяти пациентов приемного покоя. Неровные линии тянутся в мою сторону. Я поднимаю глаза и вижу, что одна линия на мониторе становится плоской, а потом начинает судорожно дергаться, как лента на ветру. Экран загорается красным, раздается сигнал тревоги. И мгновенно шторка отдергивается. Я вижу дочь старушки. Она в панике.
— Что-то случилось! — кричит она.
Я вскакиваю из-за стола и бегу к ней. Из ординаторской выходит сестра, замечает меня и бросается за мной.
Мы входим в палату одновременно. Несмотря на громкие сигналы, маленькая старушка лежит совершенно спокойно. Глаза ее закрыты, словно она прилегла отдохнуть после того, как испекла двадцать пирожков для внуков.
Сестра видит, что очень старая женщина ушла, и замирает. Она смущенно смотрит на меня, не зная, что делать. Я говорю ей:
— Полная реанимация.
Сестра сжимает губы так сильно, что они белеют. Она хмурится. Я чувствую, что ей хочется что-то сказать, но она молчит. Она давно работает в приемном покое и многое видела. Она кивает, подходит к старушке, готовая приступить. Я замираю, хотя и не должен. Я знаю, что будет дальше.
— Мама, я люблю тебя, — рыдает дочь.
Я осторожно отстраняю ее, беру ступеньку, подвигаю ее к кровати, поднимаюсь на нее, кладу ладонь на левую сторону грудины, а вторую поверх нее. Делаю глубокий вдох и начинаю массаж сердца. Сестра готовит дефибриллятор.
Мне нужно энергично сжимать грудную клетку, чтобы кровь пошла через сердце. Я так и поступаю. Но сердце ее скрыто за хрупкими девяностосемилетними костями. Я нажимаю. Ребра ломаются под моими руками, как сухие ветки. Под руками, которые должны сращивать кости, а не ломать их.
Я смотрю на сестру. Она держит в руках огромные пластины дефибриллятора. Я поднимаю руки, и она прикладывает первую белую пластину над левой грудью пациентки. Я переворачиваю пациентку от себя к медсестре. Она прикрепляет вторую пластину на левую лопатку. Я снова кладу женщину на спину. Я прекращаю массаж сердца, сестра поворачивается к дефибриллятору и щелкает переключателями, словно мы в самолете, а она — пилот, готовящийся к аварийной посадке.
Проходит двадцать секунд.
Дочь стоит за мной, повторяя, словно в трансе:
— Мама, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя…
По вызову палата заполняется людьми. Появляется техник, он сменяет меня и принимается за массаж сердца. Я же перехожу к изголовью кровати.
— Стоп, — командую я.
Массаж прекращается. Я смотрю на монитор. Ритм сердца не изменился. Нужен электрошок.
Гудение зарядки дефибриллятора заполняет комнату. Все замирают.
«Кто написал песню “Что такое любовь”? — спрашивает Алекс Требек. — Вопрос на сорок долларов». Зрители в студии смеются. На этот раз дочь не отвечает.
У ее матери фибрилляция желудочков. Внутри ее груди сердце трепещет и бьется, словно куча живых червей, которых бросили в костер.
— Приступайте, — киваю я сестре.
Она осматривает комнату, чтобы убедиться, что никто не находится в контакте с пациенткой или кроватью.
Сестра нажимает большую красную кнопку дефибриллятора с изображением разряда молнии. Двести джоулей электричества проходят через девяностосемилетнюю грудь, через сердце, которое оказалось между двумя пластинами. Дефибриллятор издает звук, словно мяч бросили в железное ведро.
Грудь старушки содрогается. Плечи ее отрываются от кровати и съеживаются. Я смотрю на монитор. Фибрилляция продолжается. Еще разряд. Еще. Проверка пульса. Пульса нет. Асистолия — пульса нет. Техник снова принимается за массаж сердца.
— Ампула эпинефрина и амиодарон, — говорю я. Я вскрываю набор для интубации, собираю его, ввожу лезвие в рот старушки.
Затем приседаю у изголовья кровати лицом к старушке, стараясь рассмотреть в глубине горла голосовые связки. Маленькая лампочка светит прямо ей в горло. Повернув запястье, я нахожу связки. Они колеблются от массажа сердца.
Мне протягивают эндотрахеальную трубку. Я ввожу ее между связками. Замечаю, что здоровый глаз старушки открывается. Зрачок ее расширен и сух. Он смотрит на меня.
Я заканчиваю интубацию. Дыхание обеспечено. Мы снова проверяем ритм. Фибрилляция сохраняется. Приборы сигналят и мигают лампочками. Амиодарон. Разряд. Сестра командует отойти, и я отхожу. Дефибриллятор зловеще гудит. Разряд. Еще двести джоулей проходит через тело женщины. Тот же ритм, разряд; тот же ритм, разряд.
Каждый раз все происходит одинаково. Массаж прекращается. Дефибриллятор гудит. Сестра командует. Все отходят. Разряд. Тело выгибается. Ничего.
Техник возвращается к массажу сердца. Слышится треск ребер. Рядом со мной реаниматор в синих перчатках сжимает дыхательный мешок, накачивая воздух в легкие пациентки через прозрачную трубку. Из уголков рта старушки стекает рвота с каплями крови. Массаж сердца продолжает другой техник.
Дочь все еще стоит рядом с нами, шепотом повторяя то же самое. Я замечаю, что слова ее совпадают с ритмом массажа. «Я люблю тебя, мама» — толчок — «Я люблю тебя, мама» — толчок — «Я люблю тебя, мама» — толчок. Техник вторит ритму ее слов — я не понимаю, сознательно или нет. Раздаются тревожные сигналы. В комнате звучит сюрреалистическая симфония, а мне отведена роль дирижера.
— Стоп, — говорю я, останавливая музыку.
Мы проверяем ритм. Пульса нет. На мониторе идет линия электрической активности без пульса.
— Массаж, — командую я, и все повторяется снова.
Мы вводим эпинефрин, атропин, дофамин, физиологический раствор. Мы делаем все, что в наших силах. Грудь старушки похожа на подушку, которая проминается под каждым сжатием. Ритм меняется. Разряд. Еще разряд.
Я поворачиваюсь к дочери.
— Она не выживет.
— Не останавливайтесь! — дочь бросается вперед и тычет пальцем мне в лицо. — Я люблю ее.
Мне хочется спросить: «Неужели это любовь?» Но я не спрашиваю.
Мы продолжаем.
Разряд. Еще разряд. В воздухе запах электричества и чего-то неприятного.
Мы вводим новые препараты. Мы бьем пациентку током бесчисленное количество раз.
Пятнадцать минут я делаю все, что предписано протоколом. Я изо всех сил стараюсь заставить женщину прожить хоть немного дольше. И все мы надеемся, что смерть заберет ее, избавив от этого насилия.
Приезжает вторая дочь с документами.
Она отдергивает шторку и кричит нам:
— У нее отказ от реанимации! Она никогда этого не хотела! — она смотрит на свою сестру. — Вот! Вот ее подпись! Вот документы! У нее отказ от реанимации!
Мы не успеваем среагировать, когда первая сестра вырывает у второй документы и прячет их под свой серый свитер. Я не успеваю их увидеть.
Я в ловушке, и она знает это.
— Кто является опекуном?
— Я, — отвечают обе.
Они бросаются друг на друга, сходя с ума от ужаса. Они кричат. Они спорят и плачут.
Я смотрю на старушку. У нее произошло испражнение, и ноги ее испачканы калом. Запах мочи наполняет комнату. Эндотрахеальная трубка торчит изо рта, как огромный пластиковый язык. Грудь вдавлена. Живот напряжен. На руках кровь из катетеров. Я чувствую запах дефибриллятора.
Моя очередь делать массаж. Я меняю техника. Он весь вспотел. Я продолжаю массаж.
Сестры все еще спорят.
Реанимация продолжается. Я чувствую, что все мы оказались в каком-то чистилище, откуда нет выхода. Сестры кричат друг на друга. Я боюсь, что они начнут драться.
Массаж.
Ребра хрустят под моими руками. Мне становится плохо. Я не могу вспомнить, сколько ребер в грудной клетке, но, наверное, много.
Через пятнадцать минут все кончается.
Сестры приходят к согласию. Они вместе произносят волшебные слова:
— Прекратите реанимацию.
Мы останавливаемся.
На мониторе прямая линия.
Старушка умерла.
Первая дочь подходит к телу матери.
— Я люблю тебя, мама, — тихо произносит она.
Вторая дочь, не желая быть оттертой в сторону, бросается вперед и отталкивает сестру.
— Я люблю тебя, мама!
Она произносит самое последнее слово, самое последнее признание в любви.
Мне хочется, чтобы они замолчали и просто ушли. Я больше не вынесу столько любви в одной палате.
Я снимаю резиновые перчатки, стаскиваю желтый халат и швыряю маску в мусорное ведро.
Я выхожу во двор, чтобы немного расслабиться. Руки у меня дрожат.
Иногда мне бывает стыдно за то, чем я зарабатываю на жизнь.
Отис
Факты о моих пациентах накапливаются, как вороны, сидящие на проводах над больничной парковкой. Чем больше фактов я соберу, тем скорее они взлетят шумной стаей и сложатся в историю.
* * *
Я стою у постели пациента. Белые больничные простыни сбились, обмотав его тонкие щиколотки. Старик лежит на боку. Руки и ноги изуродованы контрактурой. Язва на бедре говорит о том, что его оставили без внимания на очень долгое время.
Старик крохотный. Десятилетний мальчик, которого я только что лечил от ангины, и тот больше. Тело старика костлявое, острое, но все же ему удалось свернуться калачиком. Он свернулся так крепко, что мне кажется, он разорвется пополам, если мы попытаемся его развернуть.
Согнутые колени прижаты к груди, локти — к телу. Правая рука касается рта, запуская древний рефлекс, дремлющий в его мозгу. Я вижу, как сухие губы сжимают и сосут эту руку, словно утренний сон закончился и настало время кормления. Старик обнажен. На нем только большой подгузник для взрослых с надписью «Скорая помощь округа Стэнтон». Мне на миг кажется, что сейчас войдут молодые родители и заявят, что это их новорожденный сын.
Старик поворачивается в постели. Я стою над ним. По прозрачным пластиковым трубкам в его нос поступает кислород. Трубки торчат из носа, лежат на лице. С каждым вдохом они приподнимаются и опускаются, слегка затуманиваясь изнутри. Это странный метроном, задающий ритм дыхания.
* * *
Я стою и смотрю на него. Я чувствую, как в моем мозгу начинают собираться вороны. Я трясу головой, и они разлетаются, возвращаясь на деревья.
* * *
Я беру скрючившегося старика за запястье, прямо у подбородка. Кончики моих пальцев ищут и нащупывают пульс. Монитор над кроватью показывает сердцебиение, давление и даже уровень кислорода в крови. Но это всего лишь цифры на экране. Мои пальцы находят ответы на вопросы, в которых монитор бессилен. В каком состоянии кожа? Она теплая или холодная? Влажная или сухая? Шелушится или гладкая и здоровая?
Тридцать секунд я считаю удары сердца под пальцами, потом умножаю на два. Как и показывает монитор, у меня получается пятьдесят четыре удара в минуту. Но, в отличие от монитора, я понимаю, что пульс очень слабый и усталый. Подушечки указательного и среднего пальцев еле его ощущают. Я не чувствую решительных, громких ударов пульса спортсмена. Пульс старика похож на тихие шаги, отмеряющие последний отрезок жизни.
— Мистер Хелфанд, — говорю я. — Сэр, вы меня слышите?
Губы кривятся, кислородные трубки качаются, но старик не отвечает.
Я легонько трясу его за плечо.
— Мистер Хелфанд!
Тишина.
Я беру карту пациента, чтобы узнать его имя. Там написано «Отис».
— Отис… Эй, Отис, — произношу я.
Тишина.
— У вас все в порядке? — в дверях стоит дежурный медбрат и смотрит на меня.
Он хмурится, но он всегда такой. Ведь сегодня его дежурство, а день выдался тяжелым. Он — распорядитель шоу. Он распределяет пациентов по смотровым, отвечает на звонки, командует медсестрами, общается со скорой помощью и разыскивает родных, которые ушли в кафетерий именно тогда, когда срочно потребовались врачу. Он знает истории всех пациентов, знает, откуда они приехали и куда уедут — или на какие кровати наверху отправятся. Он виртуозно жонглирует множеством шариков. Неудивительно, что он хмурится.
— Что с этим пациентом? — спрашиваю я. — Похоже, он не хочет мне ничего рассказывать.
Дежурный смотрит на старика и хмурится еще сильнее.
— Думаю, это старик с инсультом, которого привезли из дома престарелых. У него что-то с дыханием, но точно я не знаю. Они сказали, что он был в хосписе, но кто-то отправил его к нам, — он пожимает плечами. — Док, скорая делала массаж сердца в пути.
Как только он заканчивает фразу, оба его телефона начинают звонить одновременно. Мне кажется, он сейчас швырнет их об стену. Но он сдерживается, яростно нажимает зеленую кнопку на первом телефоне и подносит его к уху.
— Дежурный, — говорит он.
И с этими словами удаляется.
Нужно поспешить, если понадобится реанимация. Раз этот старик действительно из хосписа, то от меня много не потребуется. В хоспис без смертельного диагноза не попадают.
Я смотрю на лежащего старика.
Что за жизнь была у этого крохотного тела? Дразнили ли его? Подшучивал ли он сам над своим ростом? Или приходил в ярость и ввязывался в драки, из которых не мог выйти победителем? Был ли он женат? Была ли его жена такой же маленькой? Есть ли у него дети? Такие же они или нет? Какие тайны навеки сокрыты в этом тельце?
* * *
Каждый новый вопрос — это очередная ворона, спускающаяся с неба на провода, где другие. Собирается стая. История, которую нужно рассказать, постепенно обретает форму. Я пытаюсь не обращать внимания на ворон, занимаясь своим делом.
* * *
На левом запястье два ярких резиновых браслета. Красный и желтый. На красном буквы, означающие отказ от реанимации. Не реанимировать. Не делать массаж сердца. Не пользоваться дефибриллятором. Не интубировать. На желтом браслете другие буквы. Только уход. То есть мы должны стараться обеспечить ему комфорт и не причинять никакого дискомфорта. Нужно минимизировать страдания в преддверии неизбежного конца. Эти два браслета заметно облегчают мою задачу. Мне не нужно напрягаться. Достаточно осмотра для исключения острых травм и инфекций. Возможно, потом потребуются какие-то препараты, облегчающие состояние. А потом скорая помощь отвезет старика обратно в дом престарелых до следующего раза.
Я начинаю осмотр.
Сразу же замечаю асимметрию плеч пациента. Левая ключица явно смещена, из-за чего одна рука располагается ниже другой. Хотя пациент свернулся в клубок, это очень заметно. Кажется, что его повело на сторону, и он может упасть. Может быть, он и падал с кровати в доме престарелых, но никто об этом не упоминал. Скорее всего, даже не раз. Может быть, поэтому он и дышит так быстро — наверное, ему больно. А может, это просто старая травма и ничего больше. Единственный способ узнать — прощупать.
Пальцами я ощупываю костную структуру, осторожно нажимая на левую ключицу и внимательно ища на лице пациента признаки боли. Мозг начинает лихорадочно обдумывать, что могло случиться с костями старика.
И, как всегда, вороны расправляют крылья и взмывают с проводов раньше, чем я успеваю их остановить. История, стая, сборище ворон несется по синему небу над моей головой.
* * *
Она замерла.
Почувствовала зов прежде, чем услышала.
А потом он прозвучал:
— Мам!
Она стояла у кухонной стойки, прислушиваясь к интонации второго зова:
— Мамочка!
Она бросила тесто и побежала.
Мальчик закричал снова. Голос его становился все громче. Две маленькие ручки двигались в едином ритме с ножками, когда он бежал к фермерскому дому.
— Мамочка! — закричал он, перепрыгнув через потрепанный велосипед, брошенный посреди дорожки. — С Отисом беда!
Красная дверь дома распахнулась. Показалась женщина. Руки ее были перемазаны тестом. На синем фартуке выделялись белые пятна муки — как белые облака на летнем небе. Какое-то мгновение она стояла, дожидаясь бегущего к ней мальчика. Тыльной стороной ладони вытерла со лба августовский пот.
— С Отисом беда! — рыдал мальчик. — Он забрался на крышу старого амбара и свалился, — ребенок был близок к истерике. — Я говорил, чтобы он не лез туда… Я говорил…
Женщина присела, неловко надавила на ручку двери локтем и захлопнула дверь за собой.
— Дэнни, я же велела тебе следить за ним!
Она поднесла руку к глазам, чтобы не слепило солнце. С руки осыпалась мука. Крыша старого амбара едва виднелась на дальнем поле. Выбеленный солнцем амбар окружала высокая пшеница, ожидающая осенней жатвы.
Взглянув на эту картину, женщина вдруг ахнула и зажала рот рукой. Посередине полуобрушившейся крыши она увидела дыру, в которую легко мог провалиться маленький мальчик. Страх сдавил ее сердце, дыхание перехватило.
Отис.
Перепачканными в тесте и муке руками она подхватила платье, подняв подол над щиколотками, и побежала к амбару, где чуть не погиб ее младший сын.
Она бежала через высокую пшеницу. Ветер несся по полю рядом с ней, клоня тяжелые колосья, словно морские волны. Зерна осыпались в складки ее платья, и их сбивали новые колосья. Дэнни бежал следом по тропе, которую она прокладывала посреди поля.
Они подбежали к амбару.
— Отис! — закричала женщина.
Она знала, что это случится. Сколько раз она просила своего мужа, Дэвида, сломать старый амбар! Сколько раз она твердила, что сыновья там играют и, в конце концов, кто-то пострадает! Они только что построили новый амбар. Нет нужды сохранять старый, особенно когда на ферме подрастают двое непослушных мальчишек. После долгих споров Дэвид, наконец, сдался. Он разберет амбар.
Но два месяца назад безлунной ночью на соседней ферме угнали новенький трактор «Джон Дир» — прямо с поля. Дэвид был вне себя. Они и без того по уши в долгах. Если украдут трактор, они обанкротятся и потеряют свою ферму. Как и все фермеры долины, он купил замок и стал хранить все ценное — и трактор тоже — в старом амбаре.
Женщина подбежала к двери с тяжелым замком и инстинктивно дернула на себя большую металлическую ручку. Дверь задрожала и заскрипела, но не открылась. Из амбара доносился приглушенный плач. Страх пронзил женщину. Ее охватила паника. Что с ее сыном?!
— Отис! — крикнула она.
Тишина.
Женщина снова и снова наваливалась на дверь всем телом, пытаясь сломать ее. Но крепкая преграда не поддавалась. Дэнни пинал дверь вместе с ней. Он плакал, чувствуя страх матери.
Женщина обежала амбар с другой стороны. На земле валялись деревянные ящики. Несколько ящиков были поставлены один на другой у двери амбара — именно там мальчики и забрались на старую лестницу, свисавшую с крыши. Женщина сразу же поняла, что пути в амбар нет. Она побежала дальше, потом остановилась. В нескольких футах над землей она увидела маленькое окошко. Под ногами валялась старая ржавая труба, которую когда-то отрезали, бросили и позабыли о ней.
— Мамочка, мне больно! — раздался крик из амбара.
Женщина схватила трубу и стала колотить ею по окошку. Дерево ломалось с громким треском, в воздух летели щепки. Она снова и снова наносила удары по доскам, которые не пускали ее к сыну. Она слышала, как в амбаре плачет Отис.
— Я иду, Отис! Я иду! Подожди чуть-чуть!
Когда от досок, которыми было заколочено окошко, почти ничего не осталось, она бросила трубу на землю. Схватилась за щепки, торчавшие в окне, и вырвала их с яростью дикого зверя. Руки ее были в крови. Красные следы остались на стенах и подоконнике. Но она не останавливалась. Если Отис упал на что-то острое… Она вздрогнула и с новой силой принялась ломать доски. Расчистив путь, она взобралась на подоконник и спрыгнула прямо на земляной пол амбара. Она упала на бок, но быстро поднялась. Сквозь дыру в потолке пробивался луч света, в котором поблескивала пыль. Луч высветил маленького мальчика. Ему было шесть лет. Он упал на кучу сена и теперь сидел на ней. Ножки у него были слишком короткими, чтобы достать до земли.
Женщина подбежала к нему и упала на колени. — Отис! — закричала она, хватая его в объятия. — Отис!
Через мгновение она отстранилась, чтобы посмотреть на сына.
Лицо у него было в грязи. Грязь, пот и слезы покрывали его грязными разводами. По носу стекала кровь, чудом не попадая в глаз.
Мальчик сидел, придерживая локоть левой руки ладонью правой. Левое плечо обвисло. Казалось, что он вот-вот упадет на левый бок, хотя сидел он совершенно прямо. Его порванная рубашка свисала с крыши, покачиваясь на ветру, как маленький флаг.
— Прости, мама! — тихо заплакал мальчик.
— Ты ударился головой? — спросила мать.
Отис кивнул.
Мать принялась ощупывать его голову в поисках шишек или порезов. Мука, кровь и грязь покрывали густые волосы Отиса. Он был в грязи, но она чувствовала, что череп цел. С его маленькой головой все в порядке.
Потом она перешла к его плечу. Начав с грудины, она ощупала левую ключицу. Отис закричал от боли. Ключица была сломана.
Женщина поднялась и крикнула Дэнни. Второй ее сын оставался на улице, со страхом заглядывая внутрь через окно. Глаза женщины привыкли к полумраку амбара. И тут она увидела. На какое-то мгновение она даже позабыла о страдающем сыне.
В полумраке старого запертого амбара стоял украденный соседский трактор «Джон Дир», уже полуразобранный на части.
* * *
— Док…
— Док!
Я трясу головой, и Отис, трактора, амбары и вороны разлетаются в стороны. Я перестаю давить на ключицу.
В дверях стоит вернувшийся дежурный. На нем ярко-желтый халат приемного отделения. Второй он протягивает мне.
— Вы нужны нам во второй смотровой, док. Реанимация. Вы не слышали оповещения?
— Извините, — бормочу я, и лицо мое краснеет. Он смотрит на меня и смеется — мы давно работаем вместе, и он хорошо меня знает.
— Ничего — все уже собрались.
Он кидает мне халат, и я подхватываю его.
Осмотр я закончу позже.
Вслед за дежурным я выхожу из палаты. Перед второй смотровой столпились трое полицейских, два врача скорой помощи и мужчина в велосипедном шлеме. Они о чем-то спорят. В смотровой уже стоит каталка, и я замечаю пару потрепанных велосипедных кроссовок. И вороны тут же начинают собираться на проводах…
Уважение
«Что бы при лечении, а также и без лечения я ни увидел или ни услышал
касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать,
я умолчу о том, считая подобные вещи тайной».
Из клятвы ГиппократаЯ вхожу в комнату, где раздаются рыдания. Здесь собрались четыре поколения одной семьи. Старик в ковбойской шляпе, патриарх семьи, сидит на кровати. Когда я вхожу, он кивает, и три поколения, не говоря ни слова, выходят.
Мужчине в шляпе, похоже, около девяноста. На нем коричневая фетровая ковбойская шляпа «стетсон». Это парадная шляпа. Фетр чистый и гладкий — ни грязи, ни жира, как на рабочей шляпе ковбоя. На тонком кожаном ремешке справа серебряная пряжка. Мужчина явно подготовился к посещению больницы.
— Доброе утро, — здороваюсь я. — Я доктор Грин из приемного покоя.
Он смотрит на меня светло-голубыми глазами. В них есть приятная прозрачность бескрайнего неба. Они похожи на перевернутый голубой купол над огромной прерией, где расположились ранчо фермеров. Я вижу, как старик моргает, пытаясь сосредоточиться. В уголках глаз образуются морщинки, похожие на корни дерева, и от этого глаза становятся еще ярче и глубже.
Но мое внимание привлекают усы. Широкие пышные усы — идеальное отражение полной симметрии. Кончики усов сужаются и молодецки закручиваются вверх.
— Здравствуйте, док.
Старик медленно поднимается, древние кости громко скрипят и щелкают. Он протягивает мне правую руку.
Я ее пожимаю.
Рука старика крепкая. Он и сам крепок даже в девяносто лет. Ладонью я ощущаю жесткие мозоли. Целая жизнь в работе с проволочными изгородями, канатами и упряжью не прошла даром.
— Эймос, — представляется он.
Я киваю.
На шее старика галстук-боло. Черный плетеный кожаный шнурок, похожий на кожаную ленточку на шляпе. Концы шнурка скреплены серебряной пряжкой в виде бычьего черепа. На старике чистая, выглаженная белая рубаха с длинными рукавами. Я думаю, не воскресенье ли сегодня? Он выглядит так, словно идет в церковь в своем лучшем костюме.
— Что случилось с Шелли? — спрашиваю я.
Старик бледнеет.
Мы подходим к кровати.
На кровати на спине лежит старая женщина. Она пристегнута к оранжевой доске. На шее белый пластиковый воротник, установленный медиками скорой помощи. Воротник не дает ей двигать шеей — это важно, если какие-то кости сломаны.
Воротник придуман не для комфорта. Он помогает нам удерживать пьяных, травмированных и агрессивных пациентов. Маленькой старушке он не подходит по размеру. Верхняя его часть скрывает ее подбородок и губы. Она шевелит губами, как кролик, который щиплет морковку в огороде.
Раздается стон, и мы подходим ближе.
— Она упала, док.
Старик медленно качает головой и хватается обеими руками за поручень кровати. Лицо его обвисает. На мгновение я представляю, как он через изгородь смотрит на больное животное, лежащее на земле.
Я встаю напротив и берусь за поручень с другой стороны. Старик поднимает правую руку и начинает подкручивать кончик уса большим и указательным пальцами. Это бессознательное действие. Теперь я понимаю, почему у него такие тонкие кончики усов.
Жена стонет.
Мы оба смотрим на нее. Волосы у нее выпали, и теперь она почти лысая. Осталось лишь несколько длинных белых прядей. Они покраснели от крови, текущей из раны на лбу. Мы видим, как цепочка капель крови течет по виску, оставляя идеально прямую красную линию.
Эймос вытаскивает белый платок и осторожно вытирает кровь. Женщина смотрит на него, потом на меня.
— Дэвид? — произносит она.
Он не отвечает и снова вытирает кровь.
— У нее деменция? — спрашиваю я, уже зная ответ.
Я прочел ее карту до прихода.
Он тяжело вздыхает и отвечает:
— Десять лет ада, док.
И снова вытирает кровь.
Эймос рассказывает мне, как это случилось впервые. Тогда он целый день занимался скотом, а вернувшись вечером, застал жену во дворе. Она бродила в поисках сестры.
Сестры, которая умерла пятьдесят лет назад.
Он рассказывает, как ей становилось все хуже. Как она начала забывать выключить плиту, воду в ванной. Как она забыла номер телефона, свое имя, имена мужа и детей. Воспоминания исчезали одно за другим, как коровы, умирающие от чумы.
Он рассказывает, как она всегда говорила, что не хочет в дом престарелых. Как еще в юности они решили, что проживут всю жизнь на ранчо у подножия гор. Как они пообещали друг другу, что бы ни случилось, никогда не отправлять другого в город, под крышу, к беспомощным старикам, прочь от неба, простора и друг от друга. Он рассказывает, как каждую ночь, как только стемнеет, она кричит, плачет и бродит по дому. Это продолжается долгими часами. Ему приходится запирать ее в комнате, где нет мебели, только матрас на полу. Но даже тогда она стоит у двери и кричит. Всю ночь она колотит по двери кулаками и кричит про мексиканцев в комнате, которых видит только она одна.
Я отвожу его руку прочь и накладываю небольшую повязку на рану. Прижимаю ее так, чтобы кровь остановилась.
Я слышал эту историю много раз — от пожилых мужчин и женщин, от дочерей и сыновей. Я смотрю на старика. Плечи его поникли, словно он несет на спине здоровенного теленка. Этот вес заставляет его клониться вперед, к земле, и лишает его равновесия.
Как часто мы даем обещания, не зная, что именно обещаем! Нам кажется, что любовь и дисциплина могут преодолеть старость и болезни. Иногда это удается. Но чаще всего такие обещания становятся кандалами — кандалами вины, которые заставляют принимать неправильные решения и ведут к десятилетиям боли. Деменция — это самое страшное, эта болезнь питается обещаниями и чувством вины. Сталкиваясь с деменцией, я каждый раз вижу семьи, которым предстоит сделать невозможный выбор.
— Все хорошо, Шелли, — старик кладет руку ей на плечо.
И она тут же начинает кричать:
— Дэвид! Дэвид! Дэвид!
Она тянется вперед сломанной рукой и начинает махать ею. При каждом движении она кричит от боли, но продолжает махать. Мозг ее не связывает движение и боль.
— Дэвид! Дэвид! Дэвид!
Мозг ее похож на бычка, рога которого застряли в изгороди. Он трясет головой снова и снова, пытаясь освободиться.
Я смотрю на Эймоса. Он слегка краснеет.
— Дэвид — это ошибка. Это было давным-давно, — говорит он.
Я заставляю себя вновь перевести взгляд на женщину. Я стараюсь уважать приватность этого человека — судя по всему, это самая интимная тайна его семьи.
— Дэвид, это ты?
Женщина пытается подняться, но она пристегнута к доске и не может этого сделать.
— Черт! Теперь каждый день я должен слышать это имя.
Старик стискивает зубы, но потом его лицо смягчается.
Он протягивает руку и очень нежно гладит жену по голове жесткой, мозолистой ладонью.
— Все хорошо, Шелли. Все хорошо. Она кричит и сбрасывает его руку.
— Где Дэвид? Где Дэвид?
— Дэвид здесь. Все хорошо. Дэвид здесь.
Он гладит ее по голове, и лицо ее расслабляется. Я шагаю вперед, чтобы осмотреть ее.
— Лежите тихо, Шелли.
Я расстегиваю воротник и рукой в перчатке ощупываю ее шею. Другой рукой удерживаю ее голову, чтобы она не двигалась.
— Убери от меня свою руку, козел! — кричит женщина, и слюна летит из ее рта.
Эймос краснеет.
— Шелли! — сурово говорит он. — Шелли! Уважай доктора!
Кончики его усов подрагивают.
— Извините, док. Она не хотела вас обидеть.
— Все в порядке.
— Дэвид, — стонет женщина.
Я слушаю ее легкие. Тоны чистые. Сердце бьется громко и сильно. Я перехожу к животу.
— Убери свои лапы! — кричит женщина.
Неожиданно она издает крик дикого зверя, словно я забрался в ее дом через окно в три часа утра.
Она кричит так громко, что я отступаю. В ушах у меня звенит.
Отдергивается шторка.
— Док? — в смотровую заглядывает дежурная сестра.
— Все в порядке. Мы справимся.
Она пожимает плечами и уходит.
На лице Эймоса я читаю смешанные чувства стыда, любви, гнева, печали и безнадежности.
— Она была прекрасной женщиной, док, — он снова гладит ее по голове. — Самой красивой из всех, кого я знал.
— Дэвид, — снова твердит женщина.
— Мы вырастили троих детей и вместе занимались нашим ранчо. Когда-то у нас было более двух тысяч голов скота.
Я киваю. Подобная жизнь заслуживает уважения.
— Мы познакомились еще в юности. Я был наемным работником на ранчо ее отца, — он подкручивает ус, вспоминая то, что было миллион лет назад. — Я влюбился в нее с первого взгляда.
— Дэвид, — стонет женщина и тянется здоровой рукой к потолку. — Дэвид, где ты?
Эймос берет ее за руку и осторожно возвращает ладонь на грудь.
— Я два года служил на Тихом океане, воевал с японцами, — он смотрит прямо на меня. — А эта маленькая женщина управлялась с целым ранчо не хуже любого мужчины. Она воспитывала наших мальчиков как настоящих мужчин, чтобы я мог ими гордиться, — он сжимает кулак и снова подкручивает усы. — Я старался, чтобы ей было хорошо… Я так старался…
Я молчу, давая ему возможность выговориться.
— Десять лет, док. Десять лет я смотрю, как она уходит. Я меняю ей подгузники, и она каждый раз дерется со мной. Я поднимаю ее, когда она падает. Я целыми ночами сижу рядом с ней, а она твердит про этого крысюка, Дэвида. Я кормлю ее с ложечки супом, а она плюется в меня. Я хочу, чтобы она была в безопасности, пытаюсь успокоить. Она — мать моих детей, док. Я клялся быть с ней в радости и горести, в болезни и здравии.
Голос его дрожит.
— Я человек слова, док.
Он перестает крутить свой ус. По щеке ползет слеза. Даже старые ковбои плачут, когда жизнь становится невыносимой.
— Что произошло сегодня? — тихо спрашиваю я.
Он молчит.
Слезы текут по обеим щекам.
— Я обидел ее, вот что случилось. Я обидел ее… Иногда я не знаю, что сказать, поэтому молчу.
— Дэвид, Дэвид, ты здесь? — твердит женщина. Воцаряется тишина. Наконец я все же говорю:
— Чем вы ее обидели?
Эймос молчит, потом отвечает:
— Койот залез в курятник. Я услышал этого шельмеца у амбара, когда завтракал.
Он сжимает поручень, не обращая внимания на слезы. Мне кажется, что этот человек не плакал лет восемьдесят пять, если не больше.
Но сейчас он плачет.
— Я схватил ружье и выскочил, чтобы подстрелить койота. Мне казалось, я запер дверь в ее комнату, — он с отчаянием смотрит на меня и повторяет: — Мне казалось, я запер дверь в ее комнату.
— И что произошло? — шепотом спрашиваю я, пугаясь мысли, пришедшей мне в голову.
— Утром она заснула около половины шестого… Эймос сморкается в тот же платок, которым только что вытирал лицо жены. На седых усах остаются пятна ее крови.
— Я всю ночь сидел с ней, пытаясь ее успокоить… Очень тяжелая была ночь…
Шелли с громким стуком начинает бить пятками по доске, как ребенок в истерике. Она издает очередной дикий крик и начинает вырываться.
Я боюсь, что она повредит себе.
— Лежите спокойно! — говорю я ей прямо на ухо, а потом кричу: — Шелли, лежите спокойно!
Она замирает, не понимая, кто я и кто она.
— Она вышла из комнаты, когда меня не было в доме, док. Поднялась в нашу спальню, сорвала все белье с постели и вытащила все из ящиков…
— Много ступенек? — спрашиваю я.
— Много, док. Очень много.
Я киваю.
— Мы справлялись… Мы хорошо справлялись… Я знаю, нам обоим немного осталось… Мы уже почти там, док… Мы были так близки…
Он смотрит на меня.
— Но знаете что?
Я боюсь что-то сказать или кивнуть.
— Два дня назад она бросила кухонный нож в мою правнучку.
Глаза его наполняются слезами, усы дрожат при этом воспоминании.
— В мою чудесную правнучку, Сэмми Джо. Ей десять лет, док… Ей десять…
Он смотрит на меня и крутит ус. Я знаю, что он собирается сказать, и он понимает, что я знаю. Но он дошел до предела, и теперь ему все равно.
— Она приняла маленькую Сэмми Джо за грабителя. Она схватила кухонный нож и набросилась на собственную правнучку. На правнучку, которую в глубине души любит всем сердцем, я это точно знаю…
Он вытирает слезы платком. На лице остаются кровавые разводы.
— Если бы меня не оказалось рядом…
Он умолкает.
Я поднимаюсь.
Просматриваю результаты анализов. Особое внимание уделяю результатам томографии.
Сильное внутримозговое кровотечение после травмы головы. У нее есть все необходимые бумаги. «Отказ от реанимации. Только комфортный уход».
И тогда Эймос говорит:
— Я толкнул ее. Я толкнул ее с лестницы изо всех сил.
Он смотрит на жену.
— Я пытался убить ее. Я хотел сделать это быстро, чтобы она не страдала. Как больной теленок на ранчо. Когда они заболевают, мы избавляемся от них. Но это неправильно. Это плохо для них и плохо для нас.
Я молчу.
Документы были составлены двадцать лет назад. Она подписала их, когда еще была здорова. «Подписала, чтобы ей никогда не пришлось жить так, как сейчас», — твержу я себе.
— Я пытался уважать ее, док. Я делал все, что в человеческих силах, и даже больше. Но она бросилась с ножом на маленькую девочку. На собственную плоть и кровь. Я знаю, она не хотела бы этого.
Длинными пальцами он гладит жену по почти лысой голове.
Наклоняется и целует ее в лоб.
— Дэвид, — бормочет она. — Дэвид…
Мы оба следим, как ее дыхание замедляется. Внутреннее кровотечение усиливается.
Он стоит, держа ее за руку.
Я не знаю, что делать.
И не делаю ничего.
Мы молча смотрим, как она угасает.
Через десять минут дыхание становится прерывистым, а потом останавливается.
На мониторе появляется ровная линия.
Она умерла.
— Все кончено, — говорю я.
Эймос снимает шляпу, наклоняется вперед и плачет.
— Я старался уважать тебя, Шелли… Я старался… — твердит он. А я думаю: «Ты так и сделал».
«Ты так и сделал».
Отвлекающие факторы
Сегодня тяжелый день. В приемном покое множество людей. Кофейный автомат в вестибюле заправляли чаще, чем в кафетерии. Раздраженные родственники, уставшие от ожидания, слоняются вокруг с недовольными лицами. Женщина с кричащим младенцем стоит в длинной очереди за мужчиной, который обеими руками держится за живот. Во двор въезжает скорая помощь — медики выгружают пациента, не прерывая массажа сердца, сдают нам с рук на руки и уезжают с сиреной на новый вызов.
В любом приемном покое мира есть кривая эффективности. И любой пациент может понять, в какой точке кривой он находится. Когда пациентов мало, персонал движется спокойно и размеренно. Приток увеличивается — и персонал начинает ходить довольно быстро. Появляются тяжелые пациенты — и врачи и сестры бегают.
Но если пациенты продолжают поступать, происходит нечто другое. В такие моменты достигается пик кривой. На каком-то этапе даже самые стойкие врачи и сестры теряют последние силы. Они взбираются все выше и выше, а потом соскальзывают с другой стороны кривой прямо на камни. Происходят ошибки. Слишком много конфликтов, слишком много анализов, слишком много телефонных звонков, слишком много недовольных задержками и ожиданием родственников. Эффективность постепенно снижается и, в конце концов, разбивается на миллион осколков. Сегодня такой день.
Нам сообщили, что больница полна под завязку. Кроватей для новых пациентов нет. Пять пациентов с искусственной вентиляцией легких лежат прямо в приемном покое в медикаментозной коме, ожидая, когда появятся койки в отделении реанимации наверху. У нас просто нет места. А пациенты продолжают поступать. Мы тонем.
Я стою у стола, переводя дух. В висках у меня стучит от шума. Я не могу больше пить кофе или двигаться быстрее. Я выжат как лимон. Это моя шестая двенадцатичасовая смена подряд. Иногда я не знаю, как долго выдержу такой ритм работы, не рухнув от стресса. Сестра из регистратуры идет с целой пачкой новых карт. С отвращением она кидает их на стол. Несколько карт падает рядом со мной. Я смотрю на них, но сестра уже ушла на передовую линию зала ожидания.
Я вздыхаю и беру верхнюю карту. Боль в горле в течение месяца. Смотровая одиннадцать. Женщина. Тридцать шесть лет. Я трясу головой: она просидела в приемном покое шесть часов, хотя горло у нее болело целый месяц. Но это должно быть просто — осмотреть и выписать рецепт. А место для следующего пациента освободится.
Я прохожу по коридору, лавируя между пациентами и родственниками. Полицейские вводят мужчину со скованными за спиной руками. Он ругается и кричит. Я освобождаю им проход. Мимо со смехом пробегает стайка детей. Они готовы играть даже в больнице. Они натыкаются на бездомного — тот сидит, прислонившись к стене, и ест сэндвич из нашего холодильника. Я почти останавливаюсь, чтобы спросить, пациент ли он, но потом отказываюсь от этой мысли и иду дальше. Пусть с ним сегодня разбирается кто-то другой.
Вхожу в одиннадцатую смотровую, где принимают пациентов с проблемами ушей, носа и горла. Это самая маленькая комната, более напоминающая шкаф, чем комнату. Здесь нет больничной кровати, только кресло, как у дантиста. Сбоку висит небольшой пульт управления на шнуре. С помощью кнопок положение кресла можно менять. Наше кресло старое, и кнопки на пульте работают из рук вон плохо. Если разобраться в стертых надписях, кресло можно разложить в кушетку или поднять, чтобы зашить ухо ребенку или заклеить порез на маленьком личике, не сгибаясь над каталкой. В ящиках шкафа есть все оборудование, необходимое для остановки носовых кровотечений, лечения ран глаз и вытаскивания камешков из ушей.
На кресле сидит женщина. Ей каким-то чудом удалось разобраться в кнопках и отклонить спинку поудобнее. Она читает роман Джона Гришэма, ноги ее скрещены. Ясно, что она спокойна и скучает. Я почти вижу за ее спиной парикмахера. Волосы у женщины светлые, шея замотана пушистым красно-оранжевым шарфом, под которым я замечаю светло-серый воротник свитера. Облегающие черные брюки заправлены в кожаные сапоги на небольшом изящном каблуке. Из сапог выглядывают серые носки, гармониру-ющие со свитером, — это уже претензия на модный облик.
Женщина улыбается и здоровается. На ее коленях лежит фотография: она, мужчина ее возраста и трое маленьких детей в Диснейленде. Она берет фотографию и закладывает ею книгу. Убирает книгу в сумку и ждет моих слов. Я представляюсь и пытаюсь понять, почему она ждала так долго из-за простой боли в горле. Она похожа на человека, который обращается к личному семейному врачу и не испытывает проблем с записью.
На безымянном пальце я вижу обручальное кольцо из белого золота — изящное, среднего размера, с бриллиантом. Семья явно состоятельная. Считается, что на обручальное кольцо мужчина тратит зарплату за месяц. Наверное, ее муж семейный врач, адвокат, банкир или успешный бизнесмен. Конечно, не нейрохирург и не глава корпорации, но состоятельный человек, способный жениться на красивой женщине и порадовать ее таким кольцом.
— Итак, у вас болит горло…
Она смотрит на меня, а потом улыбается.
— Извините?
Я смотрю в карту. В ней записано: «Основная жалоба: боль в горле». Я проверяю номер пациента. Женщина, тридцать шесть лет, боль в горле. Смотровая одиннадцать. И тут я понимаю, что на папке стоит смотровая пять. Кто-то вложил не ту карту в папку — одна из множества ошибок в такой тяжелый день.
— Похоже, я взял не ту карту, — с улыбкой говорю я, присаживаясь рядом, хотя внутри у меня все клокочет. Подобные мелкие ошибки в приемном покое могут обернуться катастрофой. Когда все так измучены, даже мелкое отклонение становится почти невыносимым. Но я собираюсь с силами. Пациентам не стоит слушать жалобы доктора.
— Пожалуй, боль в горле можно вычеркнуть из списка жалоб, — я пожимаю плечами, словно это сущая мелочь, и вычеркиваю запись.
— Итак, — я откладываю папку и кладу руки на колени. — Чем я могу вам помочь? Что вас к нам привело?
К моему удивлению, она не отвечает. Я пытаюсь быть терпеливым, но у меня еще шестнадцать пациентов. И пока я сижу в ожидании ее ответа, поступают анализы крови, делаются рентгеновские снимки и проводится томография. У меня нет времени сидеть и болтать, словно за чашечкой кофе. Мне нужно узнать основные жалобы, краткую историю и понять суть дела.
В этот самый момент кто-то из наших пациентов страдает — тяжело страдает. Когда в приемном покое столько людей, это вопрос статистики. Мне нужно быть среди пациентов, выявлять самых тяжелых — искать дым, пока пожар не распространился.
Пациентка снова улыбается. Я замечаю, что улыбка какая-то странная и пустая. Такая женщина должна свободно себя чувствовать в общении с врачом. Она должна быть разговорчивой и милой, спрашивать, не знаю ли я того-то и того-то, искать какие-то связи между нами или между ней и моей женой. Но она этого не делает. Одета она довольно изысканно, но на лице ни капли макияжа. Это тоже очень странно для такой женщины, как она. Она очень спокойна. Она…
— Я сделала что-то плохое, — говорит она, прерывая поток моих мыслей.
Я пытаюсь разобраться в ситуации. Она здесь потому, что с ней действительно что-то не так, или ей просто хочется поиграть? Я не настроен играть — не сегодня. Иногда люди приходят к нам, чтобы ощутить внимание к себе. Они знают, что я отнесусь к ним внимательно, насколько бы занят ни был. Я ерзаю на стуле. У меня нет времени разгадывать загадки. Может быть, я ее недооценил. Может быть, она и не настолько нормальна.
На коленях женщины срабатывает iPhone. Поступило сообщение. Экран загорается, я снова вижу ее рядом с мужчиной и тремя детьми. Они стоят где-то на берегу океана. Женщина не обращает внимания на телефон. Она смотрит на меня.
— И как я могу вам помочь? — спрашиваю я, стараясь не говорить слишком резко, хотя понятия не имею, о чем она говорит.
— Никак, — отвечает она.
Слово это она немного растягивает. Она откашливается, потом выпрямляется, вытирает губы и пытается скрыть это. Но уже слишком поздно. Я это услышал.
На моем поясе звонит телефон. Я не обращаю внимания. У меня уже сработал сигнал тревоги.
Мы смотрим друг на друга. Я не могу понять, что не так с ее лицом. Мой телефон звонит снова. Я не обращаю внимания. У меня осталась минута на эту странную женщину, прежде чем моего внимания потребует важный анализ, чей-то родственник или медсестра.
Она смотрит на меня слишком спокойно. А потом я медленно замечаю — или, скорее, не замечаю. У нее пустое лицо. Никакого выражения. Она смотрит на меня, и я понимаю, что в этом доме никого нет. Зрачки — ее зрачки слишком велики для комнаты, залитой ярким белым светом. Пустое лицо и расширенные зрачки. Она что-то приняла.
Я решаю пойти ва-банк. Нужно заставить ее говорить. Я задаю неверный вопрос:
— Муж и дети приехали с вами?
На этих словах лицо женщины буквально взрывается эмоциями. На глазах появляются слезы, тело оседает, щеки краснеют, и она начинает рыдать.
Бинго.
— Они ушли, ушли…
Неожиданно она вцепляется в лицо ногтями. На щеках остаются ярко-красные следы. Необычный жест — либо безутешное горе, либо психическая болезнь. Я пока не понимаю. Но чем бы это ни было, это меня тревожит.
Мысленно я вспоминаю все смерти за последние две недели. Я не слышал о семье, где погибли все, кроме матери. Я роюсь в памяти. Последний случай произошел почти три месяца назад, когда машина выехала на встречку и протаранила минивэн. Я вздрагиваю. Мне не хочется сейчас это вспоминать. Но в той катастрофе погибла женщина. Я знаю — прошлой ночью она приснилась мне в кошмаре.
Обычно я всегда узнаю о тех, кто умер в приемном покое — даже не в мою смену. Я узнаю об этом из газет, от коллег или от знакомых погибших. Слухи всегда до меня доходят. Я обнаружил, что и с другими врачами и сестрами происходит то же самое. Отключиться от этого невозможно.
— Я сделала что-то плохое.
Она начинает плакать, не глядя на меня. Я смущен, но постепенно начинаю понимать, куда это нас заведет. Нужно нажать сильнее и быстрее, пока не поступит следующий тяжелый пациент.
— Что вы сделали? — спрашиваю я.
Она закрывает лицо руками, чтобы я ее не видел.
Мы сидим молча шестьдесят секунд. Я испытываю противоречивые чувства. Мне не хочется находиться здесь с этой женщиной. У меня болят голова и желудок. Сердце колотится от чрезмерного количества кофе. Я несколько недель не мог выспаться по-человечески. Выгорание коснулось всех сфер моей жизни. Мне нужно, чтобы женщина рассказала мне все, и я мог двигаться дальше. Но мне приходится ждать и играть по ее правилам.
Целая минута в такой день кажется мне часом. Телефон и пейджер звонят, не переставая. Я нужен в приемном покое. Очень скоро меня найдут. Но я должен что-то узнать, прежде чем оставить эту женщину в смотровой в одиночестве.
— Я разрушила все, что мы строили вместе. Все. Спокойствие, купленное ценой лекарств, осталось в прошлом. Она говорит, и голос ее дрожит.
— Он сказал, что я никогда не увижу ни его, ни детей — до самой смерти. Моя задача — вытягивать из людей их истории. Это очень деликатный и сложный процесс. Я овладел этим навыком после многих лет работы с пациентами. Достаточно надавить слишком сильно или слишком сильно потянуть, и человек скроется в своей скорлупе, утаив самое важное.
— Почему ваш муж так сказал? — спрашиваю я шепотом.
Я слышу крики полицейских в приемном покое, но пытаюсь не обращать на них внимание. Я уперся локтями в колени, чтобы эта женщина почувствовала: она — мой единственный пациент в мире.
Она поворачивается ко мне и медленно говорит: — Потому что я трахалась с нашим соседом.
Очень печально. Вы не представляете, сколько раз я слышал подобные истории в приемном покое. Один и тот же фильм с разными актерами разыгрывается в жизни разных пациентов, родственников и соседей. Истории эти — не моя проблема. Но их последствия всегда приводят людей ко мне.
— Что вы приняли? — спрашиваю я, не обращая внимания на ее слова. Мне нужно вытащить это из нее, а для этого я должен расположить ее к себе. Она закрывает глаза ладонями, прижав их к лицу. Правая рука дрожит от напряжения.
— Я… я не хотела, чтобы это случилось.
Она смотрит на меня, и зрачки ее еще больше расширяются. Она плачет, но слезы высыхают. Она говорит, но обращается не ко мне.
— Я его даже не знаю… Я его даже не знаю…
Я понимаю, что она мне ничего не скажет, пока я ее не выслушаю. Она хочет выговориться.
— Расскажите мне, что случилось, — прошу я. История выходит на свет через сбивчивые слова, печаль в глазах и разбитое сердце. Муж уехал в командировку на две недели. Две недели. Дети остались на ней, все трое — каждый день, каждую ночь, всегда. На один вечер их забрали ее родители, и она смогла передохнуть.
— Что вы приняли? — снова спрашиваю я и нажимаю кнопку вызова.
Мне нужна медсестра. Этой женщине нужны капельницы, физраствор, ЭКГ, палата с монитором, а не смотровая для пациентов отоларинголога. Никто не отвечает. Большим пальцем я нажимаю кнопку, держа пульт за спиной.
Ей нет до этого дела. Она продолжает бормотать. Она даже не пытается ничего скрывать. Она вываливает на меня всю историю, до последней мелочи.
— Я пила вино на веранде, и тут заехал Гэри. Он привез какие-то документы для Тома. Раньше я виделась с ним лишь раз. Мы выпили по бокалу и поболтали. А потом еще по одному. И еще.
Она плачет. Голова у нее начинает трястись.
— Что вы приняли? Антидепрессант? Вы еще что-то принимали? Я смогу помочь вам. Я вам помогу.
Но я вижу, что помощь ей не нужна. Она хочет умереть.
— А потом мы занялись сексом — или попытались. Мы были такими пьяными, что ничего не получилось. Все было неловко и ужасно. Я ужасная.
Я поднимаюсь и выглядываю в зал. Рядом со мной медсестра помогает пожилому пациенту усесться в инвалидное кресло.
— Эй! Здесь белый код! Освободить вторую смотровую, — говорю я.
Сестра качает головой и кричит мне:
— Там пациент на искусственной вентиляции легких.
— Значит, другую! Освободите палату, немедленно! — кричу я.
Сестра в отчаянии воздевает руки к небу, но все же бежит во вторую смотровую.
Я возвращаюсь. История разворачивается, словно прорвало дамбу. Глаза женщины судорожно бегают из стороны в сторону. Нистагм. Я понимаю, что все может произойти в любую секунду.
Я нажимаю кнопку на пульте управления креслом, чтобы разложить его в кушетку. Я лихорадочно открываю ящики шкафов и стола в поисках кислородных трубок и капельниц. Рвется пакет с порошком для остановки носового кровотечения. Все в ящике засыпано красным порошком. Здесь есть все — щипцы, расширители, полоски с антибиотиком для глаз. Нет только кислородных трубок и набора для интубации. Я громко ругаюсь. Начинаю вытаскивать полотенца, одеяла и тазики.
— Я рассказала Тому. Я рассказала ему все сразу же, как только он вернулся. Сама не знаю, почему я это сделала. Я люблю мужа. За десять лет, что мы женаты, я ни разу ему не изменила. Ни разу… Ни разу… до этого случая. Я люблю мужа… и он любил меня.
Я нахожу это. Свежий набор кислородных трубок остался в корзине с полотенцами на стойке. Я рву упаковку и ввожу трубки ей в нос. Теперь нужна капельница.
— Все будет хорошо. Все будет хорошо. Скажите, что вы приняли.
Похоже, я уже это знаю.
— Скажите, это было лекарство от депрессии?
Она кивает. Теперь нужно выяснить какое.
Сухость во рту, расширенные зрачки, неожиданная разговорчивость, покраснение кожи… похоже, я уже знаю.
Кресло привинчено к полу. Я не могу перекатить его во вторую смотровую. Женщина раскачивается, как дерево на ветру. Она вряд ли дойдет до палаты, если я ее поведу. Я выглядываю в коридор. Сестра выкатывает в зал каталку с пациентом на вентиляции легких. Она зовет другую сестру и указывает на меня.
На столе в зале я замечаю набор для интубации. Я бросаюсь к столу, хватаю его, возвращаюсь в палату. Женщина все еще говорит.
— Том сказал, что никогда не простит меня. Он сказал, что я его убила. Что я убила нас. Он забрал детей. Он забрал наших чудесных детей. Он сказал, что я больше никогда их не увижу. Я звонила родителям. Они уже разговаривали с Томом. Они бросили трубку. Собственные родители не захотели разговаривать со мной. Все навалилось на меня. И я это заслужила… Заслужила… Заслужила…
Неожиданно она останавливается и смотрит на меня глазами с расширенными зрачками, пытаясь сфокусироваться.
— Я заслужила смерть, и я умру, — говорит она.
И тут я понимаю, что это не крик о помощи.
Это прощание.
Она смотрит на меня, глаза ее расширяются. Я понимаю, что у нее галлюцинации. Страх искажает ее лицо. Она явно видит что-то неприятное.
Я хватаю ее руку, перетягиваю ее синим жгутом и ставлю капельницу. Она вырывается, пытается сопротивляться.
Слова так сливаются, что я с трудом ее понимаю.
— Скажите ему, что мне жаль. Мне так жаль. Если бы я могла изменить какой-то момент своей жизни, то только тот. Скажите ему, что я его люблю и мне очень жаль.
А потом это происходит.
Голова ее запрокидывается, словно она смотрит в небо, спина выгибается, мышцы сокращаются, начинается большой эпилептический припадок. Все тело ее содрогается, на губах выступает пена. Приступ.
Кулаком я бью по кнопке реанимации на стене.
До меня доходит, что я даже не знаю ее имени.
Над головой раздается сигнал реанимации.
Они прибегают. Мои товарищи. Они бегут на помощь. Неважно, что они устали, измотаны и обессилены в такой тяжелый день. Когда звучит сигнал реанимации, они бегут на помощь.
Черт, я так люблю их всех!
— Передоз, трициклические антидепрессанты, количество неизвестно, время приема неизвестно! — кричу я.
Они начинают работать.
Женщина на кровати корчится, мозг ее перемкнуло. Он сгорает у нас на глазах. Сестры блокируют ее дергающиеся руки и ставят капельницы. Техники орудуют специальными ножницами. Они разрезают шарф, свитер, брюки, ботинки, работая, словно хирурги.
Рот женщины заполняется рвотой и пеной. Я срываю со стены отсос, включаю его и начинаю действовать. Мне нужно очистить ее дыхательные пути. Трудно ввести отсос — слишком уж крепко сжаты ее зубы.
— Поставила! — кричит сестра, которая занималась капельницей.
— Два миллиграмма ативана и ампулу бикарбоната, — откликаюсь я.
Препараты вводят еще до установки капельницы. Кто-то прикатывает каталку. Мы перегружаем полураздетую женщину на каталку, накрываем ее простыней и катим в специальную смотровую. Судороги не прекращаются. Пациенты и их родственники смотрят на нее, медсестры кричат, чтобы им освободили дорогу. Хаос происходящего захватывает всех.
Мы вкатываем каталку во вторую смотровую. Бой начинается.
Она хочет умереть.
Я хочу, чтобы она не умерла.
Мы работаем, работаем, работаем.
Она по-прежнему хочет умереть.
Но мы по-прежнему стараемся ее спасти.
Пациенты продолжают поступать. Они скапливаются в зале ожидания, выходят в коридоры. Парковка забита. Я вижу это через окно смотровой. Они ждут, когда я закончу и смогу уделить время им.
Но сейчас меня заботит только одна пациентка.
После двух часов неравной битвы мы одерживаем победу.
Она жива.
Немного — но достаточно.
* * *
Мое дежурство заканчивается. Я совершенно обессилен — подавлен, измотан, разбит, раздавлен, уничтожен.
Пациенты продолжают поступать.
Но мое дежурство закончилось. Я вхожу во вторую смотровую, чтобы проверить состояние женщины и заполнить документы. Она лежит в медикаментозной коме, ожидая, когда в отделении реанимации освободится место.
Комната пуста — только она и я. Свет приглушен. Раздается низкий гул аппарата искусственной вентиляции легких. На мониторе над ее головой фиксируется сердечный ритм. Сердце слишком часто пропускает удары. По капельницам поступает физиологический раствор и успокоительное. Лекарства проникают прямо в кровь.
Я смотрю на нее и качаю головой. Ее зовут Кортни. Кортни.
Что-то лежит на полу у постели. Я нагибаюсь.
Во время реанимации сумочку женщины положили в маленькую корзинку под каталкой. Роман, который она читала, раскрылся, и фотография-закладка выпала на пол. Я подбираю ее. Во время реанимации на снимок наступили. Он грязный, края помялись и обтрепались. На фотографии явственно виден след ботинка.
Я смотрю на снимок. Это она с мужем и тремя детьми. Они счастливы и улыбаются. Все отлично загорели. У этой фотографии есть атмосфера — такая атмосфера всегда окутывает счастливые семьи, когда они вместе.
Аппарат вентиляции легких издает звук. Я поднимаю глаза. Звук смолкает. Все в порядке. Я осторожно кладу фотографию в сумочку, тщательно стерев с нее грязь и расправив по возможности.
Я смотрю на женщину. Из ее рта торчит трубка, светлые волосы слиплись от пота во время судорог. Лицо смертельно бледное. «Что с ней будет?» — думаю я.
Я беру стул, подкатываю его к компьютеру — и замираю. В дверях стоит мужчина с фотографии. Он смотрит на жену.
Лицо его кажется безумно старым. Плечи поникли, глаза покраснели, руки дрожат.
Мы оба не двигаемся.
Он смотрит на свою жену.
— Она будет жить? — шепотом спрашивает он.
— Да, — тихо отвечаю я.
Я не двигаюсь, боясь того, что следующие двадцать секунд сделают с ними. Я замечаю, что обручального кольца на его руке нет.
Приборы гудят. Жидкость капает. Монитор моргает. Все в этой комнате ожидает его решения. Он не двигается. Не подходит к ней. Я замечаю, что его лицо каменеет — сначала слегка, но потом сильнее. Оно стареет и холодеет у меня на глазах. Взгляд каменеет.
Он все решил.
Он поднимает голову и поворачивается к двери — отворачивается от жены.
Мне плохо.
Он закусывает кулак.
Он уходит.
Я стараюсь не смотреть на нее. Я тоже отворачиваюсь. Я не хочу думать о том, свидетелем чему стал. Сажусь к компьютеру, кликаю по меню на экране. Тщательно проверяю все свои записи. Мне просто хочется с этим покончить и уйти отсюда.
Я прокручиваю одно меню за другим. В голове постоянно крутится сегодняшний день. Я не могу больше зарабатывать этим. Я не хочу больше погружаться в подобные истории.
Завтра я подам заявление. Я уволюсь. Я твердо решил. Уйду отсюда, как этот человек. Уйду и забуду про сегодняшний день и никогда больше про него не вспомню. Богом клянусь!
Аппарат издает сигнал, замирает и снова раздается ровный гул. Неожиданно этот звук теряет для меня смысл. Идут минуты.
Моя работа закончена. Я встаю, чтобы уйти.
Во вторую смотровую заглядывает ребенок. Я узнаю маленькую девочку с фотографии. Волосы у нее светлые, как у матери.
— Эбби! — раздается голос мужчины.
Он уже здесь. Он подхватывает дочь. Девочка плачет. Она видит мать в окружении всех этих аппаратов, и ей страшно. Она прячет лицо на плече отца, слишком напуганная, чтобы смотреть.
Приезжает дед и забирает девочку. Мужчина остается в коридоре, спиной к палате.
Он стоит в дверях, но не смотрит на жену.
Я жду, что он снова уйдет. Но на этот раз он остается.
Он просто стоит и смотрит на царящий в приемном покое хаос, хаос жизни.
Он сжимает и разжимает кулаки — я насчитал десять раз.
Он делает глубокий вдох, словно собираясь нырнуть в бурное море. Потом он поворачивается.
На его лице написана ярость.
Теперь я это понимаю. Он — боец. Жизнь уже отправляла его в нокдаун, но он каждый раз поднимался на ноги. Поднимался, чтобы драться. Больше он не сбежит.
Он медленно подходит к жене, не отрывая от нее взгляда.
Садится рядом с ней и берет ее за руку.
Он плачет.
«Пока смерть не разлучит нас», — думаю я. Завтра будет новый день для всех нас.
Пожалуйста, выберите одно
Пожалуйста, выберите одно.
На экране компьютера передо мной мерцают три слова.
Пожалуйста, выберите одно.
Пол пациента:
□ мужской □ женский Я ставлю галочку в клетку «женский».
Автозаполнение формирует параграф на основе моего выбора. Пациент № 879302045.
Женщина, тридцать восемь лет. Статус: после автомобильной аварии. Пожалуйста, подтвердите, что вы выяснили аллергические реакции, принимаемые лекарства, медицинскую историю.
Я нажимаю: «да».
Вы беседовали с ней о запрете курения?
Я нажимаю «нет».
На экране появляется анимированная иконка доктора. Рот его начинает двигаться, словно он говорит. Слова появляются в пузыре рядом, как в комиксах.
«Совет дня: беседа о вреде курения важна для здоровья пациента и является частью обязательной процедуры».
Доктор улыбается и прячет стетоскоп, как карманные часы.
Я нажимаю: «Подтверждено».
Появляется новый экран.
Пожалуйста, выберите одно.
Текущее эмоциональное состояние пациента:
□ заторможенное
□ спокойное
□ возбужденное
Я поворачиваюсь к пациентке. Она свернулась калачиком и лежит на боку. Босые ноги торчат из-под простыни и свисают с каталки. Я замечаю на большом пальце бирюзовое кольцо. Она смотрит перед собой и теребит свой идентификационный браслет — крутит его на запястье другой рукой. Макияж размазался. Небольшие карие глаза окружены черными разводами. Она смотрит в стену за моей спиной. Я откашливаюсь. Она не моргает. Я кашляю сильнее. Ничего.
Возвращаюсь к компьютеру. Там то же меню:
Пожалуйста, выберите одно.
Текущее эмоциональное состояние пациента:
□ заторможенное
□ спокойное
□ возбужденное
Я снова оборачиваюсь. Светлые волосы прилипли к правой стороне ее лица — слезы высохли на коже. Густая прядь закрывает глаза. Ее это не тревожит? Я замечаю, что в глазах ее появляются слезы и текут по лицу. Капля вот-вот скатится со щеки. Слезы текут и текут. Подушка уже промокла.
Грудь женщины судорожно вздымается и опадает. Дышит она очень быстро, почти задыхается. Я слышу хриплый звук. Если бы она сейчас заговорила, голос был бы хриплым, как после долгого крика. Но она не говорит. Она просто лежит и дышит с отрешенным видом.
Компьютер напоминает:
Пожалуйста, выберите одно.
Я нажимаю «заторможенное».
На экране появляется новое меню.
Пожалуйста, выберите одно.
Основная причина заторможенности пациента:
□ эмоциональная
□ физическая
□ иная
Пациентка стонет. Я оборачиваюсь. Она издает утробный звук — достаточно громкий, чтобы я услышал. Это то ли стон, то ли плач.
Я нажимаю «эмоциональное».
Появляется новый экран с новым выбором:
Пожалуйста, выберите одно.
Какова причина эмоциональной проблемы пациента:
□ интоксикация
□ психиатрическая
□ неврологическая
Я смотрю на женщину и пытаюсь понять, что выбрать. На ней больничный халат. Одежду пришлось разрезать, когда она к нам поступила. От нее все еще пахнет бензином, кровью и дымом от горелого пластика. Я сижу рядом, в носу у меня щекочет, а глаза слезятся.
На ее груди засохшая кровь, смешавшаяся с машинным маслом и грязью. Крови много. Она покрывает ее плечи и грудь, как красная пятнистая шаль. Однако сама женщина не пострадала. Мы осмотрели ее, сделали рентген и томографию. Мы обследовали ее с головы до ног. С ней все в порядке.
Компьютер нетерпеливо сигналит, заставляя меня сделать выбор.
Пожалуйста, выберите одно.
Какова причина эмоциональной проблемы пациента:
□ интоксикация
□ психиатрическая
□ неврологическая
Я нажимаю на стрелку «Дальше» в нижней части экрана, пытаясь перейти к следующей странице, не делая выбор.
Выбор не сделан; вы должны выбрать одно.
Мышка задумчиво кружит по экрану. Скорее всего, мне нужно выбрать «психиатрическая». Ведь эмоции — это психиатрия, твержу я себе.
После сделанного выбора открывается новый экран.
Пациентка ворочается на кровати. Я оглядываюсь. В волосах ее что-то блестит. Отражающий свет ярких люминесцентных ламп предмет привлекает мое внимание. Я наклоняюсь ниже. В волосах запутались осколки лобового стекла. Некоторые потемнели от грязи — она лежала на земле, другие покрыты засохшей кровью. Некоторые осколки осыпались на кровать. Осколки поблескивают на кровати, как маленькие звезды.
Я хмурюсь. Медсестра должна была ее вымыть. Я отъезжаю от кровати к двери и выглядываю из-за шторки.
Осмотревшись, я вижу медсестру, занимавшуюся пациенткой. Она сидит за столом и работает за компьютером. Я знаю, что она вводит данные о пациентах — это ее работа. «Что ж, — думаю я, — может быть, нам поможет кто-то другой».
Я оглядываю приемный покой. Повсюду врачи и сестры, но все, кого я вижу, сидят за компьютерами с самым серьезным видом и задумчиво кликают и печатают, кликают и печатают. Вся больница может сгореть дотла, а они и не заметят.
— Эй! — кричу я.
Никто не отрывается от экрана. Стук по клавишам продолжается.
В дверях другой палаты стоит пожилой мужчина. Он смотрит на меня. Нахмурившись, он обводит взглядом приемный покой и с отвращением качает головой.
Я краснею и скрываюсь за шторкой.
Компьютер снова сигналит, требуя, чтобы я поторопился. Я вспоминаю, что время, уделенное пациентке, отслеживается, фиксируется и сравнивается со средним по стране. В нижней части экрана расположен таймер, который сообщает, что мне осталось четыре минуты и двадцать восемь секунд до среднего времени приема.
Цифры сменяют друг друга. Если я потрачу слишком много времени на одного пациента, то получу от администрации письмо о невыполнении квоты приема. Я возвращаюсь к компьютеру.
Пожалуйста, выберите одно.
Поскольку вы выбрали «психиатрическая», вы должны были предложить пациенту:
□ консультацию
□ медикаментозную терапию
□ психиатрическую больницу
Рыдания сотрясают тело пациентки, и я снова отвлекаюсь. Она корчится в постели, оставляя крошки дорожной грязи на белых простынях. Она страшно грязная. Не знаю, сколько она пролежала на земле, пока ее не нашли. Она по-прежнему смотрит в стену и не реагирует.
Я возвращаюсь к компьютеру. Я не предложил ей ничего из этого. Может быть, стоит солгать и кликнуть на «консультация», чтобы закончить ввод информации.
Я кликаю на стрелку «Дальше».
Выбор не сделан; вы должны выбрать одно.
Пожалуйста, выберите одно.
Поскольку вы выбрали «психиатрическая», вы должны были предложить пациенту:
□консультацию
□ медикаментозную терапию
□ психиатрическую больницу
Я пытаюсь нажать на клавиши Alt+Tab. Бесполезно.
Выбор не сделан; вы должны выбрать одно.
Я сдаюсь и нажимаю «консультация».
Новый экран.
Пожалуйста, выберите одно.
На консультацию пациент отреагировал:
□ абсолютным улучшением
□ некоторым улучшением
□ без улучшений
Я нажимаю «без улучшений».
На экране появляется маленькая фигурка доктора. Он поднимает указательный палец, и над его головой загорается лампочка, словно ему в голову пришла фантастическая идея и он должен немедленно поделиться ею со мной.
«Доктор Том напоминает вам: вы предложили пациенту воды или салфетку? Исследования показывают, что порой от таких мелочей пациенты начинают чувствовать себя лучше».
Я смотрю на пациентку. Не могу заставить себя предложить ей воды. Костяшки пальцев у нее побелели — так сильно она вцепилась в поручни.
Она раз за разом твердит одно только слово — «нет» — и трясет головой. Глаза у нее расширены от ужаса. Она меня не видит. Кожа на лице посерела от страха.
Я знаю этот взгляд. Она видит тот момент. Я знаю, что она будет видеть его снова и снова до конца жизни. Этот момент будет возвращаться к ней в кошмарах. Он будет сниться ей ночами, которые должны были бы стать счастливыми. И он наверняка померещится ей перед смертью, сколько бы она ни прожила. Ей не скрыться от этого. Шестьдесят восемь минут назад в мозгу ее намертво отпечатался образ, который она не сможет изгладить из памяти.
Я нажимаю «пропустить».
Изображение доктора исчезает. Появляется текст.
Пожалуйста, выберите одно.
Вы предложили пациенту воду;
□ да
□ нет
Я нажимаю «нет».
Маленькая фигурка доктора снова выскакивает на экране — на сей раз он смотрит на меня укоризненно, руки скрещены на груди.
«Исследования показывают, что порой от таких мелочей пациенты начинают чувствовать себя лучше. Уровень удовлетворенности пациента возрастает. Попробуйте. Возможно, вас ждет сюрприз».
Доктор распрямляет руки и протягивает мне маленький стакан воды.
На секунду мне хочется разбить экран монитора. Было бы так здорово подняться на верхний этаж больницы вместе с компьютером. Я представляю, как раскачиваю его и швыряю с крыши больницы вниз, на парковку. Я буквально вижу, как он разлетается на части, — я ненавижу его за то, что он сделал с моей некогда любимой профессией.
Но я знаю, что его быстро заменят другим компьютером, а меня — так же быстро-другим врачом.
Я вздыхаю и оглядываюсь.
На стойке стоит стакан.
Я хмурюсь — стакан очень грязный.
Я поднимаю его и переворачиваю.
На стойку падает окровавленный крохотный детский башмачок.
Женщина рыдает:
— Боже! Боже! Боже!
Она хватает башмачок, прежде чем я успеваю его забрать.
Она прижимает его к лицу и начинает рыдать.
— Боже! Боже! Боже!
Она прижимает башмачок к груди. Кровь на башмачке сливается с кровью на ее груди.
Компьютер сигналит.
Вы предложили пациенту воду:
□ да
□ нет
Я нажимаю «да», хотя это ложь.
Отличная работа!
Компьютер издает победный звук. Его трудно расслышать за криками пациентки. Маленький доктор поднимает вверх большой палец. Рядом с ним появляется надпись:
«Порой от таких мелочей пациенты начинают чувствовать себя лучше».
Я нажимаю «дальше».
Загружается экран «Состояние пациента».
Пожалуйста, выберите одно.
Куда отправится пациент из приемного покоя:
□ домой
□ в больницу
□ в другую больницу
Я раздумываю над ответом, потом нажимаю «домой». Пожалуйста, выберите одно.
Каково состояние пациента после вашей помощи:
□ улучшилось
□ не улучшилось
□ иное
Я снова смотрю на женщину и нажимаю «не улучшилось».
Предупреждение!
На сей раз экран начинает мигать. Возвращается маленький доктор. Руки его уперты в бока. Лицо сурово. В пузыре над его головой я вижу красные буквы.
«Пациентов без улучшений нельзя отправлять домой. Вы выбрали психиатрическую причину. Возможно, препараты помогут потребителю медицинских услуг. Вы не хотите, чтобы я посоветовал вам варианты из больничного формуляра?»
Я задумываюсь. Есть ли лекарство от этого? Может ли что-нибудь помочь ей почувствовать себя лучше? Что-то такое, что действительно поможет?
Я нажимаю «нет».
Вы уверены?
На экране появляется большой красный флаг, и компьютер начинает жужжать, как во время игры, которую я только что проиграл.
Отчет по этому пациенту будет отослан администратору больницы для анализа карты пациента. Задача нашего медицинского учреждения — улучшение состояния пациентов до выписки. Вы подтвердили, что это вам не удалось. Вы наверняка получите более низкую оценку пациента. Пожалуйста, подтвердите.
Я нажимаю «нет».
Экран снова моргает.
Пожалуйста, подтвердите.
Я нажимаю «нет».
Пожалуйста, подтвердите.
Я нажимаю «нет».
Выскакивает новая надпись.
Извините, уважаемый медицинский работник, но вы не поняли вопрос?
Вы не хотите заполнить талон обслуживания?
□ да
□ нет
Пожалуйста, выберите одно.
Слова моргают на экране.
Я смотрю на пациентку. Она снова лежит на боку и рыдает, прижимая крохотный башмачок к груди. Глаза ее плотно закрыты. Она раскачивается так сильно, что каталка трясется.
Пожалуйста, выберите одно.
Я смотрю на компьютер.
Пожалуйста, выберите одно.
Я смотрю на пациентку.
Пожалуйста, выберите одно.
И я выбираю.
Я встаю и выдергиваю вилку из розетки. Экран гаснет.
Без щелканья клавиатуры и компьютерных звуков в комнате становится очень тихо — только тихие рыдания пациентки.
Меня охватывает странное чувство — я почти позабыл его после стольких лет работы. Я вспоминаю, кто я и зачем я здесь.
Я встаю, делаю глубокий вдох, подхожу к пациентке и начинаю медленно и нудно выбирать осколки окровавленного стекла из ее волос. Когда я начинаю работать, она открывает глаза и моргает.
Она видит меня.
Ужас в ее глазах немного слабеет.
Компьютер молчит.
Я перебираю пряди ее волос. Три слова моргают в моем мозгу снова и снова:
Пожалуйста, выберите одно.
Пожалуйста, выберите одно.
Призраки
Когда-то я работал в приемном покое, где у палат были старые деревянные двери. Рисунок на древесине стал тестом Роршаха для пациентов — кто-то видел в нем горы, кто-то животных, а кто-то не видел ничего. Но дверь в девятую палату, напротив смотровых, была другой.
Рисунок на ней пугал пациентов.
Труднее всего было с шизофрениками. Я счет потерял, сколько раз эту дверь распахивали безумными пинками. Я отрывался от работы и видел в дверях пациента с расширенными зрачками, покрытого потом, бледного, словно он только что увидел призрака. Это случалось так часто, что мне пришлось установить правило: в девятой палате психиатрических пациентов не принимать — и точка.
Я долго раздумывал над этой странностью. Но однажды в три часа утра я принимал пациента. Я всю ночь не спал и находился в каком-то ступоре. Я сел на стул возле каталки с пациентом. Каталка находилась между мной и дверью. Дверь была закрыта, чтобы обеспечить нам приватность. Я разговаривал с пациентом, и вдруг волосы у меня на голове зашевелились.
На двери проявились лица, и они смотрели на меня.
На древесине проступали лица пациентов, которые давно умерли. Потом они сменялись обычным узором линий. Потом снова появлялись лица. Я замер от страха. Я не понимал, чего они хотят от меня. Пациент на каталке неловко пошевелился и спросил, все ли со мной в порядке.
Я увидел их впервые. Я не мог понять, почему они вернулись в приемный покой и чего хотят от меня. Та ночь давно прошла, но я до сих пор пытаюсь понять увиденное.
Иногда мне бывает трудно подняться с постели, зная, что на меня скоро обрушится поток человеческих страданий. Но я ничего не могу с этим сделать.
Я просыпаюсь, пью кофе, еду на работу. То же самое делают мои пациенты. Мы все начинаем утро одинаково. Мне хочется хоть как-то предупредить их: сегодня мы встретимся в приемном покое.
Иногда я чувствую себя призраком, парящим в воздухе. Я следую за ними, умоляю не утыкаться в мобильный телефон по пути на работу, прошу держаться подальше от Дивижен-стрит и ждать лишнюю секунду, прежде чем ступить на проезжую часть.
Но я призрак, и никто меня не видит и не слышит. Мои слова не имеют смысла, к моим предостережениям не прислушаются, а моя паника бесполезна. Ничего не случилось. Пока не случилось.
Сегодняшний день начинается, как любой другой, и дни эти заканчиваются нормально. Поэтому мы все поднимаемся, едем на работу, и день начинается. Я приезжаю в приемный покой, зная, что мои предостережения снова потонули в шуме жизни. Я могу лишь подготовиться.
Я вхожу в приемный покой к началу смены. Проверяю дыхательное оборудование, капельницы, наборы для интубации. Палата за палатой, предмет за предметом. Я мысленно касаюсь каждого и подтверждаю его наличие. Глядя на каждый предмет, я машинально повторяю свои действия в случае, если он понадобится. Мне не нужно ни думать, ни чувствовать. Я должен только действовать и реанимировать.
Пока я достигаю состояния готовности, другой человек шаг за шагом приближается к катастрофе.
Как две планеты, притянутые друг к другу гравитационными полями, мы сближаемся с нарастающей скоростью и импульсом. Ни один из нас не знает о существовании другого. Я знаю, что грядет столкновение, но не знаю, с кем, когда и где. Мой день — двенадцать часов таких столкновений.
Срабатывает рация. Машина сбила пешехода. Жертва без сознания, откликаются машины 7 и 12. Я знаю, что наши планеты вот-вот столкнутся.
Мы слушаем рацию. В приемном покое начинается суета. На связь выходит скорая. Все плохо. Жертва — маленький ребенок. Девочка. Она в критическом состоянии. Машина на полной скорости ехала по школьной зоне. Думаю, что жизнь снова непоправимо изменилась из-за короткого звонка смартфона.
Звонит телефон. Сквозь треск и помехи я разбираю только одно — дрожь в голосе парамедика.
— Время прибытия две минуты, — говорит он. — Сильные повреждения лица, травма груди, возможно, повреждение легкого. Капельница установлена, эндотрахеальная трубка пациентке не введена.
Рация смолкает. Я делаю глубокий вдох. Моя задача — избавиться от всех эмоций, чтобы мы могли подготовиться. Я превращаюсь в человеческую черную дыру. Мы не можем позволить себе чувствовать. Ребенок умирает. Чувства придут позже. А сейчас нужно сосредоточиться. Нужно двигаться. Чувствовать нельзя — иначе мы потеряем концентрацию и не справимся.
Я говорю спокойно, по-деловому, словно речь о починке сломанного компьютера — нужны лишь запчасти, и все будет в порядке. Часть А подойдет к части В, а та соединится с частью С.
И ничего больше.
Голос мой звучит уверенно и ровно — даже я сам это чувствую. Я говорю так убедительно, что сам начинаю в это верить. Но внутри я ощущаю холодный ужас. Именно ужас.
Мысленно я вижу, как проявляются лица на старой двери девятой палаты. Они смотрят на нас, наблюдают, оценивают. Я стараюсь не обращать на них внимания. Я готовлюсь к неизбежному — мне снова предстоит увидеть, как жизнь обрывается у меня на глазах.
Мы готовим вторую смотровую. Бегают люди. Раздаются громкие голоса. Готовятся трубки, препараты и приборы. Одна из сестер раздает ярко-желтые халаты и голубые перчатки — словно пули и каски перед боем.
Все знают свои роли. Техники готовят мониторы и каталку. Сестры перебирают препараты и раскладывают в ряд шприцы с растворами. Они готовы ко всему, что вот-вот произойдет в приемном покое. Приходит священник с Библией. Я держусь в стороне, мысленно повторяя протоколы, дозы, размеры трубок и планы действий. Атмосфера становится напряженной. Мы готовимся. И это происходит.
Мы готовы.
В зале повисает тишина. Наше существование сосредоточено в одном мгновении. Никто не движется. Все мы чувствуем себя живыми, полными сил и реальными. Каждый из нас ощущает тревогу, возбуждение и ужас перед тем, что нас ожидает. Цвета становятся ярке, дружба с сестрами крепче, разум острее. Даже воздух кажется мне чище. Я чувствую, как сердце бьется в груди, ощущаю свои руки и кожу — каждую частичку себя.
В зал вбегают медики со скорой. Они делают массаж сердца, и в приемном покое все оживает. Когда они вкатывают каталку во вторую смотровую, время замедляется. Я весь сосредоточен на ребенке, который лежит на носилках передо мной. Девочка изуродована и сломана, как цветок, который кто-то втоптал в землю. Я понимаю, что бой будет проигран, еще до того, как приложить стетоскоп к покрытой кровью груди.
Есть вещи, о которых я не могу писать. Есть вещи, о которых я никогда не напишу. Они слишком ужасны, чтобы делиться ими с вами. Порой приходится что-то оставлять только для себя. И это случается сейчас. Следующие несколько минут того дня священны, ужасны и неприкосновенны. И они останутся такими навсегда. Это остается только с теми, кто в тот день разделил со мной груз. Мы приняли его на себя за вас. Мы понесем его за всех.
И на двери девятой палаты появляется новое лицо, которое смотрит, ждет и, возможно, помнит.
Я знаю, что через недели, месяцы и годы я все еще буду видеть ее лицо. Я окажусь в пустыне, один, вдали от всех людей. Дверь палаты № 9 предстанет перед моими глазами. Я почувствую, как лица медленно выплывают из-за горизонта и выстраиваются в круг рядом со мной возле мерцающего пламени костра.
Пустыня, звезды, одиночество… Все это не может удержать их вдали. Я буду смотреть в огонь, дым будет виться, словно призрак, улетающий в ночное небо. Я буду думать. Знают ли звезды? Знает ли Бог? Знает ли земля? Что есть это место, эта жизнь, эта краткая вспышка света перед тем, как мы провалимся во мрак, откуда вышли? Я часами буду смотреть на танец огня и дыма. Лица будут присутствовать рядом со мной. Я буду чувствовать их. Они тоже будут думать о том же. Наконец, огонь догорит, дым растает и взойдет солнце. Через два дня я вернусь на работу. Но в пустыне я пойму, что лица всегда будут со мной.
Ожидая.
Наблюдая.
Не оставляя меня в одиночестве в преддверии появления нового пациента.
Помни
Конец начинается с боли в животе.
Лоис Дрейдер срезает розу, держа секатор чуть под углом, чтобы не уколоться о шипы. Раздается громкий щелчок, роза отделяется от стебля и падает на землю, задевая при падении остальные красные розы на кусте. Лоис подставляет руку, чтобы поймать цветок, но опаздывает. Роза падает к ее ногам рядом с другими срезанными цветками и стеблями.
Лоис медленно наклоняется со своего садового стульчика и дрожащей рукой подбирает розу. Цветок расплывается в ее глазах и кажется очень темным. Лоис хмурится. Чертова глаукома. Женщина двигает цветок в разные стороны, чтобы найти место, где сможет увидеть четкую картинку. Бархатистые красные лепестки резко контрастируют с ее морщинистой, покрытой пигментными пятнами рукой. «Я сделала это», — тихо шепчет Лоис, кивая себе. Она кладет цветок в небольшую корзинку, стоящую возле ее ног.
Розы в этом году очень хороши. Оба ее куста покрыты пышными, роскошными, прекрасными цветками. Кусты растут возле деревянной ограды заднего двора. На земле возле ног Лоис лежат красные и белые лепестки.
Она смотрит в корзину. Зрение у нее настолько плохое, что она видит лишь тени, но каждая роза стоит перед ее мысленным взором. Да, в этом году розы удались как никогда. Никогда еще за двадцать пять лет, прошедших со дня смерти Генри, они не были так хороши. Сегодня они могли бы отметить семидесятую годовщину свадьбы. Она отметит этот день в одиночестве. Единственной радостью будет ваза с букетом собственных роз.
Она внезапно наклоняется вперед, сгибаясь чуть ли не пополам. Боль в животе вернулась. Лоис обхватывает живот руками. Живот болел все утро. Она считает до десяти, и резкая боль отступает.
Лоис сидит и смотрит на кусты перед собой. На сей раз она срезает белую розу. Она зажимает стебель между пальцами, словно роза — это бокал вина. Тянет стебель вперед, отделяя его от куста, и вдыхает аромат. Нежный запах она пока еще чувствует, но в девяносто один год обоняние слабеет так же быстро, как зрение.
Она обхватывает цветок ладонью, закрывает глаза и осторожно проводит подушечкой большого пальца по цветку. Лепестки гладкие, их нежные края крепкие и здоровые. Значит, вредители не покусились на этот куст.
Лоис открывает глаза и поворачивает цветок в сторону, чтобы на него не падала тень полей ее шляпы. Она возвращает розу на утреннее солнышко.
Боль снова возвращается — на этот раз она гораздо сильнее. Лоис забывает про розу. Сейчас есть только странное ощущение в животе. Она ждет. Лоб ее покрывается испариной, сердце начинает колотиться изо всех сил. Но в тот момент, когда ей кажется, что она больше не может этого выносить, боль исчезает. Может быть, еще одна роза? А потом можно будет пойти домой отдохнуть.
Она снова смотрит на белую розу, рассеянно поглаживая ее пальцами. Она гладит пальцами цветок и стебель, пытаясь определить место, где нужно сделать срез секатором. Стебель крепкий. Она поранилась о шип, но это ее не тревожит. После долгих десятилетий возни в саду это вполне привычное ощущение.
Она проводит пальцами по стеблю, ощущая его фактуру и крепость, шипы и неровности. Она снова останавливается. Боль в животе возвращается. Ей становится страшно — это не привычная боль. Может быть, стоит вернуться в дом и выпить воды с содой. Обычно это помогает.
Стебель в руке начинает вибрировать. Странное ощущение. Лоис сжимает стебель, пытаясь остановить вибрацию. Рука ее сжимает жужжащую пчелу, которая ползла по стеблю. Пчела мгновенно выпускает жало прямо в ладонь Лоис.
С негромким криком Лоис отдергивает руку. Больно. Она подставляет ладонь под солнечные лучи, потом наклоняется и подносит к глазам. Как же трудно вытаскивать крохотное жало.
Лоис покрывается потом. От неожиданного укуса сердцебиение усиливается. Боль в животе возвращается с новой силой. Она пульсирует с каждым ударом сердца. Да, похоже, нужно выпить соды, а жало подождет.
Она подтягивает свои ходунки поближе. Привычным движением медленно поднимается и тяжело опирается на поручни. Лоис делает шаг к дому и понимает, что с ней что-то не так. Живот болит очень сильно. Боль буквально разрывает его и пульсирует в спине и ногах. Но беспокоят Лоис не ноги, а рука. Она поднимает руку перед собой. Кажется, что ладонь находится где-то в конце длинного туннеля. Лоис хмурится. Так быть не должно. Пальцы все отдаляются и отдаляются от нее, теряясь в пространстве. Когда она понимает, что случилось, уже слишком поздно. Мир погружается во мрак.
Она очнулась на земле от страшной боли. С ней никогда еще не было ничего подобного. Боль разрывает живот и пульсирует с каждым ударом сердца. Голова Лоис лежит на плитке садовой дорожки. В голове тоже пульсирует боль. Лицо покрыто засохшей кровью — она разбила голову, упав на плитку. Лоис пытается пошевелиться, но руки и ноги не слушаются. Она пытается позвать на помощь, но изо рта вылетают лишь невнятные звуки.
Она снова пытается закричать. На этот раз звуки становятся чуть громче. Неразборчивые звуки не похожи на ее обычную речь. Это пугает ее. Лоис лежит на траве. Боль в животе становится нестерпимой. Она хватает ртом воздух. Ей хочется свернуться калачиком, но сил нет. Она осматривается и понимает, что солнце садится. Она одна на заднем дворе своего дома. По-видимому, она потеряла сознание на несколько часов.
Боль снова возвращается, словно кто-то вонзил нож прямо в живот Лоис. Ей так больно, что кажется, ее тело вот-вот взорвется. Голова болит, но эта боль несравнима с мучительной болью в животе, которая яростно терзает все ее существо. А потом происходит что-то странное. Боль прекращается. Она здесь, Лоис это чувствует, но почему-то она ее больше не ощущает. Как будто какую-то часть ее организма отключили от лопнувшей в животе аневризмы.
На Лоис снисходит тихий покой. Она смотрит на розы в нежном свете заходящего солнца. Они прекраснее, чем когда бы то ни было. Лоис слабо улыбается. Она благодарна за то, что ей удалось увидеть их в последний раз. Она понимает, что умирает. Это конец.
Мир чернеет.
Кто-то трясет ее за плечо.
— Миссис Дрейдер! Миссис Дрейдер!
Ее снова трясут. Она пытается сказать, чтобы они этого не делали, но губы не слушаются. Она открывает глаза. Перед ней молодой человек в медицинском халате. Под бейджиком с именем ярко-оранжевыми буквами написано «СТУДЕНТ». Рядом с ним стоит мужчина постарше, в форме медика скорой помощи. Их тени падают на ее розовые кусты в вечернем свете.
— Она очнулась, — радостно говорит студент.
— Проверь пульс, — произносит медик скорой. Она чувствует прикосновение пальцев к шее.
— Сорок два, — отвечает студент.
Медик скорой присаживается на корточки рядом с ней. Теперь она чувствует прикосновение более опытных рук, которые ощупывают и мнут ее тело. Когда он нажимает на живот, боль возвращается, и Лоис слышит собственный стон.
— Дай мне руку, — говорит медик скорой.
Он кладет руку студента на живот Лоис.
— Чувствуешь эту пульсацию?
Студент кивает.
— У нее брюшная аневризма аорты. Нам лучше поспешить, если мы хотим дать ей шанс.
Она пытается сказать, чтобы они оставили ее здесь. Ей хочется просто смотреть на последние лучи солнца и на свои красные и белые розы. Но когда она ударилась головой о плитку, что-то случилось, и говорить она не может.
Лоис лежит, не двигаясь, а медики суетятся вокруг. В обе руки устанавливают капельницы. Начинает поступать жидкость. В нос вводят кислородные трубки. Они перекатывают ее на бок, подкладывают под спину твердую доску и кладут Лоис на нее. Она слабо шевелит ногами и с ужасом понимает, что более не контролирует свой мочевой пузырь. Ужасное ощущение. Ей хочется спрятать лицо, но руки не слушаются.
Она в полной их власти.
Лоис рассеянно наблюдает, как более взрослый медик кричит на студента. Молодой человек слишком возбужден, чтобы обижаться на него, но они работают слаженно. Медики поднимают ее на носилках и переносят в машину скорой помощи. Прошло всего три минуты с их приезда.
Заводится двигатель. Лоис слышит, как медик скорой что-то быстро говорит по рации. Машина уносится от ее дома и ее роз. Скорая попадает в ухаб, и женщину подбрасывает на носилках. Боль возвращается с новой силой и заслоняет все другие чувства и мысли.
Она чувствует, как куда-то соскальзывает, словно тонет в глубинах великого океана. Эпизоды ее жизни всплывают перед ее мысленным взором, как пузыри, медленно поднимающиеся из глубин и исчезающие на поверхности.
Воспоминания приходят одно за другим. Сначала недавние, потом самые ранние, потом первые. Каждое касается ее буквально на мгновение и исчезает. Ей хочется потянуться и удержать их, но она уже не контролирует происходящее. Перед ней возникает самое яркое воспоминание. Она сразу же понимает, что это первое настоящее воспоминание. Оно поднимается из глубин медленно, по спирали, а она погружается все глубже и глубже навстречу ему.
А потом оно охватывает ее, как огромный пузырь.
В руках она держит музыкальную шкатулку. На гигантской зеленой лилии медленно вращается бело-розовая фарфоровая балерина. Маленький белый лебедь плывет в противоположном направлении на краю шкатулки. Звучит нежная музыка из «Лебединого озера» Чайковского. Ноты сменяют друг друга. Балерина кружится, лебедь плывет.
Лоис ощущает в руках тяжесть стеклянной шкатулки. Шкатулка тяжелая, стекло холодит кожу. Она сжимает ее в ладонях. Она отлично ее помнит. Это подарок от отца. Ей пять лет. Она зачарованно смотрит на балерину, которую не видела восемьдесят шесть лет.
Настоящим потрясением становятся руки. Вместо изуродованных суставов и искривленных пальцев она видит маленькие пальчики — пальчики ребенка. Музыкальная шкатулка кажется невероятно огромной в этих пальчиках. Она шевелит ими. Это ее пальцы. На плечах она чувствует теплые руки отца. Он опускается на колени перед ней.
Отец в военной форме. На полу рядом с ним стоит большая зеленая сумка. Он присаживается на корточки, лицо его всего в нескольких дюймах. Он плачет.
— Запомни этот момент, — шепчет он ей на ухо. Лоис медленно кивает.
— Запомни этот момент, — просит он. — Поклянись мне, Лоис, что запомнишь…
Пятилетняя девочка не понимает, что происходит, но все же кивает.
— Обещаю, папа, я обязательно запомню.
Он крепко ее обнимает. Балерина кружится. Лебедь плывет.
Отец поднимается. Она видит его в последний раз.
— Я должна помнить этот момент, — шепчет она. — Я должна всегда помнить этот момент. И она помнит.
Цвета начинают блекнуть.
— Нет! — кричит она.
Музыкальная шкатулка исчезает, словно ее никогда не было.
— Нет! — снова кричит она.
— Есть пульс! — радостно кричит студент-медик.
Лоис открывает глаза. Над ней, покачиваясь и дрожа, висят флаконы капельниц. Скорая помощь несется вперед.
— Все будет хорошо, миссис Дрейдер, — твердит молодой медик.
Лоис видит на его руках свою кровь — наверное, он обрабатывал рану на голове.
— Давление восемьдесят! Быстрее! Быстрее! — неожиданно кричит студент.
Двигатель ревет, машина трясется, водитель прибавляет скорость. Если они хотят ее спасти, нужно торопиться. Времени совсем мало.
Лоис чувствует, как возвращается боль. Она понимает, что внутри нее происходит нечто такое, что невозможно обратить вспять. Похоже, это последняя страница длинного романа. Ей жаль студента, который так старается ее спасти. Она пытается что-то сказать, но изо рта вылетают лишь невнятные звуки.
Она слышит крики медиков, чувствует, как ее везут в большой зал, залитый ярким светом.
Она стоит на холме в Восточной Монтане. Воздух напоен ароматами весны. Теплый ветерок обдувает ее лицо. Она делает глубокий вдох, и легкие ее наполняются запахами сосен, цветов и весенней земли. Она двигается и понимает, что сидит на багажнике машины. Солнце садится. На ней костюм чирлидера. В руках маленькое косметическое зеркальце. Зеркальце серебристое, круглое, с металлической крышечкой, защищающей стекло. Но сейчас крышечка открыта.
Она видит в зеркальце лицо и не сразу понимает, что смотрит на себя. Какая она красавица! Густые русые волосы волнами спадают на плечи и слегка колышутся под вечерним ветерком. Губы красные от помады — она держит помаду в другой руке. На лице несколько мелких прыщиков. На шее цепочка с кулоном в форме сердечка. Она улыбается и видит белоснежные зубы.
Она чувствует, как большая рука нежно обнимает ее за плечи, и кожа ее покрывается мурашками. Она знает, кто это. Она опускает зеркальце, не в силах сдержаться. Она видит, как вдали садится солнце, отбрасывая длинные тени на поля и холмы. Высоко в небе лениво парит ястреб. В золотистом свете громко трещат сверчки.
Она с ним.
Она ждет, всматривается вдаль, чтобы не смотреть на него. Последние секунды перед первым поцелуем. «Я должна запомнить этот момент, — мысленно шепчет она. — Я должна навсегда запомнить этот момент».
И она запоминает.
Красное небо рвется в клочья.
Она приходит в себя.
Медик очищает ей рот с помощью пластиковой трубки. Он кричит. Она чувствует, что не может сдержать выделений. «Нет, пожалуйста, нет! — хочется крикнуть ей. — Верните меня туда! Верните меня назад!»
Но медик выполняет свою работу. Он держит над ее лицом мешок и накачивает воздух в ее легкие.
Она чувствует треск в груди. Воздух пробивается сквозь жидкость в легких. Дыхание никогда еще не казалось столь бессмысленным. Резкая боль возвращается. Она пытается еще больше усилить ее, проложить ей путь, окончательно разорвать то, что рвется внутри нее.
В машине звучит сигнал тревоги.
— Фибрилляция! — студент в панике.
Спереди ему отвечают:
— Включай дефибриллятор! Мы уже почти на месте. Две минуты! Давай!
Она слышит нарастающий писк какого-то аппарата. От этого звука закладывает уши. Она начинает проваливаться в забытье. На этот раз окружающий мир превращается в серую, бесформенную пустоту. Боль в животе затихает. Она снова погружается в океан, а вокруг плавают пузыри воспоминаний. Все уже знакомо. Она чувствует себя в безопасности. Она спокойно наблюдает за пузырями, выбирая, на каком остановиться.
Выбор сделан.
Стук в деревянную дверь. «Две минутки!» — раздается голос. Она слышит хихиканье. Ей знакомо это хихиканье. Она оборачивается — рядом ее сестры. Все три. Все обнимают ее и говорят, какая она красавица. Она слышит, как сама разговаривает с ними, шутит, плачет — просто живет рядом с ними. О! Как же чудесно их снова увидеть!
Три молодые женщины отступают и с восхищением смотрят на нее. Лица их сияют, волосы уложены в сложные красивые прически — на это ушло все утро. Персиковые платья подружек невесты поблескивают в солнечном свете, пробивающемся сквозь витражи церкви.
Сегодня день ее свадьбы. Младшая сестра отступает в сторону. На солнце сверкает большое зеркало. Она смотрит на свое отражение. Белоснежное подвенечное платье безумно красиво. Оно оттеняет загорелую кожу. Она медленно поворачивается, глядя, как пышные юбки повторяют ее движение. Она смотрит на себя — на стройную, сильную, подтянутую девушку, очень гибкую, очаровательную. Она движется легко, наслаждаясь своей юной элегантностью.
Снова стук. Он здесь! Сестры смеются, а она бежит к двери. Раздается голос. Лоис слышит себя: «Входи! Входи, будущий муж!» Сестры хохочут, и она смеется вместе с ними. Берясь за ручку двери, она чувствует, как улыбка расплывается по ее лицу.
«Я должна запомнить этот момент, — мысленно шепчет она. — Я должна запомнить этот момент навсегда».
И она запоминает.
Электрическая вспышка вырывает ее из мира воспоминаний.
Когда она возвращается, глаза ее открыты. Она видит. Молодой медик вспотел, вены на его висках набухли. В дрожащих руках он держит две белые пластины.
— Я ее завел! Завел! — кричит он.
— Нет! — пытается сказать она, ей хочется вернуться в воспоминание, открыть дверь, увидеть лицо. — Господи, пожалуйста, верни меня назад! Верни меня назад!
Но пути назад нет.
Машина останавливается, задние двери распахиваются. Она чувствует, как медик орудует отсосом у нее во рту. Медсестры подбегают, чтобы помочь бригаде скорой.
Носилки опускают на каталку и вкатывают в приемный покой. Она чувствует, как внутри ее тела что-то происходит. Ей не больно и не страшно. Кажется, что воробушек влетел в центр ее груди и теперь бьет крыльями по ребрам, стараясь вырваться.
— Реанимация!
Одна из сестер вскрикивает — рядом с ней монитор издает резкий звук.
— Реанимация!
Лоис лежит неподвижно. Каталку катят по приемному покою. Мимо проносятся двери, пролетают лица пациентов. В дверях одной палаты стоит ребенок. Расширенными глазами он смотрит, как мимо него провозят умирающую старуху. Она пытается улыбнуться, но мышцы не слушаются.
Они вкатывают ее во вторую смотровую.
К ней подбегает врач в длинном белом халате. Изображение расплывается перед глазами. Она слышит, как хлопают полы халата. Нет, это уже не халат, это белые шторы на окне. Окно открыто. Вдали слышится шум прибоя. Она вдыхает соленый воздух, ощущает на лице теплый ночной ветер. Не поворачивая головы, видит, как над океаном поднимается луна. Ее отражение пляшет на волнах. Белая лунная дорожка уходит в синюю ночь прямо к горизонту. Куда она ведет?
Она обнажена.
Она чувствует прикосновение его теплой кожи. Он спит рядом. Тихий покой наполняет все ее существо, все поры, складки и изгибы, все мышцы и кости.
Она чувствует его запах. Он пахнет морем, небом и соснами. Он пахнет звездами, волнами и луной. Он пахнет надеждой, любовью и покоем.
Она всем телом льнет к нему. Во сне он прижимает ее еще крепче и обхватывает рукой. Они слиты воедино — между ними нет пространства.
Время идет. Над далеким прибоем поднимается солнце, шум волн проникает в комнату через открытое окно. Она целует его руку, ощущая под губами соль на коже. Она видит кольцо на его пальце и вытягивает собственную, чтобы лучи восходящего солнца блеснули на ее обручальном кольце. Она соединяет их руки.
Но ей хочется увидеть его лицо. Она хочет видеть его лицо.
Он утыкается подбородком в ее шею, она чувствует его теплое дыхание.
«Я должна запомнить этот момент, — мысленно шепчет она. — Я должна запомнить этот момент навсегда».
И она запоминает.
Странный резкий свет снова искривляет вокруг нее пространство и время.
Воспоминание блекнет ее вырывают из сплетения рук и из рассвета. Появляются другие руки. Эти руки ножницами срезают с нее одежду, обнажая ее старое тело. Ей нет до этого дела. Она все еще живет моментом, запомнить который поклялась давным-давно.
«Пожалуйста, остановитесь, — шепчет она. — Пожалуйста, позвольте мне вернуться к нему». Но слова эти звучат только в ее голове.
Над ней склоняется доктор. Она видит его бороду. Он говорит громким резким голосом, почти кричит:
— Миссис Дрейдер, можете сжать мою руку?! Она чувствует, как он сам сжимает ее руку. Она пытается сжать в ответ, чтобы он ушел, но рука ее не слушается.
— А этой рукой? — кричит ей доктор.
Она ощущает пожатие где-то в другом месте. На этот раз она даже не пытается ответить. Она пытается умереть. Она желает этого всем своим существом. Она молится, она кричит небесам, она зовет его: «Пожалуйста, забери меня. Позволь мне освободиться от этого места».
«Я так хочу тебя увидеть… Увидеть тебя…»
Голоса кричат.
— Она уходит!
— Сто пятьдесят миллиграммов амиодарона! — кричит доктор.
Он вводит отсос в ее рот. Она понимает, что он полон жидкости, и она не может дышать.
— Интубируем! — кричит доктор. — Миссис Дрейдер, я введу трубку вам в горло, чтобы вы могли дышать.
В груди ее что-то клокочет.
— Оставайтесь с нами! — кричит доктор. — Оставайтесь с нами!
«Останься с нами! — кричит она. — Господи, пожалуйста, пусть он останется с нами! Не забирай его!» Она плачет. «Останься с нами!» — снова кричит она. Но уже слишком поздно, и она это понимает. Она стоит на холодном ветру на берегу ревущего потока. Она держит на руках тело своего единственного ребенка, своего сына. Она падает на колени и плачет. Она впервые в жизни чувствует себя старой.
Но он снова с ней.
Он кладет руку ей на плечо. Она слышит, как он плачет. Она поворачивается и утыкается лицом в его широкую грудь. Его сердце бьется под ее ухом, она вздрагивает, когда вздрагивает он. Они дрожат вместе. Он держит ее сильными руками, руками, ради которых хочется жить.
«Я должна запомнить этот момент, — мысленно шепчет она. — Я должна запомнить этот момент навсегда».
И она запоминает.
Он плачет вместе с ней. В этом мире только они двое. Вселенная, которая всего несколько минут назад казалась такой прекрасной, становится невыносимо пустой. В ней только они двое. «Я никогда тебя не покину», — шепчет она. Он целует ее в макушку. Она поднимает лицо, чтобы ответить на поцелуй, но его уже нет. Доктор выкрикивает названия препаратов и дозы. Медсестра устанавливает над ее ртом мешок, который пахнет старым пластиком. Потом сжимает мешок, накачивая воздух в легкие Лоис. Она чувствует, что они пытаются заставить ее жить. Но с каждым воспоминанием нити, связывающие ее с этим миром, становятся все тоньше.
И это прекрасно.
Снова возникает боль в животе. Лоис чувствует, что боль поднимается, доходит до шеи. Она ощущает острое жжение. Наблюдает за болью с отстраненным любопытством. Ее раздражает вся эта суета вокруг нее.
Снова приходит боль. И она неожиданно понимает, что боль — ее друг. Она может освободить ее. Лоис рада этому. «Пожалуйста, положи этому конец», — говорит она боли.
Доктор убирает мешок от ее рта и пальцами в перчатках снимает зубные протезы. Он снова вводит отсос. Хлюпающий звук заполняет все вокруг.
Мир пульсирует и замирает.
На ее коленях двое детей. Мальчик и девочка. Близнецы. Она слышит свой голос. «Я буду любить тебя вечно, несмотря ни на что! — говорит она одному из детей и тут же поворачивается ко второму. — Я буду любить тебя вечно, несмотря ни на что!»
Дети повторяют хором: «Мы тоже будем любить тебя вечно, несмотря ни на что!» Они смеются, спрыгивают с ее колен и бегут под елку, где их ждет гора подарков, завернутых в красную и зеленую бумагу.
В камине потрескивает огонь. Недопитый стакан молока стоит на тарелке рядом с запиской от Санты. Из радиоприемника доносится рождественская музыка. Утро Рождества. Лоис смотрит на близнецов с такой любовью, что грудь ее готова разорваться от счастья. Дети находят свои подарки и усаживаются у камина.
«Пусть папа поторопится!» — хохочет девочка. «Дождитесь отца», — Лоис слышит свой голос. Все в комнате дышит жизнью. Мы сделали это, думает она. Мы сделали этих детей. Мы сделали это. Наша любовь создала этот прекрасный мир.
Это прекрасный момент.
«Я должна запомнить этот момент, — мысленно шепчет она. — Я должна запомнить этот момент навсегда».
И она запоминает.
Она слышит, как он входит в холл. «Дети, я дома!» Его голос! Это его голос! Ей хочется плакать от радости — ведь она снова слышит его голос. Прошло столько времени с того дня, как она слышала его в последний раз. Голос сильный, чистый, здоровый. Она поднимается, заправляет волосы за уши, разглаживает свою пижаму и улыбается, ожидая, когда он появится в дверях.
— Разряд! — кричит кто-то рядом.
Ее снова возвращают в настоящее. Доктор стоит рядом с большой пластиковой трубкой в одной руке и металлическим инструментом в другой. Он кивает, и сестра вводит что-то ей в руку. Новое ощущение. Во рту возникает горечь. Боль в груди и животе отступает. Ее окутывает тепло. Она почти уходит, но мысленно кричит: «Нет! Я не хочу, чтобы меня спасали!» Она борется, но сил уже нет. Препараты погружают ее в теплый мрак.
Воспоминания кружатся, как снежные хлопья в пургу. Они крутятся, вертятся. Окружают ее. Воспоминания большие и маленькие. Футбол, дни рождения, слезы, смех, походы, письма о приеме в колледж, письма с отказами в приеме в колледж, опустевшее гнездо, пустой дом. И вот они снова остаются вдвоем.
Но он здесь. Она не одна. Он обнимает ее. Тонкие руки. Он превратился в скелет, лежащий на больничной кровати. Она чувствует его тонкие кости, когда он обнимает ее на этой кровати. Его прекрасные русые волосы выпали. Их смыл бесконечный поток химиотерапии, облучения, новой химиотерапии и нового облучения.
Она целует его в лоб. Кожа его по-прежнему сохранила вкус моря и сосен.
«Я должна запомнить этот момент, — мысленно шепчет она. — Я должна запомнить этот момент навсегда».
И она запоминает.
Его снова нет рядом.
Она выныривает на поверхность из мрака. Чувствует трубку в горле. Легкие ее расширяются и сжимаются по воле бездушного аппарата. Она открывает глаза.
— Она пришла в себя, — говорит доктор. — Еще успокоительного.
Она погружается в свой мир, лекарства туманят ее разум.
Доктор куда-то звонит. Он говорит очень громко.
— Хирург будет через десять минут, — говорит он, бросая трубку. — Они попытаются спасти ее, пока не стало слишком поздно.
Он видит, что она смотрит на него, и хмурится.
— Господи, она пришла в себя, — он явно недоволен. — Вколи ей еще пропофол, Дэн.
Он отворачивается и начинает что-то набирать на компьютере. Медбрат подходит к стойке капельницы и нажимает какие-то кнопки. Она снова ощущает тепло в руке и в мозгу. Замечает красную кровь на белой подушке.
Кровь похожа на розу.
Она сажает розы. Красные для себя, белые — для него. Она сажает их рядом, в память о нем. Она вскапывает землю, сажает куст для него и еще один — для себя. Рядом. Каждый день розы растут, и она ухаживает за ними. Красные розы и белые розы соседствуют на ее дворе.
Сегодня годовщина их свадьбы. Она срезает розы, чтобы украсить стол.
Сегодня она приготовит его любимое блюдо и снова будет ужинать в одиночестве.
Она берет розу и пробегает пальцами по цветку. Она ощупывает стебель до самого конца. Шип колет ее палец, но это нестрашно — она давно привыкла к этому ощущению. Стебель жужжит и вибрирует.
Она ощущает вибрацию и неожиданно вспоминает пчелу. Но в этот раз пчела не жалит.
Ее выкатывают в зал. Люди толкают ее каталку, стараясь двигаться как можно быстрее. Они вкатывают каталку в операционную и перекладывают ее на стол. Ее поднимают и кладут на холодный черный пластиковый матрас операционного стола.
— Быстрее! Быстрее! Быстрее! — командует хирург, отмывая руки в стальной раковине. — Давление пятьдесят — она истекает кровью.
Он спешит. С нее срывают одеяла. Она остается обнаженной. Сестра выливает бутыль бетадина на ее напряженный живот. На соблюдение правил нет времени. Хирург надевает специальный халат и перчатки, берется за скальпель.
И замирает.
— Она в сознании?! Вы что, парни!
Рядом кто-то громко ругается. Капельница отсоединилась еще в приемном покое. Она чувствует аппарат искусственной вентиляции легких, но не может ни пошевелиться, ни позвать на помощь. Глаза ее открыты. Они светятся радостью. Она смотрит не на хирурга, не на скальпель и не на яркие лампы.
Она смотрит на Генри.
Он здесь, такой, каким она запомнила его на холме. Он услышал ее зов и пришел за ней. Она видит глаза цвета лесной зелени, видит прекрасное, доброе лицо и густые волосы. Их взгляды встречаются. Радость вспыхивает в их сердцах, как яркая молния. Он одновременно и молод и силен — и стар и мудр. Она чувствует запах сосен и моря. Она понимает, что это действительно он.
Он улыбается и протягивает руку.
Она садится, выходит из своего тела, забывает об аппаратах, о прожитых годах, о лекарствах, которыми накачивают ее медики, о теле, которое неожиданно осталось где-то позади.
Боль в животе прошла.
Кричит хирург, сигналят аппараты, кричат сестры, но она слышит лишь шум прибоя вдали. Восходит луна, заливая своим призрачным светом всю поверхность океана до самого горизонта.
Она знает, куда ведет лунная дорожка.
Она протягивает руку и видит, что рука такая, какой она ее помнит. Здоровая, молодая и сильная — но в то же время старая и мудрая, как у него.
Их руки соприкасаются.
Он наклоняется и нежно целует ее. Она чувствует вкус моря, неба и деревьев, колышущихся под летним ветром.
Он берет ее за руку, и она идет рядом с ним к далекой луне, сияющей на поверхности моря.
Появляется ребенок.
Он бежит к ней.
«Мамочка! — кричит он. — Мама!»
Она с легкостью подхватывает его на руки, смотрит, как он устраивается у нее на коленях, — он любил сидеть так, пока река не забрала его. Появляются сестры, мать и отец — друг за другом они приветствуют ее в новой жизни.
Она уже забыла о боли старой жизни.
Теперь она ощущает лишь прикосновение руки Генри.
«Я должна запомнить этот момент, — мысленно шепчет она. — Я должна запомнить этот момент навсегда».
И она запоминает.
Хирург снимает перчатки, медсестры отключают мониторы. Пустое, покрытое морщинами тело накрывают простыней.
Ее жизнь окончилась.
Это прекрасно.
Примечания
1
Около 8 км. — Примеч. ред.
(обратно)


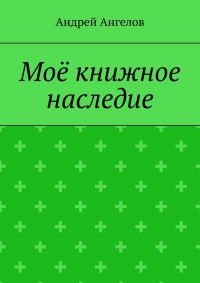
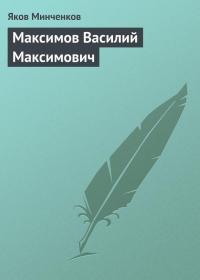


Комментарии к книге «Держи его за руку. Истории о жизни, смерти и праве на ошибку в экстренной медицине», Филип Аллен Грин
Всего 0 комментариев