Ирина Гуро ОЛЬХОВАЯ АЛЛЕЯ ПОВЕСТЬ О КЛАРЕ ЦЕТКИН
Ирина Гуро известна читателю по романам и повестям «И мера в руке его…», «Ранний свет зимою», «Московские бульвары» и другим. Они печатались в журналах, выходили отдельными книгами, переводились в союзных республиках и за рубежом. За роман «Дорога на Рюбецаль» писательница в 1968 году удостоена литературной премии имени Николая Островского.
Новая книга Ирины Гуро «Ольховая аллея» — это рассказ о жизни и борьбе выдающейся деятельницы международного коммунистического и женского движения Клары Цеткин. Автор стремится воссоздать образ незаурядного человека и отважного борца, сказавшего о себе: «Как птица должна петь, река нести свои воды, так я должна бороться».
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава 1
На углу в «Павлине» разыгрывался очередной скандал. Слышно было, как по крайней мере десяток мужчин кричат, перебивая друг друга и обмениваясь нелестными эпитетами. И так как спорщики сопровождали свои прения стуком тяжелых пивных кружек о стол, шум, вырывающийся из окон, привлекал любопытных. Они, впрочем, тотчас получали свое от папаши Корнелиуса, который высовывал в окно лохматую рыжую голову и зычным голосом возвещал:
— Эй ты, ротозей, проходи! «Павлин» не дает бесплатных представлений!
«У павлина» — заведение слишком скромное, чтобы назвать его рестораном или даже ресторанчиком. И слишком основательное, чтобы считать его просто «кнайпе» — пивнушкой. Здесь все сделано так добротно и прочно, словно «Павлину» суждена вечная жизнь. И правда, похоже на это, — вверху, на уровне чердачного окна, под флюгером в виде павлина с распущенным хвостом, выложена римскими цифрами дата: «Павлин» распускает свой хвост уже более полутораста лет. И за это время, как утверждают старожилы, не только не потерял ни одного своего перышка, но, напротив, изрядно оперился: за шатрами бузины, прямо-таки бушующей во владениях папаши Корнелиуса, скрылись его солидные пристройки. Подумать только, в эту одностворчатую дубовую дверь, обитую железом, словно дверца винного погреба, входили господа в кружевных жабо, но моде начала века! И дамы в кринолинах! Впрочем, дамы вряд ли: они и теперь не переступают порог «Павлина». Нельзя же считать дамой тетку Марту, которая сидит там ежевечерне со своим вязаньем и так громко ругает «нынешние порядки», что ее слышно и в Иоганнапарке. А что касается господ в жабо, то россказни о том, что «Павлин» когда-то был излюбленным местом встречи именитых граждан города, исходят ведь от самого папаши Корнелиуса. А он, как известно, и соврет — недорого возьмет.
Кларе трудно представить себе Лейпциг тех времен, которые помнит привратник — старый Иозеф. Для Клары это город ее беспокойного века. Над ним стелются дымы фабрик, поток экипажей струится по его вымощенным крупным булыжником улицам, и «гусиным шагом» проходят, сверкая амуницией, четкие военные колонны под медные звуки оркестра: «Вперед, вперед, солдат, спеши на поле славы!»
Клара слушает вполуха: ее мысли текут где-то рядом с болтовней Иозефа. Какое дело Кларе до «Павлина»! Когда-нибудь она попадет на Пфаунинзель, остров павлинов, о котором ей рассказывал отец. Там удивительные птицы расхаживают запросто по парку, важные и нарядные, словно фрейлины при дворе, с той только разницей, что они обмахиваются своими роскошными веерами не спереди, а сзади…
Но интересно все-таки: о чем там толкуют с такой страстью, что дребезжат стекла в окнах? Если она правильно поняла Иозефа, речь идет о политике, о «высокой политике», Клара могла и сама об этом догадаться хотя бы по тому, пак часто там поминают Бисмарка. Не будь Железный канцлер столь железным, Пруссии не видать бы эльзасского угля, как своих ушей. Ему, Иозефу, эта затея с Эльзас-Лотарингией, конечно, до печки. Но посмотри на Симона Лунца: он стал поперек себя шире, поставляя фураж для армии. Или возьми, к примеру, Лео Гашке с его кожевенным заводом. Говорят, сам канцлер наценил ему золотую медаль, которую Гашке надевает по праздникам. А до войны Гашке с сыновьями вручную выделывали телячьи кожи для школьных ранцев. И от молодых Гашке так несло сыромятиной, что никто не хотел с ними танцевать на празднике молодого вина. А теперь они взяли за себя лучших девушек города…
Клара прерывает болтовню старика:
— Так это все о политике, эти споры?
— Видишь ли, Клархен, находятся люди, которые всячески поносят зачинщиков войны и твердят, что она выгодна только богатым. Впрочем, ты еще слишком молода, чтобы интересоваться этим. И вообще политика не женское дело.
«Не женское дело»! Эти слова знакомы Кларе с раннего детства. Однажды она вбежала в дом и кинулась к матери, почти плача:
— Почему ты не родила меня мальчиком? Почему мне на каждом шагу тычут в глаза, что я девчонка? Почему мне ничего нельзя?
— Пойди умойся. На кого ты похожа! — спокойно сказала мать.
Но Клара — только что из драки с мальчишками на берегу, вся в песке, с растрепанными косами, выглядела такой оскорбленной!
— Послушай, сорванец! Женщина может все, что может мужчина. Но чтобы доказать это, нам надо еще долго бороться за свои права. А теперь ступай мыться!
Жозефина Эйснер, страстная поборница женского равноправия, подумала тогда, что, пожалуй, еще рано внушать дочке идеи эмансипации. Она надеялась, что позже Клара пойдет по ее пути. Она не предвидела ни в какой степени, какая пропасть разделит их в недалеком будущем!
Между тем вопли в пивной утихли: там, по-видимому, было достигнуто соглашение по внешнеполитическим вопросам. Только на крыльце два подвыпивших бюргера продолжали препираться, дергая друг друга за пуговицы сюртуков.
— В этом городе нет ни одного нормального человека! — убежденно сказал Иозеф, выбил трубку о каблук своего башмака и зашаркал прочь.
Кларе бы тоже пойти в дом и сесть за уроки — сегодня ведь не воскресенье! Так нет же! Она осталась на скамейке у ворот, словно знала, что кое-кто как раз и дожидается подобного случая.
Племянник хозяина «Павлина», Гейнц Кляйнфет, тушуется перед Кларой. В ее присутствии он как будто даже становится меньше ростом, хотя и при этом, конечно, остается порядочным верзилой.
— Что скажешь, Гейнц? — она говорит с ним покровительственно, хотя на год моложе его и все еще занимается дома, под руководством отца, а Гейнц второй год посещает коммерческую школу. — Может быть, ты присядешь? — предлагает она милостиво, потому что он все еще переминается с ноги на ногу и теребит по привычке кончик вышитой ленточки, заменяющей ему галстук.
Он степенно садится. Сидя, он кажется не таким громоздким. Его волосы льняного цвета, падающие прямыми прядями почти до плеч, и черная шляпа делают его похожим на молодого пастора. Кларе страшно хочется надвинуть ему шляпу на глаза, да еще прихлопнуть сверху ладошкой, как это делалось у них в деревне, когда кто-нибудь из ребят, бывало, вздумывал корчить из себя франта. Но здесь, в Лейпциге, детей, которые у них в Видерау вообще бегают голопузыми, одевают как маленьких господ. Это просто смех.
— У нас в «Павлине» сегодня шумно, — сообщает Гейнц, словно бог весть какую новость.
— Имея пару ушей, об этом можно было узнать и помимо тебя, — отрезает Клара.
— А, знаешь, из-за чего?
— Чего не знаю, того не знаю. Мало ли из-за чего могут поскандалить мужчины, выпившие столько пива!
— Было собрание.
— Ну и что? — Из Гейнца надо вытягивать каждое слово. Больше трех сразу он вообще не произносит.
Юноша умолкает надолго. Гейнц Кляйнфет — как русский самовар, который Клара видела в доме своей подруги Варвары: он медленно нагревается, а затем начинает бурлить…
И Гейнца тоже, наконец, прорывает:
— На собраниях всегда шумят. Однажды в «Павлине» собрался ферейн печатников. И к ним приезжал господин Август Бебель. Если бы ты слышала, как он говорил!
— Как же можно было что-нибудь услышать в таком шуме?
— Господина Бебеля все слушали с большим вниманием. Даже его противники.
Заряда хватило ненадолго: Гейнц снова умолк.
Клара как-то встретила господина Августа Бебеля на площади Ратуши, а однажды видела, как он сидел у окна кафе «Баум», самого старого кафе в Лейпциге. Отец рассказывал, что там до сих пор стоит столик, за которым некогда сиживал ежевечерне великий Роберт Шуман. Хотя Августу Бебелю вряд ли более тридцати и он совсем небольшого роста, многие первыми снимают шляпу, здороваясь с ним. Господин Бебель — ученый человек. Но что же говорил на собрании печатников знаменитый Август Бебель?
— Он назвал политику Железного канцлера кровавой политикой и сказал, что захват Эльзаса — это просто грабеж среди бела дня. А про французов он высказался так: «Свободолюбивый народ, овеянный славой Коммуны». А мы — палачи Франции, содрали с нее миллиардные контрибуции!
Конечно! Именно так может говорить бесстрашный Август Бебель, который выступал в рейхстаге с призывом учиться у Парижской Коммуны!
Слово «контрибуция» Гейнц произносит с видом завзятого «политикера», но Кларе уже шестнадцать, и она знает что к чему.
— Бебелю, конечно, возражали!
— Такие речи не всем нравятся. Ведь миллиарды, которые Железный канцлер оттяпал у французов, пошли на пользу немцам.
Гейнц помолчал и добавил:
— Но господин Бебель говорит, что польза — только для богачей, а беднякам все эти войны ни к чему.
Клара с интересом смотрит на юношу: воспитанник «Павлина» говорит, как взрослый. А упоминание о французах вызывает в ее памяти давнее воспоминание: на чердаке их дома в Видерау она как-то нашла старую книгу. И едва ли Клара заинтересовалась бы ею, если б не та гравюра… Гравюра изображала штурм Бастилии. Каменные своды тюрьмы, такие высокие и толстые, как будто возведенные циклопами. А люди у этих стен казались крошечными. Но было в них столько силы и отваги, что верилось: Бастилия падет! Может быть, оттого, что людей было много и они действовали дружно и бесстрашно. Или оттого, что все они — в порыве, в одном благородном стремлении, — штурм Бастилии во имя свободы! На гравюре было видно, как на крыше здания орудуют кирками смельчаки в рабочей одежде, с непокрытыми головами. Да, здесь не было блестящих киверов, не сверкало оружие. А пушку подкатили сами повстанцы, впрягшись в лафет. И Кларе казалось, что она слышит шум битвы, и возгласы, и песню… Она тогда не знала еще ни слов, ни музыки этой песни.
Гравюра в старой книге связывалась у нее с музыкой Баха: его фуги играл отец Клары, органист местной церкви. Наверное, только орган мог передать дивную сложность фуги, это переплетение голосов, свитых так органично и прекрасно, как виноградная лоза. Потом она узнала слова песни: «Вперед, сыны отечества! День славы настал!»
Клара хотела бы еще что-нибудь вытянуть из Гейнца, но заметила, что он сам порывается что-то ей сказать. Застенчивость, которая нападала на него приступами, словно лихорадка, снова овладела им.
— Я хочу тебя пригласить, Клара… Сейчас ведь ярмарка… А у меня есть деньги!
Ярмарка!.. Это слово тоже вызывало у Клары воспоминания: несколько телег на берегу Видера, стреноженные кони. Брезентовая палатка; разбросанные прямо на траве пестрые куски материи, шали, чепцы, кухонная утварь… Хозяйки деловито простукивают посуду, присматриваются, принюхиваются, щупают материал, пробуют, потом, отвернувшись, подымают подол юбки, достают из чулка денежку. А дети шныряют кругом, осчастливленные гербовым пряником, леденцом в форме часовни, ниткой бус, плюшевым зайцем… Ярмарка!
Клара схватила Гейнца за руку, и они стремглав побежали вниз, к Старой рыночной площади, что за рядами кирпичных домов, дальше, дальше, туда, где начинается паутина кривых переулков. Они такие узкие, что хозяйки без натуги ведут беседу друг с другом, отворив окна и положив на подоконник цветные подушечки. Навалясь на них грудью, они затевают такое обсуждение вопросов дня, что куда там пивная, где сидят в это время их мужья!
И еще дальше бегут Клара и Гейнц, туда, где разбегаются кусты ольхи и все чаще открываются маленькие пустоши, поросшие вереском и остролистом, где уже чувствуется в воздухе, горьковатом и влажном, близость большой воды.
Когда-то ярмарки располагались на самом берегу реки, вытягиваясь вдоль длинным пестрым табором. Подплывали плавучие лавки; мостики, украшенные гирляндами зелени и флажками, перебрасывались на крутой берег, и если кто, зазевавшись, плюхался в воду, веселья и шуму становилось еще больше.
Это все видел Гейнц, когда был маленьким: дядюшка Корнелиус водил его сюда.
Теперь ярмарка занимает маленькую площадь и прилегающие улицы. Толпа обтекает ларьки и палатки, как волна — прибрежные скалы. Толпа гомонит, и этот слитный, беспокойный гомон разрезают оглушительные выкрики в рупор:
— Восьмое чудо света! Ор-ригинальный феномен природы! Кентавр — полуженщина, полуконь. Необходимо видеть каждому образованному человеку! Только двадцать пфеннигов! Спешите, спешите!
— Говорящая обезьяна из джунглей Африки! Единственная в мире. Одобрена кайзером! Восемь медалей! Поучительное зрелище, детям бесплатно! — кричит зазывала с такой страстью, как будто тотчас наступит конец света, если вы не войдете в истрепанный шатер, откуда несутся взрывы хохота и хлопки.
— А на каком языке говорит твоя обезьяна? — спрашивает отец двух малюток, которые, видимо, очень хотят услышать обезьяну, но отец не желает выбрасывать пятнадцать пфеннигов, если даже детям — бесплатно.
— Конечно, на немецком! Она изучила его в джунглях! — басит кто-то из толпы.
— Львы на свободе! Львы на свободе! — надрывается могучий брюнет с нафабренными усами. Похоже, что это сам укротитель, так магнетически сверкают его глаза.
— А почему, собственно, они на свободе? Куда смотрит Железный канцлер? — спрашивает парень в картузе, сдвинутом на ухо.
— Дурак! Это же британский лев, тут руки коротки!
С лотков продаются неслыханные вкусности: поджаристые булочки с аппетитно выглядывающим из середины кончиком сосиски, блинчики с патокой, изготовляемые на ваших глазах на переносной железной печурке, «сахарные облачка» — уж как интересно на ходу заглатывать целое облако, к тому же сладкое…
— У меня есть деньги! — повторяет Гейнц, словно заклинание, — целых три марки! Скажи, что ты хочешь?
Да она все хочет…
— А что хочешь ты, Гейнц?
Впрочем, она уже видит, как он застыл перед изображением силача в черном трико, играющего великанской штангой.
— Наверное, она внутри полая! — высказывается Гейнц.
— Нехорошо иметь завистливый характер, — отмахивается Клара.
Гейнц платит тридцать пфеннигов, и они входят в палатку под оглушительные крики зазывалы:
— Силач Паломерино из Италии держит на хребте военный духовой оркестр и свою жену, самую толстую женщину в мире!
Силач ложится на коврик, на спине его устанавливается деревянный помост, могучая дама взбирается на него, раздавая воздушные поцелуи публике.
— Она тоже полая внутри? — язвит Клара.
На помост всходят три кирасира с трубами и барабаном. Они играют сначала «Деревенскую польку», затем «Германия превыше всего!». Все встают. Кроме несчастного силача, разумеется.
— Почему он лежит при исполнении гимна? — дурашливо кричит кто-то.
— Надо посмотреть, живой ли он там еще! — отвечают из другого конца.
Шум, хохот.
— Бежим на карусель! — приглашает Гейнц.
— Ну вот еще! Там одни дети.
— Тогда на гигантские шаги!
Они протискиваются через толпу, зачарованно глазеющую на смельчаков, взлетающих в жуткую высоту. Сверху несутся такие крики, что хоть деру давай!
Отступать поздно. Клара и Гейнц накидывают на себя петли и берутся обеими руками за веревки, Гейнц отталкивается, отталкивает Клару. Они взлетают все выше, все выше…
— Гейнц, я вижу Ауензее! И лебедей!
— А я вижу твой дом на Мошелесштрассе!
— А я — твоего пони Мауса в конюшне!
Они дурачатся, хохочут, они словно в свободном полете над этим прекрасным городом, так высоко, выше холма Трех монархов, шпиля ратуши и, конечно же, флюгера-павлина…
— Спасибо, Гейнц! Это было чудесно! — говорит Клара, когда они подходят к ее дому.
— Тебя не накажут за то, что ты убежала не спросясь?
— У нас дома никогда не наказывают детей.
Она хотела бы еще раз выразить Гейнцу свою благодарность, но мать зовет ее в дом.
Когда Клара вошла, родители показались ей встревоженными. На матери — ее старое выходное платье из шелка «шан-жан» и маленькая соломенная шляпа с пучком матерчатых фиалок сбоку. В руках — зонтик. Так обычно, при всем параде, фрау Жозефина Эйснер отправлялась на собрание своего Женского союза. Но ведь они собирались только вчера…
— Я ухожу, Клархен, ты подашь отцу ужин: в кухонном шкафу — ветчина и масло. И не наливай в кофе холодное молоко. До свиданья.
Клара видит в окно, как мать, все еще стройная, хотя и несколько полноватая, но крепко затянутая корсетом, идет по Мошелесштрассе. Высокие каблуки ее ботинок мелькают из-под длинной широкой юбки, обшитой лентой-щеточкой.
Интересно, Гейнц все еще там? Впрочем, мама благоволит к нему. Еще бы! Он такой воспитанный. Даже слишком! Кларе иногда кажется, что кровь у него в жилах течет в десять раз медленнее, чем у других людей. А то, что он ходит за ней по пятам, Клару нисколько не трогает. Никогда не будет у нее такой дружбы с этим увальнем, какая связывала ее с деревенскими мальчишками из Видерау!
…Там, неподалеку, если пройти немного по дороге на Люнценау, стоял домик семейства Рунге. Ручной ткацкий станок занимал почти всю маленькую комнату. Когда семейство собиралось за столом, дядюшка Симон Рунге громко читал молитву перед трапезой, то и дело вертя шеей и делая страшные глаза младшим, которые отпихивали друг друга локтями.
Там, позади дома Рунге, начинался овраг с вересковыми зарослями на склонах. Говорят, что когда-то, когда Видербах был не узким ручьем, а настоящей рекой Видер, здесь протекал ее приток. До сих пор на дне оврага сыро и прохладно. Там живут прыгучие лягушки с глазами, как булавочные головки. И однажды из-под коряги на Клару пристально посмотрела небывало большая жаба с золотой короной на голове. Когда Клара рассказала о ней Францу Рунге, он отнесся к этому очень серьезно. Он сам видел царицу лягушек, сидящую на камышовом троне, окруженную фрейлинами с крошечными опахалами из папоротников в зеленых лапках…
Если подыматься все вверх, все вверх, можно дойти до скалы, называемой в народе Монахом. Издали она действительно походит своими очертаниями на голову монаха в капюшоне. Отсюда открывается вид на Рехсбург. Княжеский дворец высоко на горе совсем тонет в буйной зелени, и все же хорошо видно, какой он большой и красивый, как выгодно поставлен на высоте. Позади него — только небо и облака. У подножия горы — мост, такой широкий, вольготно раскинувшийся на массивных быках. А может, он только казался таким? Тогда она ведь еще не видела мостов, по которым движутся поезда.
Франц Рунге — ее ровесник, товарищ в играх и баталиях, — теперь его тоже нет в Видерау. Говорят, что он работает вместе со своим отцом на большой ткацкой фабрике, где-то на юге.
Клара улыбается, вспоминая смуглое лицо Франца с зеленоватыми быстрыми глазами. Они, как ящерки, то блеснут между темных ресниц, то спрячутся. Голос у Франца грубоватый, с хрипотцой. Но когда Франц поет одну из тех старых песен, которым он научился от отца, голос его звучит ладно, и он не «пускает петуха», как другие мальчишки. А Клара ведь дочь музыканта и сама играет: слух у нее завидный!.. Она помнит себя маленькой девочкой, сидящей на круглом табурете с толстой книгой, положенной на него, чтобы она могла достать до клавиатуры старенькой фисгармонии. Она удивлена, что из-под ее пальчиков не исходят те прекрасные звуки, которые она слышит, когда на этом же месте сидит отец. Она считала, что мелодия спрятана где-то в этом ящике орехового дерева и надо только нажать клавиши, чтобы ее выпустить…
— Отец, ужин готов! — кричит Клара. Но он уже сидит за столом в кухне в своей домашней коричневой куртке из верблюжьей шерсти, отделанной шелковым шнурком по борту. Это тоже старая куртка, но совсем неношеная. В Видерау отец надевал ее редко: школьный учитель и органист местной церкви, он мало бывал дома. Клара привыкла видеть его тщательно одетым, в длиннополом сером сюртуке поверх черного жилета, с атласным платком, повязанным вокруг шеи. На толстой золотой цепочке, продернутой в петельку жилета, висят брелоки. Один из них — с крошечным изображением Наполеона. Это подарок покойного Клариного дедушки. Он носил звучное имя: Джиованни Доминик Витале. Француз, наполеоновский солдат, солдат республики, — как гласит семейное предание, отказавшийся служить Наполеону-императору. Он покинул страну и переехал на жительство в Лейпциг, где преподавал французский язык в знаменитой Томасшуле. Клара хорошо помнит то время, когда дедушка гостил у них в Видерау. Он был похож больше на моряка, чем на учителя. Лицо его, темно-коричневое, с орлиным носом, с глубоко врезанными морщинами, словно выдублено ветрами бесчисленных вахт. Глаза, по-птичьи близко друг к другу посаженные, казались очень зоркими. Он заполнял дом своим трубным голосом и медовым запахом крепкого табака, которым он набивал короткую, вишневого дерева, трубку.
Кларе всегда казалось, что дедушке скучно жить в Лейпциге и преподавать в Томасшуле. Наверное, ему снятся военные походы, сражения и парады. Украдкой, при свете свечей, она взглядывала на дедушку, чуть прищурив глаза… И вдруг седые его волосы становились черными-пречерными, на них вырастал кивер с султаном. На чисто выбритом дедушкином лице появлялись пушистые усы, вместо широкого черного платка шею его сжимал тугой воротник мундира с золотым позументом.
«Мой государь! — вскричал дедушка, спрыгивая с высокого вороного коня. — Я служил верой и правдой великому полководцу Наполеону, но никогда не буду служить Наполеону-императору!» «Как! — вскричал император. — Ты был моим адъютантом в трудных походах, ты не кланялся пулям на поле брани! Я любил тебя, мой верный Витале! Я прошу тебя, останься!» «Нет, нет и нет! — вскричал дедушка и вдел ногу в стремя. — Свобода, равенство и братство — мой девиз! Мир хижинам, война дворцам!» — и он пришпорил коня…
Было как-то странно представить себе, что после всего этого он отправился преподавать в лейпцигскую Томасшуле.
Когда семья переехала в Лейпциг, дедушки уже не было в живых. На кладбище Иоганнисфридхоф, на серой гранитной глыбе выбит его орлиный профиль. И хотя зоркий дедушкин глаз угас в сером камне, дедушка показался Кларе все-таки похожим на адъютанта Бонапарта, а не на учителя Томасшуле…
Мать вернулась нескоро. Шурша юбками, она почти вбежала в дом. И еще не сняв накидки и не отколов шляпы, порывисто обняла Клару. Прижатая ее мягкими руками к жесткой планке корсета, Клара лихорадочно соображала, какое отношение имеет к ней поздний мамин визит. Ох, она видела свою маму насквозь! Мама спит и во сне видит, чтобы ее старшая дочь получила образование. Но только у богачей сон в руку! Как может сбыться такой сон у них, Эйснеров?
Мать сбрасывает накидку и откалывает шляпу.
— Принеси, дочка, спички! — говорит она взволнованно и снимает стекло с большой лампы, стоящей на круглом столе. Эта лампа — единственное украшение скудно обставленной квартиры. На стекле абажура бледными красками изображены четыре времени года. Когда лампа зажжена, «лето» выглядит теплым, а «зима» — солнечной.
В торжественном свете этой праздничной лампы они втроем садятся за стол.
— Клархен будет держать экзамен в Учительскую семинарию, — на одном дыхании выговаривает мать и подносит платок к глазам.
Отец тоже взволнован. Как они хотят, чтобы она дальше училась! Клара немного растеряна: она же знает, что им не под силу оплачивать ее ученье.
— Фрау Августа Шмидт обещала предоставить Кларе бесплатную вакансию в семинарии!
Вот как! Фрау Августа Шмидт… Директриса Учительской семинарии для девиц, выпускающей воспитательниц и учительниц. Девочка, могла ли ты мечтать о большем? Клара Эйснер, старшая дочка деревенского учителя, который поздно женился, поздно стал отцом и теперь уже приближается к старости, так и не составив себе приличного капитала. Дочка женщины очень-очень энергичной, с передовыми взглядами и прямодушным характером, но не имеющей — увы! — никаких связей.
— Ты счастлива, Клара?
Она еще сама не знает. Но разве не счастье стать образованным человеком, получить знания, чтобы потом передавать их другим? Ее дед был учителем, ее отец — учитель, ее мать бесплатно занималась с детьми деревенских бедняков.
Она счастлива. И благодарна родителям. И фрау Августе Шмидт, которую еще не знает, но уже готова полюбить.
С пылающими щеками Клара выбегает на улицу, чтобы немного остыть, прийти в себя от этой новости.
На скамейке под каштаном против их дома сидит Гейнц.
— Ты опять пришел? — спрашивает Клара, несколько озадаченная.
— Я еще не уходил, — отвечает он и добавляет, словно это обстоятельство может оправдать его: — Такой хороший вечер.
Да, вечер очень хороший. Замечательный вечер.
— Я буду держать экзамен в семинарию госпожи Шмидт! — выпаливает Клара. — Она обещала маме бесплатную вакансию!
— О!.. — только и произносит Гейнц с облегчением. Он мог бы объяснить, что сидит тут так долго из-за беспокойства: не случилось ли что-нибудь в семье — фрау Эйснер в таком волнении вышла из дома. И теперь, когда он узнал о его причине, ему бы подняться да уйти. Но он почему-то не делает этого. Он смотрит искоса, нерешительно, на угловатую девчонку с прямыми мальчишескими плечами, слишком длинными руками и ногами, с крупным ртом и каким-то очень прямым и требовательным взглядом. Она совсем не похожа на лейпцигских девиц, которых он знает. Из своей видерауской глуши она привезла что-то не то чтобы деревенское, а скорее — лесное, горное. Или луговое. В ней есть неожиданность горной речки, вдруг скрывшейся за уступом и вдруг появившейся, естественность зеленой равнины, таинственность леса, непритворство, которое свойственно только природе и так редко — у человека…
Вряд ли он когда-нибудь скажет ей обо всем этом. И не только потому, что не сумеет толком объяснить.
— Ты рад? — спрашивает Клара.
— Я очень, очень рад, — отвечает он серьезно и думает, что теперь будет видеть ее совсем редко. — Иди домой. Ты простудишься, — говорит он совсем не то, что хочет сказать.
Когда Клара возвращается, отец и мать все еще сидят за столом и тихо беседуют.
В поздний вечерний час, в скромной квартире скучного каменного дома на Мошелесштрассе, при свете «Четырех времен года» открывается дверь в будущее Клары.
Это тяжелая дубовая дверь, ведущая в Учительскую семинарию, называемую еще Штейбершешуле. Ею руководит фрау Августа Шмидт. Она помнит, что мать Клары была в числе первых тридцати женщин, положивших начало Женскому союзу, — теперь в нем десятки тысяч членов! Союзу, которому фрау Шмидт придавала исключительное значение. Ведь он боролся за право женщин получать образование, иметь профессию. И известные — да, конечно, хотя бы «известные»! — права в государстве.
В государстве, в котором жил дух пресловутого закона: «Мы, Фридрих-Вильгельм, милостью Божьей король Пруссии, указываем, что лица женского пола, школьники и ремесленные ученики не могут участвовать в политических собраниях, заседаниях и союзах… И нахождение оных: женщин, школьников и ремесленных учеников в зале собрания — дает основания для того, чтобы это собрание прервать…»
Жозефина Эйснер даже создала местную группу Женского союза в Видерау. Трехцветный — черно-красно-золотой — флаг Жозефина самолично водрузила над верандой харчевни «У трех сосен», где собирались женщины местной группы союза.
Фрау Луиза Петерс, основательница Женского союза, тоже не забыла чрезвычайно живую, несмотря на годы — тогда ей было уже за сорок, — жену сельского учителя из Видерау.
Жозефина Эйснер — полуфранцуженка, необыкновенно энергичная и образованная дама! В ту пору, когда все они уже жили под эгидой Железного канцлера с его «политикой железа и крови», не так просто было быть зачинательницей нового движения. Движения, которому — фрау Петерс верила — суждено расти и шириться. Постепенно постоянно заявлять о себе в руководящих сферах! Оказывать нажим на правительство! Добиться для женщин возможности учиться, иметь профессию и располагать известными правами в государстве…
Фрау Эйснер проявила смелость и решительность, презрев насмешки со стороны мужской половины общества и карикатуры в прессе, изображавшие поборниц равноправия в брюках, с сигарой во рту, читающих газету в то время, как у их ног дерутся их неумытые и нечесаные дети…
Авторитет фрау Петерс, вложившей свою лепту в основание Учительской семинарии для девиц, вероятно, тоже сыграл немалую роль в той благосклонности, с которой директриса Августа Шмидт отнеслась к семье Эйснер. Но, надо думать, что она и сама поддалась обаянию уже немолодой, но полной энергии, прогрессивно мыслящей Жозефины Эйснер. Можно было понять тот жар, с которым мать ратовала за устройство своей шестнадцатилетней дочки. Когда люди становятся родителями в таком возрасте, как супруги Эйснер, их особые заботы о детях понятны…
Старшая дочь Эйснеров Клара — действительно одаренная девочка. Она неплохо знает языки, много читала. В ней есть что-то от симпатичного немолодого органиста с немного сонными маленькими глазами, напоминающими изюминки, на мучнисто-белом, пухлом лице, с ранней лысиной, обрамленной темными завитками. Но гораздо больше от матери: прелестный овал лица, взгляд решительный и полный жизни — фрау Шмидт про себя даже подумала: «огневой», — довольно крупный, выразительный рот.
Фрау Шмидт расположилась к этой девушке значительно раньше, чем услышала из ее уст отлично прочитанные строки «Илиады» и обязательное «Маленький ручей, откуда ты течешь?» на хорошем французском. И даже раньше, чем увидела исписанные твердым юношеским почерком тетради с конспектами лекций по античному искусству.
И Клара тоже с той пылкостью, которая ей была свойственна, прониклась доверием и даже восхищением перед директрисой Августой Шмидт.
Директриса отнюдь не принадлежит к тем «синим чулкам», которые отпугивают мужчин своими упорными стараниями быть на них похожими: Она — вполне светская дама. Свои темные, не поддающиеся седине блестящие волосы она носит разделенными пробором посредине, двумя пышными бандо опускающимися на уши. Пренебрегая мещанскими чепцами, она увенчивает это сооружение крошечной кружевной шляпкой. Черный рюш вокруг шеи скрывает несколько деформировавшийся подбородок, выдающий то огорчительное обстоятельство, что фрау Шмидт уже в летах.
Фрау Шмидт показалась Кларе идеалом педагога. Клару покорили мягкость ее обращения, изысканность языка, доброта без снисходительности, достоинство без чванства и даже манера носить спокойные темные платья, заколотые крупной брошкой под самой шеей. Она была моложе Клариной матери, и случалось — это уже потом, спустя год или два, — когда наставница казалась ей ближе матери.
Клара навсегда утеряла мир своего детства. Светлые леса на склонах холмов, уходящих к отрогам Саксонских гор, зеленые поляны, полные светотеней, словно лукошки с живой рыбой, блестящей на солнце, ливень зелени, низвергающийся с далеких высот к самой Мульдской долине. И деревенский дом рядом со старой церковью — мелодичный бой ее старинных часов каждое утро будил Клару; дом, выходящий двумя окнами в крошечный палисадник, утюжком выдающийся на деревенскую улицу, с кустом сирени и маленькой скамеечкой, сделанной отцом для шестилетней Клары. И друзей детства, босоногих детей ткачей и вязальщиков чулок, обитателей домишек, в которых нищета и опрятность борются в вечной схватке; маленькую церковь, наполненную музыкой так, что, кажется, звучат сами ее седые стены, деревянные панели, лоснящиеся от времени, резные гирлянды потолка и таинственный сумрак, из которого звуки органа выходят, как из другого мира.
Кларе всегда казалось, что в этой маленькой седой церкви никто не молится, а все только прислушиваются к чему-то. И многие слышат… что-то еще, кроме музыки.
Но обретен новый мир! В нем — Иоганнапарк, где тень горбатого мостика падает на лодку, легкую и быструю, как бумажный кораблик; рыночная площадь со старой ратушей, вздымающейся над крутыми черепичными крышами четырех- и даже пятиэтажных домов, с красивыми фонарями, выстроившимися словно солдаты на параде, и вечером, при одном прикосновении палки фонарщика, зажигающиеся удивительным желтым газовым светом. В этом свете кажутся призрачными медленно катящиеся по площади экипажи с господами, одетыми по моде времени в длиннополые сюртуки и узкие брюки со штрипками, с массивными тростями, зажатыми между колен. Дамы в экипажах держат себя куда свободнее, чем это принято в провинции: они громко смеются, то и дело вскидывают лорнет к глазам, затененным нолями шляпы, и нисколько не беспокоятся о том, что их широкие юбки слегка подымаются, позволяя видеть остроносую туфлю с блестящей пряжкой и фигурным каблучком.
Рестораны и кафе выплескивают нарядную и сдержанно гомонящую толпу в садики, освещенные тем же желтым призрачным светом. От него листья деревьев делаются металлическими, а столики, накрытые камчатными скатертями, выглядят, словно присевшие на гравий мотыльки. И в здешних людях тоже есть что-то мотыльковое, беспечное, однодневное.
Ранним утром Лейпциг предстает совсем другим. По тягучему зову гудков в железные ворота бумагопрядилен, сукновален, дубильных, кожевенных фабрик вливается поток бесцветно одетых, бледнолицых, изможденных людей. Здесь не увидишь раздувшегося завсегдатая пивной. И краснощеких молодых людей, фланирующих вечерами по улице Мартина Лютера, среди них тоже не видно. А как много женщин! Клара никогда не думала, что на фабриках работает столько женщин!
Как удивительно! Клара слышала о женском равноправии еще в те далекие времена, когда, прижавшись к коленям матери, она рассматривала ленты на чепцах теток, собиравшихся в деревенской харчевне. Но там не говорилось о женщинах, работающих по четырнадцать часов у ткацких станков, или у типографских машин, или у пивных котлов. А ведь существуют еще дубильни, и красильные цехи с ядовитыми парами, и чулочные — в подвальных помещениях, где и в помине нет такого света, которым залита главная улица города, — там чадят под потолком керосиновые лампы.
В чем же, в чем же оно — женское равноправие? В том, что женщины вправе работать наравне с мужчинами? Наравне с ними калечиться? Как это выглядит в свете того, чему учили Клару с детства ее просвещенные родители и прекрасные книги?
Твердя так и эдак о женском равноправии, тетки в чепцах с красивыми лентами чаще всего говорили о праве женщин учиться и преподавать. А позже — уже тут, в Лейпциге, — о праве выступать в судах, подписывать векселя, участвовать в торговых сделках.
Но женщины, которые спешат поутру на работу, даже самые молодые из них, выглядят старухами. У них серая кожа, и так серо они одеты. Какое ученье? Им надо прокормить своих детей! Почему никто не хочет понять простой вещи: эти женщины не смогут учиться, даже получив право на это! И, конечно же, им плевать на векселя, ведь из торговых сделок им доступна разве только покупка меры картофеля или пакета маргарина…
Клару терзает другая мысль: для этих людей не существует тот мир, который для нее, Клары, имеет огромную ценность, в который ввели ее образованные и передовые родители с самого раннего детства, — мир музыки, книг, мир искусства.
Почему у этих людей отняли Баха и Гайдна?! Если орган и звучит для них в часы церковной службы, то вряд ли они обретают здесь покой и умение погрузиться в музыку, в те ее глубины, где начинается царство гармонии, где переплетаются бегучие, искристые фуги.
Почему у них отняли завлекающий шелест книжных страниц, звучание рифмованных строк, рассказы о чужой жизни, открывающие ее так полно и явственно, словно это твоя собственная жизнь. Возвышенную любовь Ромео и Джульетты, злоключения Дон Карлоса, трагедию Фауста и смешные приключения джентльменов из Пикквикского клуба.
И пусть презренны суетные женские стремления к роскошным платьям и сверкающим камням, но разве зазорно желание женщины хорошо одеться? Но и эти, менее возвышенные, материальные желания недоступны огромному количеству женщин. И мужчин. Тем, кто составляет ту общность, которая зовется «народ». Перед лицом голода, нужды и непосильного труда все равны в битве жизни: мужчины, женщины, дети…
Ужасно далека для них, наверное, та борьба за «право заключать нотариальные сделки» или даже за получение высшего образования, которую так рьяно ведет Женский союз!
Эмансипация женщин! Слова, священные для Клариной матери и ее соратниц…
Но, вероятно, эти слова как-то по-другому оборачиваются для женщин из народа. Народа, который все хотят любить и жалеть и которому никто не может помочь…
Не может? Неужели нет выхода? Или она еще не видит его? Но где его искать?
К кому обратить слова поэта: «Брось свои иносказанья и гипотезы святые. На проклятые вопросы дай ответы нам прямые!»?
А может быть, надо искать ответа в тех шумных сборищах, которые бушуют под низким потолком «Павлина»?
Один раз Клара видела, как оттуда выходил, окруженный мужчинами, Вильгельм Либкнехт. Весь его облик внушал чрезвычайное почтение: продолговатое лицо с чуть впалыми щеками, обрамленное небольшой темной бородкой, благородный прямой нос и темные глаза с внимательным, острым взглядом. На всем Кларе видится печать упрямой мысли и мужества. Она знает, что Август Бебель и Вильгельм Либкнехт выступали в рейхстаге против войны, а контрибуции и аннексии они называли грабежом в государственном масштабе.
Иногда Клара видит госпожу Юлию Бебель, полную красивую блондинку, улыбчивую и очень спокойную. Она слышала, что Юлия Бебель была фабричной работницей. Ей, вероятно, и нужно быть такой спокойной, чтобы уравновесить пылкость своего мужа — другого такого страстного оратора нет в Лейпциге! Юлия Бебель не только помощница своего мужа, она сама — деятельница…
Гейнц рассказывал о выступлении Августа Бебеля в рабочем предместье, в харчевне «У развилки», что на северной окраине Лейпцига. Когда господин Бебель громовым голосом провозгласил, что социал-демократы против угнетения любой нации, что рабочие всех стран — братья, все стали так хлопать и кричать, что хозяин поскорее выскочил наружу посмотреть, не спешит ли сюда полиция. И как раз вовремя: драгуны уже скакали к харчевне, но их лошади подняли такую пыль на проселочной дороге, что господин Бебель незаметно вышел через черный ход, а собравшиеся обратились к своему пиву. И вообще выяснилось, что тут празднуют день святой Катарины…
— Ты знаешь, — сказал Гейнц, — нужно употребить много хитрости, чтобы сказать людям правду. Даже если эта правда исходит из уст депутата рейхстага. На собраниях рабочих можно услышать смелые речи, и если бы сбылись все высказываемые тут пожелания, Железный канцлер давно бы свалился с катушек!
Вот как? Значит, эти собрания совсем не то, что заседании Женского союза?
Клара недолго думает:
— Гейнц, я хочу послушать, что там говорят, в этой «Развилке».
— Что ты, Клара! Там честят хозяев такими словами, которые не для уха молодой девушки. И вообще женщины…
— Я переоденусь парнем, — перебивает Клара.
В самом деле, чего тут! У себя в Видерау она надевала штаны и блузу, когда у них разыгрывались сражения на лесной поляне. И десятки раз она, одетая в мужской костюм, играла в школьных спектаклях роль свободолюбивого швейцарца из пьесы об Арнольде Винкельриде.
Гейнц почесал затылок:
— Если бы тебе пришелся впору костюм, из которого я давно вырос…
Она всегда знала, что Гейнц — отличный товарищ.
Гейнц запрягает своего пони Мауса в легкую тележку-двуколку.
— Чего это ты там подмащиваешь сена, словно — хо-хо! — боишься зад отбить? — кричит ему из-под навеса Маркус-бондарь.
— Набил бы лучше железный обруч на свою глотку! — отвечает Гейнц и, щелкнув языком Маусу, выезжает со двора.
Сумерки. На безлюдном перекрестке в условном месте переминается с ноги на ногу мальчишка. Гейнц едва узнает Клару — недаром она увлекается театром!
Ее светлые волосы выбиваются из-под картуза, как у заправского подмастерья, а короткие штаны и куртка, порядком потертые, не по ней, но такой неказистый мальчишка вполне может щеголять в одежде старшего брата. Тем более что и «брат» присутствует тут же в своем затрапезном пиджачке.
— Ты будешь звать меня Карлхен, слышишь? Не спутай! — приказывает она.
Отчаянная девчонка! Если бы уважаемая фрау Эйснер или почтеннейшая госпожа Августа Шмидт узнали? Лучше не думать, у него, откровенно говоря, и так все поджилки трясутся.
Она по-мужски прыгает в двуколку и перехватывает у Гейнца вожжи:
— Маус, вперед!
Тележка тарахтит по крупному булыжнику окраины, вот уже не видно и шпиля ратуши позади. Они бойко катят по узкой дороге между каменными оградами фруктовых садов, усеянными поверху острыми стеклянными осколками, — от воров! Разноцветные стекляшки, накрепко вмазанные в глину, красиво выглядят на фоне листвы, хотя это всего-навсего — зрелище алчности садовладельцев.
Обоим очень весело трястись так по пустынной проселочной дороге, подымая облака ныли и подпрыгивая на ухабах. К тому же Клара — Карл, Карлхен! — нарочито хриплым мальчишеским голосом запевает озорную песню:
— На лесной полянке девушка-смуглянка…
Гейнц охотно вторит, не обладая ни голосом, ни слухом:
— Деревенскую польку пляшет под шум листвы…
И оба вразброд, но с жаром вытягивают:
— Ах, почему же, ах, почему же пляшет она без музыкантов, совсем одна?..
Вопрос этот остается невыясненным, потому что Маус отказывается войти в ручей, преграждающий дорогу, хотя преграда чепуховая — весь ручеек можно переплюнуть с берега на берег.
— М-да… — Гейнц почесывает макушку рукояткой кнута, но Клара уже спрыгнула на землю и разувается. Оба закатывают штаны и почти переносят Мауса через «страшный» поток. Пони дрожит мелкой дрожью и озабоченно отфыркивается.
— Ты удачно назвал его, в самую точку! — говорит Клара. — Это самый трусливый пони на свете[1].
Субботний вечер. «Развилка» трещит по всем швам от многолюдства. В большинстве — тут ткачи с фабрики Ротберга, находящейся неподалеку. Их можно сразу распознать по тому, как громко они говорят, то и дело прикладывая к уху ладонь. Кузнецы тоже здесь. Хотя они сменили свои кожаные фартуки на грубошерстные пиджаки, темные руки в рубцах ожогов и слезящиеся глаза выдают их.
Хозяин «Развилки» стоит за стойкой, заткнув бороду за бархатную жилетку, чтобы не мешала, и сосредоточенно разливает бочковое пиво. Круглые желтые глаза его время от времени обегают помещение.
— А… Гейнц! — кричит он, завидев вошедших. — Как здоровье папаши Корнелиуса? Эльза, поставь еще две табуретки к столику у окна.
Хозяин напоминает сову крупным крючковатым носом и каким-то птичьим хохолком над низким лбом. Молоденькая девушка, проворно снующая по харчевне, похожа на отца, как совенок — на старую сову.
Клара сочувственно следит за тем, как быстро она двигается в тесноте между столиками, убирает пустые кружки и заменяет их полными, не забывая подкладывать под них новые картонные подставочки, по которым ведется счет выпитому.
С длинными учтивыми извинениями молодые люди устраиваются за столиком.
— Скажи спасибо Гейнцу! — громогласно объявляет сидящий за ним груболицый человек. Его голова, совершенно лысая и блестящая, похожа на шар, которым сбивают кегли.
— За что же я должен говорить ему спасибо? — спрашивает хозяин смешливо, в ожидании какого-нибудь подвоха.
— За то, что он посещает твою паршивую пивную, набитую бедняками, как перина — перьями. Когда Гейнц станет хозяином «Павлина», он будет подавать тебе только два пальца, как это делает наш мастер!
Все кругом смеются. Гейнц густо краснеет. Клара обижена за него: он никогда не будет гордецом! Разве он не смеется вместе с ней над чванной Бертой — дочкой мукомола Шманке?
Про Гейнца забывают. Продолжается разговор, отдельный за каждым столиком, но вместе с тем как бы и общий.
Больше других волнуется пожилой человек с крупной бородавкой на носу. Жестикулируя, он то и дело повышает голос, так что его слышно и за соседними столиками.
— Подавись он своей лавкой! Я лучше буду подыхать с голоду, чем покупать это дерьмо! — кричит он фальцетом.
— Все равно с тебя вычтут, не за то, так за другое, — меланхолически замечает его собеседник, прихлебывая пиво из литровой кружки.
— Тебе хорошо: ты одинокий…
— Правильно, правильно, Фриц. Он может прожить на одном пиве! — перебивает лысый остряк.
— А мне надо кормить шестерых, — доканчивает пожилой. — А эти лавки — чистое свинство! Когда это было видано, чтобы принуждали закупать в фабричной лавке? На черта мне ихняя файнлебервурст[2], если я могу купить просто лебервурст, не тратя лишку за одно слово «файн»!
— Э… Фриц! Зато «файн» тебе записывают в книжку, а денежка остается у тебя в кармане, — лениво басит собеседник.
— А в получку сдерут втридорога! — вставляет кто-то. — Для того и заведены эти лавки, чтобы драть с нас семь шкур!
— Что же получается? — кричит Фриц. — Что мы опять в дураках! И так приходишь домой с пустым карманом после всех поборов.
— Держись, Фриц! Скоро Железный кирасир[3] введет налог на бородавки! — объявляет лысый под общий смех.
Да, они смеются, хотя в общем-то им не до смеха. Но почему-то всюду, где собираются простые люди, всегда звучит шутка, часто горькая. И беззлобная насмешка друг над другом… Здесь, в этой харчевне, как будто собралась одна семья.
Среди общего шума вскакивает на стул парень в вельветовой куртке. Он говорит горячо, с резким саксонским выговором:
— Если мы, ткачи, возьмемся за дело дружно, как взялись кожевники у Гашке, то добьемся, чтобы нам не всучивали в кредит тощие сосиски, за которые с нас потом дерут, как за страсбургские паштеты. У нас есть только одно средство борьбы…
Его слова тонут в плеске ладоней и выкриках. В шуме, однако, ясно слышится: «Бастовать!»
Оратор, сложив ладони рупором, выкрикивает:
— Сейчас вам скажет слово Курт!
Мгновенно в зале воцаряется тишина. Все смотрят на плечистого молодого человека с темной шевелюрой над высоким лбом. Расправив плечи и откашлявшись в руку, он начинает говорить звучным голосом опытного оратора.
Он рассказывает об успешной борьбе рабочих за свои права в разных городах Германии.
— И как вы думаете, что здесь сыграло главную роль? Организованность! В одиночку хозяин скрутит каждого, но все вместе мы — сила! Каждый день забастовки стоит хозяину таких денег, что он волосы на себе рвет…
— Нашему Ротбергу нечего рвать: у него голова, как коленка, — замечает кто-то.
— Тише! Дайте слушать!
Клара не все понимает в речи оратора, хотя схватывает главное. Недавно закончившаяся война была на руку владельцам фабрик, крупным акционерам.
Они держат в руках всю промышленность страны и диктуют свои законы. Кто же может противостоять наступлению на рабочие права? Только организация рабочих!
Вот это да! Это Клара одобряет!
Но тут в помещение влетает парнишка, который крутился у коновязи, когда Гейнц распрягал Мауса.
— Скачут! — кричит он.
Но никто не встает с места, и Курт заканчивает свою речь. Только тогда хозяин уводит его куда-то за стойку. И теперь Клара замечает спутника Курта, который идет вместе с ним. Он и раньше сидел здесь, но Кларе была видна только его широкая спина в сером пиджаке и шапка темных густых волос. Теперь она видит его лицо и сразу узнает его. Да и трудно не узнать: такое лицо запоминается, если даже мелькнет перед тобой в толпе!
…А она в тот вечер сидела совсем близко от него, на галерке. И не то чтобы он поразил ее красотой — хотя, конечно же, был красив, очень красив! — во всем его облике являлось мужество и благородство. Правильные черты лица не скрывались густой, вьющейся по щекам и подбородку бородой, но как бы выступали из нее. Только на миг перехватила Кляра его взгляд, тотчас притушенный густыми темными ресницами. «У него глаза, как у пророка, — подумала Клара. — А фигура, как у грузчика!» — добавила она, подавляя в себе какое-то волнение, вызванное этим сухим, горячим взглядом. Поднялся занавес, но даже увлеченная действием пьесы, она все время чувствовала, что этот человек здесь, и почему-то радовалась тому, что он вместе с ней слышит высокий звенящий голос Луизы: «О, Фердинанд, ты зажег пожар в моем юном, безмятежном сердце, и уже ничто, ничто его не потушит». В антракте она поискала незнакомца глазами, но не нашла его.
И теперь, когда он пошел за Куртом, как бы прикрывая его своей широкой спиной и зорко оглядываясь, Клара заметила, что этот человек гораздо моложе, чем ей показалось с первого взгляда. Ему было не более двадцати пяти.
«Мне ведь тоже уже семнадцать», — Клара сама удивилась этой мысли.
Курт и его спутник исчезли, и в трактире все сразу переменилось: составленные вместе столы раздвинули, люди вернулись к своему пиву, а за столом, где сидел Фриц с бородавкой, шестеро мужчин, взявшись под руки и ритмично раскачиваясь на стульях, завели:
— На лесной полянке девушка-смуглянка…
— Ах, почему же, ах, почему же… — закатывая глаза и дирижируя огромной лапищей, домогался лысый.
— Я думаю, в самый раз нам податься в обратный путь! — шепнул Гейнц и положил деньги на картонную подставочку.
У дверей им пришлось посторониться, чтобы пропустить двух жандармов, которые, выпятив грудь и заложив руки за борт мундира, победоносно звеня шпорами, вступали в «Развилку», словно на плац. Риторический вопрос насчет «одиночества смуглянки» зазвучал еще громче.
Клара и Гейнц отъехали совсем немного, когда оба жандарма перегнали их на своих сильных, холеных лошадях. Лица у них были подозрительно красными, и они не очень ловко держались в седле.
…Это были еще не очень строгие времена. Времена — до исключительного закона, который скоро разметет патриархальных жандармов и упрячет под замок дерзких шутников, изгонит из страны «нежелательных иностранцев» и поставит знак равенства между требованиями предпринимателя и государственной необходимостью. Те времена, когда молодые функционеры молодой Социал-демократической рабочей партии Германии несли в пролетарские массы великие идеи Маркса и Энгельса. Когда в рейхстаге гремел убедительный голос Августа Бебеля, воздающий хвалу парижским коммунарам. И трудно было протиснуться в зал культурферейна, где Вильгельм Либкнехт, затянутый в черный сюртук, с наружностью профессора и с ораторским блеском немецкого Демосфена, звал на борьбу за изменение мира под знаменем Маркса.
Те времена, когда бежавшие из темниц свирепого деспота Александра Второго русские революционеры находили приют в просвещенном Лейпциге, городе муз и мудрости, овеянном прекрасными легендами, под сенью холма Трех монархов и городской ратуши XVI века…
Да, это были еще не очень строгие времена.
Но мудрость великих прозорливцев века уже сулила кровавые и решающие битвы восходящему классу, классу-гегемону, который написал на своем знамени: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
…На обратном пути Клара была задумчива и молчалива. Но Гейнц ничего не замечал: он был слишком счастлив!
Как в тумане видел он уснувшие дома окраины с закрытыми на ночь ставнями, в которых изредка слабо светились вырезанные в них сердечки. «Ах, они светятся так тепло и нежно, как мое сердце!» — думал Гейнц, который был чувствителен, как и полагалось восемнадцатилетнему ученику коммерческой школы в те времена, когда коммерция вовсе не предполагала качеств, которые станут совершенно необходимыми для деловых людей позже, очень скоро…
Как в тумане видел он скучный каменный дом на Мошелесштрассе и ловкую девчонку в его старых штанах, вскочившую на выступ панели. Клара нажимает на створку, окно бесшумно распахивается. Вот она уже перемахнула через подоконник. «Доброй ночи, Клара!»
Впрочем, туман и в самом деле стелется по улице, он подымается все выше. Скоро, пожалуй, Гейнц перестанет видеть уши Мауса, которыми пони прядет, предвкушая близость стойла.
Гейнц счастлив. Тому есть причина, которую он не откроет ни одному человеку на свете! В той глухой тюрингской деревушке, где он вырос и откуда привез его папаша Корнелиус, потерявший двух сыновей во время эпидемии, чтили приметы старины. Если девушка в новогоднюю ночь или просто шутки ради переодевалась в одежду парня, то, как пить дать, раньше или позже, она обязательно выходила замуж именно за него. А не за кого-нибудь другого!
С такой счастливой уверенностью Гейнц завалился на сеновал и тотчас заснул. Он ничего не заметил, слепой, как крот, в этой своей приверженности к тюрингским предрассудкам.
Глава 2
Пожелтели только одни клены. И отдельными прядками — березы. Все остальное зелено и свежо: лето выдалось дождливое.
Фрау Шмидт любит воскресные поездки в обществе своей любимой воспитанницы.
Они расположились в тени на склоне пологого холма, подножие которого омывается светлым ручьем. Фрау Августа помнит этот ручей полноводной речкой, но с тех пор, как здесь понастроили все эти красильно-прядильные заведения и стали отводить воду куда кому вздумается, осталась только бедная струйка между берегов, поросших полевыми скабиозами, мелкими лесными ромашками и диким щавелем.
Фрау Шмидт перебирает спицами и слушает Клару. У девочки прекрасное произношение. Ее английский вовсе не похож на тот, хотя и правильный, но тяжеловесный и чересчур, что ли, обстоятельный язык, по которому обычно за километр слышно немца.
И стихи она читает отлично. Кто ее научил этой благородной манере без малейшей аффектации и модных перепадов тона, якобы передающих диалектику стиха? Впрочем, она же посещает все лучшие театральные представления.
Клара читает, а фрау Шмидт машинально перебирает спицами, с удовольствием слушая знакомый текст:
Блистательный мне был обещан день, И без плаща я свой покинул дом. Но облаков меня догнала тень, Настигла буря с градом и дождем. Пускай потом, пробившись из-за туч, Коснулся нежно моего чела, Избитого дождем, твой кроткий луч,— Ты исцелить мне раны не могла…«Что ждет эту девушку, — думает директриса, — такую нежную, эмоциональную и талантливую? Как сложится ее жизнь?» Жизнь, которая уже нанесла ей первую рану: год назад скончался отец Клары.
Люди склонны обожать тех, кому они сделали добро. Фрау Шмидт сделала так много для Клары Эйснер, что девушка стала как бы материальным свидетельством необыкновенной доброты директрисы. Августа Шмидт в самом деле была женщиной высокой гуманности, вкладывавшей всю себя в воспитание юных педагогов. Но при этом ей всегда было необходимо, чтобы ее вклад давал ощутимые проценты. Нет, фрау Шмидт была далека от меркантильности. Она не требовала никакого, даже духовного возмещения. Ее бы оскорбило выражение признательности, в какой бы то ни было форме, даже словесной…
Лучшей благодарностью Августа Шмидт почитала счастье своей подопечной, ее уверенность в своей дальнейшей судьбе, уготованной ей стараниями фрау Шмидт.
Клара Эйснер стала ее самой любимой ученицей. В этой девушке сконцентрировался, казалось, весь ее педагогический успех. В самом деле, она разглядела в Кларе натуру на редкость одаренную, входившую в любую отрасль знания с таким жаром, словно именно тут пролегала «дорога ее жизни». Августа Шмидт любила это образное выражение: «дорога жизни». Ее собственная дорога была прямой и достойной. Она боролась за высшее благо женщины: ее права в государстве. Нисколько не подозревая, что для осуществления ее прав необходимо разрушение самого буржуазного государства!
Она искренне желала своей питомице тех жизненных удач, которые могла обозреть своим взглядом: разве не было удачей для дочери бедных родителей Клары Эйснер поступление в такое блестящее учебное заведение, как лейпцигская Учительская семинария? А затем ей открыта «широкая дорога жизни». Под ней подразумевалось право и реальная возможность быть воспитательницей детей и подростков в самых лучших домах Германии и даже других стран.
Марка учебного заведения фрау Шмидт котировалась так высоко, что выпускницы охотно выписывались богатыми людьми Швейцарии, Италии, России. Домашняя учительница из лейпцигской семинарии — это говорило о респектабельности дома, а домашнее образование в ту пору высоко ценилось — в полном соответствии с полной недоступностью его для низших классов!
Директрисе, зорко следившей за развитием своей любимицы, была не по душе ее дружба с Варварой Курбатоф. Правда, это девушка из хорошей семьи, дочка русского врача, который давно уже поселился в Лейпциге. И не удивительно: в Германии много выходцев из жестокой, варварской страны с ее диким абсолютизмом, с ее свирепым режимом, немыслимым для немцев с их свободолюбивой и нежной душой!
Но Варвара не может служить примером для Клары: вряд ли дочке преуспевающего врача придется зарабатывать себе на жизнь. А Кларе — увы! — придется. Фрау Шмидт была известна ровностью отношения к своим питомицам. Но в глубине души она больше благоволила к тем, кого ждали жизненные трудности.
Клара могла бы быть ее преемницей: нет сомнения, что она педагог «божьей милостью»!
И внешние данные у нее как нельзя более подходят к этой профессии. При среднем росте она кажется высокой, так прямо она держится и так хорошо несет свою крупную голову с крутым лбом и ясными глазами. Педагог должен иметь привлекательный вид, когда стоит на кафедре. Но еще важнее — хорошо поставленный голос, дикцию, ораторскую хватку, не позволяющую слушателям отвлекаться или дремать. Всем этим, это уже сейчас видно, обладает Клара. И это, несомненно, пригодится ей в жизни…
Бедная фрау Шмидт! Она вовсе не подозревает, в какой степени она права и в какой степени заблуждается!
Что же касается Клары, то ее мысли прямехонько от сонетов Шекспира приводят ее к русской подруге Варваре. Именно она недавно ввела Клару в среду студентов, занимающихся социальными вопросами в кружке, скромно названном «Обществом любителей гребли». Эти молодые люди и в самом деле воскресными днями охотно гоняли по реке остроносые гички.
Кларе в то время не приходило в голову, что она стала на «путь сомнений». Ведь Августа Шмидт учила добру и справедливости, а в горячих обсуждениях новые Кларины друзья как раз стремились выяснить, как следует добиваться этой справедливости, поскольку надежды на самотек тут явно терпели крах и, как сказал поэт, красота цветет лишь в песнопенье, а свобода — в области мечты…
Клара уже поняла, что фрау Шмидт не склонна к конкретности в таких вопросах. Клара приписывала это особому складу характера наставницы, часто называвшей Клару «фантазеркой».
Солнце стояло уже высоко, и лучи его прокалывали шапку листвы. Женщины собрали свои корзиночки с шерстью для вязанья, томиком сонетов Шекспира и бутербродами в красивой коробочке и по утоптанной тропинке отправились к маленькому кафе, расположившемуся в уголке настолько живописном, что даже реклама: «Акционерное общество «Геракл». Ванны, умывальники, унитазы» — казалась лишь деталью пейзажа.
Они уселись под деревьями за столик, накрытый красной клетчатой скатертью, аккуратно прижатой по углам камушками, безусловно вымытыми с мылом, и заказали кофе. Ослепительно белые чашки, кофейник с губчатой красной розочкой на носике, чтобы не ронять капли, сахарница из накладного серебра — все уместилось на подносе, который поставила на стол хозяйка.
Она обменивается с фрау Августой несколькими фразами: обычные расспросы о здоровье и семейных делах и жалобы на то, что окрестности сильно страдают от промышленных предприятий, что фабрика по выделке кроличьих шкурок окончательно оттягала у магистрата участок, носивший поэтическое название «Царство роз». И по всей видимости, кафе придется закрыть. Клиенты, приезжавшие из-за «Царства роз», вряд ли захотят дышать ароматами кроличьей фабрики.
— Может быть, вам поискать другое красивое местечко в окрестностях? — сочувственно предлагает фрау Августа.
Но хозяйка безнадежно машет рукой:
— Ax-во! При нынешних спекуляциях земельными участками… И где гарантия, что, когда мы выправим патент и устроимся в новом месте, тай тоже не начнут обдирать шкуры, если не с кроликов, то с кого-нибудь другого…
Пока они пьют кофе со своими бутербродами, к кафе бодро приближается группа молодежи. Есть нечто неприемлемое для фрау Шмидт в этих девицах, уже достаточно взрослых, но тем не менее резвящихся, словно подростки. Их юбки, хотя и достаточно длинны, но не обшиты внизу лентой-щеточкой. Это признак некоторого вольнодумства. И волосы у этих девиц подстрижены коротко и небрежно. Что касается молодых людей, то они представляют тот новый тип студентов, который теперь постоянно встречается и под сводами Августеума, и на галерке театров. Нельзя сказать, что в них есть что-то оскорбляющее глаз и чувства. Нет. Фрау Шмидт сама терпеть не может аристократических хлыщей в их дурацких шапочках со значками корпораций. Они надменно носят на лицах дуэльные шрамы как штандарты своего фанфаронства. Но зато у этих — неприятная «критикастность». И главное — в них нет того, что отличало раньше немецких студентов: горения, святого порыва к знаниям, сознания некоторой, можно сказать, святости своего звания студентов… Легкомысленно проводя ночи в лейпцигских и гейдельбергских кабачках, веселые бурши прошлого сохраняли романтичность своего причастия к пауке или искусству.
Эти же всем своим внешним видом и манерами как бы говорят: «Ну, уж как-нибудь отбудем эту скучищу!» — или как они там называют лекции.
Между тем компания уселась за столик неподалеку.
— Гуго, что ты там высмотрел? — закричал очкарик с редкой, как у монгола, бородкой.
Гуго отозвался мрачно:
— Я размышляю.
Все покатились со смеху. Потому что он остановился как раз перед рекламой «Геракла».
Гуго продолжал:
— Силюсь понять, почему фирма, выпускающая унитазы, носит столь античное имя.
— Очень просто, — ни на минуту не задумываясь, объявил «монгол», — это намек на Авгиевы конюшни.
Он сиял очки и, держа их в руке, менторским тоном затянул:
— Уважаемые дамы и господа! Наша фирма уходит корнями в седую древность, когда великий Геракл напустил полную конюшню воды, и она унесла столетиями копившийся там — pardon! — навоз. Наши несравнимые унитазы — восприемники…
— Прекрати сейчас же, мы не одни здесь! — закричали, хохоча, девушки.
«Монгол» надел очки и обвел глазами кафе.
— Да это же Клара! — непринужденно воскликнул он.
Тощая девица, тоже в очках, без шляпы и без перчаток, дотронулась до его рукава и глазами показала, что Клара не одна. Нет сомнения, что они узнали и фрау Шмидт, однако никто не поклонился ей, считая, видимо, это не обязательным. А вот в ее времена молодые люди обязательно кланялись людям, известным в городе, независимо от того, были ли они представлены им…
Клара повернула голову: лицо ее порозовело. Она быстро спросила:
— Можно, я подойду к ним?
И поднялась, не дослушав такого же поспешного ответа наставницы:
— Разумеется, дитя мое!
Фрау Шмидт, конечно, не позволила себе посмотреть в ту сторону, но она услышала слова Приветствий, шутливые, свободные: видно, что Клара с ними, как говорится, на короткой ноге.
Ну и что ж! Молодость есть молодость! Но кажется, Кларе интереснее с этими… чем с ней, ее наставницей? В этой мысли было для фрау Августы что-то оскорбительное. Значит, между ней и Кларой лежит незримая черта? Значит, «эти» ей ближе, чем она? Но разве любой из них и все вместе они могут дать Кларе то, что дает ей она и будет давать всегда, пока дышит?..
О, как я дорожу твоей весною, Твоей прекрасной юностью в цвету. А время на тебя идет войною И день твой ясный гонит в темноту,— мысленно прочла фрау Шмидт.
Но Клара вернулась такая спокойная, так естественно и мило объяснила, что это — ее знакомые по «Обществу любителей гребли», что фрау Августа, если и не забыла свои неприятные мысли, то отодвинула их. Так забрасывают в дальний ящичек секретера неприятное письмо или счет, который невозможно оплатить, но все-таки когда-нибудь придется…
А Кларе и в голову не приходило, что она вызвала смятение в мыслях наставницы.
Она стояла на краю обрыва. Отсюда глубина его виделась странно: как будто в зеленой чаше, наполненной сочной зеленью, не было дна. Как будто зеленые волны, колеблемые ветром, были бесконечным миром.
Блистательный мне был обещан день…Клара не знала, вслух или про себя произнесла эти слова, но они вспыхнули в ней мгновенным и счастливым ощущением полноты жизни.
Примерно в это же время в трактире «Бронзовый олень», находившемся на плохом счету у полиции, было задержано несколько молодых людей за «противозаконные речи». Осип Цеткин фигурировал в полицейском протоколе как «двадцатишестилетний выходец из Одессы, подмастерье столяра», что полностью соответствовало действительности. А то, что мастером, у которого жил и работал Осип Цеткин, был функционер Социал-демократической рабочей партии Мозерман, — этому как-то не придали значения — по тем временам. И то, что Осип Цеткин хотя и занимался столярным делом, но в гораздо большей мере пропагандой марксизма среди интеллектуальной молодежи, — тоже до времени осталось за чертой полицейского внимания. И так как «противозаконные речи» были представлены безобидной болтовней за кружкой пива, молодые люди провели ночь в участке, в обществе одного мертвецки пьяного извозчика и трех карманников, а наутро были уже на свободе.
Благодаря этому Осип Цеткин смог выполнить свое обещание: прийти к знакомому студенту, на квартире которого собиралось «Общество любителей гребли», по существу занимавшееся социальными вопросами.
Клара Эйснер посещала этот кружок. Она слушала рефераты со множеством цифр, убедительно показывающих обнищание низших слоев общества и процветание высших; называлось множество фактов, доказывающих безнравственность богатых и духовное преимущество бедноты…
В то время, когда высокая нескладная девушка с мужской стрижкой испуганным голосом читала свое сообщение, близко поднеся к близоруким глазам мелко исписанные листочки, Клара почувствовала на себе чей-то взгляд. Повинуясь ему, она обернулась. Молодой человек не успел отвести глаза, а может быть, не захотел этого сделать. Глаза были синие, пристальные и рассеянные одновременно. Лицо с впалыми щеками и высоким лбом, обрамленное курчавой бородой, было тем же: лицом пророка. Пророка с галерки Штадттеатра, пророка из харчевни «У развилки»…
Убедившись в этом, она отвернулась, продолжая ощущать спиной этот его странный взгляд. Потом, украдкой, Клара рассмотрела незнакомца получше. Он слушал реферат испуганной девицы без всякого одобрения и даже чуть иронично.
Клару это оскорбило. Но в ту же минуту ею вдруг овладело какое-то новое настроение, какой-то бес сомнения вдруг стал нашептывать ей в самое ухо то, что раньше — до беса! — ей и в голову не приходило.
А не слишком ли часто испуганная девица тревожит тени древних, углубляясь в столь далекую эпоху в поисках примеров добродетели и мужества? Не переслащен ли реферат высокопарными обращениями к абстрактной Доброте и абстрактному до пределов бесплотности Человеку? И вообще, не пора ли ей закончить?..
Неужели такие мысли могли появиться у нее единственно из-за явной иронии на лице незнакомца? Или они зрели в ее голове и раньше?
Гюнтер Пельцер, забавно напоминающий монгола своей редкой бороденкой и узкими глазами за стеклами очков, догнал Клару. Он был не один.
— Знакомьтесь! Это Клара Эйснер, любознательная и восторженная кандидатка в воспитательницы молодых бездельников из самых лучших семей! — дурашливо провозгласил Гюнтер.
— Осип Цеткин, — назвал себя незнакомец. Он показался Кларе другим, чем виделся в театре и в «Развилке».
— Гюнтер по обыкновению приврал, — резко сказала Клара, — я вообще не склонна к восторгам!
Цеткин улыбнулся:
— Оставим восторги обществу гребцов-социологов!
Гюнтер хлопнул Осипа по плечу:
— Ты признаешь какие-нибудь авторитеты?
— Да, — ответил тот.
Улыбка не сняла серьезного выражения его лица.
Гюнтер смотрел на него с любопытством и, подзадоривая, продолжал:
— Вы все — узкие, как футляр от флейты. Учение Маркса…
— Учение Маркса широко, как мир, — сказал тихо Цеткин, и Клара удивилась, что эти слова не прозвучали высокопарно. Почему же? И тут же сама ответила на этот вопрос: в них была такая убежденность…
— Вам не понравился реферат? — спросила Клара Осипа, просто чтобы слышать его еще.
— Нет, почему же? — Осип посмотрел искоса на Клару и, состроив постную мину, поджав губы, пролепетал:
— Служение добру — вот дело, которому служат слуги добра, вопреки слугам зла, служащим злу. Это служение…
Гюнтер, смеясь, прервал:
— Ты злой, однако!
— Конечно, — ответил Осип, — искусство ненавидеть — это то, с чего начинается настоящий человек.
— А искусство любить? Или это даже не искусство? — быстро спросила Клара.
— Любить умеет только тот, кто умеет ненавидеть! — сказал Цеткин. Он опять улыбнулся, уже на прощанье, и, коснувшись пальцами своей широкополой шляпы, свернул в переулок.
Сама не зная почему, Клара не задала Пельцеру ни одного из вопросов, вертевшихся у нее на языке.
Он разделил участь многих русских революционеров своего поколения, а также их ошибки. В царских тюрьмах определилось его мировоззрение. Идеалы «Народной воли» открылись ему как прекраснодушные мечтания, а отчаянность террористических устремлений показалась столь же эффектной и малоэффективной, как самосожжение религиозных фанатиков. Его дорога к марксизму была нелегкой. Она привела его к определенному рубежу, и он занимал этот рубеж так прочно, что это вызывало уважение.
Вскоре Клара стала участницей нелегального кружка, которым руководил Осип Цеткин. Здесь изучали теорию Маркса и Энгельса, предлагавшую вместо требований реформ, прекрасно отточенных десятилетиями бесплодных компромиссов, коренное переустройство общества.
Клара была потрясена масштабностью идей, которые открывались ей в речах нового наставника, произносимых со страстью пророка, логикой ученого и с русским акцентом, странным образом усиливавшим убедительность этих речей.
В тот год Клара блестяще сдала выпускные экзамены в Учительской семинарии. Теперь перед ней открылась «дорога жизни», «сбылись мечтания». Но излюбленные ее наставницей выражения вызывали теперь у Клары некоторый привкус горечи. Она стала учительницей — она мечтала об этом с давних пор. Формировать сознание молодого человека, помогать его росту — воспитывать! — какая благородная задача! Но между благородной миссией и возможностью ее осуществления — целая пропасть!
В самом деле: что ее ожидает? На что она может рассчитывать? На место домашней учительницы, гувернантки в «лучших домах». Конечно, она приложит все свои знания и педагогические навыки, приобретенные в стенах блестящего заведения, чтобы не только обучать, но и воспитывать в своих питомцах лучшие человеческие качества.
Но удастся ли это? Она уже имела достаточный жизненный опыт, чтобы удостовериться в глубине разрыва между имущими кругами и народом. Только единицы могли преодолеть этот разрыв. Не будут ли уроки жизни, преподанные молодой гувернанткой, забыты, как только волны действительности примут ее питомцев на свой гребень?
Ну хорошо! А чего бы она хотела? Да, конечно, в детстве она мечтала об участи Жанны д’Арк или видела себя в рядах швейцарских повстанцев. Но в эпоху картелей, банков и биржевых спекуляций подвиг, о котором мечтала Клара, облекался в другие формы. Она еще не знала какие. Она еще не знала, каким оружием должна владеть, но уже ясно видела своего противника. И с такой же точностью угадывала, что борьба с ним будет смыслом ее жизни. Эта борьба будет более упорной и более опасной, чем битва с одним человеком или даже со многими людьми. Потому что она будет борьбой с системой, которая включает в себя все, что ненавидела Клара.
Но как вольется усилие скромной гувернантки в могучий поток, которому предназначено смести старый мир, — этого она не знала.
Таким образом сомнения омрачали первые ее самостоятельные шаги на «дороге жизни». И не только сомнения.
Лейпциг — большой город. Вместе с тем он удручающе провинциален.
Сплетня, плескавшаяся в мещанских кварталах на уровне дворовой лужи, доходила в виде «компрометирующих слухов» до гостиных, где встречались деятельницы Женского союза. Фрау Луиза Отто Петерс, так много сил и вдохновения отдавшая организации Учительской семинарии для девиц, очень ревниво относилась к репутации всего заведения и каждой из воспитанниц.
Фрау Петерс раньше других не без сожаления отметила, что патриархальность нравов заметно убывает, размывается деловитостью и модной безапелляционностью. Если раньше — что иногда случалось — возникали какие-нибудь слухи вокруг молодой особы, пользующейся покровительством уважаемых деятельниц города, то это было локальное дело. Дело, возникавшее в узком кругу и в нем же затухавшее. Теперь же каждое лыко ставили в строку именно им, деятельницам женского движения.
Выходило так, что, требуя женского равноправия, они должны были гарантировать нравственную безупречность всей женской половины рода человеческого. Всякое «женское нарушение» инкриминировалось именно им, поборницам равноправия.
Учитывая все эти сложности, фрау Петерс ужаснулась, услышав о том, что выпускница семинарии Клара Эйснер вступила в сношения с «партией цареубийц», что она встречается с русскими политическими эмигрантами. Она ужаснулась, предвидя, что поведение Клары бросит тень на все женское равноправие!
Была призвана фрау Шмидт, на которую сообщение патронессы произвело впечатление разорвавшейся бомбы.
Ее воспитанница Клара Эйснер, ее любимица, которая обязана ей всем, Клара, которая в день выпуска пришла к ней с букетом роз и сказала так искренне и прочувствованно: «Никогда, никогда я не забуду всего, что вы для меня сделали!». Как возможно? Клара с ее ясным умом, с ее правдивостью и стойкими моральными принципами! Истинно немецкая девушка, дочь Саксонии, чистая, как вода ее рек, и скромная, как ее луга в неярком убранстве полевых цветов…
Фрау Шмидт обещала все выяснить: естественно, что она несла ответственность за своих воспитанниц перед обществом.
Посыльный — подросток в шляпе с обвитой вокруг тульи лентой, указывающей на его высокое должностное положение, — принес Кларе запечатанное личной печатью фрау Шмидт письмо. Она просила Клару навестить ее. Клара встревожилась: фрау Августа страдала мигренями, иногда подолгу не вставала с постели.
Клара отправилась тотчас же.
Какой отрадой души был для нее серый дом в глубине сиреневого сада! И высокая клумба, пламенеющая каинами, с гипсовым гномом в красном колпачке посередине. Как знакомо скрипнула садовая калитка, словно произнесла слова приветствия! Окна крытой веранды были распахнуты, и Клара увидела, что цветы с подоконников стояли внизу на земле, мокрые от недавно прошедшего дождя. И почему-то именно это заставило Клару смутиться: она всегда помогала фрау Августе выносить под дождь комнатные цветы. Сегодня ее наставница сделала это сама.
Но фрау Августа вовсе не выглядела больной. На ней была, как всегда, ослепительной белизны блузка, а складки суконной юбки располагались аккуратно, как на манекене.
— Слава богу, вы здоровы! — искренне обрадовалась Клара.
— Спасибо, Клара! Я здорова, но очень огорчена, — проговорила фрау Августа, хотя вовсе не собиралась начинать с ходу, а хотела прежде расспросить Клару, почему-то уверенная, что она по собственному почину покается во всем.
Наступило мгновение, когда сладкая уверенность в этом наполнила душу фрау Августы: Клара порывисто бросилась к ней, взяла ее руки в свои — горячие и крепкие.
— Боже мой, вы совсем озябли! Сейчас я сварю вам кофе!
И фрау Августа позволила это сделать, расслабленно и нежно думая о том, что молодость есть молодость, а Клара импульсивна и доверчива — натура своеобразная, мягкая, поддающаяся даже легкому давлению…
Фрау Шмидт забыла — что даже странно для педагога, — какую твердость обретает алмаз под давлением пород. Может быть, она просто не чувствовала силы давления, уже ощущаемой Кларой. Это были силы новой эпохи, эпохи, которая спешила не на всех парусах и даже не на всех парах, а на скоростях, определяемых уже не образным выражением, а только сложными математическими формулами.
Эта эпоха еще не наступила, она была на подходе.
Фрау Шмидт ни о чем таком не думала; она просто наслаждалась тем, что Клара осталась такой же, как была. Она не подстригла волосы, по-прежнему скромно и женственно закладывала их за уши, не сунула в рот папиросу и даже не укоротила юбку, хотя бы на ширину ленты со щеточкой…
И в это именно мгновение фрау Шмидт подумала было, что не стоит и поднимать разговор. Но она тут же пристыдила себя: «Надо мужественно идти навстречу невзгодам жизни».
«Невзгоды жизни» тоже были из катехизиса фрау Шмидт.
И она спросила, не колеблясь больше, справедливы ли слухи о том, что Клара посещает собрания социал-демократов?
Фрау Шмидт не добавила ни одного определения из вертевшихся у нее на языке. Слова «партия цареубийц» или «разбойники с большой дороги» не были произнесены. Но тут же со всей своей педагогической проницательностью она увидела, что, если бы они и были произнесены, это ничего бы не изменило…
В лице Клары проступило то волевое, даже упрямое выражение, которое ее наставница всегда ценила, когда оно было обращено на «добрые дела» — решение трудной задачи или конструкцию сочинения. Сейчас дело было недоброе и опасное. «Клара, дитя мое, признайся во всем и отбрось это!» — произнесла директриса мысленно, как заклинание.
— Да, — ответила Клара после паузы и посмотрела на фрау Августу прямым взглядом своих несколько широко расставленных глаз.
— И это не случайно? Ты сознательно идешь вместе с этими?.. — что-то мешало фрау Шмидт точно квалифицировать новых друзей Клары.
— Да, — ответила Клара.
— И ты отдаешь себе отчет в том, что это разрыв со всем, что тебе было дорого в течение многих лет?
— Да, — ответила Клара, не опуская глаз.
— Тогда… тогда это означает полный разрыв со мной… ist daß Tischtuch zwischen uns zerschnitten! — сказала наставница. Она специально употребила этот старинный немецкий идиом, буквально: «Скатерть между нами разрезана!».
Все произошло так быстро, словно было решено заранее. Каждый из дуэлянтов удалился, зажимая нанесенную ему рану, унося память о прекрасной дружбе наставницы и ученицы.
Через двадцать четыре года Клара, стоя у могилы Августы Шмидт, почтит ее память словами уважения и признательности. Это вовсе не будет означать, что Клара осудила какой-то шаг своей юности. Ни в коем случае! Просто сложность жизни с годами уясняется полнее! А Клара в пору своей зрелости понимала эту сложность так, как понимали ее самые передовые умы времени…
Разрыв с женщиной, которой семья была обязана столь многим, вызвал домашнюю грозу. Мать в отчаянии и гневе обрушила на Клару все, что молчаливо копила в себе до поры: все обвинения, все шепоты, шушуканья и сплетни, все намеки и уколы — все, подобранное во дворах и на улице, в кафе и церкви, у тележки зеленщика и развалов всевозможных дешевых товаров.
Где было матери понять, что происходит! Этого не поняла даже глубоко просвещенная директриса со всем своим либерализмом! Клара была глубоко оскорблена: как ее мать приняла на веру грязные сплетни? Мать требует, чтобы Клара извинилась перед фрау Шмидт. Извиниться? За что? С упрямо сжатыми губами Клара оставила родной дом.
Она оставила его, зная, что не вернется сюда никогда, что бы ни ждало ее в будущем. Но надолго сохранила в памяти разгневанное лицо матери, плачущих сестренку и брата и тот вечер в доме на Мошелесштрассе, когда родители сидели за круглым столом в розовом свете лампы, умиротворенные и счастливые тем, что перед Кларой «открылась дверь»…
Клара шла навстречу битвам и бедам, навстречу своей любви. Навстречу новым опасным временам.
Для того чтобы отдаться делу, которое Клара признала смыслом своей жизни, надо было прежде всего иметь крышу над головой, понимая это не только буквально, но и в переносном смысле.
Семейство Гогенлоэ, в котором Клара получила место приходящей домашней учительницы, было слишком аристократичным, чтобы подбирать городские сплетни, и слишком «особняком стоящим», чтобы эти сплетни доплескивались до стильных чугунных ворот виллы Гогенлоэ.
Кроме того, родители Клариных учениц, молодая чета Гогенлоэ, вообще жили не в Лейпциге: зимой — в Париже, а летом — в Италии. Пусть в этом бюргерском Лейпциге подрастают их дочки под эгидой бабушки, вдовы прославленного генерала, пока не вырастут и не выйдут замуж. И тогда тоже будут жить зимой в Париже, а летом в Италии.
Бабушка Гогенлоэ была недоступна никакому влиянию извне, поскольку признавала только два вида общения: с богом — посредством длительных молитв в собственной часовне и со старшим конюхом Артуром, который ежедневно лично докладывал ей о событиях в конюшне. Фамильная страсть Гогенлоэ к лошадям не угасала в ней вместе с другими страстями, подвластными возрасту. Она даже как будто усиливалась на закате, приобретая формы, поражавшие всякого свежего человека, в данном случае — Клару. Ей было трудно привыкнуть к тому, что три маленькие девочки месяцами в глаза не видели бабушку, а старший конюх англичанин Артур, наоборот, призывался к ней каждый вечер.
Как-то, придя на урок, Клара застала обитателей виллы в крайнем смятении. Все здесь перетряхивалось, переворачивалось и украшалось с такой энергией и усердием, как будто ожидалась толпа самых именитых и привередливых гостей. Оказалось же, что вся кутерьма заварилась по причине предстоящего приезда любимого внука бабушки Гогенлоэ.
Девочки были рассеянны и задавали Кларе вопросы, на которые она не могла ответить: правда ли, что кузен Альбрехт каждый день видит самого кайзера, так как командует дворцовым караулом? Почему кузена Альбрехта называют «фаворитом», если так зовутся лошади, на которых ставят игроки на скачках? — девочки тоже смыслили кое-что в лошадиных делах…
Сидя со своими ученицами в их школьной комнате у открытого окна, Клара видела, как Альбрехт в костюме для верховой езды и со стеком в руке проходил по аллее, предводительствуя компанией таких же долговязых, тощих и вполне англизированных молодых людей, — если отвлечься от того, что лица их были исполосованы в различных направлениях дуэльными шрамами. Они говорили по-английски, видимо, не желая посвящать в свои дела прислугу, хотя, как услышала Клара, речь шла только о разных аспектах «конского вопроса»: о бегах, скачках, дерби и ристалищах всякого рода.
Это немного посмешило Клару, очень мимолетно, потому что она была занята своими мыслями, своими делами и уж до Альбрехта Гогенлоэ ей не было ровно никакого дела. Да и он скользил по Кларе таким же взглядом, каким окидывал старомодную мебель в гостиных виллы.
Да, так ей казалось, что ни ему до нее, ни ей до него нет ровно никакого дела!
Но однажды, закончив занятия, Клара шла по аллее к воротам. Накрапывал дождь, и она раскрыла зонтик. И, как всегда, на минуту остановилась, любуясь замысловатой чугунной вязью ворот, так гармонично сочетавшейся с темной зеленью английского парка. Это были знаменитые ворота, отлитые известным лейпцигским мастером прошлого века для одного из не менее знаменитых предков Гогенлоэ.
Вдруг она услышала скрипучий голос, произносивший по-английски:
— Скажите, Альбрехт, кто эта девица? Почему она не пользуется выходом для прислуги? Разве на воротах виллы нет таблички «Вход только для господ»?
— Этот вопрос вы можете задать ей сами, но, разумеется, по-немецки, — лениво ответил Альбрехт из глубины беседки, в которой расположилась компания.
Клара обернулась и на своем отличном английском бросила:
— Вам пора было бы догадаться, что я — учительница ваших кузин. А я давно догадалась, что вы — дурно воспитанные мужчины! — и она, с шумом сложив свой зонтик, так как дождь уже кончился, открыла калитку. Она слышала смех за спиной и тот же скрипучий голос:
— Я поздравляю вас, дорогой Альбрехт. Можно себе представить, чему она учит ваших маленьких кузин!
Клара шла вдоль ограды. Небольшую эмалированную табличку «Только для господ», прибитую у входа в виллу, она видела сотни раз, не обращая на нее ни малейшего внимания: такие таблички висели на всех более или менее новых домах города. Но сейчас ей показалось, что эта табличка, странным образом удлинившись, распространилась на всю ограду. И чтобы оторваться от нее, Клара перешла на другую сторону и только когда очутилась в редком хвойном леске, почувствовала облегчение. И сказала себе твердо, что инцидент не стоит ломаного гроша.
На следующий день, когда Клара собиралась на урок, лакей в форменной ливрее дома Гогенлоэ принес ей пакет: в нем было ее жалованье за месяц вперед и написанное витиеватым почерком на веленевой бумаге коротенькое письмецо о том, что «фройляйн Клара Эйснер может считать себя свободной от обязанностей домашней учительницы в замке Гогенлоэ». Роль подписи играла хитрая закорючка, намекавшая на то, что эта подпись известна всем и в таком виде. А то, что вилла называлась «замком», подсказывало авторство Альбрехта.
— С прекращением причины прекращается действие, — процитировала Клара и расшнуровала ботинки.
Глава 3
В черный 1878 год исключительный закон против социалистов вошел в действие. Тяжелые замки с алчным щелчком смыкали свои железные челюсти на дверях рабочих клубов. Обрывки печатных полос кружились на ветру вокруг разгромленных редакций вместе с сухими листьями, предвестниками долгой суровой зимы. Красные сургучные оттиски гербовой печати заклеймили помещения ферейнов, партийных организаций и рабочих союзов, словно сам Железный канцлер оставил на всем свой зловещий след.
В столице введено малое осадное положение. Социалистическая рабочая партия Германии поставлена вне закона. Все массовые рабочие организации запрещены, лишены материальной базы, средства их конфискованы, печатные органы закрыты. Тьма над Германией казалась глубокой и беспросветной.
Но никто еще не знал, какой долгой и беспросветной она может быть…
Исключительная мера, впопыхах мотивированная покушениями на кайзера Вильгельма, провокационно приписанными социал-демократам, на деле выражала страх перед растущим влиянием социал-демократии. И не только страх — ненависть!
Железный канцлер Отто фон Бисмарк ничего не забыл и жаждал реванша! За унизительные дни, когда невысокий молодой человек — ему едва перевалило за тридцать — в отлично сшитом сюртуке стремительно поднимался на трибуну рейхстага и поносил столпов общества! Кричал что хотел! Ругался как мог! Пророчил революцию. Накликал грозу пострашнее Парижа 71 года! Это маленькое, изящное исчадие ада — Август Бебель, переспорить которого не мог бы сам сатана! Бебель — лидер нихтсхаберов, вождь воинствующей нищеты…
Да, канцлер жаждал реванша. За материальные (и духовные!) потери общества!
За убытки, которые понесли лучшие люди, промышленники и банкиры, в борьбе с рабочими бунтами, подстрекаемыми теми же социалистами!
Реванша за тысячи избирательных бюллетеней с начертанными на них корявой рабочей рукой ненавистными именами возмутителей.
На нелегальном собрании в квартире мастера Мозермана товарищам представили Клару Эйснер, молодую учительницу, связавшую свою судьбу с рабочим классом и вступавшую в партию в черный год исключительного закона.
Все было очень обыденно. Хотя партия была вне закона, собрания ее — тайными, а члены ее преследовались политической полицией, в процедуре не было ничего от мистерий древних христиан или масонских лож, как представляла себе когда-то Клара.
Ну каким же таинством могла быть простая встреча за столом с чашками кофе и необыкновенными рогаликами, которыми славилась жена мастера Мозермана! Поглаживая лысину и смотря на Клару умными маленькими глазками из-под косматых бровей, он сказал товарищам простые слова: «На эту девицу, даром что она молода, можно надеяться». А смешливый литейщик Макс Хельвиг, который уже отведал тюремной похлебки, сейчас же вставил прибаутку насчет того, что молодость — помеха только в приюте для престарелых, намекая на новые правила, по которым в дома призрения принимали теперь только стоящих на пороге смерти.
Но бородатый Отто Вильдергаузен, которого занесло сюда вихрем исключительного закона после разгрома культурферейна в Мекленбурге, где он был главным докладчиком по эстетике, оставался очень серьезным. Он сказал Кларе, что отныне, где бы она ни была, в каких бы обстоятельствах ни оказалась, у нее есть товарищи, в любой момент готовые поддержать ее.
Клара приняла эти слова как напутствие в новую полосу ее жизни. Она еще не знала, в какой мере они окажутся пророческими!
Так, хотя в тайной этой встрече не оказалось ничего таинственного или мистического, было в ней для Клары нечто чрезвычайно значительное, важное и связывающее более крепко и надежно, чем эмблема «вольных каменщиков» или кровавая клятва дворцовых заговорщиков.
Первой партийной обязанностью молодой социал-демократки было организовать материальную помощь жертвам исключительного закона, уволенным с «волчьим билетом» с предприятий, занесенным в «черные списки», и семьям арестованных товарищей. Она металась по городу, заново узнавая его. Это не был Лейпциг Августеума, университета с его знаменитым Ритчельским фронтоном, Старой биржи, в свое время поразившей Клару своим барокко, протяженного Иоганнапарка с его горбатыми мостиками и прозрачным прудом…
Она узнала Лейпциг рабочих окраин, где день и ночь стучали печатные машины типографий; узких улочек, упиравшихся в подъездные пути дубильной фабрики, распространявшей свое зловонное дыхание на всю округу. Лейпциг поселков, теснящихся вокруг заводов, мельниц, пекарен, где жили тревожной жизнью предприятия и рабочие, с той только разницей, что заводы и фабрики набирали силу, а обитатели поселков теряли последние.
Однажды поздний вечер застал Клару на скамейке чахлого сквера в рабочем пригороде. Клара не помнила, как очутилась здесь, как покинула подвал, где над мертвым ребенком — нет, нет, не склонилась, а стояла женщина! Стояла прямая, и ни слезинки, ни вздоха… В этой окаменевшей женщине не узнавала Клара прежнюю Эмму, беспечную девчонку с берегов Видербаха. Что сделала с тобой жизнь, Эмма? Твоего мужа, Пауля Тагера, схватила полиция. Всех забастовщиков с головой выдал «сапожный король» Плотвиц. Твоего сына унесла эпидемия — бич бедноты, ютящейся в трущобах…
Жизнь? Но кто диктует ее законы? Плотвиц, выдавший на расправу своих рабочих? Железный канцлер, узаконивший эту расправу?
Клара не замечает, что уже не сидит на скамейке, а стоит в световом круге, отброшенном газовым фонарем. И не чувствует, как сами собой подымаются сжатые в кулаки ее руки. И не слышит, как хрипло и натужно звучит ее голос! Не слышит слов, которые она посылает в безответный мрак, в безответный мир. И если бы кто их слышал, то не узнал бы Клару. Платок упал с ее головы, волосы растрепались, лицо исказилось горем и гневом. Она не выбирает слов. Она походит сейчас на тех женщин, что собираются у фабричной проходной и шлют проклятья всем Плотвицам мира! Клара похожа на них, как родная дочь. И ни слезинки, ни вздоха… Только проклятья! Только молчаливая клятва: всю жизнь бороться за правое дело. Единственное, чему стоит отдать всю жизнь. За рабочее дело.
Клара увидела все неутешительно, без прикрас, и книжная мудрость, не отступив, как бы раздвинула свои берега, приняв в свое спокойное лоно бурный поток действительности.
Из дома фабриканта Гашке Клару выставили, после того как она заступилась за горничную хозяйки.
— Послушайте, фрау Гашке, — сказала Клара, не повышая голоса, но смотря на нее прямо и зло своими широко расставленными глазами, — вы ведь не фельдфебель, а ваши горничные не новобранцы! Почему вы деретесь? Девушки выбегают из вашей спальни с щеками, красными от оплеух. К лицу ли это цивилизованной даме?
И после этого инцидента, как рассказывал в клубе господин Гашке, выяснилось, что Клара взбудоражила всю прислугу в доме.
У Клары опять не было постоянной работы. Буржуазные дома опасались ее репутации возмутительницы. Она нуждалась, не имела постоянной квартиры и питалась в кухмистерских. И все же была счастлива. Она не обрела той «дороги в жизни», которую ей обещала Штейбершешуле, но нашла собственную дорогу и стояла на ней прочно своими маленькими крепкими ногами, которые не боялись долгих переходов, ухабов и рытвин. Она любила и была любима человеком, открывшим ей эту дорогу. До сих пор Клара еще не могла поверить в его любовь. Он явился в ее мир словно с другой планеты. Его деятельность на родине, о которой рассказывала ее русская подруга Варвара и много позднее говорил он сам, казалась Кларе такой далекой, удивительной, легендарной, как восстание Спартака или самопожертвование Яна Гуса. Думая о том, что этот молодой человек там, у себя на родине, вступил в бой с самым страшным деспотизмом, Клара видела в Осипе Цеткине человека необыкновенного. Но близость с ним показывала ей другую его сторону. Да, он был совсем прост и ничем не обнаруживал своего превосходства. Он не снисходил до нее, когда открывал ей истины, давно принятые им самим и обкатанные собственным самостоятельным и живым умом.
При всем различии характеров у них нашлось много общего. Его смешило то, что смешило ее, его энергичный язык, круто посоленный аттической солью, был как раз по ней. Она заливалась смехом, когда его изысканная немецкая речь спотыкалась на жаргонных словечках рабочих предместий. Он терпеливо разъяснял Кларе азы марксизма, основы давно усвоенной им теории, перевернувшей его жизнь. Он хотел, чтобы она перевернула и ее жизнь.
Клара все еще глядела Осипу в рот с прилежностью первой ученицы. Все еще немного пугалась его крепко настоенной на горьком опыте жизни иронии, его скептицизма, с которым он выворачивал наизнанку все ее понятия о порядочности и доброте, высмеивая либеральных дам, ограниченных в своих стремлениях все тем же кругом капиталистического ада; всех этих куриц, не смеющих перейти за меловую черту. Она все еще не верила, что этот фонтан остроумия, этот поток блестящих мыслей, что этот фонтан играет всеми своими струями — для нее. Что человек столь удивительный страстно хочет, чтобы она шла рядом с ним и как равная. Потому что такова его любовь.
Теперь, под игом исключительного закона, агитация стала делом тайным и рискованным.
Рабочие предприятий Шманке собрались в мучном складе, куда устроился кладовщиком социал-демократ Отто Вильдергаузен. В этот дождливый вечер на берегу Плейсы, в отдаленном от города помещении, забитом мешками, готовыми к отправке, можно было чувствовать себя в сравнительной безопасности. И все же пикеты патрулировали у склада.
Клара уже не впервые подивилась той убедительной простоте и как бы прямизне доводов, которыми оперировал Цеткин на трибуне. Речь шла об организованном выступлении рабочих-мукомолов, об их требовании освободить товарищей, арестованных как зачинщиков недавней забастовки.
— Закон Бисмарка — проявление силы правительства? Да, конечно. Но вместе с тем и его слабости! Потому что именно страх перед ростом нашего влияния, перед тысячами, пославшими социалистов в рейхстаг, побудил канцлера к крутым мерам! А наша сила — единство. Единство в большом и в малом! И если завтра на фабричный двор выйдут все рабочие, Шманке схватится за голову! Потому что — вы видите — сколько тут готового к отправке товару? Каждый час забастовки для него — дырка в кармане!
— Он же нам друг, Эмиль Шманке, — крикнул кто-то. — Он всегда говорит, что рабочие — его друзья!
— Конечно! — подхватил Цеткин. — Только мы слышим, как топает слон! — Он употребил популярную немецкую поговорку: «Ты поешь соловьем, но я слышу, слон, как ты топаешь!».
И когда стих смех, Цеткин заговорил о другом.
О том, за что арестованы товарищи, освобождения которых будут добиваться завтра на фабричном дворе. О мужестве деятелей партии, высланных из столицы, но продолжающих борьбу…
— Посмотрите, что делается на заводах Ноймана? Там добились снижения норм. Всюду есть горячие сердца и разумные головы тоже. А если разум в ладу с сердцем, если тобой движет пролетарская солидарность и праведный гнев и ты чувствуешь за своей спиной братьев по классу — нет тебе преград!
Лицо Цеткина, только что хитровато-улыбчатое, стало сейчас вдохновенным, розовые пятна вспыхнули на его скулах… И вдруг, совсем негромко и просто, он сказал, обведя всех взглядом, словно беря с них обещание:
— И прошу вас, товарищи, будьте организованны! Перед лицом врагов будьте организованны! Все как один!
Он хотел сказать еще что-то, уже заканчивая, уже движение прошло по рядам слушавших и напряжение как бы отпустило их.
— Жандармы! — крикнул с порога пикетчик.
— Товарищи, расходитесь спокойно!
Председатель толкнул ногой стол. Свеча упала и погасла.
Цеткин схватил за руку Клару и потянул за собой. Кто-то впереди указывал им путь малым огоньком фосфорной спички. Между рядами мешков они бежали к щели в дощатой стене. В щели светлел кусок неба с бутафорской голубоватой звездой.
Они спустились к реке.
— Скорее! — бородатый человек оттолкнулся коротким веслом.
Отплывая, они услыхали, как несколько мужских голосов мирно и в лад выводили: «Эльба! И куда ты течешь, полноводная?..» Голоса удалялись, затухали, как непрочный огонек спички во тьме.
— Не забудь, завтра в восемь, Клара! — сказал Осип, прощаясь.
Могла ли Клара забыть? Забыть, что она должна появиться завтра на фабричном дворе Шманке. На ней будет белоснежный чепец и такой-же передник. В руках — корзинка с горячими булочками, под ними — листовки…
Может ли она забыть?
Они были счастливы своей жизнью, борьбой, своей любовью и даже своими многочисленными затруднениями. А молодость подбрасывала им для пущей радости то солнечный денек среди хмурой поздней осени, который они проводили на берегу Плейсы, то дождливый вечер в маленькой кнайпе на типично лейпцигской узкой улочке, уставленной средневековыми домами. Совсем маленькая кнайпа, где за столиками сидели извозчики, поставив на пол около себя свои блестящие цилиндры, и громко ругали «нынешние порядки», когда весь фураж заграбастывает интендантство, а ты корми копя чем знаешь — хоть яблочным штруделем!
— И на черта им столько кавалерии, когда у нас — лучшие в мире пушки! — беспокоился длинный, как жердь, ломовой с кожаными заплатами на локтях куртки.
Одноглазый старик отвечал ему, тоскливо поглядывая на дно кружки:
— А парады? Ты забываешь про парады. Мы, немцы, не можем жить без парадов!
И конечно, Осип ввязывался в разговор и через несколько минут втолковывал компании что к чему, пользуясь той условной, осторожной формой, которая была данью эпохе исключительного закона.
Цеткин научил Клару этой летучей агитации, а особенную убедительность придавал ей простонародный, с крестьянскими словечками язык, на котором Клара могла изъясняться так же легко, как на языке духовной элиты своего времени. Цеткин открыл ей столь многое и столь важное, что оно заполнило всю ее жизнь. И, наконец, научил правильно произносить его имя: не «Иозеф», а «Ос-сип».
В то зимнее утро Клара с огорчением установила, что остатков ее жалованья едва ли хватит на несколько дней, даже если она будет питаться исключительно гороховой похлебкой с сосиской. Огорченье Клары не было слишком глубоким: надежда как-то вывернуться поддерживала ее, как держит волна опытного пловца.
И она не обманула Клару, обернувшись почтальоном, вручившим ей почтовую открытку, доплатную, поскольку ей пришлось порядком попутешествовать в поисках адресата.
Этой открыткой Отто Нойфиг извещал фройляйн Клару Эйснер о своем желании предоставить ей место гувернантки, воспитательницы двух его близнецов.
«Ну вот, я же знала, что-то наклюнется!» — сказала себе Клара.
Семья фабриканта Нойфига была вполне благополучной семьей. Ее глава, сын бродячего жестянщика — в городе многие еще помнили, как старый Нойфиг скитался по дорогам под пронзительные выкрики сынишки: «Лудить, чинить посуду!» — тоже начал свою карьеру не в салоне. Когда отец умер, бедового мальчишку присмотрел и взял на выучку владелец маленькой мастерской. На зуботычинах и в крайней строгости Нойфиг ухитрился вырасти пройдохой необыкновенным и продал своего хозяина ни за понюшку табаку, энергично помогая его разорению. Перейдя, уже на иных началах, к его конкуренту, Нойфиг и тут не прогадал, женившись на дочери хозяина, перестарке. Город разрастался, плодились харчевни и кафе. Кухня, всегда бывшая святилищем в доме бюргера, оснащалась все более изысканной утварью. Фабрика жестяной посуды, которой управлял Нойфиг, участвуя в прибыли на равных с тестем, вывозила свою продукцию и за пределы Германии. Особенным успехом пользовалась диво-кастрюлька, в которой можно было испечь маленький вишневый кухен в минимальный срок, а главное — с минимальной затратой дров и угля, без угрозы пригорания! Нойфиг не жалел средств на многоголосую рекламу, возвестившую: «Блицкруг[4] Нойфига — в каждую кухню!» и поднявшую необыкновенную кастрюльку на уровень изобретений века! Нойфиг стал монополистом. Он богател, как богатели в то время многие. Бисмарк знал, что надо им, людям дела, когда манипулировал с протекционистскими тарифами.
Отто Нойфиг отважно рисковал, играл на бирже, терял капитал и снова приобретал. Жил как истый сын своего времени!
В последнюю четверть века удачливый жестянщик выступал уже одним из именитых горожан. Два его сына-близнеца должны были получить отличное домашнее образование вдали от пагубных влияний, с задумкой сделать из них в свое время «прогрессивных промышленников».
Никто в то время еще не предполагал, что газ и электричество окончательно сведут на нет преимущества «блицкруга», а новый военный термин даст пищу острякам, сопрягающим «блицкруг» с «блицкригом».
Нойфиг хотел, чтобы его считали либералом, человеком смелым и современным. Исключительный закон внес некоторые поправки в его ориентацию, но не снял его стремления к поступкам неожиданным и пугающим. Таким поступком было приглашение в качестве гувернантки девицы Клары Эйснер, чей разрыв с семьей и уважаемой директрисой Августой Шмидт не так давно занимал умы горожан.
Клара приняла предложение, обрадовавшись заработку. Что касается политических дискуссий за столом, то они ее скорее смешили, чем раздражали, и, отделываясь язвительными репликами, она отдавала должное кухне фрау Нойфиг.
Близнецы оказались мальчишками смышлеными и на редкость проказливыми. Их затеи, благодаря полному сходству братьев, приобретали особый размах, потому что невозможно было установить, Уве или Георг, сидя на заборе, кидал яблоками в прохожих или скосил игрушечной саблей любимые мамины флоксы.
Энергия просто бушевала в обоих сорванцах, нисколько не похожих на свою вялую белесую мать, а во всем выдавшихся в отца: таких же рыжевато-золотистых, яркогубых и яркоглазых крепышей.
Из них могли получиться дельцы с волчьей хваткой, такие как раз, каких дожидался новый век. Но могли и не получиться… А Клара была воспитательница «милостью божьей». Она не верила в гены предпринимательства, зная, что среда и воспитание формируют характер и пишут на «tabula rasa» — чистом листе души ребенка все, что даст плоды потом.
Это время было для Клары полно тяжелых переживаний, которые связывались с Осипом, с вечной тревогой за него. Теперь от нее уже не могло укрыться, какой именно партийной работой занят Цеткин. Транспортировка нелегальной литературы в Польшу была в условиях исключительного закона острым, опасным пиком деятельности нелегальной партии. Эта литература комплектовалась на тайном складе в подвале писчебумажного магазина на Дрезденской улице, куда ее привозили под кипами конторских книг или альбомов для стихов. Потом специальными курьерами партии она доставлялась на границу и переправлялась на ту сторону.
Таким курьером и был Осип. Его постоянные отлучки, связанные с делом, всякий раз заставляли Клару трепетать в страхе за его жизнь. Именно за жизнь, потому что при провале в такой ситуации он мог получить пулю без суда и следствия.
Зато когда он благополучно возвращался и беспечно рассказывал, как и на этот раз удалось обвести вокруг пальца пограничную стражу, они оба очень веселились.
Однажды, когда Осип провожал ее на виллу «Конкордия», Клара заметила смешную рожицу на верху высокой каменной ограды: два плутовских зеленых глаза под рыжеватым вихорком, тотчас скрывшиеся.
— Некрасиво подсматривать. Так не поступают настоящие мужчины, — заметила Клара.
— Это Уве, — сказал Георг.
— Это Георг, — сказал Уве.
Кларе были по душе удалые ребята, все схватывающие на лету. К тому же с искрой таланта: Уве проявлял способности к математике и физике. Георг был от природы артистичен. Он бравировал своей манерой читать стихи, по-модному, слегка подвывая и отбивая ритм ногой.
Пользуясь свободой в доме Нойфигов, Клара продолжала работу в партии, счастливо избегая ареста. Между тем малое осадное положение распространилось и на Лейпциг. Социал-демократов хватали в их квартирах, штаммкафе, на улицах. Свирепствовала не только полиция, но и доброхоты. В шпионы стали вербовать дворников, молочниц, не говоря уже о портье. Успешно развивался старый, но несколько модифицированный тип политического провокатора.
Клара крепко держалась за виллу «Конкордия» как за отличное прикрытие. Она работала, тревожилась за Осипа, радовалась его появлениям, его любви, их взаимному пониманию. Жизнь была жизнью!
Однажды Осип не явился на условное место встречи у Старых Весов. Клара побежала на контрольное место свидания — в кафе Брумс. Но и там его не было. Она заметалась. Было уже поздно, но она отправилась к мастеру Мозерману. Того не оказалось дома. Мысль о том, что они могут быть вместе на каком-нибудь собрании, немного успокоила ее: это все-таки не схватка с жандармами в пограничном лесу!
Все выяснилось только на следующий день: в задней комнате маленького ресторанчика на восточной окраине города полиция захватила тайное собрание. Среди арестованных был и Осип.
В то время когда Осип Цеткин барабанил кулаками в дверь камеры, требуя бумагу и чернила, молодой человек по имени Людвиг Тронке получил их без всякой об этом просьбы со своей стороны. Не заботясь о стиле и пренебрегая синтаксисом, Людвиг заполнял растрепанными строками лист за листом. И вскоре, лягнув ногой дверь, потребовал свежих перьев и — черт возьми! — приличное курево! Все было тотчас доставлено.
Людвиг закончил свой труд далеко за полночь. Имея опыт в такого рода делах, он знал, что органы политического сыска не терпят многословия, но ценят детали, и потому подробно и толково описал, какое именно собрание имело место в ресторанчике на восточной окраине города, кто присутствовал, и главное — что говорил на нем нелегально прибывший в город Август Бебель.
Самое важное заключалось в том, что Август Бебель сделал доклад о недавнем съезде немецких социалистов в Швейцарии.
В своем донесении Людвиг уделил большое место Осипу Цеткину. Не потому, что считал его значительной фигурой, а по мотивам чисто личного характера.
Арест грозил Цеткину особой опасностью: не только карой за противозаконную деятельность. Не имея других улик кроме присутствия на нелегальном собрании, даже бисмарковская Фемида не могла особо жестоко расправиться с Цеткиным. Опасность заключалась в том, что его могли выдать русскому правительству. Шаг такого рода был вполне в духе времени.
Клара и мастер Мозерман, которому удалось избежать ареста, через своих людей пытались узнать, какой ход дан делу. Но это оказалось невозможным даже при тех связях, которые сумели наладить социалисты и из подполья.
Полная мрачных мыслей, возвращалась Клара на виллу «Конкордия». Стоял солнечный зимний день, легкие снежинки падали редко и нечувствительно, тотчас превращаясь в грязь на крупнобулыжной мостовой. Неожиданно для себя Клара очутилась у решетки Иоганнапарка, неподалеку от Мошелесштрассе и прямо против «Павлина». И вдруг вспомнила, что сегодня хоронят папашу Корнелиуса Кляйнфета…
Она вспомнила об этом, может быть, только потому, что ворота усадьбы «Павлина» были широко открыты и из них выливалась траурная процессия. Шестерка вороных коней с черными наглазниками и серебряными султанами, мерно подрагивающими над головами, мелко перебирая копытами, влекла черную колесницу. Сразу же за ней шел Гейнц в черном длинном пальто, в цилиндре и с траурной креповой повязкой на рукаве. За ним — уже плотной колонной — следовали господа в таких же цилиндрах и с такими же повязками и дамы в траурных креповых вуалях. А еще сзади — множество пустых фиакров и карет подчеркивало, что их владельцы следуют пешком через весь город, отдавая последний долг одному из богатейших рестораторов города — Готтфриду Корнелиусу Кляйнфету, которого никто уже никогда не назовет фамильярно — папаша Корнелиус…
Первым порывом Клары было подойти к Гейнцу, выразить ему свое сочувствие: он ведь искренно любил дядю! Но что-то остановило ее. Может быть, то, что Гейнц шел так подчеркнуто одиноко за катафалком? И может быть, демонстрируя то обстоятельство, что ни своей печали, ни своего наследства он не должен делить ни с кем? Такая мысль не пришла бы ей в голову раньше. Нет, конечно. Но ведь многое изменилось с той поры, когда они с Гейнцем ездили в харчевню «У развилки». И, наверное, у Гейнца изменилось тоже… И она не подошла к нему.
Она продолжала свой путь, и хотя главной ее мыслью было — что инкриминируется Цеткину и его товарищам и как установить с ними связь, — видение траурного кортежа еще некоторое время стояло перед глазами.
Пройдоха Нойфиг тотчас заметил, что молоденькая учительница чем-то расстроена. Он догнал ее на дорожке виллы.
— Фройляйн Клара! По годам я мог быть вашим отцом и откровенно говоря, охотно выменял бы на вас обоих своих оболтусов! Так, может быть, вы мне скажете, что вас огорчает. Смотришь, старый Нойфиг чем-нибудь и поможет.
— Я очень благодарна вам, господин Нойфиг, но мне трудно помочь.
Он скосил хитрый зеленый глаз и пробурчал в свои рыжевато-бронзовые усы:
— Если речь идет о каком-нибудь молодом прохвосте, то вы не такая девушка, чтобы из-за этого убиваться.
Клара засмеялась:
— Нет, господин Нойфиг, никаких прохвостов!
— Тогда откройтесь мне, Клара… Я понимаю: по-вашему, так я, конечно, капиталист, вампир и все такое. Но, верьте, я всегда помню, как ходил с отцом по дворам и кричал: «Кому лудить, паять!». И как мой дед собирал металлический лом на помойках, тоже помню. Я не меньше вас ненавижу этих вонючих аристократов и удавил бы всех их одной удавкой. Я — человек дела, милая фройляйн. И делаю деньги собственными руками.
— Господин Нойфиг, ведь ваши рабочие работают на вас.
— Почему это на меня? — закричал Нойфиг и, войдя в раж, топнул ногой. — Я, я работаю на них! Я даю им, бездельникам, кусок хлеба! А насчет ваших убеждений, так ведь это все молодость. И даже очень хорошо, что в молодые годы мы все такие… как это называется?
— Радикалы.
— Вот именно. Ведь хуже всего, когда человек ни то ни се. Верно?
— Вполне согласна с вами, господин Нойфиг, — поддержала Клара.
— Я сам — человек действия. И вы, мне кажется, тоже.
Клара улыбнулась:
— «В деянии — начало бытия», — и поскорее, чтобы не поставить в тупик своего собеседника, добавила: — Это из «Фауста».
— Я слышал эту занятную историю про доктора, который продал душу черту. И еще там какой-то даме отрубают голову…
— Нет, про даму — это другая история, — тихо сказала Клара.
Но Нойфиг имеет огромные связи. И безусловно хорошо к ней относится. Хотя бы потому, что она действительно приводит в человеческий вид его сорванцов.
— Господин Нойфиг! Может быть, вы действительно дадите мне нужный совет. Я готова поделиться с вами своим горем.
— И правильно, милая фройляйн! Давайте сядем вон там на скамейке под каштаном. И посмотрим, не подслушивают ли нас обормоты. Потому что, как я понимаю, такое дело не для их ушей.
— Пожалуй. Я расскажу вам коротко, господин Нойфиг. У меня есть жених. Очень порядочный молодой человек.
— Имеет деньги? — прервал ее Нойфиг так быстро и энергично, что Клара даже опешила.
— Ну… За этим дело не станет: у него в руках отличная профессия, — туманно высказалась Клара, применяясь к понятиям собеседника. — Главное состоит в том, что он не совершил ничего противозаконного и, видимо, случайно… Знаете, как сейчас… Его арестовали!
Нойфиг поскреб ногтем сначала левый, потом; правый ус:
— Его арестовали одного или с друзьями?
— Они праздновали день рождения друга.
— Все ясно, милая фройляйн! Железный канцлер не любит, когда молодые люди празднуют день рождения. Он любит, когда они празднуют день призыва в армию.
Он еще поскреб усы и деловито спросил:
— Вы, конечно, не знаете, где они и что им предъявляется?
— Конечно.
— Кажется, я могу дать вам толковый совет. Отправляйтесь… нет, нет! Я сам поеду с вами. Молодой Зепп Лангеханс — это то, что нам нужно! Чрезвычайно совестливый господин! И притом — весьма нужный! Адвокат Лангеханс, по кличке Зепп-Безменянельзя! — Нойфиг нагнулся к уху Клары: — Он даже сам — социалист!
Клара слабо улыбнулась. Она не верила в людей, которые отошли от партии в ее трудную пору. Она знала о письме Маркса и Энгельса, в котором они клеймили позором оппортунистов, подчинившихся исключительному закону. «Но ведь бывало, что и буржуазные юристы помогали нашим людям», — подумала Клара.
Контора адвоката помещалась в невзрачном доме неподалеку от так называемого Железнодорожного памятника. Обелиск этот был воздвигнут в память постройки первой железнодорожной линии до Дрездена. Однако пристанище адвоката выглядело таким обветшалым, словно оно существовало не только до открытия железнодорожного транспорта, но и до изобретения колеса.
Через незапертую калитку — естественно, снабженную табличкой «Только для господ», — посетители вошли во внутренний двор, выдававший всю разносторонность гастрономических вкусов обитателей дома: от пережаренного винершницеля до дешевого кофе с цикорием.
Железная лестница в духе лондонских трущоб, описанных Диккенсом, привела Клару и ее покровителя на второй этаж, прямехонько к солидной мраморной доске, напоминавшей могильное надгробие и извещавшей о том, что здесь помещается адвокатская контора. В неожиданно чистой и светлой приемной, обставленной модной мебелью из светлого дерева, трудились два юных письмоводителя, вскочившие яри виде клиентов.
— Господин адвокат у себя, — низко поклонившись, объявил один из юношей, в то время как другой пожирал глазами Клару.
У окна большой и уж совсем нарядной комнаты стоял молодой человек, невысокий, но складный, в отличном полосатом костюме и желтых ботинках. Наметившаяся лысина была стыдливо прикрыта боковым начесом.
Все остальное в его наружности вполне соответствовало возрасту: розовое лицо оттеняли соломенного цвета бакенбарды, а несколько выпуклые голубые глаза казались по-детски безмятежными. Вместе с тем в них ясно высматривалось нечто, что заставило Клару подумать: «Этот пройдоха превзойдет пройдоху Нойфига!»
— Доброе утро, господин адвокат! Познакомьтесь с фройляйн Эйснер: это воспитательница моих обормотов, — сказал без обиняков Нойфиг и сел, не без опаски, в модное кресло на тонких ножках.
Адвокат отвесил один за другим два поклона и крикнул в дверь, чтобы подали кофе и сигары.
Сам же, с мечтательным видом глядя куда-то мимо посетителей, произнес, растягивая слова и произнося «н» в нос, словно говорил по-французски:
— Что вы скажете, господа? К нам едет труппа господина Шарпатье. И с чем же?.. — он откинулся на спинку кресла и изнеможенно выдохнул, словно был не в силах долее держать при себе эту новость: — Будут давать оперу «Кармен», а?
Взгляд его снова обратился в пространство, и Нойфиг подмигнул Кларе: дескать, не обращайте внимания на эти фокусы!
Так как Нойфиг, естественно, не мог высказаться по затронутому вопросу, Клара поддержала разговор. Она скромно заметила, что новелла Мериме весьма драматична. Можно ожидать многого и от музыки. Это же Бизе.
— О! — По-модному слегка подвыл адвокат. — Музыка! Вы говорите, что она не может выразить всей драматичности сюжета, но, уверяю вас…
Клара ничего подобного не говорила и слушала Лангеханса с некоторым опасением, так как все время помнила о цели их визита. Нойфиг, щелкнув крышкой старомодных часов на золотой цепочке толщиной чуть не в цепь для дворовой собаки, перебил излияния адвоката:
— Милый Зепп! Я спешу, а молодой барышне не терпится изложить свое дело. Вникните в него, как если бы это было мое дело.
Господин Лангеханс вник. Немедленно наведя необходимые справки, он не скрыл от Клары, что опасается того же, что она: выдачи Цеткина русскому правительству. Он тут же принялся взвешивать все pro и contra[5].
— Все зависит от особенностей международного положения, — важно сказал Лангеханс. — От того, каково направление отношений между странами. Это направление, по-моему, проходит сейчас где-то между «худым миром» и «доброй ссорой»…
Лангеханс говорил долго и так серьезно, словно его рассуждения имели значение не только для его собеседницы, но, минимум, для всей Европы.
— Острие Австро-Германского договора с самого начала было нацелено прямо в сердце России и в сердце Франции!
Адвокат, видимо, остался доволен своей метафорой и, поглядев на Клару победоносно, рассуждал далее, даже позабыв про французский прононс:
— И вот совсем недавно заключен Тройственный союз! Что он такое, а? Он представляет собой как бы равнобедренный треугольник…
Лангеханс начертил его в воздухе:
— Катеты его прочно опираются на основание — Германию! Бисмарковскую Германию! В такой ситуации можно надеяться, что выдача политического преступника русскому правительству не состоится!
Вывод был внезапным, но при некотором усилии мысли можно было понять его так: Тройственный союз продолжает «целиться в сердце России». Значит, какой бы то ни было дружественный акт по отношению к России не стоит в порядке дня.
Клара никак не думала, что судьба Осипа Цеткина решается в столь высоких сферах.
Спустившись наконец с заоблачных высот на землю, адвокат сказал, что «войдет в нужные инстанции с ходатайством об ознакомлении его с делом Цеткина».
К концу этого трудного дня Клара вернулась в «Конкордию» совсем измученной. Супруги Нойфиг отсутствовали, а дети, игнорируя вопли няньки, занимались тем, что в практической педагогике определяется словами «ходить на голове».
У Клары не было ни сил, ни настроения приводить их в порядок, но мгновенно все изменилось: тише воды, ниже травы мальчишки приблизились к ней. Один снял с нее пальто, другой взял шляпу и водворил на вешалку, а потом кто-то из них — как всегда, невозможно было определить, кто именно, — выбежал из комнаты воспитательницы на четвереньках с ее домашними туфлями в зубах…
Это были все-таки милые дьяволята!
Прошло несколько дней. Адвокат обещал известить Клару о ходе дела. Ей оставалось только без конца восстанавливать в памяти их разговор, вернее, монолог Зеппа и всячески взвешивать его. Можно ли положиться на пройдоху Зеппа? Необходимого Зеппа, Зеппа-Безменянельзя?
Этот чрезвычайно совестливый господин, конечно же, не мог поставить себя вне закона: он порвал с партией, когда был издан исключительный закон. Но он считал возможным — если это ему ничем не грозило — помогать бывшим соратникам юридическим советом или ценной справкой.
Возможно, это перестраховка с его стороны…
Клара надеялась. Слишком тяжело было представить себе, что Цеткин попадет в лапы царской охранки. Это ведь все равно что увидеть его мертвым.
Теперь, в бессонные свои ночи, Клара видела все, что постепенно открывалось ей в рассказах Осипа. Шумело чужое море, непохожее на серое Северное; другие шли по нему волны, синие, теплые, взбегающие на берег южного города. В нем — отчетливее и глубже черта между богатством и нищетой, между приморскими виллами Французского бульвара и грязными проулками Молдаванки. В нем — сильнее накал борьбы, отчаяние и риск, ужаснее кара… В этом городе полгода царит жаркое итальянское лето, а потом приходит снежная зима, и прямо по улицам ездят на санях. В этом городе все контрастно, сильно, бесповоротно. И дружба, и ненависть, и любовь. Там не таят зла, а бьют обидчика наотмашь, долго и шумно справляют многолюдные свадьбы и утопают в слезах на поминках…
В портовых кварталах там пьют не эль, а русскую водку, и моряки танцуют джигу и «молдаванку» под всхлипы скрипок, песнями и воплями провожают там новобранцев в войска белого царя…
Там, на скалистой площадке, где даже эхо не могло подслушать их, несколько юношей дали клятву борьбы с чудовищем самовластья. Слова клятвы были возвышенны и отвлеченны. Но они были только флагом, реющим над теми тайными убежищами, где шла работа: заготовка взрывчатки, начинка бомб, перепрятывание — все, что делается на глубине, в душном и грязном трюме корабля, красиво вздымающего свои мачты над водой.
Потом были неудачи. Разочарования. Осип узнал тоскливую протяженность тюремных ночей, капканы допросов и торжество победителей. И был побег, смелый, почти без надежды на удачу — и все же удачный.
Разочарование пришло вместе со зрелостью. Потери несли страшные, а итоги достигнуты ничтожные. И крепло убеждение в бесплодности борьбы одиночек.
Долгий марш без привалов. Героизм — каждодневный, обыденный. И война — как всякая война: со своей тактикой и стратегией, со своей разведкой, штурмовыми частями и тылом, со своими аванпостами и арьергардом. По всем требованиям современной войны — войны классов! Более жестокая и непримиримая, чем любая другая война, потому что не может быть перемирия между капиталом и трудом, а есть противоречия, решаемые только в бою; более пространственная, потому что поле сражения — вся страна, нет, весь мир до последнего в нем уголка, где существует неравенство и угнетение; более сложная, потому что не преимущество военной техники решает исход войны, а сила протеста и решимость.
Может быть, именно в эти ночи тревоги за жизнь любимого человека, ночи раздумий, надежд, рождалась в Кларе Эйснер та женщина, которая много лет спустя скажет о себе: «Как солнце должно светить, птица петь, река нести свои воды, так я должна бороться».
В воскресный день она отправилась к мастеру Мозерману. Его маленький, веселый и людный дом был теперь молчалив и пуст, как зимний скворечник. Клара сказала мастеру, что адвокат вызвал ее к себе.
Мастер советовал спокойно ждать завтрашнего дня. Кларе это было невмоготу. Она отправилась на Франкфуртерштрассе, где жил адвокат. Наверное, не следовало этого делать. Так она говорила себе очень резонно, в то время как ноги сами несли ее к утонувшему в зелени серому дому, спокойному и респектабельному. Казалось, никакие волнения мира не прошибут его толстых стен, покрытых плющом так густо, что сейчас, в сумерках, окна смотрелись, словно бойницы крепостных стен, позеленевших от старости.
Непривычная робость охватила Клару: что ей сейчас скажут? Она приготовилась дернуть ручку звонка, но Лангеханс уже шел к воротам.
— О, фройляйн Эйснер, вы оказали мне такую честь, — он пропустил ее вперед, указав ей на видневшийся в конце боковой аллеи флигель, и тут же пояснил: — В доме живет семейство фон Лауниц, я веду их дела. В этом флигеле я работаю.
Они взошли на открытую террасу, уставленную кадками с олеандрами и карликовыми пальмами. Он усадил ее в плетеное кресло:
— Вам так будет удобно? Ах, как это хорошо, что вы здесь…
Она не понимала его радости и суетливости и беспокоилась все больше.
Лангеханс между тем делал множество мелких и обращенных к ней движений: придвинул столик, задернул плотную парусиновую занавеску за спиной Клары…
Она смотрела на него, не скрывая нетерпения, и он, наконец, сказал несколько выспренне:
— Я счастлив сообщить вам, фройляйн Эйснер, что Осип Цеткин будет освобожден, до решения его судьбы, под залог…
Конца фразы Клара не услышала. Вернее, не придала ему ровно никакого значения. Она вся была во власти прекраснейших слов на свете: «Будет освобожден…»
— Когда? — спросила она хрипловато. Ибо только это имело сейчас значение.
— Как только будут внесены деньги в депозит суда.
— Деньги? Ах да, деньги…
До нее смутно дошел смысл слова «залог». Он помог, улыбаясь ей, как ребенку:
— Вносится известная сумма как гарантия, что обвиняемый не укроется от суда и следствия.
— Да-да. А какая сумма?
Он, видимо, уже называл ее и повторил снова, но она и сейчас не поняла, много это или мало, — она была прикована к решающему: «Будет освобожден…»
— Благодарю вас, господин Лангеханс, очень благодарю вас. Вы были так… — она хотела сказать «любезны», но поправилась: — добры ко мне.
— Я счастлив служить вам, фройляйн Эйснер.
Она поднялась.
— Значит, завтра я могу…
— Да, да, конечно, формальности не займут много времени. Я провожу вас! — сказал он энергично, но она отказалась.
И не помнила, как очутилась на улице, как отшагала уже далеко от дома адвоката.
Тут она обнаружила: что-то все-таки беспокоило ее. Теперь, когда главное решилось. Что же? По мере того как она шла по тротуару, вдоль которого еще тянулись каштаны со своими лапчатыми ветвями, она постепенно остывала. И это беспокойство отливалось в какую-то форму и наконец определилось в виде цифры. Цифры залога. Она была внушительна. Вероятно, адвокат даже и не подумал, что, собственно, такая сумма… Что она недостижима для нее! Конечно, он об этом вовсе не думал! Он сделал добро ближнему, как делают его многие, думая больше о себе, чем о благодетельствуемом. Он был не лучше других…
И все-таки она добудет эту сумму! Мысль о Гейнце пришла в голову Кларе в тот миг, как только значительность суммы дошла до ее сознания. И это было решение столь простое и реальное, что ничего другого и не надо было придумывать. Гейнц! Она видела его большое плоское лицо с белыми прямыми волосами, его умоляющие глаза…
Да, это было вскоре после того, как она ушла из дома. Он, наверное, искал встречи с ней. Стоял летний вечер, только что прошел дождь. Гейнц забежал вперед, чтобы перерезать ей путь, и, стоя в луже, сказал: «Если тебе когда-нибудь понадобится помощь друга…»
Да, Гейнц! Это — наверняка, без сомнений. Теперь, когда он располагает таким капиталом… «У меня есть деньги, целых три марки!» — вспомнила она. Нет ничего зазорного в том, что она обратится к Гейнцу. Деньги ведь вернутся к нему! Она впервые подумала о дальнейшем: адвокат сказал, что сам факт освобождения под залог до решения суда показывает, что решение это не будет слишком суровым… Все складывается хорошо, отлично, лучше не надо!
Пошел дождик, редкий, осенний, какой-то въедливый. Она не обращала внимания, не слушала того, что предостерегающе нашептывали последние уцелевшие листья каштанов… Скорее к Гейнцу! Лишь бы застать его!
Так в мыслях отрывочных, но радужных она спешила теперь уже по городской улице мимо больших освещенных окон, на которых рисовались тени мужчин и женщин, сидящих за столиками, и доносилась негромкая музыка: было воскресенье и притом ненастный вечер — все кафе были полны.
Вот и «Павлин». Что тут происходит? Народу — как в церкви на пасху! Клара спросила швейцара: тут ли господин Гейнц Кляйнфет?
— Он у себя, в доме, — ответил швейцар, похожий на гвардейца, весь расшитый золотом, словно стоял не у старого «Павлина», а у ресторана Кемпинского.
Клара завернула за угол. Просто удивительно, как быстро недотепа Гейнц обернулся со всем этим делом! Простенький забор, прежде окружавший участок, заменила ограда: не сплошная стена, увенчанная разноцветными бутылочными осколками, а невысокая, ажурная, с каменным основанием и красивой железной решеткой.
В глубине сада, хорошо знакомого Кларе, виднелся старый дом, тоже преображенный до неузнаваемости новой кремовой окраской. Только зеленый павлин на башенке, такой же, как и на шпиле бирхалле, доказывал, что времена меняются, а фирма остается…
Все это мельком отметила Клара и нажала кнопку ворот. Да, старинные засовы ушли в вечность! Модная кнопка сработала: калитка отворилась перед ней сама собой.
И тотчас она увидела Гейнца. Он, наверное, что-то делал в саду. Но вот он заметил ее… Гейнц бежал по аллее, смешно выбрасывая свои длинные ноги, бежал так, словно боялся, что она повернет обратно, исчезнет, растворится в этом пасмурном вечере с его золотистым от газовых фонарей туманцем.
— Боже мой, Клара… Боже мой! — повторял он, хватая ее руки и не находя других слов.
Он повел ее в дом, для чего-то растворив все двери — их было много, — выходившие в большую гостиную, где они уселись за ореховый стол, на котором стояла фарфоровая мейсеновская лампа, такая старинная, может быть, ровесница «Голубых мечей».
Гейнц куда-то исчез и быстро вернулся с большим подносом в руках. И чего только не было на этом подносе!
Золотился мед в хрустальной вазочке, варенья представляли гамму всех цветов. Пышки в серебряной корзинке, имитирующей соломенное плетение, казались сию минуту испеченными, а пузатая бутылка, наоборот, слегка заплесневела от длительного существования в глубинах винного погреба…
И тут легкая тошнота и головокружение напомнили Кларе, что она ничего не ела с утра.
Они стали пить и есть, что оба всегда умели. Язык у Гейнца развязался, и он с увлечением стал рассказывать о тех нововведениях, которые он затевает, а отчасти уже провел в «Павлине».
Слова «современно», «в духе времени», «эпоха требует» произносились Гейнцем ужасно смешно, словно урок, который он все еще не затвердил как следует. А преобразования в «Павлине» он описывал так, словно ей предстояло стать его постоянным посетителем.
— Слушай, Гейнц! Ты, кажется, добьешься того, что я не буду вылезать из твоего «Павлина» и в конце вечера меня будут выметать из-под стола вместе с пустыми бутылками, — смеясь, сказала она, думая о том, что вот сейчас выложит свое дело… И нисколько с этим не торопилась, понимая, как приятно будет Гейнцу оказать ей услугу. Было так хорошо и весело сидеть здесь и слушать всю эту чепуху, которая, конечно же, скоро надоест такому порядочному и умному парню и он пошлет к чертям «Павлина» и займется чем-то более интересным. Чем? Это, конечно, трудно предугадать, но ведь Гейнц сам из бедняков: его отец в Тюрингии еле сводил концы с концами. Может быть, его родители умерли с голоду.
Но что он говорит? Зачем это?
Она поймала взгляд Гейнца, такой торжественный и ликующий, будто они не сидели за столом, порядком-таки опустошенным, а стояли перед аналоем. И эти слова…
— Я всегда любил тебя, Клара. Только тогда еще не пришло время. Теперь, наконец, я могу тебе сказать: Клара, будь моей женой! А что ты будешь со мной как у Христа за пазухой, это я тебе обещаю! Это уже как в Дрезденском банке — с гарантией! Ха-ха!
Его сипловатый хохоток вдруг оборвался, взгляд остекленел, большие руки, лежавшие на столе, вздрогнули, и пальцы сжались в кулаки, так нелепо выглядевшие рядом со всеми этими хрупкими предметами, в свете лампы, сделанной, может быть, еще монахом Бенедиктом…
Он прочел ответ на ее лице! Он все понял, кроме главного! Главного для нее: теперь она уже не могла никогда, ни за что, обратиться к нему с просьбой, ради которой оказалась здесь!
Организация добыла нужную сумму, чтобы внести залог как «меру пресечения возможности уклонения обвиняемого Осипа Цеткина от суда и следствия». Но залог не потребовался. Решением суда «государственный преступник Осип Цеткин, тридцати двух лет от роду, выходец из Одессы», как персона нон грата — нежелательный иностранец — подлежал изгнанию из страны.
Поставив свою подпись под печатным текстом обязательства в течение сорока восьми часов покинуть пределы Германии, Осин Цеткин легкомысленно подумал: «Хорошо, что эта маленькая страна позволяет достигнуть ее границы в короткий срок».
Ему вернули шнурки от ботинок, подтяжки и мелкие деньги, оказавшиеся у него в кармане в момент ареста, и он опять расписался в том, что получил все сполна.
Рассчитавшись таким способом одним махом и с городской тюрьмой Лейпцига, и со всей империей Железного канцлера, Осип тут же подумал, что может оставить здесь навсегда свое счастье, если Клара не последует за ним. Пусть не сразу. Даже очень не сразу. Но они должны быть вместе. Это было ясно с самого начала. С их первой встречи. В этом дурацком спортивно-социальном кружке, где испуганные юнцы лепетали что-то про всеобщую любовь и единение волков с ягнятами…
Стояло раннее утро погожего дня.
Крупный булыжник тюремного двора, только что отмытый добела арестантской командой, блестел под первыми косыми лучами, тронувшими липы, выстроившиеся вдоль стены преувеличенно четко, словно они тоже ждали развода постов. Часы на кирхе пробили четверть. Он не знал какого: ему было все равно!
Вахмистр с черными бакенбардами и косматыми бровями, как у опереточного злодея, бренча ключами, растворил ворота.
Осип передохнул, улыбнулся и зашагал через сквер — рубеж, отделявший тюрьму от свободы. Около закрытого киоска «Горячий кофе» стояла Клара.
Сорок восемь часов! Это мало, но вместе с тем — достаточно! Мало для того, чтобы обнять все сразу: места, где ты был счастлив, людей, с которыми долго шел рядом, девушку, которую полюбил. Достаточно для того, чтобы унести с собой уверенность в непоколебимости дружбы и верности любви.
Товарищи прощаются с Осипом, чтобы оставить его наедине с Кларой. Они идут вдвоем к омнибусной станции под мелким теплым дождем. У него за плечами рюкзак, она несет его дорожную сумку. С этим рюкзаком, с этой сумкой они совершали свои воскресные аусфлюги и далекие туры в горы. На берегу ручья они зажигали костер, и отражение пламени так весело прыгало в малой воде, бурлящей меж камней. Там, высоко, где начинались альпийские луга и казались совсем близкими сахарные головы снежных вершин, стояла хижина для восходящих на вершину. Они разжигали очаг и сушили обувь у огня.
Они вспомнили, как однажды, переправляя нелегальную литературу, едва не попались жандармам. При них были брошюры, спрятанные в корзине с бельем, которую несла Клара, а у Осипа — зашитые в подкладку пальто.
Они укрылись от облавы: перелезли через забор первого попавшегося двора и спрятались там за поленницей дров. Потом оказалось, что это двор полицейского участка. И это спасло их.
И еще они очень смеялись, вспоминая, как Мозерман запер у себя в сарае приставленного к нему шпика…
Но все их воспоминания были только фоном для главного:
— Ты приедешь ко мне в Париж?
— Я приеду.
— Как только будет возможность, я вызову тебя.
— Вызови, даже если ее не будет.
— Я буду писать тебе.
— И я тебе.
— Я люблю тебя.
— И я тебя.
А часы шли своим чередом, и дождик становился все чаще и назойливее, и двухэтажная коробка омнибуса выплывала из его серой пелены, как ладья Харона в холодных и неумолимых водах Стикса.
«Сейчас он пересекает границу. Вот он уже на земле Франции. Теперь он в Париже», — так она мысленно следовала за Осином, пока не наступила пора писем. Он писал ей о городе великих революций и великих контрастов. Он писал с острой наблюдательностью опытного журналиста и с жаром влюбленного. Легко угадывая смысл намеков, распутывая узлы эзопова языка, она следовала за ним по улицам и площадям, чьи названия были ей знакомы с детства, мелькали в семейных воспоминаниях и заново вставали перед ней в книгах. Их переписка была умело зашифрована, чтобы не вызвать ее конфискации, и достаточно откровенна, чтобы передать их любовь и тоску! Переписка друзей, соратников и влюбленных. Они не знали еще, что она будет длиться долго. Целый долгий год.
Клара жила на вилле «Конкордия», в ее довольно странном мирке. Отто Нойфиг любил вспоминать то время, когда сам был «стопроцентным пролетарием», приписывая свое возвышение исключительно своим деловым качествам. Ему нравились колкие реплики Клары в споре, едкое прозвище «Францисканца», то есть бродячего «мирского» монаха, которым Клара его наградила, смелость, с которой она высказывала свои убеждения, отбивая все попытки подвергнуть их критике.
— Я вовсе не против социализма, дорогая фройляйн Клара. Я сам социалист до кончиков ногтей. На моей фабрике рабочие чувствуют себя хозяевами.
— Однако прибыли текут в ваш карман.
— Не совсем. Я ведь вкладываю капитал в расширение производства и этим даю возможность работать многим. Кроме того, я трачусь на нужды своих рабочих: строю бараки, старым работникам даю ссуду на постройку домика на моей земле… Разве я похож на кровопийцу?
— Вы такой же кровопийца, как другие. И не можете быть другим, пока присваиваете себе труд рабочего. А что касается благоденствия на вашей фабрике… В прошлом месяце у вас погибли два человека из-за того, что нет охраны труда. У вас работают по четырнадцати часов женщины и подростки.
— Фройляйн Клара! Если я не дам им работу, они умрут с голоду…
— Вы бесчеловечно пользуетесь их безвыходным положением!
Вечером в детской, когда тушился свет и закрывалась дверь, Уве и Георг со смехом вспоминали, как фройляйн Клара «расчихвостила папу».
При всей разнице в характерах и склонностях, мальчишки были необыкновенно дружны и во всяких столкновениях держались друг за друга со стойкостью Ореста и Пилада.
Клара привязалась к ним не только потому, что ее трогала преданность маленьких рыцарей. Она жалела их: они, по существу, росли без родителей. Мать занималась только собой, пытаясь сделать менее заметной роковую разницу в возрасте своем и мужа, а отец был поглощен делами предприятия.
Она не видела Гейнца с того воскресенья, когда неожиданное признание сломало ее планы. Она вспоминала о нем с некоторой долей юмора. Когда Гейнц вдруг предстал перед ней неподалеку от «Конкордии», она обрадовалась:
— Здравствуй, Гейнц! Как ты живешь? Еще не обглодал своего «Павлина»? А сам еще не распускаешь павлиний хвост?
— Здравствуй, Клара! Ты все такая же насмешница…
— С какой стати мне меняться? Я надеюсь, что и ты не стал другим.
— Как сказать, Клара. Надо ведь по одежке протягивать ножки.
— Эта пословица имеет в виду совсем другое.
Они шли по каменистой дороге к шоссе, и оно уже серело впереди, словно канал в зеленых берегах, — здесь росли маленькие, недавно посаженные туи.
— Я ждал тебя здесь, Клара! Мне надо сказать тебе… Не думай, что я перестал быть твоим другом из-за того, что ты… что я…
— Что ты, Гейнц! Я высоко ценю твою дружбу.
— Может быть, мы посидим с тобой где-нибудь? Но я не очень хорошо знаю этот район.
— Здесь недалеко есть вайнштубе. Это, конечно, не «Павлин»…
— Не смейся надо мной, Клара.
Они дошли до скромного заведения с матовым газовым фонарем над входом. Внутри было тепло от жаровни, пахло кофе и свежим тестом.
Гейнц оживился. Они заказали свинину с капустой и пиво. Клара радовалась, что неловкость, создавшаяся было между ними, как-то рассасывалась. Вместе с тем она отмечала что-то новое в облике Гейнца: какую-то необычную для него определенность, завершенность. Он уже не выглядел простягой, стоящим на перекрестке в раздумье, куда бы свернуть. Он говорил о своих делах с увлеченностью.
— Понимаешь, Клара, состояние — оно накладывает обязательства…
— Перед кем, Гейнц?
— Перед кем? Гм… Ну, хотя бы перед памятью дядюшки. Разве я вправе пустить все прахом?
«Да, ты все-таки пойдешь по дорожке, подкинутой тебе завещанием», — с сожалением подумала Клара.
— Видишь ли, Гейнц, времена меняются. Ты сам понимаешь: либо ты здесь, либо — там… Либо ты с теми, кто обирает бедный люд, либо — с этим людом. И тут нет никакой середины. Как на новом мосту, где ввели двустороннее движение…
— Ты, наверное, права, Клара. Потому что ты всегда делаешь то, что считаешь нужным. А это не все могут.
— Ты думаешь, мне это легко?
— Нет! — он посмотрел ей прямо в глаза. — Я знаю, что тебе нелегко. И я потому пришел… Чтобы тебя предупредить.
Она видела, как ему не хочется быть плохим вестником для нее и как он боится еще больше осложнить ее жизнь.
— Ты учти, Гейнц, я ведь ко всему готова. Время такое.
— Вот то-то и оно. Ты ведь знаешь, сейчас у «Павлина» немного другая публика, чем при дядюшке.
— Еще бы. Теперь — «сливки общества».
— Я ведь ничего для этого не делал, Клара. Просто обновил мебель…
— А я и не упрекаю тебя в том, что ты тянул к себе, как козу на аркане, фон Лауница, или Гогенлоэ, или Прутша из полицейского управления.
— Вот у них-то и был разговор. Насчет корчевки пней…
— Вот как? Это, конечно, метафора?
— Да. В том смысле, что, мол, у нас все делается поверху. И надо выкорчевать раз и навсегда корни смутьянства. Потому что закон есть закон. И они стали говорить о Нойфиге и… о тебе: что Нойфиг мнит о себе чересчур много. Что он выскочка, хамское отродье и только он может терпеть в своем доме такую… как ты. А Прутш набычился и сказал, что ты посещаешь дом Тагера, только что вышедшего из тюрьмы.
Гейнц вспотел от непривычно длинной тирады и от усилия все как следует припомнить, но теперь, когда уже все было сделано, он почувствовал облегчение и сказал вразумительно:
— Наверное, тебе надо уехать, Клара.
— Наверное, Гейнц.
— И… как же? — обеспокоенно спросил он, и она увидела, как он боится за нее и каким страшным кажется ему мир за городской заставой, где-то в туманной дали, не осененной хвостом зеленого павлина.
— Я уже думала об этом. И аккуратно читаю газеты, в которых печатаются объявления. Знаешь: «Требуется воспитательница… знание языков… диплом…» и все такое.
— Это далеко? — спросил он совсем по-детски, и прямая влажная прядь упала на его щеку.
— Конечно.
Он покачал головой удивленно и сокрушенно: он не понимал, как велик мир. Нет, он не мог этого понять, как понимала она. Потому что у нее было нечто общее с людьми по ту сторону границы. А у него — нет. Его судьба была привязана к этой земле, как жестяной павлин — к стержню флюгера.
— Что бы ни было, Клара, я всегда твой друг. И если бы ты захотела, чтобы я помог тебе…
Она прервала его:
— Я тебе очень благодарна, Гейнц. Ты настоящий друг.
…Уходила назад покрытая снегом долина Плейсы, потом потянулись отроги холмов, и буковая роща поманила видением весны. И простучали колеса по мосту над безымянной речкой, такой неширокой и скромной, что она напомнила родной Видербах. И опять кочковатая седая равнина с укутанными соломой и рогожей фруктовыми деревьями и заледеневшими родниками — унылый ландшафт. Крупный снег падал так раздумчиво и неуверенно, ложился так легко и мягко. И все же было видно, как постепенно, медленно, но неуклонно одевает он землю, деревья и остроконечные черепичные крыши в белый цвет. Цвет пустоты, забвения.
И от всего, что уходило назад, все назад, в белую беспросветицу падающего снега, щемило сердце и слезы проступали. А этого нельзя было… Уходил назад мир ее детства, ее юности, ее молодости. Мир ее родины. Родина оставалась родиной и под сапогом исключительного закона.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава 1
Однажды зимней ночью имперская пограничная стража схватила в горах у границы молодого человека. Одного из тех, кто систематически, тайно, переносил через границу опасный груз. Это были не контрабандные товары, не предметы потребления или искусства, запрещенные к вывозу. Поставщики его не наживались на противозаконных сделках. Речь шла о переправке нелегальной литературы.
Задержанный, сапожный мастер Жозеф Бели, был не один. Его сообщник, отстреливаясь, скрылся, унеся с собой их ношу. У Жозефа Бели ничего не обнаружили. Он имел швейцарские документы и настаивал на том, что перешел границу по личным мотивам. Однако его держали под стражей. Дело было непростое. Несмотря на бдительность кайзеровских жандармов, Германию наводняла взрывчатая, доходчивая до народа революционная литература: эти листки бумаги были так же опасны в его руках, как и оружие, потому что призывали к оружию.
Издаваемая в Цюрихе партийная газета «Социал-демократ», попирая исключительный закон, проникала через все кордоны в глубь Германии. Транспортировка ее за пределы Швейцарии — дело, связанное со сложным, полным опасности путем от Цюриха через границы, — была поручена функционеру партии Юлиусу Моттелеру, другу Августа Бебеля. Арест Жозефа Бели привел Моттелера в отчаяние.
В ту пору, когда Клара Эйснер увидела его впервые, Юлиусу было сорок четыре года. Несмотря на то, что он выглядел много старше со своими светлыми, длинными бакенбардами и лысеющей головой, в нем угадывался молодой азарт и живость, которые полностью Клара оценила много позже.
Цюрихские товарищи прислали Клару в помощь Моттелеру по экспедиции газеты «Социал-демократ» в Германию.
«Они думают, что молодая девица — пусть она даже сорвиголова — может заменить Жозефа Бели?» — сердито думал Моттелер, без стеснения разглядывая Клару. Перед ним стояла, по первому взгляду, обычная немецкая студентка, одна из тех, кого исключительный закон заставил продолжать образование за пределами родины.
Ее, однако, не назовешь эфирным созданием. В ее коренастой фигуре, круглых и румяных щеках, лукавом взгляде есть что-то крестьянское. Товарищи говорили, что ей уже двадцать пять — по виду не скажешь — и что она очень образованна. Образование, конечно, украшает молодую социал-демократку, но для переправки нелегальщины за границу нужны другие качества.
Раз пришла — поговорим! Жена Моттелера, помощница во всех его делах, сразу прониклась симпатией к девушке: обе не прочь были посмеяться.
— Как ты попала в Цюрих? — спрашивает Моттелер, в то время как его жена потчует гостью кофе.
Девушка рассказывает свою историю. Что ж, она в общем-то обычна. Ясно, что рано или поздно там, в Лейпциге, ее бы схватили, раз она работала в партии. Хорошо сделала, что убежала. Потом была воспитательницей в домах аристократов в Вене и в Италии…
— Это тебе не понравилось?
— Нет, — отвечает Клара. — Я всегда мечтала стать учительницей. Мне казалось это высшей целью в жизни. Но учить уму-разуму молодых бездельников, которые пойдут по стопам своих отцов-живодеров, — благодарю покорно!
— Чем же ты живешь?
— В Учительской семинарии меня научили многому. Я знаю четыре языка. Друзья достают мне переводы.
— Но материально это, конечно, не то, что место воспитательницы у какого-нибудь Эстергази, а?
— Не все же меряется материальной заинтересованностью.
— И ты хочешь работать со мной?
— Да.
— Это опасно.
— Я работала под исключительным законом.
— Ты провалилась?
— Да. Меня предупредили, что грозит арест. — Она улыбнулась, и то, что заставило Моттелера подумать о ней: «Сорвиголова!» — проступило яснее.
— Гм… У тебя нет родных?
— Я порвала с ними.
— Из-за убеждений?
— Да.
— Послушай, отец, — вмешалась фрау Моттелер, — дай девушке спокойно выпить чашку кофе!
— Моя жена, — сказал Юлиус, — и жена моего помощника Жозефа — того, которого арестовали, — помогают нам. Что придет в голову женщине, до того не додумается ни один мужчина, а?
— Совершенно верно, — живо отозвалась Клара.
— Кипы газет эти дамы однажды перевезли через границу в тележках с домашним скарбом, на котором сидели дети и болтали ногами. Пограничники не захотели возиться с кастрюлями и тряпками, тем более что женщины оказались на редкость сварливыми…
Клара смеется. Ей тоже приходилось прибегать к маскировке. Недаром в детстве она играла в школьных спектаклях. Искусство перевоплощения не раз пригодилось ей потом. Вот, например.
— Господин вахмистр! Я не понимаю, о чем вы говорите! Я ищу свою телку… Откуда мне знать, что здесь какое-то оцепление? У меня пропала телка! Что же прикажете: возвращаться домой без моей телки? А! Люди! Вы слышите? Где это видано, чтобы не давали пригнать домой собственную телку!.. Благодарю вас, господин вахмистр. Покорнейше благодарю!
Клара неузнаваема. Она — сама простота: этот простонародный саксонский говорок, руки, упертые в бока! Да, такая скандальная бабенка не даст спуску даже жандармам, лучше с ней не связываться!
Моттелер думает…
— Пожалуй, нам придется создавать новую базу. Где-то в районе Боденского озера, может быть.
Клара кивает головой: она знает эти места.
— Там за озером, на германской стороне, болото.
— Верно.
Он уже почти согласен на то, чтобы эта девушка ему помогала. Но надо придумать ей прикрытие. Это должно быть что-нибудь новое… Власти уже знают, что нелегальную литературу провозят даже в детских колясочках. Движение через границу большое, пограничные районы заселены крестьянами, имеющими родственников на той стороне…
И все-таки еще один вопрос:
— У такой хорошенькой девушки есть, наверное, жених?
Клара не краснеет и не смущается: в ней нет ничего от провинциальной жеманницы.
— У меня есть любимый, он русский эмигрант. И сейчас — в Париже!
Она добавляет простодушно:
— Он мне пишет так часто, что половину моего чемодана, с которым я сюда прибыла, занимали его письма.
— Ах-во! — радуется фрау Моттелер. — Он, верно, приедет к вам?
— Или я к нему. Со временем. Мы не торопимся. Мы уверены друг в друге.
Моттелер почти придумал:
— Ты будешь со мной работать. В добрый час!
— У меня на родине в таких случаях отвечают: «Тьфу, тьфу, от дурного глаза!» — отзывается Клара.
В ближайшие же дни великий конспиратор Юлиус Моттелер, известный в кругах партийных функционеров под прозвищем «Красный почтмейстер», смог убедиться не только в добросовестности Клары, но и в ее ловкости и сноровке. Красная почта Юлиуса Моттелера действовала безотказно. Нелегальная партийная газета «Социал-демократ» поступала в империю исключительного закона почти так же регулярно, как если бы ее разносил в своей кожаной сумке почтальон рейхспочты. Это было гордостью Моттелера. Железная рука канцлера протягивалась и за пределы рейха и, конечно, в Цюрих тоже. Поэтому здесь соблюдались все меры конспирации.
Это не было ново для Клары, и она вовсе не пеняла на то, что ее партийная работа состоит пока в упаковке литературы и ее приспособлении к тому или иному транспорту: тут следовало проявлять богатое воображение. Иногда это была тележка зеленщика, иногда бидоны из-под молока. А мог быть лоток уличного продавца сладостей или еще что-нибудь.
Клара все делала так аккуратно и «со вкусом», что Юлиус Моттелер, поглаживая свои длинные бакенбарды, двумя прозрачными струями спускавшиеся на грудь, посчитал, что сделал удачный выбор и что его молодая помощница способна на большие дела.
На берегу Боденского озера расположился немецкий городок Меербург. Собственно, на город он походил только в летние месяцы, когда сюда съезжались дачники и заселяли прилепившиеся на склонах гор коричнево-белые пряничные домишки с крошечными балкончиками, башенками и с черепичными остроконечными крышами, увенчанными затейливыми флюгерами.
Зимою пульс жизни тут вовсе замирал. Однако здесь было все, что положено такому городку на берегу огромного озера, омывавшего берега трех государств: рыбачий поселок, небольшая ткацкая мануфактура, бог знает как уцелевшая в бушующем море конкуренции, магазин колониальных товаров, сапожная мастерская.
На окраине, почти у самого леса, спускавшегося с вершины холма рассыпанным строем очень высоких сосен, ронявших бурую хвою на песок, стояла усадьба кузнечного мастера Траубе. И мастер, и три его сына работали в партии. Скрытно переправляемая через границу нелегальная литература доставлялась первым делом сюда. А то, что это была именно кузница, где во дворе всегда стояли повозки, а у коновязи — лошади, и приезжие, не знакомые в городке люди были здесь обычны, — облегчало задачу.
Но прежде чем попасть в кузницу Траубе, запретный груз хранился на швейцарской базе. Ею служила деревенская харчевня в пограничной полосе, пользующаяся доброй славой, поскольку здесь можно было получить миску фасолевого супа с потрохами и даже луковое пирожное, местный «специалисте».
Собственно говоря, это был скорее постоялый двор, поскольку здесь принимали и на ночлег, и было куда поставить лошадь.
Ни у кого не вызвало удивления, что к хозяйке харчевни — она была немкой «с той стороны», а ее муж — горняком из Эльзаса, — приехала погостить племянница, молодая девушка из деревни «по ту сторону». Девушка говорила на диалекте приозерных жителей, носила живописный костюм местных крестьянок: бархатную безрукавку и широкие оборчатые юбки. Они всегда развевались, так энергично девушка двигалась по небольшому зальцу, неся полный поднос, уставленный металлическими блюдами с кроличьим жарким или свиными ножками и глиняными кружками с пивом или сидром: французская и немецкая кухни пользовались здесь успехом на равных!
Сюда часто заходили разные — невысокие — чины полевой жандармерии, пограничной стражи. В местечке было натыкано военных, что семечек в подсолнухе. Им примелькалась бойкая племянница хозяйки. И опять не было ничего удивительного в том, что самостоятельная девушка, копившая себе приданое, ходила, как она объясняла, к родным, в долину, через границу, легко взвалив на спину узел с какими-нибудь бабьими причиндалами. Это была сильная деревенская девушка, коренастая, белокурая и голубоглазая — тип местной жительницы.
А когда она сбрасывала свою ношу в кузнице Траубе, один из трех его сыновей уже седлал коня: папа Траубе не любил, чтобы опасный груз долго находился под его крышей.
Зато какое веселье начиналось, когда Клара благополучно возвращалась в харчевню эльзасца! Сдвигались к стене столики, и под скрипку хозяина молодежь отплясывала немецкую «Деревенскую польку» и «Французскую кадриль». И «племянница» хозяйки всегда была в центре простодушного молодого веселья!
Клара оказалась на редкость удачливой. Она так хорошо сливалась своим обликом со всем окружающим, нисколько не выделяясь среди других местных девушек: ни речью, ни одеждой, ни поведением. Все в ней было так естественно, что сам Юлиус Моттелер подчас не узнавал ее. И со свойственной ему сдержанностью он сказал товарищам, рекомендовавшим Клару, что девушка пришлась ко двору.
Клара работала в Красной почте с радостью. Она делала реальное дело, а сопутствовавшие сложности и опасности придавали ему особую цену. Она мысленно проходила путь тонких листков нелегальной газеты ее партии от кузницы Траубе до знакомых ей рабочих кварталов Лейпцига, до типографов Дрезденского квартала или скорняков Замостья. До ткачей Криммитчау или углекопов Тюрингии.
Слово партийной правды находило тех, кто ценил его дороже благополучной жизни под драконовым законом Железного канцлера. И ей представлялись знакомые лица людей, берущих в руки этот листок, меньше всего предполагая причастность к нему молоденькой девушки, которую они знали только робким подмастерьем великого дела партии.
А письма Осипа поддерживали ее на радостной волне ожидания встречи с ним. Она перечитывала длинные полоски бумаги, написанные знакомым нервным почерком, в которых он описывал парижскую жизнь — и свою собственную — с мастерством первоклассного журналиста, со страстью и нетерпением влюбленного.
В 1883 году под крышей старого парижского дома неподалеку от вокзала Сен-Лазар жила счастливая пара. Они только что поженились, не придав слишком большого значения краткой процедуре в мэрии и вовсе уклонившись от вмешательства церкви в их личные дела.
Консьержки единодушно вынесли свое авторитетное мнение: «Они подходят друг к другу». Он был красив строгой и несколько картинной красотой. Его суровые синие глаза, блестящие иногда, казалось, болезненным блеском, выражали ум, склонный к сарказму, и редко улыбались. Разве только тогда, когда обращались к жене. При этом он слегка наклонялся, потому что был много выше ее. Но и она не казалась миниатюрной. Она выделялась среди французской субтильности, воздушности, вошедших недавно в моду томно-бледных лиц своим здоровым румянцем, плотной, по-своему изящной фигурой, тонкой в талии, по моде стянутой кожаным поясом. Белокурая челка была светлее бровей, под которыми большие глаза голубели так неожиданно и нежно.
Меблированная комната, которую они снимали, имела, помимо дешевизны, что само собой разумелось, еще много достоинств, бесценных с их точки зрения. Она выходила на улицу двумя балкончиками, а скорее просто крошечными выступами, огороженными железной решеткой, из числа тех самых, которые составляли — и будут составлять даже в середине двадцатого века! — характерность парижского городского пейзажа. Обладание этими балкончиками приобщало молодоженов к шумному и пестрому потоку городской жизни, текущему внизу под ними. С высоты пятого этажа были — правда, смутно, — видны очертания башен собора Парижской богоматери и неопределенное, манящее сияние Больших бульваров вдалеке.
Молодые люди были счастливы от того, что наконец соединились, и от уверенности, что никогда больше не расстанутся. Поэтому им казалось необходимым знать друг о друге все. Все, что происходило в долгий-долгий срок разлуки, бесконечно тянувшийся год. Этот год был для них поворотным. Особенно для нее. Та сила жизни, которая всегда переполняла ее и раньше казалась принадлежностью юности, теперь выявлялась как качество характера.
И внешне Клара переменилась.
Ее скромную учительскую прическу сменила другая: светлая челка делает ее лицо продолговатым. Щеки чуть-чуть впали. Глаза как будто углубились. Она вся стала крепче, увереннее.
Хотя весь этот год переписка между ними не затухала, Осип и Клара говорят без конца, стремясь заполнить ту брешь, которую пробила в их отношениях разлука.
Потом он предлагает:
— Пойдем, я покажу тебе площадь Звезды и Триумфальную арку со знаменитой «Марсельезой». — Он добавляет: — Я еще не видел ее.
— Как мог ты?..
— Без тебя это не считается. Я увижу ее заново.
Эта игра продолжается:
— Посмотрим на город. Отсюда, со ступенек Дома инвалидов. Я еще не был здесь…
— Сегодня я проведу тебя по Монмартру, мы поднимемся туда, на самый верх… Я давно хотел побывать там.
Была осень, незаметная, вкрадчивая осень большого города. По мостовой чередой шли фиакры с поднятым верхом и фонарями, зажженными у козел. Тротуары вспучились куполами зонтиков. Обочь торцовых мостовых неслись потоки мутной воды, уносящей утлые челны желтых листьев.
Но вдруг выглядывало солнце, и сразу становилось видно, что еще не тронута желтизной яркая зелень парка Монсури, свежа листва платанов, прозрачна вода лебединого озера и у парапетов мостов, завороженные, стоят, обнявшись, пары. Под аркадами церковных преддверий толстые жизнерадостные монахи разложили свой «божественный» товар, а у входа в кафе — маленькие веселые водовороты обычных посетителей… Эти кафе так отличаются от немецких! Здесь они выплескиваются на тротуар. И посетители сидят за столиками боком, повернувшись всем корпусом к улице. Они сидят так, словно в театре, с той только разницей, что сценой здесь служит улица с потоком гуляющих, со всем разнообразием лиц, фигур и типов парижской жизни.
Иногда, если у них заводились деньги, что случалось, впрочем, нечасто, Клара и Осип заходили в какое-нибудь скромное кафе, где брали по фужеру сидра или лимонада, и так же ставили свои стулья боком к столику, и так же часами наблюдали толпу. В этом зрелище было, действительно, нечто увлекательное и захватывающее и, действительно, сродни театральному. И если уступало театру в логически развертывающемся сюжете, то это вполне дополнялось фантазией молодых людей.
В Париже не было ни чопорности Берлина, ни некоторой старомодности Вены, ни прохладного и чуть провинциального покоя Цюриха.
Парижская жизнь была подобна широкому и стремительному потоку из многих струй, текущих с разной скоростью и разных по температуре. Блуждая по городу, двое молодых людей, фантазеры и реалисты, поэты и социологи, склонные в равной степени к мечте и к анализу, попадали то в ледяное течение, то в кипящий гейзер…
То были пласты жизни, лежащие рядом, но отличные друг от друга, противоречия давно сложившихся общественных отношений, картины жизни города, наиболее ясно воплотившего в себе черты времени.
Последние десятилетия века были как бы трамплином для прыжка, как бы исходными позициями, или, как сказали бы позже, взлетной площадкой нового века, века неслыханных катаклизмов, небывалых войн и могучих революций.
Новый век был еще на дальних подступах, но его дыхание достигало двух молодых людей, двух влюбленных, блуждавших по Парижу осенью 1883 года. Потому что они имели уши, чтобы слушать, и глаза, чтобы видеть. Они внимали трубному голосу эпохи и исповедовали самое передовое социальное учение своего века. Ему суждено было стать таковым и для веков грядущих.
Клара потом много раз бывала в Париже. Позднее он открылся ей, может быть, глубже, чем тогда, когда ее собственные ноги были единственным средством передвижения, а забота о хлебе насущном занимала слишком большое место в жизни… И все же она узнала Париж именно тогда. Это был Париж восьмидесятых годов девятнадцатого века. Мекка политической эмиграции.
Благодаря совершенному знанию языков и своему общительному нраву, Клара сразу стала своей в кругу не только немецких и русских эмигрантов, но также испанских и итальянских. Это была шумная и пестрая среда, взрывчатая сила которой умножалась молодостью и темпераментом.
Они встречались то в немецком рабочем клубе, то где-нибудь в дешевом кафе, то в тесной квартирке Цеткиных.
Осип нисколько не удивился, встретив однажды неподалеку от своего дома Людвига Тронке. И чему было удивляться? Тронке, правда, присутствовал на том собраний в Лейпциге, которое было захвачено полицией, но вообще он действовал где-то на дальней орбите организации. Это был незаметный мелковатый парень. Произнося свою фамилию, он удваивал букву «к», вероятно полагая, что это придает ему значительность.
— Что ты делаешь в Париже, Людвиг?
— Изучаю право. Не очень прилежно, впрочем, — Людвиг выступал в своем обычном амплуа вечного студента.
Цеткин вспомнил, что задания организации Тропке выполнял охотно и точно. И, конечно, то, что он знал Людвига давно, еще в России, тоже отразилось на отношении к нему.
— Если ты живешь в этом районе, приходи к нам, — сказал Осип.
Людвиг жил в этом районе. Он пришел.
Людвиг Тропке, молодой человек — ему только что минуло двадцать пять, — был провокатором не совсем обычного толка. Будучи немцем, Людвиг долго жил в России, где отец его представлял фирму швейных машин. Там он сошелся с революционно настроенными студентами. Людвиг Тропке согласился быть информатором не из-за куска хлеба. И не по идейным соображениям: он, в сущности, был аполитичен.
Нет, малопочтенное занятие привлекало его совсем другим. Людвиг был завистником… Он завидовал своим сверстникам, без оглядки «ушедшим в революцию». Их бесстрашию, их прямой линии жизни, их равнодушию к богатству, комфорту — черт возьми! — даже к карточной игре, к вину, к женщинам определенного рода.
Только однажды Людвиг высказался по этому поводу. И надо же, чтобы его собеседником оказался Цеткин. Осип тогда не ввязался в спор, не обрушился на Людвига, нет! Несколькими словами презрения он припечатал его с такой силой, что тот смертельно перепугался. Но он уже тогда умел владеть собой и быстро отступил на заранее подготовленные позиции. Это ведь только его минутные сомнения! Разве он не предан делу? Людвиг мог поручиться, что Цеткин начисто забыл этот разговор.
Людвиг помнил его всегда.
В Париже Тронке легко внедрился в эмигрантские политические круги. Царская охранка держала под особым прицелом колонию русских эмигрантов. Конечно, они интересовали русский сыск только с точки зрения их будущей деятельности. Беспорядочные, но содержательные донесения агента о супругах Цеткиных уводили несколько в сторону, однако были полезны. Они пополняли досье Осипа Цеткина важными сведениями, доказывающими, что руководители царской охранки не ошиблись, обратив свое внимание на молодого «выходца из Одессы, ведущего преступную пропаганду среди французских рабочих, а также политических эмигрантов всех национальностей». Того, что ее агент работает одновременно и на немцев, русская охранка просто не знала…
Клара естественно и быстро вошла в мир мужа. Прежде всего — в тесный круг руководителей Французской рабочей партии. Она познакомилась с Жюлем Гедом, в то время вместе с Полем Лафаргом возглавлявшим партию. С глубоким интересом слушала Клара его рассказы о свиданиях с Марксом и Энгельсом в Лондоне.
Клару поразила наружность Жюля Геда, его нервное продолговатое лицо, обрамленное пышной бородой, его руки, всегда в беспокойном движении, то взбрасывающие на переносицу пенсне, то протирающие его куском замши. Быстро меняющееся выражение лица. Его речь, изысканная и обдуманная.
Но более по душе пришелся Кларе Поль Лафарг. Ей подумалось, что профессия врача наложила на него свой отпечаток. Столько истинно человечного было во всем его облике, в обаятельной манере общения с людьми. Но какой непримиримостью мог он загораться, когда сталкивался с людишками, «виляющими, словно собачий хвост», как говорил Осип Цеткин, со всеми пытавшимися пересмотреть учение Маркса, вынуть из него революционную душу.
По-настоящему же Клара подружилась с Лаурой Лафарг, дочерью Карла Маркса. Дружба эта занимала большое место в жизни Клары. Глазами Лауры молодая Клара увидела многое, что было ново для нее в Париже. Лафарги являлись ей не только высоким примером борцов: в их личной жизни, в их любви видела Клара идеал семейной жизни.
От Лауры Клара услышала о том, что смутно представлялось ей раньше, — об отношениях Маркса и Энгельса.
Образ великой дружбы, нежной и требовательной, сцементированной общностью взглядов; дружбы, в которой было место всем радостям и всем горестям жизни, — витал над Кларой, когда она слушала Лауру. Это было множество историй, то забавных, потому что в этой семье ценили юмор, то печальных — потому что беды не щадили друзей. Трагические для Маркса годы реакции — изгнание, клевета, лютая нужда, ледяной ветер, врывающийся под крышу этой семьи, — все становилось легче от тепла дружеских рук, неизменно протянутых к нему с братской помощью.
Тогда, в Париже, в рассказах Лауры, Энгельс представился Кларе той своей стороной, которой он был обращен к семье Марксов, Генералом, как его звали, — там ведь любили шуточные прозвища, — бесконечно преданным, подчинившим свою жизнь интересам гениального друга.
Это последнее в глазах Клары придавало образу Энгельса некоторую жертвенность, некоторое самоотречение. И хотя оно входило в противоречие с характером, который рисовался Лаурой, — этот оттенок оставался. И только впоследствии личное знакомство начисто сняло его.
Дружба между Кларой и Лаурой возникла из общности их взглядов. Именно в это время обе они, хорошо знавшие трудную участь женщин-работниц и жен рабочих, пришли к мысли о создании организации по работе среди женщин, которая была бы частью общепартийной работы.
В то время эта мысль была результатом жизненных наблюдений двух молодых женщин, которые входили в рабочие жилища с номером «Социалиста» в руках, первых женщин — функционеров партии, полных энтузиазма, готовых передать подругам свой опыт, свои надежды, свою уверенность в победе.
В Сен-Антуанском предместье был в то время квартал, заселенный ремесленниками — мастерицами золотошвейных работ, вышивальщицами и кружевницами. Лаура и Клара сделались своими людьми в их семьях. Они вели беседы очень далекие от того, что понимали под агитацией ученые мужи из поссибилистов, правого крыла социалистического движения Франции. Они несли беднякам учение Маркса в доступной всякому рабочему человеку форме.
Они сеяли семена гневного протеста в душах молодых и смешливых, вопреки всем их бедам, искусниц, чьими руками и вкусом создавалась элегантность парижских богачек. И преждевременно увядшие женщины, потерявшие надежду обрести спокойную жизнь и человеческое достоинство, унижаемые всеми от скупщика до консьержки, измученные вечной угрозой лишиться заработка, крова, возможности вырастить своих детей, начинали понимать, что есть выход из беспросветности. И искали опоры в рабочем братстве.
Клара и Лаура стали своими среди пролетариев парижских предместий. В их колоннах они шли в тот блистающий майский день, под шуршащим шелком знамен, когда весь рабочий Париж заполнил улицы. Лаура и Клара были так счастливы! Солнце щедро заливало булыжные мостовые окраин, по которым текла и текла процессия. Женщины несли охапки цветов, извозчики на высоких козлах фиакров, выстроившихся вдоль тротуаров, махали своими цилиндрами и кричали им вслед: «Красотки! Мы готовы идти с вами хоть на край света, но куда деть лошадей?..»
Но чем ближе к кладбищу Пер-Лашез, тем строже становились лица и торжественнее звучали слова боевой песни. Той самой, которую Клара знала с детских лет.
Полиция напала, когда процессия, возложив цветы у Стены коммунаров, возвращалась с кладбища. Конный отряд разгонял демонстрантов. В свалке Клара потеряла Осипа. Он явился домой только в полночь. Одежда его была в крови.
— Ты ранен? — испугалась Клара.
— Нет. У меня пошла кровь горлом. Наверное, от простуды. Отлежусь.
Он действительно отлежался…
Осип Цеткин, талантливый журналист, политический обозреватель «Социал-демократа», «Фолькстрибюне» и других социалистических газет, стал известен в эти годы своими яркими и живыми очерками парижской жизни и статьями «Социализм во Франции после Парижской Коммуны», «Характерные черты рабочего движения».
Кларе была близка напряженная духовная жизнь мужа. Но помимо политики или, вернее, рядом с ней, поскольку мысль о красоте для всех была очень присуща Кларе, была ее мыслью, в Париже заново открылась для нее сфера искусства, литературы, живописи, музыки. Это было близкое ей с детства царство красоты и гармонии. Читавшая в подлиннике Шекспира, Мольера и Данте, знавшая по копиям и репродукциям шедевры Лувра и Национальной галереи, она окунулась в Париж — сокровищницу культуры — с восторгом неофита.
Вместе с тем это счастливое время было временем трудным. Город капиталистических контрастов и беспощадной эксплуатации, к концу века набирающей силу и темпы, заглатывал человека, как удав кролика. Цеткины выбивались из сил в поисках средств к жизни. Эти скудные средства давали им уроки, переводы — случайный заработок людей, не обеспеченных должностью.
Но пора главных забот пришла тогда, когда Цеткины стали родителями двух мальчиков. Им были даны русские имена Максим и Костя.
Клара испытала все тяготы нуждающихся женщин: выселение из квартиры за неуплату очередного взноса домохозяину, скитанья с детьми в поисках жилья, вечную горькую думу о благополучии семьи, болезни детей и мужа. Она, не очень-то избалованная жизнью, сейчас научилась отказывать себе в самом необходимом.
Осип все чаще болел. И незаметно для нее, но очень чувствительно для него центр тяжести их маленькой семьи переместился: теперь уже не он приобщал ее к своей работе и делился с ней новостями, принесенными «с пылу, с жару» парижской политической кухни и требовавшими немедленного отклика в социалистической прессе. Теперь эта роль чаще принадлежала Кларе. И если когда-то она становилась на цыпочки, чтобы увидеть то, что видит он в сегодняшнем мире, то теперь она стояла с ним рядом, а видела дальше, чем он. Потому что жизнь неумолимо обтекала его. Он был действительно очень болен…
Клара несла свою ношу без ропота. Она не позволяла себе опускать руки. Ее любовь питала ее надежды и тогда, когда для них оставалось так мало места.
Однажды, когда она пришла веселая и гордая, еще с порога объявив, что получила гонорар за очередную работу, и как всегда, прежде чем за что-нибудь взяться, даже прежде, чем заняться детьми, присела на ручку кресла, с которого Осин теперь все реже поднимался, он сказал:
— Я много в жизни ошибался. Но в одном мне повезло. Я не ошибся в тебе. Когда ты впервые попалась мне на глаза в этом смешном кружке с лепечущими какие-то благоглупости девицами и юнцами, я тогда решил, что эта лужица не по тебе. Что тебе суждено большое плавание, большой полет. Все-таки я — партийный пропагандист и могу распознать человека. Что он? Робкий росток, который увянет завтра, или крепкое деревцо, которое будет расти и расти…
— Ты ужасно расхвастался! — сказала Клара, не показывая, до какой степени ее тронули его слова. — Выпей-ка чашку бульона!
Она опустилась на скамеечку у его ног и сказала весело:
— Мой любящий муж всегда преувеличивает значение моей особы. Но если я чего-нибудь стою, то только благодаря тебе, Осип. В каждом человеке что-то заложено. Каждый несет свой секрет в потайном ящичке души, который открывается от толчка. От толчка, который будит то, что сидело взаперти. Это может быть алчность Гобсека или благородство Гамлета. Ты согласен?
— Да. С одним дополнением: этот толчок чаще всего дают обстоятельства жизни. Жизни в определенном обществе.
— Или счастливая встреча с человеком… — лукаво добавляет Клара. И вот она уже снует по комнате, делая тысячу мелких дел, которые мошкарой облепляют ее, как только она переступает порог их мансарды.
Болезнь ограничила его жизнь. Осип особенно остро чувствовал: это бедное пристанище — их дом, и Клара вносила в него жизнь и дыхание своей цветущей молодости, энергии и веселья.
— С тобой мне всегда весело. Даже тогда, когда для этого мало причин, — ему хотелось, чтобы она не замечала его углубленности в себя, в свою болезнь.
— Почему нет причин? Причины есть всегда. А сейчас особенно. Твоя статья так хорошо принята.
Он не напоминает ей, что статья была закончена ею. Как и некоторые другие… Да, из Клары получается политический обозреватель высокого класса. У нее зоркий глаз, а то, что она так образованна, расширяет ее возможности. Она обладает даром диалектического мышления, и хватка у нее чисто мужская. Она припечатывает сарказмом, едкой насмешкой явление или персону, не зная компромисса. Но ей еще расти!
Так он думал, стараясь быть объективным. Но это была его жена, любимая им женщина. И мысли тонули в нежности и грусти от предчувствия близкой разлуки.
Здоровье его ухудшалось. Это была болезнь каменных мешков царских тюрем и бисмарковских казематов, болезнь долгих лет нужды. Она унесла Осипа Цеткина, когда ему еще не было сорока лет. Он пал жертвой, как пали многие в неравном бою со строем.
Стоял солнечный январский день, но уже потеплело дыхание ветра, раскутывали свои платки консьержки, и модницы выскальзывали из пушистых шубок, облачаясь в обшитые мехом ротонды.
Посреди комнаты, убогость которой вдруг выступила из каждой ее щели, стояла молодая женщина. Она не причитала, не ломала руки. И не плакала. Когда горе так велико, когда оно поражает тебя в самое сердце, нет места слезам.
Ею овладело странное чувство: словно она видит страшный сон. Надо проснуться, чтобы вернуть последний миг счастья: слабое пожатие его руки, легкое дыхание, тихие слова любви…
Окончился скромный обряд на кладбище для бедных. Горькие и скорбные, отзвучали слова товарищей. Позже они будут повторены столбцами социалистических газет: «Еще одна жертва жестоких классовых боев и закона против социалистов. Русский революционер Осип Цеткин заслужил глубокую благодарность рабочих».
В мансарду серого дома на улице Клиши вернулась убитая горем Клара. Опустевшая комната показалась ей незнакомой.
«Какие страшные обои!» — странно подумалось ей, как будто это имело теперь какое-нибудь значение. То, что казалось раньше цветами, походило скорее всего на растрепанные кочаны капусты.
Она открыла дверь на железный балкончик. Вместе с морозным воздухом до нее донеслось пение, выкрики, шум толпы. Она посмотрела вниз: зрелище карнавала, пестрые бумажные фонарики, маски, ликование оскорбили ее. Она глянула вдаль: в серпантинном обрамлении огней чуждым, незнакомым видением высилась до самых облаков железная ажурная башня. Возгласы в толпе внизу: «Вива, Эйфель!» — открыли ей свое значение: Александр Гюстав Эйфель закончил постройку своей знаменитой башни! И сейчас, празднично освещенная, она вознеслась над Парижем, словно родилась из мрака этой ночью…
Клара воспринимала все тупо, равнодушно, как нечто очень-очень далекое и ненужное ей. Она была одна в этой пустой комнате со страшными обоями. Ее дети спали у соседки за стеной.
Она не имела права предаваться отчаянию. У нее были дети. И дело. Их дети, ее и мужа. И дело тоже — ее и мужа.
Глава 2
Это была бурная пора — лето 1889 года. Клара была захвачена подготовкой к Учредительному конгрессу Второго Интернационала.
Он открывался четырнадцатого июля, в день народного праздника, в этом году особенно знаменательный, потому что исполнилось сто лет со дня взятия Бастилии.
Уже не было в живых Маркса, не мог приехать на конгресс Энгельс, но он руководил всей его подготовкой.
Энгельс теребил Лафарга, настаивая на полном размежевании; уже ясно наметились разные пути: оппортунистический — поссибилизма — и марксистский.
На последний звали Рабочая партия Франции и Социалистическая рабочая партия Германии.
Клара принадлежала к самой боевой и деятельной группе последователей учения Маркса. Она читала письма Энгельса, адресованные Лафаргам. В своих выступлениях на рабочих собраниях и в статьях она проводила основную мысль организаторов конгресса: Второй Интернационал должен подготовить международный рабочий класс к пролетарской революции!
Задача была сформулирована ясно, выполнение ее требовало прежде всего разрыва с оппортунистами.
Энгельс обратил внимание на боевые статьи и выступления Клары Цеткин. Энгельс написал Лафаргу, что находит превосходной статью Цеткин в «Берлинертрибюне».
В этом же году вышла брошюра Клары «Работницы и женский вопрос сегодня». Она вышла в серии «Берлинская рабочая библиотека» в издательстве «Берлинер Фолькстрибюне». Скромная брошюра, стоившая всего двадцать пфеннигов, чтобы каждая работница могла ее купить, — первая книга Клары. Ее замысел она обсуждала со своим мужем, его свет падал на каждую страницу…
Клара еще недавно с трудом преодолевала робость, мешавшую ей говорить публично. Ее пугала глубина зала, сотнями взглядов нацеленная на оратора. И будь это сцена или даже маленькое возвышение в центре зала — уже само оно пугало! Она боится быть непонятой или, что еще хуже, понятой превратно. Осмеянной. Или облитой холодным равнодушием.
Клара не запомнила, когда наступил перелом, но в ее памяти жило воспоминание о первом публичном выступлении. Она тогда приехала в Германию из Парижа на короткий срок, и товарищи просили ее выступить перед небольшой рабочей аудиторией в Зеллерхаузене.
Может быть, она так бы и не решилась, если бы Осип со свойственной ему иронией не написал ей: «Неужели, Клара, даже ты в плену предрассудков и предоставляешь трибуну только мужчинам?»
Это было время исключительного закона. Сыщики рыскали по району, где должна была появиться Клара Цеткин, уже причинившая им много хлопот.
Но Клара умела преображаться. В типичной домохозяйке из пригорода, которая, даже не сбросив передника, с корзинкой в руках, забежала в местный ресторанчик, трудно было угадать злокозненную агитаторшу.
А когда Клара уже стояла посреди туго набитого людьми зала, дозорные охраняли вход, чтобы собрание успело превратиться в безобидное празднование какого-нибудь местного события: юбилея пожарной команды или городской бани.
Она запомнила этот скромный ресторанчик, носивший поэтическое название «Золотая долина». Слово «золотая» писалось на вывеске как старинное поэтическое «güldene», а не современное «goldene». Это было как-то трогательно. И так же трогательны были лица ее слушателей и то теплое, как бы родственное отношение к ней, к ее несмелости, к искреннему рассказу о человеческих судьбах, о положении рабочих в бисмарковской Германии. О том, что они, в сущности, сами знали из своего жизненного опыта, но над чем не задумывались, считая это неизбежным злом жизни.
Когда Клара говорила о рабочем люде Франции, она рисовала фигуры маленьких парижских золото-швей, слепивших глаза в полутемных подвалах над великолепными платьями богачек; удивительных мастеров — башмачников, до поздней ночи сгорбленных над верстаком; портных, сидящих со скрещенными ногами, с сантиметром на шее, на столе под керосиновой лампой; каменщиков, осыпанных кирпичной пылью; кузнецов в кожаных фартуках, с ладонями в шрамах от старых ожогов; синеблузников — мастеровых, острых на язык в перепалке с хозяйскими прислужниками и решительных в классовых схватках…
Клара делала их близкими своим слушателям. Это была общность, презревшая границы государств. Узы более значительные и крепкие, чем принадлежность к нации. Общность и узы класса.
Клара запомнила «Золотую долину», зеленые ставни на окнах первого этажа, герани на подоконниках, тускловатый фонарь у входа. Тишину собрания, сначала смутившую ее, а затем подбодрившую. И даже гудки паровоза, который тащил тяжелый состав совсем близко — в окна были видны фермы железнодорожного моста, — никому не мешали.
Ей казалось, что она помнит даже некоторые лица, особенно женские, на которых было написано внимание и удовлетворение. От того, что вот они собрались и слушают, может быть, впервые речь своей молодой подруги, тоже женщины, тоже немки, которая пришла к ним, не побоявшись ареста, высылки или даже тюрьмы. Эти женщины, работницы и жены рабочих, знали почем фунт лиха в стране Железного канцлера.
Видение «Золотой долины» жило в Кларе и потому, что это первое ее выступление было на нелегальном собрании. И еще потому, что в ее памяти оно связывалось с добрым участием к ней Вильгельма Либкнехта. Высланный из Лейпцига в первые же дни исключительного закона, он жил в Борсдорфе, где Клара и посетила его.
…И теперь, вспоминая тот день, в общем еще недавний и вместе с тем очень далекий, потому что в ее жизни произошло с тех пор такое непоправимое и значительное, Клара готовилась к выступлению на конгрессе.
Впервые на международную трибуну поднялась женщина с призывом бороться рядом с мужчинами за идеалы социализма.
На конгрессе Клара снова встретилась со своими учителями, чье слово так много значило для нее: Августом Бебелем и Вильгельмом Либкнехтом. Отныне она долгие годы будет рядом с ними в решающих схватках нового и сложного времени.
Под гром салютов, в сверкании фейерверков вступил на трон Вильгельм Второй.
Кайзер произносил длинные речи — он действительно обладал ораторским даром, музицировал, покровительствовал искусствам.
Все говорили о блестящих придворных балах, прогулках и охотах. Немногие знали о недовольстве, зреющем в недрах Рурских шахт, о растущей решимости горняков Саксонии, Силезии, Саара.
И в то самое время, когда реки Германии, вскрыв ледяной покров, широко и вольно разливались в долинах, сломав оковы железных законов, поднялись из забоев, спустились с горных рудников, бросили кайла и молотки, остановили врубовые машины стачечники — горняки всей страны!
Правительство бросило против рабочих войска.
Кайзер музицировал, произносил речи, выезжал на охоту; все говорили о его красноречии, о его меткой стрельбе, о его музыкальности. Никто не говорил о секретных маневрах, о тайных «военных играх», в которых эвентуальным противником была Англия.
Но в покоях гогенцоллерновских дворцов уже витала мечта о новом оружии. Молниеносном! Безошибочном! Беспощадном!
Пауза, необходимая для того чтобы откинуть ружейный затвор, выбросить гильзу, вложить патрон, была сведена к минимуму усилиями многих поколений фельдфебелей, равно как и капралов и унтеров. И все же эта пауза входила в вопиющее противоречие с быстрым действием новейших станков современной промышленности.
Германская индустрия набирала силу. Германская военная машина подгоняла ее.
Расталкивая локтями соперников, германский империализм ломился к мировому владычеству, самый свирепый и самый разбойничий. Самый глазастый. Самый рукастый.
Где бы ни послышался гром пушек или звон золота, где бы ни учуялся запах пороха или нефти, — устремлялись на них верные вассалы Капитала.
За тридевять земель от Германии идет Испано-Американская война. Война нового типа: не за честь правителя, не из-за религиозных распрей — за рынки сбыта и дешевую рабочую силу.
И за тридевять земель на всех парусах спешит поближе к войне кайзеровская эскадра. И водружает знамя Железной империи над Каролинскими островами!
Рейхстаг штампует своим решением уже состоявшееся увеличение армии. Скоро под ружье призовутся все мужчины Германии!
Войска ведь требуются и для подавления рабочего движения, которое ширится, вопреки воплям соглашателей о классовом мире.
Сменяются рулевые у кормила государства, но остаются бессменно наверху, на капитанском мостике знаменитые на весь мир концерны, истинные господа мира.
Исключительный закон пал. Бисмарк ушел в отставку.
Изгнанники возвращались на родину.
Вернулась и Клара с двумя маленькими сыновьями. Ее тепло, по-родственному встретили сестра и брат, теперь педагог в Лейпциге. Но Клара не осталась в городе ее юности. Она приняла предложение партийного издательства в Штутгарте: речь шла о работе, о которой она всегда мечтала.
Тихий южногерманский город представился Кларе разными своими сторонами.
Клара быстро раскусила «отцов города», которые числились социал-демократами, но хотели жить в мире с буржуазными партиями всех толков. Зато Кларе открылся близкий, знакомый мир пролетарских кварталов. Она охотно взяла на себя работу в профсоюзах: у печатников, деревообделочников, швейников. Она сблизилась со многими рабочими семьями.
И с радостью встретилась со старой подругой Эммой Тагер. Ее муж Пауль ввел Клару в крепкое товарищество штутгартских швейников. Это был сплоченный коллектив, сильный опытом и классовым сознанием.
Потеряв своего первенца, Эмма и Пауль дрожали над своими детьми — Лео и Лоттой. Кларе была по душе их сдержанная и страстная родительская любовь. Она сама была полна этим чувством, хотя никогда не баловала своих мальчиков. Максим и Костя росли маленькими мужчинами, редко и скупо выказывавшими свою любовь к матери и гордость ею.
В маленький домик Тагеров, неподалеку от городских ворот, и пришла перво-наперво Клара с новостью: ей предложили стать редактором газеты для женщин. Газета носила программное название «Равенство».
— В общем-то, «Равенство» до сих пор — довольно серенькое издание. Оно вносит в рабочий дом политические новости в достаточно пережеванном виде. И огромное количество полезных, по преимуществу хозяйственных советов, — думала вслух Клара.
— По правде, — сказал Пауль, попыхивая трубкой с длинным чубуком, — я не знаю, на месте ли вы будете в этой кухне, где торговля островами освещается наравне с инструкцией по засолке огурцов…
— Но все это можно и нужно изменить, — разгорячилась Клара, — поставить на новые рельсы! Это по плечу мне!
Вскоре Клара стала редактором «Равенства». Девятого января 1892 года вышел первый номер. Редакция «Равенства» обращалась к читателю:
«Редакция просит всех друзей женского рабочего движения способствовать распространению нашей газеты, которая всегда будет активной помощницей женщин-работниц в их борьбе».
Итак, «Равенство»… Газета для немецких работниц. Впрочем, было бы хорошо, если бы на ее страницы заглядывали и мужчины! Газета дает бой «мужским» предрассудкам: многие, да, к сожалению, еще многие рабочие не желают, чтобы их жены, а тем более дочери ходили на собрания, читали политическую литературу.
Газета дает бой феминизму.
Феминистки — дамы из буржуазной интеллигенции — ратовали за равноправие женщин в рамках буржуазного общества, не помышляя о его низвержении. Они снискали себе славу истерическими выступлениями и скандальными выходками и прослыли опасными фуриями, вооруженными длинными булавками для шляп…
При всей юмористичности фигуры феминистки, как она рисовалась реакционной прессой, движение это несло известную опасность, потому что феминистки усиленно вербовали сторонниц среди трудящихся женщин.
На страницах «Равенства» разоблачалась болтовня о «великом сестринстве», о единстве интересов буржуазной дамы и работницы.
Клара вкладывала в организацию газеты все свои разносторонние способности. В ней нашлось место и художественно-литературным произведениям: рассказам и стихам первоклассных авторов, к ней прилагались специальные страницы для детей.
Клара близко сошлась в это время с Эммой Ирер. Эмма Ирер — ровесница Клары, курносая толстушка с тугими косами, выложенными кренделем на затылке, — не обладала полемическим блеском Клары, но была опытным издательским работником и видной деятельницей рабочего движения. Позже помощницей Клары стала также журналистка и педагог Кете Дункер. Она вела в газете «Приложение для детей».
Штутгарт не был еще тем бойким промышленным городом, каким стал много лет спустя. Живописный городок со множеством готических зданий разбросался в долине светлого Неккара, его гордости и украшения, бесконечно воспеваемого поэтами и музыкантами: «У Неккара, у Неккара, где так светла вода, там в солнечном сиянии купается земля…»
«Отцы города», принадлежавшие к верхушке социал-демократической организации Штутгарта, хотели спокойно жить и купаться в солнечном сиянии у светлой воды.
Они имели к тому все возможности, так как принадлежали к кругам имущих горожан. Среди них был владелец швейной фабрики, которая не так давно выросла из пеленок мануфактуры, но уже стала настоящим капиталистическим предприятием; староста перчаточного цеха, сколотивший себе капитал на внедрении механизмов, сразу покончивших с патриархальностью в этом деле; монополист кондитерского производства, держащий в своих руках все, что объединяется вкусным словом «файнбекерай». Ресторатор Кунде считался в этой компании уже чистым пролетарием: у него всего-то было пять пивных в Штутгарте и окрестностях и один приличный ресторан.
Все это были люди пожилые, усатые мужчины, пузатые, поскольку тут в чести было пиво: и темное, и светлое, и портер, и мюнхенское, и пильзенское, и баварское, и всякое другое. Они носили высокие накрахмаленные воротнички и с большим опозданием усвоили французскую моду закручивать в стрелку кончики усов.
Во всем остальном они не поддавались никаким современным влияниям. То обстоятельство, что именно в их городе родился великий и несравненный Гегель, склоняло их к философии. Они разрешали все мировые проблемы за столом привычной бирхалле. И когда с важным видом они обменивались трюизмами за сдвинутыми столиками, уставленными пивными кружками, им казалось, что сам Георг Вильгельм Фридрих Гегель сидит среди них с жидким начесом над высоким лбом, с длинными волосами по плечам и тонкой шеей в белом платке. С брезгливым взглядом прищуренных глаз.
Впрочем, более или менее длительное интеллектуальное усилие утомляло этих господ. И они проходили в заднее помещение, где можно было сыграть партию в кегли, поставив на барьер кружку с пивом.
Исключение в их обществе составлял Куурпат — домовладелец. Он был охотник, сюртука и крахмального белья не носил, а щеголял в зеленой кожаной куртке и тирольской шляпе с крылышком куропатки. Пива он не пил, потому что пил шнапс. В пивной не сидел, потому что имел молодую жену и опасался…
Все эти господа в свое время отлично приспособились к закону против социалистов и не имели от него никаких неприятностей. Они спокойно взирали на бесчеловечные условия жизни рабочих и аресты нелегалов.
Они называли себя социал-демократами, но не отказывались выступать в блоке с католиками или либералами. В соответствующие даты они посылали поздравления коронованным особам, обстоятельно обсуждая их текст и соревнуясь в верноподданнических чувствах. Они жили спокойно и хотели так жить дальше. Клара свалилась на них как снег на голову.
Темпераментная молодая революционерка — женщина! Они почесали затылки и туже закрутили кончики усов. Охотник Куурпат, слывший трезвым реалистом, сказал, что это знамение времени!
Растерянность в умах способствовала тому, что Клара заняла особое место в штутгартской организации, быстро найдя общий язык с пролетариями, объединенными многочисленными профсоюзами.
Клара выступала на больших рабочих собраниях. Ее полюбили за решительные и прямые высказывания. За отличный образный язык, за беспощадные и остроумные выпады в адрес противников. И даже за своеобразную, только ей присущую манеру запросто обращаться к любому из слушателей. Ее популярность росла, и отцы города в конце концов признали Клару Цеткин энергичной и деловой женщиной и, немного побаиваясь ее бескомпромиссности, отчасти даже гордились его, решив, что она «внесла в мирный Штутгарт веяния века, пропитавшись ими в Париже».
Они пригласили Клару вместе сфотографироваться, что считалось у них первейшим актом солидарности.
Клара надела свою модную большую шляпу с целым цветником на ней и, давясь от смеха, села в середине. Четыре усача расположились по обе стороны. Пятый улегся на ковер у их ног.
— Для живописности, — сказала Клара.
Никто не улыбнулся.
Куурпата не пригласили фотографироваться, так как сомневались, что он наденет крахмальный воротничок.
Усачи смотрели в аппарат столь усердно, что Клара не выдержала:
— Господин Фохт! Вы выглядите так торжественно! Почти так же, как на том снимке, где вы подписываете приветствие Бисмарку!
Она это тоже знает?
Действительно, они послали приветствие канцлеру в день его рождения. Все посылали. Почему они в Штутгарте должны быть умнее всех? И что с того, что они социал-демократы! Почему они должны отделяться от всех?
— Фрау Цеткин считает, что раз мы социал-демократы, то должны отделяться от всех? — спрашивает Фохт уже вслух и видит, что Кунде подает Кларе пальто, а у самого уши — торчком: он уже предвидит с ее стороны какую-нибудь ядовитую шутку.
— Нет, почему же? — отвечает Клара спокойно. — Я считаю, что мы не должны отделяться от рабочих масс, которые и не помышляют о приветствии канцлеру… бывшему канцлеру!
И добавляет, поднимая воротник своего легкого пальто:
— А если бы они и написали ему, то там были бы совсем другие слова, чем в вашем послании! До свидания, господин Фохт! Добрый вечер, господин Кунде!
Через несколько минут она в юмористических топах передает всю сцену друзьям.
В квартире Тагеров собрались товарищи. Здесь, кроме хозяев, — профсоюзный деятель Курт Рааб, получивший прозвище Лютый за свои бескомпромиссные выступления против хозяев. Он еще молод. Когда он не на трибуне и не в центре спорщиков, это тишайший человек. Даже стеснительный. Его маленькая жена Мария, работница перчаточной мастерской, наоборот, бойка за столом и тушуется, если ей приходится сказать на собрании всего только три слова: «Просят не курить».
Приход Клары кладет конец обсуждению конфликта с хозяевами швейной фабрики.
— Нечего тут обсуждать, — считает Клара. — Владельцы отвергли элементарные требования рабочих: упорядочить расценки. Надо их принудить…
— Я того же мнения, — Пауль всегда поддерживает Клару.
Курт Рааб задумчиво грызет ноготь.
— Да что в конце концов тебя смущает, Курт? — с досадой спрашивает Пауль.
— Лично меня — ничего! Но хозяин наш, господин Фохт, такой же социал-демократ, как мы с вами…
— Нет, вовсе не такой! — возражает Клара. — Я против того, чтобы мерзкие дела прикрывались именем партии!..
— Абсолютно согласен, — Курт ерошит свою шевелюру, — но мне хотелось бы прежде всего разоблачить Фохта как бесстыдного эксплуататора. Тем более отвратительного, что он прикрывается партийностью. Именно Фохт узаконил приставания мастеров к молодым работницам. Некоторые из этих людей завели себе прямо-таки гаремы.
— Призови этого Фохта вместе с его мастерами к порядку, Клара! Через «Равенство»! — горячо воскликнула Эмма. — Нельзя же спускать этим кобелям!
Клара задумалась:
— Это надо сделать тактично. Не называя фамилий девушек. Мы должны это продумать, Курт…
Они засиделись допоздна, обдумывая и набрасывая план выступления в газете.
Клара выходит на вечернюю улицу. Боже мой, как здесь тихо после Парижа! Здесь — юг, уже скоро набухнут почки. И Неккар станет полноводным от ручьев, бегущих с холмов. Она не замечает, что вышла за черту города и теперь поднимается по тропинке вверх, все вверх… Что ее привлекает там, на вершине? Там только одинокая скамейка под деревом. Это ольха. Любимое Кларино дерево. Оно такое скромное и стойкое. В нем нет изысканности клена и величия граба. И грациозности березы, и загадочности ивы. Ольха — вездесущая. У них в Германии она спускается вниз к водоемам и поднимается очень высоко на горные склоны, на тысячи метров.
Сережки, висящие на этой стройной ольхе, ветки которой простерты над скамейкой, как добрые руки, вот-вот распустятся. И только потом появятся листья. Да, дерево кажется совсем мертвым, но все-таки вот-вот распустятся сережки.
Она сидит здесь несколько минут в задумчивости. Губы шепчут:
И грусть придет сюда с поникшею главой И склонится вот здесь, у бурного потока, Отдавшись рою грез, задумавшись глубоко. Иль станет здесь ходить неслышною стопой, И шаг свой замедлять, оглядываться, слушать… Как будто может что сон мертвого нарушить?..Она смотрит вниз. Город в котловине, наполненной предвесенней туманной дымкой, похож на старинный гобелен с объемно выступающими стенами ратуши, двух церквей, тесно друг к другу поставленных, аккуратных домов под зелеными железными и красными черепичными крышами. Там, в котловине, жизнь. И ее дети. И ее дело. Ее судьба. И она идет ей навстречу, умудренная, очень далекая от иллюзий и рационалистичная, но вместе с тем в чем-то мечтательница!
Поезд приближался к Лейпцигу.
Клара старалась думать о предстоящих ей выступлениях на больших собраниях рабочих и интеллигенции, мысленно собрать основные положения своего доклада. Теперь это уже не скромное зальце загородной «Золотой долины», не задняя комната кабачка Сальмана на северной окраине города. Клара будет выступать в большом зале «Пантеона» и в новом профсоюзном клубе…
Мысли уводили Клару далеко. Она приближалась к местам, где было пережито много тяжелого и много радостного. Но когда она оборачивалась назад, все мрачное отступало, а счастье, казалось, заливало все дни ее молодости, и тени разбегались по углам, как в комнате, в которой распахнули ставни и впустили солнце.
Поезд проносил ее мимо весенних полей, мимо аккуратных деревень и поселков, и она отмечала все перемены в ландшафте, мелькающем в окнах вагона: выросшие на берегах реки фабричные корпуса, и частую сеть подъездных путей, и густые дымы множества труб, и вышки торфяных разработок, и броские рекламы торговых домов, акционерных обществ, компаний… Вот уже и город встает вдали!
Ей кажется, что она различает шпиль древней ратуши, колонны с рельефами Августеума, массивные фермы моста.
В этом городе свежа еще могила ее матери. Здесь ее брат и сестра, которые по-настоящему близки ей. В нем — ее воспоминания…
Она уже жалеет, что не известила родных о своем приезде, — так одиноко ей сейчас. Поезд подходит к платформе. Что происходит здесь? Почему так много народу? И цветов? Можно подумать, что этим поездом прибывает имперский министр или сам кайзер. Можно было бы, но наметанным глазом она видит, что в толпе больше всего рабочих. И, как ни странно, работниц. И хотя они все одеты по-праздничному, она распознает их.
Буржуа разных стран вовсе не похожи друг на друга. И французский рантье всем своим видом отличается от немецкого шибера. А рабочие всюду имеют нечто общее. И даже работницы. Только меньше косметики и побрякушек, чем у француженок. «И меньше талии, — с улыбкой заключает она. — А мужчины успели сменить рабочие кепочки на шляпы…»
Теперь она видит, что над толпой на перроне реет красное полотнище, она различает знакомые слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Да здравствует Социал-демократическая партия Германии!».
Поезд останавливается, и разом открываются двери всех купе. Клара еще стоит на ступеньках, когда толпа окружает ее. Ей протягивают цветы, она оказывается плотно замкнутой в кольце улыбающихся и громко приветствующих ее незнакомых людей. И какой-то пожилой здоровяк, чья голова возвышается надо всеми, басовито кричит: «Да здравствует наша Клара!»
Растерянная и оглушенная, она отвечает на приветствия. Она растрогана почти до слез. Она еще не знает, что станет «нашей Кларой» не для одного поколения рабочих Германии. Не знает, что будет с честью носить это имя много-много лет…
И оживленно переговариваясь с товарищами, выходит на вокзальную площадь.
Собственно она хотела заехать к брату, но у нее сразу образуется так много дел. Ей надо посмотреть программу выступлений и поговорить с товарищем из Лейпцигского комитета об обстановке на предприятиях. Она соглашается поехать в гостиницу.
Если пригороды выдают растущую индустриальную мощь Лейпцига, то сам город говорит о ней языком реклам. Они слишком ярки для старого города. Их слишком много, они придают несвойственное ему беспокойство своими императивами и понуканьем: «Спешите покупать!», «Скорее!», «Только у нас!», «Лучшие в мире!».
— Похоже, что город полон пральгансов[6]! — говорит Клара.
Нервозность большой конкуренции проникает даже в область духовной жизни: на том месте, где вольготно раскидывался книжный базар и букинисты, медлительные и молчаливые, сидели на высоких стульчиках с достоинством обладателей духовного товара, стоит павильон, раскрашенный беспокойно и назойливо. Его витрины цепляют прохожих на крючок пестрыми выпусками недавно вошедших в моду «криминаль-романов».
«Новый, лучший в городе ресторан!» — самонадеянно вещает реклама. С удивлением Клара читает вывеску: «У павлина». Да, над башенкой здания медленно поворачивается на малом ветру павлин с распущенным хвостом.
— Сюда переехал «Павлин»? — удивляется Клара.
— Нет, ресторатор Кляйнфет открыл здесь филиал. У него еще несколько заведений. И старый «Павлин» уже совсем не та уютная харчевня, которую до сих пор нахваливает мой отец. Там теперь собираются «сливки общества».
«Его отец?.. Да, товарищ Курт молод, ему не более двадцати пяти».
— Значит, Гейнц Кляйнфет процветает?
— О да, товарищ Клара. С тех пор как он женился на дочке мукомола Шманке, его состояние удвоилось. Как и он сам, Гейнц едва пролезает в дверь. И наши остряки утверждают, что магистрат постановил выкинуть первый слог из его фамилии[7].
«У меня есть деньги! Целых три марки!..» — вспоминает Клара и печально улыбается.
— Он всегда был не прочь поесть, — говорит она. — Когда-то мы были дружны.
Курт смотрит удивленно на товарища Цеткин: что общего может быть между обрюзгшим бюргером и подтянутой, энергичной партийной деятельницей, «нашей Кларой»?
Она понимает ход его мыслей. Но ему трудно понять, какие чувства бушуют в ней, когда они проезжают мимо колоннады Августеума с рельефами Ритчеля, ничуть не поблекшими от времени, мимо Иоганнапарка, еще более разросшегося, так что даже не виден горбатый мостик. Тот самый мостик… А там, за углом, совсем недалеко, серый дом на Мошелесштрассе. И в первом этаже… Это там сидели за круглым столом в свете розовой лампы отец и мать и радовались, что устроилась судьба их старшей…
— Плавают еще лебеди на озере в парке? — вдруг спрашивает она.
— Озеро сейчас осушено, там работают землечерпалки: углубляют дно.
Клара молчит. Она не знает, что этот любимый ею парк будет носить ее имя…
Она задает еще только один вопрос: знает ли товарищ Курт Августу Шмидт? Да, он слыхал о ней. Когда-то она была очень прогрессивным педагогом. В буржуазном смысле слова, конечно. Но теперь о ней ничего не слышно. Это ведь, кажется, очень почтенная дама?
Да, Августе Шмидт должно быть за пятьдесят. Клара видит ее полное лицо с чуть приспущенными уголками глаз, ее добрую улыбку. Они не виделись после их разрыва. Как давно это было!
— Это наш самый приличный отель, — говорит Курт.
Господи! Теперь это называется «отель», а когда-то, если она не ошибается, на месте этого шикарного подъезда была просто-напросто коновязь…
— «Астория», конечно, шикарнее, — продолжает Курт, — но мы бойкотируем ее: Гашке, владелец «Астории», — страшная сволочь, на его кожевенной фабрике творятся такие безобразия…
— Как, старый плут Лео Гашке жив? — удивляется Клара. — Он еще в мои школьные годы был развалиной.
— Нет, Лео Гашке умер. Но его наследник превзошел отца. Недавно у него бастовали и добились уступок.
Его наследник! Это Густав Гашке, он посещал их кружок и лучше всех читал Гейне…
— Впрочем, это не мешает ему быть членом партии. И с этим у нас мирятся! — негодующе говорит Курт.
«На свете, друг Горацио, есть такие чудеса, которые не снились нашим мудрецам», — думает Клара.
Она остается одна в своем номере, открывает окна. Отсюда видна улица, обсаженная каштанами. Их розовые, белые и красные свечи поднимутся еще нескоро. Но Кларе чудится, что до нее доходит их сладковатый аромат.
Вечером Клара выступала в «Пантеоне», на Дрезденерштрассе. Здесь когда-то она впервые слышала страстную речь Августа Бебеля. Она и не помышляла тогда, что осмелится подняться на эту трибуну.
Проходя мимо зеркала, она оглядывает себя: пожалуй, те, кто знал ее когда-то, могут и не узнать. Впрочем, короткая стрижка молодит ее. Ее платье с вышивкой на закрытом вороте и на плече, со сборками и буфами на рукавах — тоже дань моде. Клара терпеть не может «синих чулков» — этих дам, которые считают, что первый шаг к женскому равноправию — спущенные чулки и непричесанная голова.
Клара чувствовала себя в хорошей ораторской форме. Аудитория «Пантеона» интеллигентская, даже буржуазная. Здесь у нее, конечно, есть единомышленники. Но многие пришли из любопытства. Или — по воле времени.
Да, теперь стало модно болтать о женском равноправии. Никто уже не печатает карикатур на женщин — зубных врачей, усаживающихся на колени пациента, чтобы вырвать ему зуб. Или на женщину-кассира, застрявшую в окошечке кассы из-за своей непомерно большой шляпы.
Всю эту дурь как рукой сняло, когда появилась потребность включить женщин в многочисленную армию эксплуатируемых. И сразу начались вопли феминисток о праве женщины быть «юридическим лицом» и подписывать деловые бумаги… Оставим эти хлопоты буржуазным дамам!
Наша партия за права женщин на равную с мужчинами оплату труда. За охрану материнства. За равные права в выборах. Полную свободу женящие даст только пролетарская революция. И в борьбе за нее женщины — большая сила!
Как всегда, Клара не довольствуется абстрактными выводами: она оперирует богатым материалом, который дают ей письма читательниц «Равенства». Готовясь к выступлениям в Лейпциге, она подобрала факты. Они заставляют кое-кого в зале поежиться, словно от холодного, колючего ветерка: похоже, что времена сильно переменились, если такие слова произносятся под сводами «Пантеона»! Речь идет — увы! — не о каких-нибудь культурных, просветительных мероприятиях, чего можно было бы ожидать от такой образованной дамы, как фрау Эйснер-Цеткин, не о приличных реформах — а о новом обществе! Новом строе!..
Впрочем, многие из присутствующих относятся к этому строю как к пророчествам об остывании солнца: «Когда-то еще это будет! До тех пор наука что-нибудь да придумает». Гораздо опаснее призывы к борьбе рабочих за этот строй уже сейчас. Призрак коммунизма еще, может быть, остается призраком, но твои рабочие — из плоти и крови! И каждый день стачки — черт побери! — это баснословные убытки! И вот именно в этом: в призыве к активной, бескомпромиссной борьбе — острие выступления этой женщины! И как угрожающе то, что массы — массы! — женщин могут присоединиться к борющимся пролетариям! Какая опасность кроется в том, что они не будут плакаться мужьям на тяготы стачки, а, забросив свои кастрюли и скинув передники, выйдут к заводским воротам!
Именно за это ратует фрау Цеткин! И она, надо отдать ей справедливость, владеет оружием логики. Ее речь метафорична, изысканна по форме. Но какое ужасное ниспровергательское содержание!..
Когда Клара кончает, они аплодируют вместе со всеми. Никто не хочет прослыть ретроградом. Хотя многие подумывают: «Не очень-то желательно, чтобы она выступила перед моими рабочими. Там она завернет еще круче!»
Клара хочет пройти пешком до отеля: она разгорячена. Не столько своей речью, сколько воспоминаниями. Какие-то лица там, в зале, показались ей знакомыми, но она не смогла бы назвать ни одной фамилии.
Она удивилась, когда портье сказал, что ее ожидает молодой офицер. Офицер? Военнослужащие не имеют права посещать политические собрания. Значит, он не мог быть в «Пантеоне»…
— Попросите его сюда! — она усаживается за столиком у окна. В ресторане пока пусто. И оркестранты только разбирают свои инструменты.
К ней подходит молодой человек в новеньком мундире. И сам весь словно бы новый: так блестят приглаженные бронзовые его волосы, пробор в них кажется навечным. Усики тоже новые, едва намеченные, но уже холеные. Он сдвигает каблуки, держа новенькую фуражку на сгибе локтя левой руки. Словно на параде.
— Вольно, — шутливо командует Клара. — Вы, молодой человек, кажется, приняли меня за фельдмаршала?
— Никак нет, фройляйн Эйснер!
— Боже мой! Нойфиг, Георг… Или Уве?
— Уве, с вашего разрешения!
Теперь, когда он улыбается, показывая свои мощные челюсти с кривоватыми отцовскими зубами, она окончательно узнает его:
— Садись, Уве! Каким образом ты уже офицер?
— Мне двадцать четыре, фройляйн Эйснер, виноват, фрау Цеткин.
— Вот как! Значит, ты служишь кайзеру в рядах…
— Тяжелая артиллерия, фрау Цеткин. За ней будущее.
— Гм… А кроме артиллерии ты ничего не видишь в будущем, Уве?
Он улыбается своей прежней мальчишеской улыбкой. Они были славные ребята. Она слышала, что фрау Нойфиг умерла…
— Как отец, Уве?
— Он скончался год назад. Да, фрау Цеткин. Очень, очень печально.
— Твой отец был деятельным человеком. А Георг?
— О, Георг уехал чуть ли не с похорон! Даже не дождавшись, пока войдет в силу завещание. Он потом уж написал мне, что отказывается от владения фабрикой.
— Жестяная посуда?
— Видите ли, фрау Цеткин, сегодня это посуда, а завтра — что-нибудь другое: Германия должна вооружаться!
— Ну, а Георг тоже помогает Германии вооружаться?
— Нет, он просил выделить его денежную часть наследства, чтобы закончить образование в Мюнхене. Но так его и не закончил.
— Чему же он учился?
— Ах, фрау Цеткин, боюсь, что брат так и останется неудачником! Он учился живописи. Но, на мой вкус, мало толку в его картинах. В них смещены все пропорции. Клянусь вам, я видел на одном братнином холсте духовную особу, у которой не две, а целых восемь рук… И я думаю, это не очень порядочно — изображать кайзеровских офицеров в виде гусаков! С касками на головах и в мундирах.
Клара начинает смеяться.
— А как же все-таки ты попал в армию?
— Тут сыграл роль наш гувернер Жиглиц. Отец дал ему себя уговорить и отправил нас в военное училище. Но Георг тут же удрал.
Клара хохочет:
— Очень интересно! Поужинай со мной, Уве!
— Благодарю. С удовольствием. Что вы пьете, фрау Цеткин?
Он держится хорошо, совсем взрослый! Но звезд с неба, видимо, не хватает! А Георг?
— Расскажи мне еще про брата, Уве.
— Видите ли, я вам уже сказал, что он отказался от своей доли в акциях предприятия…
Уве морщит лоб: видно, что это до сих пор самое главное в его отношениях с братом.
— А деньги он как-то очень быстро промотал.
— Вот как! — почему-то обрадовалась Клара.
— Конечно, я не раз предлагал ему помощь. Мы же не просто братья, мы — близнецы, — продолжал Уве с некоторой гордостью, словно именно то, что они близнецы, как-то особенно обязывало его по отношению к брату, — но Георг почему-то юмористически к этому отнесся. Правда, когда я приехал в Мюнхен по делам и разыскал его в этом Швабинге — ужасное место, но говорят, Латинский квартал еще хуже, — он созвал огромное количество какого-то — ну просто сброда! И объявил, что приехал его богатый брат. И всех угощает. Георг мне сказал, будучи, конечно, не очень трезвым: «Ты, мой любимый братишка, будешь самым великим шибером[8] в военном мундире!» Почему вы смеетесь, фройляйн Эйснер? Впрочем, это, правда, забавно…
— То, что ты рассказываешь, — очень в духе твоего отца.
— Да, отец был немного эксцентричен. Но он жил в другое время. Он мог позволить себе пустить на ветер все свое состояние и начать сначала. А теперь, если ты нокаутирован, тебе не дадут подняться. Да… Отец часто вспоминал вас. Я помню, он говорил нам: «Если вы у меня не совершенные оболтусы, то это только благодаря фройляйн Кларе».
Клара, смеясь, вновь наполнила его бокал.
— Благодарю. Я, собственно, не пью, но ради встречи… Я как раз хотел сказать вам. Я стараюсь следовать идеалам своей юности! — выпалил он напыщенно, и она посмотрела на него с веселым любопытством. — Моим рабочим живется неплохо. Я облегчаю им положение как могу. Но, конечно, мы, промышленники, — тоже люди подневольные.
— Вот как?
— Ну, понимаете, бешеная конкуренция! К тому же я вынужден постоянно жить в Берлине. А мой управляющий — не очень гуманный господин.
— Да, я слыхала о нем. Кажется, это он додумался до вычетов за простои механизмов.
— А! Это ерунда. Вообще я задумал большие реформы. Вы знаете, мой адвокат Лангеханс, он был консультантом еще у моего отца, говорит, что сейчас главное — реформы! Реформы, реформы, реформы! Даже несущественно, какие именно! Но люди должны видеть, что положение меняется.
— Лангеханс? Зепп?
— Да, Зепп-Безменянельзя! Помните его прозвище? Но что же это я все о себе! — Расскажите, фрау Цеткин, как вы живете? Вы стали так известны. Газета «Равенство» очень популярна. У вас есть семья? Раз вы носите другую фамилию…
— Муж мой умер, Уве.
— Ох, простите!
— У меня два сына. Хорошие мальчики. Только сорванцы. Вроде вас с Георгом. Помните, как вы удирали в Америку?
— Конечно. Это была затея Георга. Когда он взламывал замок в папином секретере и брал деньги, я сторожил под окном. Не знаю, почему надо было бежать в Америку через Митвайде, где нас и сцапали.
— Георг всегда был слаб в географии.
— А что вам дает ваша общественная деятельность, фрау Цеткин?
— Удовлетворение.
— Я имею в виду — экономически…
— Экономически? Нет, Уве, партийная работа социал-демократов не оплачивается. Если, конечно, они не занимают каких-либо должностей. Я получаю деньги как редактор журнала.
— И этого хватает? Вам и вашим сыновьям?
— Да.
— Это меня радует. Было бы несправедливо, если бы такая женщина, как вы, жила бы в нужде.
— Я долго жила в самой горькой нужде. И скажу тебе, Уве, это была самая счастливая пора в моей жизни!
Так они сидели за бутылкой рейнвейна и говорили — на разных языках!
«Странно, — думала она, — два мальчика при равных условиях… Интересно бы взглянуть на этого художника, который рисует кайзеровских офицеров в виде гусей в касках и мундирах!»
На следующий день Клара выступала на большом собрании работниц-текстильщиц. Гедвиг Малицки, теперь руководящего работника профсоюза текстильщиков, она знала и раньше. Малицки была моложе и кончила Учительскую семинарию, когда Клара была уже в Париже.
Они встретились тепло, как подруги.
— Моя фамилия теперь — Рунге, я ведь замужем. Мой муж работает в Криммитчау.
— Поздравляю тебя, Гедвиг! Когда-то у меня был друг детства Франц Рунге.
— Это мой муж! О, как он будет рад!
Клара решилась спросить о фрау Шмидт.
— Она очень больна. Ты не узнаешь ее.
— Она ведь еще не старая женщина.
— Шестьдесят… Не так мало.
Они не могли продолжить свой разговор. Председательница объявила, что сейчас выступит товарищ Клара Цеткин. Клара уже стояла за столиком, она терпеть не могла эти «амвоны», как она называла традиционные возвышения, — они делали ее несвободной в жестах и обращениях к аудитории, были слишком «учительскими» для политического оратора. Она учитывала все мелочи, которые могли так или иначе способствовать или мешать воздействию на слушателей.
Клара подняла руку, и аплодисменты смолкли. Но вдруг звонкий женский голос где-то в задних рядах во всю мочь выкрикнул: «Нашей Кларе сердечный привет!» Все стали снова хлопать.
Клара слышала эти слова второй раз за два дня. Мысль о том, что это не случайно, а как бы уже прозвище, данное ей народом, показалась почти кощунственной: она еще не заслужила его. Все же ей стало тепло от этих слов.
Когда-то она сказала Осипу, что она сильнее всего в полемике. Это было верно и на сегодня. Ее полемический запал был прямо пропорционален самоуверенности ее оппонентов. Ей приходили на ум такие аналогии и сравнения, которые разили противников и не давали им отбиться; аудитория хохотала независимо от согласия или несогласия с ними.
Но Клара понимала, что должна прийти к рабочим с позитивной программой, и излагала ее сжато и доходчиво.
Сейчас она начала с того, что произошло на фабрике совсем недавно: стачка захлебнулась, потому что женщины-ткачихи не поддержали ее.
Веками немецкая женщина воспитывалась рабой. Заключенная в тесные рамки пресловутых трех «K» — Küche, Kirche, Kinder[9], она еще недавно была только частью декораций, в которых разыгрывалась великая драма борьбы классов. Времена изменились. Рост индустрии, расслоение деревни, бешеное развитие капитализма втягивают женщину в железный круг. Уже не три «К», а пролет цеха и ферма деревенского богатея или юнкерское имение становятся клеткой, в которой бьется горячее женское сердце в борьбе за жизнь, за своих детей, за их будущее.
Но прошлое довлеет над женщиной. Она не отрешилась от пассивности, робости, нерешительности. Как могло случиться, что на предприятии, где почти половина рабочих — женщины, именно они сорвали стачку?
Хозяин фабрики вынужден был бы пойти на уступки, как это было на других предприятиях. Почему? Да по простой причине!
Он самой общественной системой включен в железное кольцо конкуренции. Простои на его фабрике означают, что его опередят, отбросят на рынке сбыта!
Женщины должны понять, что они — огромная сила, когда они вместе. И борются рядом с мужчинами.
Буржуазные дамы лепечут о женском равноправии на фешенебельных файфоклоках. Послушать их, так все женщины — сестры, а единственный их враг — мужчина!
Возможно, в этом, последнем, они по-своему правы: смысл борьбы за равноправие для них — это возможность заключать сделки, подписывать ценные бумаги, может быть, они даже хотели бы играть на бирже! И, конечно же, мужчины этого мира — не в восторге от дамских притязаний!
Но какое отношение все это имеет к пролетариату? Мужчины и женщины этого класса равно страдают от бесчеловечной эксплуатации. Им равно ненавистен жестокий строй!
Что же может разделять мужчин и женщин в их борьбе за лучшее будущее, за социализм? Только робость — вековое наследие, от которого надо избавляться женщине! Только мещанские предрассудки, которые надо высмеивать и изживать. Маркс дал нам в руки верное оружие: оно не предаст, им добудем мы победу! С его помощью!
Не петициями и мольбами о равенстве, которые униженно кладут к ногам монарха буржуазные поборницы мнимого равноправия, а решительной борьбой за полное уничтожение несправедливого социального строя, за то, чтобы смести с лица земли всех монархов, — завоюем мы подлинную, а не бумажную свободу. И если такая борьба требует от нас жертв, мы принесем их!
Речь Клары несколько раз прерывалась аплодисментами. Здесь по душе ее логика и страстность, ее эрудиция и простота, а главное — беззаветность и та искренность, которая делает многих горячими ее приверженцами…
На обратном пути она проезжает мимо «Павлина», старого «Павлина»! Впрочем, он основательно подновлен, надстроен. Там, вверху, модное кафе и танцплощадка — объясняет ей извозчик.
— Остановитесь здесь, пожалуйста!
Она входит в зал: он блистает провинциальной роскошью. Золотистые плюшевые портьеры с крупными помпонами на всех дверях и окнах. Этих помпонов так много, что ты чувствуешь себя, словно в зарослях «золотых шаров».
Кресла обиты таким же плюшем. Они огромны и торжественны.
Одинокая дама здесь, конечно, не в почете: к ней долго не подходят.
— Герр обер! — взывает она. — Бокал мозеля, пожалуйста. И попросите сюда хозяина!
— Господина Кляйнфета? — изумляется обер.
— Разве у вас есть другой хозяин?
— Сию минуту… А как сказать?
— Скажите, что его хочет видеть Карл из харчевни «На развилке».
Пятясь, кельнер исчезает. Клара посмеивается, представляя себе лицо Гейнца в эту минуту.
Смотрите, как проворно пробирается он между столиками, несмотря на свое пузо!
— О, Клара, какой сюрприз ты мне сделала! Я знал, что ты в городе. Но, признаться, не думал, что ты захочешь меня видеть.
— А ты-то сам? Ты хотел меня видеть?
— Еще бы, Клара! Ты для меня всегда останешься лучшим, что было в моей жизни. — Глаза его увлажняются: он по-прежнему сентиментален! — Я так рад, Клара, я не нахожу слов. Фриц, принеси шампанского! Французского. Пусть Шарлотта откроет погреб.
— Ты полагаешь, что французское шампанское поможет найти эти слова? Ты вырос, Гейнц! Ты расширяешься не только сам: твой «Павлин», вопреки законам природы, размножается без павлинихи.
— Да, я расширил свое дело, — бормочет Гейнц, — знаешь, собственность, она диктует… Каждому свое.
— Вот именно, — смеется Клара, — ты расширяешь свою собственность, я подымаю людей на ее уничтожение.
— Ах, Клара, ведь это все детские мечты! Конечно, я понимаю, борьба в рейхстаге, реформы… Дух времени.
— Ты хочешь сказать, что прошли времена баррикад? Ты ошибаешься, мой бедный богатый друг! «У меня есть деньги! Целых три марки!» — помнишь?
— Конечно помню. Каждую мелочь! На тебе было тогда белое платье в красный горошек… А ты мало изменилась, Клара!
— Вот твое знаменитое шампанское! О, запотевшая бутылка в серебряном ведерке со льдом! Все правильно. Как в лучших ресторанах Парижа. Ты молодец, Гейнц! Только убери эти помпоны: в моде простота — дерево и кожа.
— Да? Расскажи о себе, Клара. Я слышал, что ты теперь одна.
— У меня сыновья. И друзья. Этим я и богата. А ты счастлив, Гейнц?
— Как тебе сказать? Если у человека есть деньги, верная жена — хорошая хозяйка — и трое детей — старший весь в меня, — так, наверное, это и есть счастье, — в его тоне не то утверждение, не то вопрос.
Она смеется, медленно потягивая шампанское, и он продолжает:
— Правда, иногда мне становится так тоскливо, словно я обделен чем-то. Но это, видно, уже возраст.
— И толщина, Гейнц, — отвечает она. — Ты стал просто Гаргантюа.
Он морщит лоб, напрягаясь:
— А, этот… у Шекспира?
— То Фальстаф. Пожалуй, мне пора!
— Я прикажу запрячь…
— Нет, нет! Я пойду пешком: хочется освежиться. Я бы еще согласилась, если бы Маус был жив! Да и вряд ли теперь он потянул бы тебя!
— Ты все такая же насмешница, Клара, — говорит он точно так, как когда-то. — Я провожу тебя. Где ты остановилась?
— В отеле «Шато». Ну, там, где был трактир Карпинкеля!
Оказывается, на улице совсем тепло. Ночь такая ясная: видны звезды. Множество звезд. Но все же меньше, чем когда-то.
— Знаешь, Клара, я уже забыл, когда видел звездное небо. Всё дела.
— Надо прогуливаться перед сном: это полезно для здоровья, — беспощадно отрезает Клара. — И еще, Гейнц, я хотела тебе сказать: не будь свиньей. Разве это красиво: зажилить сверхурочные персоналу?
Начинался маленький весенний дождь. Извозчик хотел поднять кожух экипажа, но Клара отказалась: она открыла свой зонтик, и монотонное постукивание дождевых капель по шелковому куполу как-то успокаивало ее и уводило от беспокойных мыслей сегодняшнего дня. Экипаж катил вдоль чугунной решетки сквера, на повороте под рожком фонаря осветилась вывеска булочной.
— Остановитесь здесь! — крикнула Клара и поспешно расплатилась.
Дождик, редкий и теплый, продолжал накрапывать, прохожих почти не было, а переулок выглядел совсем глухим. Липы вдоль тротуара стали взрослыми деревьями, а тогда они ведь были деревцами…
Если не считать этого, то в переулке ровным счетом ничего не изменилось. И живая изгородь из кустов шиповника — та же, разве только несколько разрослась. Интересно, стоит ли там, посреди клумбы, гипсовый гном в красном колпаке?
В саду темно, свет, падающий из окна, так слаб, что Клара не видит ничего у себя под ногами. Но и не видя, она знает эту дорожку. И это окно, единственное освещенное окно в доме.
Клара складывает зонтик и подбирает юбку. «В эти часы она обычно кончала проверку тетрадей. И отдыхала с книгой в руках. Часто я читала ей… Стихи. Большей частью — французов. Но иногда это был Шиллер:
Разве есть Милей отчизны что-нибудь на свете? Есть разве долг прекрасней, благородней, Чем быть щитом безвинного народа И угнетенных защищать права?».Клара подошла к окну. Она вспомнила, что когда-то ей приходилось взбираться на карниз, чтобы заглянуть в глубь комнаты. Но сейчас надо было только подняться на цыпочки. Она сделала это, сама не зная зачем.
Все здесь было знакомо до мельчайших подробностей. Ей показалось, что тот самый коврик, собственноручно вышитый фрау Августой, висит на стене над широким турецким диваном, в углу которого когда-то любила примоститься одна маленькая студентка.
Большое вольтеровское кресло стояло на прежнем месте. Кажется, изменилась только обивка на нем. Обычно в этот час фрау Шмидт сидела здесь. Сейчас оно было пусто. Но в комнате горел свет, и фитиль лампы даже не был прикручен: немыслимо, чтобы свет горел в пустой комнате! Клара обежала ее взглядом и вдруг увидела две головы, склоненные над столом. Две женщины сидели рядом и рассматривали что-то лежащее перед ними на столе, а может быть, одна из них читала, а другая следила за ней, пробегая глазами строки.
Клара узнала фрау Августу, хотя лицо ее было обращено в другую сторону. Черная наколка по-прежнему венчала прическу, только волосы были совсем белыми. Сидевшую рядом Клара хорошо рассмотрела: это была девушка лет семнадцати, со светлой челкой на лбу, с круглыми, еще детскими щеками. Губы ее шевелились…
Смысл сцены внезапно открылся Кларе: девушка читала и переводила à livre ouvert[10], а фрау Августа следила за текстом и время от времени поправляла ее, знакомым Кларе жестом приподымая руку, как бы собираясь мягко ударить по клавишам. Кларе показалось, что она слышит не только тихий грудной голос учительницы, но и тиканье часов на стене. Но это, конечно, было невозможно через двойные рамы. Ей показалось также, что на нее повеяло теплом этой комнаты и знакомым запахом кофе и лаванды. «Она никогда не забудет и никогда не простит», — подумала Клара.
И тотчас почувствовала, что продрогла, стоя здесь под окном: дождик все шел. И она поспешно покинула это место, сознавая, что вряд ли когда-нибудь в жизни вернется сюда.
Глава 3
Лето 1893 года было богато грозами, обильными дождями. Вершины гор прятались в тучах, а по склонам бежали потоки, и каждый горный ручеек имел шанс стать водопадом на своем длинном пути к большой воде озера.
Дул теплый южный ветер, газеты на прилавках киоска были прижаты плоскими камушками, отшлифованными волной. Продавец подал Кларе газету, но она, и не развернув ее, знала главное: завтра открывается Третий конгресс Интернационала. Мандат делегата был у нее в кармане: ее избрали на многолюдных собраниях работниц.
Как трудно борются женщины за свои права! И если не пользоваться розовыми очками, то надо сказать, что до победы еще далеко. И все же… И все же удалось многое сделать. А то, что в этом деле не последнюю роль сыграло «Равенство», радует Клару! Подумать только, слово «стачечница», немыслимое еще пятнадцать лет назад, стало сейчас обычным. Но какой ценой! Сжимаются кулаки от мысли, что за каждый шаг на пути протеста человека хватают за шиворот, пихают в тюремную карету, упрятывают за железную решетку! А если этот человек — женщина?! Мать?
«Равенство» сеяло возмущение и протест. Клара мысленно пробегает по страницам газеты. Ее столбцы, как нули, вылетают из типографских машин и поражают цель. Цель одна, но мишени разные, очень разные. От владельца маленькой фабрички, заставляющего своих работниц стоять у станка по семнадцать часов, до самого кайзера, до отставного канцлера, еще продолжающего махать кулаками!
«Равенство» всегда поддерживало рабочие выступления, а иногда возглавляло их и вело в схватке с капиталистами. И были бои, так сказать, местного значения. И все же очень важные в общей борьбе.
Да, прачки! С шести утра до восьми вечера не покидающие подлинный ад, томящиеся в пару и ядовитых испарениях, как грешные души. «Равенство» помогло им не только словом, но и делом. Не грошовой филантропией зареванных дам-жалельщиц. Нет! Быстрой, оперативной организацией пролетарской взаимопомощи, сбором средств. Эти деньги помогли прачкам выдержать тяжелую и длительную забастовку и добиться человеческих условий труда! Но не только за копейку стояли эти отчаявшиеся женщины. А и за свое человеческое достоинство.
Но «Равенство» вступало и в более значительные, прямо-таки стратегические бои! Оно добиралось до крупных промышленников, близких к трону, показывало их черные дела в Восточной Германии, где они превратили горняков в настоящих рабов.
Вслед газетным листам летели во все концы страны письма Клары. Ее личные письма людям, с которыми она встречалась. Мужчинам и женщинам. Молодым и старым. И она получала ответные. Это пачки, нет, груды листков, исписанные часто не очень грамотными строчками. Но именно в них, в этих от долгих раздумий, от большого опыта жизни идущих листках вдруг блеснет мудрость рабочего человека, мысль острая и нужная, которую подхватывает «Равенство», развивает, перебрасывает другим.
Именно среди ткачих в Криммитчау родилась инициатива коллективного воспитания детей, которые фактически остались беспризорными.
Да мало ли идей, подлинно прогрессивных, возникает в голове трудящегося человека, в силу его здравого смысла, близости к истокам жизни, общения с братьями по классу!
Сколько силы черпаем мы в недрах народа! Нашего народа, такого талантливого и трудолюбивого. И такого несчастного. Из-за этих проклятых захребетников. Гогенцоллернов и Бисмарков. Магнатов и курфюрстов, Гогенлоэ и Уэстов! И кто знает, кого еще нашлет ему судьба в лице господствующего класса! Если не подымется, не размахнется и не сметет ко всем чертям всю свору доблестный немецкий пролетариат! Под знаменами с начертанными на них всего только четырьмя словами: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Эти свои мысли Клара выражала не только на страницах «Равенства», а на десятках рабочих собраний. Она призывала к действию. «В деянии начало бытия!» — Клара приняла эти мудрые слова еще в юности и не раз убеждалась в их универсальном смысле.
Номер отеля выходил на озеро, и утром, когда Клара стояла на балконе, ей подумалось, что, как это ни странно, она сейчас ярче воспринимает красоту этого города, чем тогда, когда впервые пересекла его границу, трясясь на империале омнибуса. Как она была молода! Как будто прошло с тех пор не одиннадцать лет, а целая жизнь! С какой-то завистью, словно отделяясь от самой себя, всматривалась она в свою молодость, радостно и немного удивленно узнавая и не узнавая себя то в бойкой «племяннице» трактирщицы из харчевни на границе, помощнице «Красного почтмейстера», то в чинной воспитательнице малолетних оболтусов из семьи посудного фабриканта. Одни воспоминания тянули за собой другие. Мир молодости кончался под крышей парижского дома, в мансарде с отвратительными зелеными обоями, с пронзительным криком точильщика в колодце двора.
Но жизнь не кончалась с молодостью. Она вливалась в новое русло, где были берега, изрезанные неожиданными лагунами, где вздымались опасные скалы и гуляли суровые ветры; но и в новых берегах это была та же жизнь, та же старая ее подруга, которой Клара не могла изменить, к которой она не могла охладеть. Просто в силу своего характера…
Клара навестила Юлиуса Моттелера. Он мало изменился, только его длинные бакенбарды стали такими редкими, что сквозь них, как сквозь тюль, виднелась все еще крепкая шея, как всегда в ослепительно белом воротничке, обвитом черной лентой.
В те времена, когда они с Кларой занимались красной почтой и нелегальный «Социал-демократ» переваливал границу на спинах мулов, в багажниках велосипедов, в крестьянских корзинах, Моттелер разглядел в Кларе бесстрашного партийного функционера. Но она стала и партийным теоретиком, полемистом, оратором.
— Читая твои статьи, Клара, мне было очень трудно себе представить, что их написала румяная судомойка из харчевни на границе. Но теперь я вижу, что ты нисколько не изменилась, — сказал Юлиус. — Ты еще ни у кого из старых друзей не была? — ревниво спросил он. Он по-прежнему говорил ей «ты», и это было ей приятно.
— Что вы, Юлиус! Даже не уверена, что смогу это сделать. Завтра открывается конгресс.
— И на нем будет Фридрих Энгельс?
— Он уже здесь.
— И ты, наконец, увидишь его. Мне рассказывали, что он хвалил твои статьи. Мы ведь следим за твоими успехами, Клара, за твоей работой в партии.
— Значит, вы не забыли меня?
— Как мы можем тебя забыть? С тех нор как ты уехала, у нас в доме уже никогда не было такого тарарама и веселья. И соседи вздохнули свободно. А я перестелил пол, который вы продавили с парнями Траубе, когда танцевали эту вашу «Деревенскую польку»!
— А что семья Траубе?
— Старшего теперь голыми руками не возьмешь! Он главный деятель в союзе извозчиков, а ты представляешь себе, что творилось, когда они бастовали! Жизнь идет вперед, Клара.
— Она идет вперед. И несет свои волны. А каждая волна — свои камешки и свою пену…
— Борцы встречают волну грудью. Ведь в этом их долг, Клара.
— Их счастье тоже, Юлиус!
Энгельсу шел семьдесят третий год. Но работал он с тем же накалом. Вся подготовка Третьего конгресса Второго Интернационала шла под знаком его энергичного и каждодневного участия.
Первое впечатление от Энгельса Клара могла бы передать словами: «Какой могучий!» Оно исходило не от его фигуры и даже не от того, как великолепно была посажена на широких плечах крупная голова со все еще густой шевелюрой, свободно падавшей на высокий лоб; не от пышной бороды и усов, а, как ни странно, от его глаз. Глаза Энгельса, не притушенные густыми бровями, были спокойны, молоды и полны энергии. Невольно думалось, что необыкновенный заряд ее был заложен в нем и его друге от младых ногтей. И если в одном под гнетом обстоятельств уровень ее падал, то другой тотчас восстанавливал положение.
Именно сейчас Кларе ясно представлялось, какой была эта дружба: она как будто слышала страстные диалоги, споры над раскрытыми страницами рукописи. И видела друзей в кругу семьи.
С каким-то глубоким проникновением Клара думала: вероятно, Энгельсу по-человечески трудно работать над наследием Маркса, разбирать записи, сделанные его рукой, следить за знакомыми поворотами мысли, вспоминать, погружаться в прошлое. Ей это было так понятно. Так же, как и преодоление неизбежного страдания.
Но сильнее всего присущие Энгельсу энергия и могучесть выявились в его речи.
Только что отшумела овация — ею делегаты встретили появление Энгельса на трибуне. И прозвучали произнесенные мягко и растроганно его слова, которыми он относил эту овацию к великому человеку, «портрет которого висит вон там». И все сразу повернули головы в ту сторону, где лицо Маркса, освещенное боковым светом, как будто выступало из холста. Это был портрет, знакомый до последнего штриха, от теней под глазами Маркса до лорнета, небрежно заткнутого за борт сюртука. Но от сказанных Энгельсом слов, а может быть, от его присутствия здесь Маркс показался иным: более близким, более понятным.
И Клара сделала над собой усилие, чтобы вслушаться.
По просьбе делегатов конгресса Энгельс произнес свою речь на трех языках. Это произошло на заключительном заседании, сохранившем однако весь жар полемики и остроту разногласий.
Голос Энгельса стал другим, жесткие его слова несли жесткий смысл непримиримости, он говорил об анархистах. О пагубности отрицания роли партии. И резким поворотом речи он обратился к тем наивным простакам, которые верят во всесилие избирательных бюллетеней…
«Оппортунисты хотят проложить дорогу к социализму избирательными листками! Но бумага не выдержит, она утонет в болоте!» — именно так гневно сказала Клара в споре, возникшем у них в Штутгарте.
Пройдет совсем немного времени, и Клара с горечью подумает: «Как пророчески тогда, в пору огромных успехов социализма в Европе, когда в Германии партия получила два миллиона голосов при выборах в рейхстаг, рассмотрел Энгельс опасную, леденящую живой поток струю оппортунизма! Тот горнист, который очень скоро предательски протрубит отход, еще не поднес к губам горн, но Энгельс уже слышал его и предостерег: «Бойтесь оппортунизма!»»
Так воспринимала Клара слова Энгельса на конгрессе и тогда, слушая его речь, и много позже, вспоминая ее.
Но в то цюрихское лето острота этого предостережения смягчалась общим ощущением нарастающей силы их дела, больших удач, выхода на просторы, о которых мечтал Маркс.
Да, в то лето они все были веселы и молоды. И семидесятидвухлетний Энгельс тоже. Ощущение молодой, именно молодой силы исходило от него, когда он произносил свою речь; в остром взгляде, которым он быстро обегал слушателей, словно подсчитывая резервы своих сторонников, словно прощупывая возможных противников; в голосе, которым он, как бы нажимая на педаль, выделял главную мысль.
И конечно же, молодым воспринимался он, когда пригласил Клару сесть рядом и сразу начался у них тот сложный, многоплановый разговор, в котором рядом с серьезными, нет, не просто серьезными — кардинальными! — вещами все время был другой план: шутка, ирония, неожиданные аналогии…
И хотя Клара хорошо знала, что Энгельс одобряет ее работу — она знала это еще со времен Парижа и впоследствии имела случаи убедиться в его добром мнении о ней, — сейчас это было ей особенно дорого.
И конечно же, он виделся молодым в кулуарах конгресса. Вечерами, когда они встречались за столиком, поставленным на воздухе под липами, окружавшими помещение, где происходил конгресс, Энгельс произносил тост в честь Клары-воительницы, лукаво добавляя, что приятно видеть женщину, борющуюся за равноправие отнюдь не на путях достижения внешнего сходства с мужчиной.
Видно, он хорошо себя чувствовал в этой компании! С одной стороны сидела Клара, с другой — улыбчивая, мягкая, все еще красивая Юлия Бебель. И сам Август Бебель. И Фрида Симон, его дочка, с почти живой птицей на модной шляпе. Во всяком случае, там были крылья, это безусловно! И кто-то уверял, что также и клюв и что это опасно для соседей!
И очень скромный оркестрик, кажется, из любителей музыки какого-то ферейна, играл народные, французские и немецкие, песни, и все подпевали, взявшись под руки и раскачиваясь на своих стульях. И уж никак не думала Клара, что Энгельс так легко поведет ее в вальсе, танцуя его по-старинному — в три па. Но, конечно же, она со своим чувством музыки и такта мгновенно применилась к нему.
Какой-то молодой рабочий парень, ужасно смущаясь, пригласил Клару на танец. И когда он отвел ее на место, она, смеясь, сказала, что следующий танец хочет танцевать с кем-нибудь постарше: нет ли у него папы?
Молодой человек ответил, что его отец готовит столы для ужина делегатов. Но когда музыка снова заиграла, он представил Кларе своего отца. Папа оказался тоже довольно молодым. Клара, принимая его руку, спросила:
— А дедушки у вас нет? Я бы станцевала с дедушкой!
И все очень развеселились, когда к Кларе подмаршировал, выпятив грудь, бравый дедушка с огромными усами по моде времен Франко-Прусской войны, старый солдат, а ныне — ткацкий мастер. И они с Кларой плавно пошли в старинной немецкой кадрили.
— Наша Клара танцует с тремя поколениями и, заметьте, все три — в восторге! — закричал Бебель.
Конгресс закончился. В тесном кругу друзей, душой которого был Энгельс, царило хорошее настроение. Итоги «большого сбора» были утешительными: марксисты успешно развивали те положения антивоенной политики, которые выдвинул в своих работах Энгельс, — за разоружение, за ликвидацию существующих армий. В тактическом плане — за протест против военных кредитов. И многие делегаты-немцы оказались здесь на высоте. Это особо оценил Энгельс, недавно сказавший суровые слова о том, что Германии надо «быть застрельщиком в деле разоружения, как это по праву положено стране, которая подала сигнал к вооружению».
И вдруг, неизвестно кто первый, но, вероятно, все-таки Август Бебель — он ближе всех был к Энгельсу и как-то по-родственному о нем заботился — предложил совершить прогулку по Цюрихскому озеру. И конечно же, такие опытные организаторы, как Юлия и Клара, осуществили эту идею с блеском!
В половине августа лето здесь, на северо-востоке страны, только еще начинало свой медленный и немного печальный исход. Уже спала жара и песок на берегу потемнел от обильного ночного дождя. Ветер, не знойный, но ласковый, дул с юга, и, когда он касался лица, казалось, что кто-то провел по нему теплыми и влажными ладонями.
Компания устроилась на носу. Здесь, в плетеном кресле, с пледом на коленях сидел Энгельс, с удовольствием оглядывая берега в старинную морскую подзорную трубу, в то время как их маленькое прогулочное судно изо всех сил тщилось оправдать свое гордое название: «Фридрих Великий». И, конечно, по этому поводу сыпались остроты, особенно когда «Фридрих» страшно запыхтел и сбросил и так не шибкую скорость из-за каких-то неполадок.
Но в общем-то компания оказалась не очень шумной: все выговорились на конгрессе, были утомлены, а еще более — боялись утомить Генерала.
Да и все окружающее — зрелище природы, еще по-летнему пышной, но где-то в глубине уже копившей готовность к печальным переменам, — располагало к тихому любованию, раздумью, неторопливым, несуетным мыслям.
И хотя нет-нет да и прорывались какие-то вспышки недавно отбушевавшего огня, они быстро гасли.
И снова была тишина, изредка нарушаемая каким-нибудь неожиданным замечанием Энгельса, подчеркивавшим их новую, обретенную перед лицом природы общность.
Словно напоследок, меняясь так быстро, последние красочные волны в небе выплескивались в озеро, сливаясь с его водами, но не утопая в них, а только преображаясь в этот ночной трепетный блеск, в это беспокойство невысоких волн, в их движение, монотонное и разнообразное одновременно.
Нет, совсем не молодым, но украшенным старостью Кларе теперь виделся Энгельс. Разве прекрасен только восход солнца? Есть особая красота в его закате, в последних лучах, готовых померкнуть. В небе, уже наполовину затушеванном мглой.
Какой прекрасной может быть старость! Вобравшая в себя мудрость и красоту прожитых лет. Отточившая мысль, светящаяся в усталых глазах, подсказывающая точное слово и меткую шутку и обострившая чуть тронутое грустью любопытство к людям…
Это были удивительные дни! Они остались в памяти Клары такими дорогими еще потому, что за ними последовала длительная, деловая и дружеская, серьезная и нежная переписка ее с Энгельсом.
Клара готовилась к выступлению, в котором ей предстояло утверждать мысль, впервые поразившую ее в книге-открытии Бебеля «Женщина и социализм». Мысль о том, что равноправие нужно пролетаркам не только в их материальных и духовных интересах и отнюдь не для борьбы с мужчинами их класса, а для борьбы против капитализма.
Здесь пролегала та площадка, на которой сшибались в яростных словесных схватках последовательные социалистки и феминистки.
Одной из талантливых привержениц феминизма была Берта Топиц, дама из деловых кругов, наследница крупного шахтовладельца.
С ней и предстоял Кларе поединок-диспут. Берта Топиц была известна по ее статьям в буржуазной прессе. Это были прекрасно написанные эссе, прослеживающие борьбу женщин за свои права чуть не с пещерного периода. Мужская половина рода человеческого представала в писаниях Берты Топиц в неприглядном виде: каждый муж уже в силу своего семейного положения был сатрапом!
Клара отдавала должное мужеству Берты Топиц, которая изображалась в газетах и журналах то ведьмой, вылетающей на помеле из трубы дома на Магдебургаллее, где помещался Женский союз, то выступающей в рейхстаге тучной дамой, изо рта которой фонтаном букв выскакивал лозунг: «Родовые муки возложить на мужчин — в равной доле!» А полубульварная «Грюнеблеттер» изобразила фройляйн Топиц в виде Сатурнессы, пожирающей своих мужей!
Берта Топиц стоически встречала все нападки и огрызалась, когда ей предоставляли для этого место в прессе.
Публичный диспут между двумя известными деятельницами женского движения привлек много публики. С одной стороны — людей, интересующихся социальными проблемами, а таких появлялось все больше. С другой — любителей сильных ощущений! Клара Цеткин была широко известна как острый оратор, опытный полемист. Но и Берта Топиц не давала спуску противникам.
Они встретились в популярном рабочем локале. Время продиктовало буржуазным деятельницам женского движения необходимость вербовать сторонниц среди рабочего класса. Клара улыбнулась, увидев перед собой молодую, вполне женственную и миловидную особу.
— Я, конечно, не представляла себе вас, фройляйн Топиц, Сатурнессой, но и не ожидала, что вы так молоды и хороши…
— Что вы! Я — старая дева. Мне уже тридцать три.
Клара искренне удивилась:
— Вы отлично выглядите!
— Вот видите, фрау Цеткин. А почему это так? — нравоучительно произнесла Берта.
Клара полагала, что у наследницы шахтовладельца хорошие условия жизни, но не спешила высказаться в этом духе.
— Я знаю, вы думаете, что это результат обеспеченной жизни. Нет, дорогая подруга по борьбе, дело совсем в другом.
— В чем же? — воскликнула заинтригованная Клара.
— В том, фрау Цеткин, что я не обременена ни семейными, ни вообще какими-либо отношениями с мужчинами. Ничто так не старит женщину, как отношения с мужчинами!
Клара решила было, что фройляйн Топиц большая юмористка, но в Берте ощущалось нечто фанатичное.
Она решилась возразить Берте:
— Но если все девушки усвоят ваши взгляды, что ждет человечество?
Однако собеседница была к этому подготовлена:
— В том-то и дело, что надо держать мужчин под такой угрозой! Тогда, еще на веку нашего поколения, женщины добьются большего, чем за все прошлые века вместе!
— М-да… И вы выступали с этим своим тезисом в печати?
— К сожалению, мне это не удавалось. Мои предложения слишком, может быть, необычны!
— Со времен Лизистраты никто не слышал ничего подобного! — охотно подтвердила Клара. Диспут с Бертой Топиц, кажется, обещал неожиданности.
Первой выступала Берта. Она была очень эффектна в черном костюме мужского покроя, воротник белой блузки был по-мужски перехвачен черным шейным платком. Когда она появилась на возвышении для оркестра, служащем трибуной, многие захлопали.
Локаль был полон. Опытным взглядом Клара определила, что большинство здесь составляют женщины средних классов, но много и работниц. Что касается мужчин, то это все — рабочие.
Берта начала свой доклад по написанному, как это было принято среди интеллектуалов, но с большим темпераментом. Мысленно Клара отмечала те места в ее сообщении, которые давали пищу для полемики.
Можно было избрать любой метод: обрушиться на докладчицу по основному вопросу, атаковать с Ходу. Или сначала пощипать ее по второстепенным пунктам и оставить за собой возможность решительного удара под занавес.
Клара избрала первое. Продумывая выступление, она решила, что основная ее задача — убедить присутствующих тут работниц, что им не по пути с буржуазными дамами, что их враг не мужчины, а господствующий класс капиталистов. Нет борьбы полов: есть классовая борьба, в ней мужчины-пролетарии и женщины-пролетарки объединены общими интересами!
Клара говорила свободно, не пользуясь записью: речь ее была четко выстроена и держалась на силе внутренней логики.
Она начала с требований, выставляемых буржуазными женскими организациями. Да, женщины должны свободно выбирать профессию, получать образование, наравне с мужчинами лечить, преподавать, судить, редактировать… Это справедливо. Но думают ли буржуазные дамы о вопиющей несправедливости, заставляющей женщину-работницу работать по четырнадцать часов в сутки на производстве! Наоборот, женский труд ценится дешевле мужского и потому выгоден капиталисту! А подумайте о нравственной стороне вопроса: беспощадность строя бьет по женщине-матери, совместимо ли это с милосердием, лицемерно провозглашаемым религией? Бесчеловечность современного общества высматривается сквозь женский вопрос особенно ясно!
Чего же добиваются марксисты, социал-демократы? И где, на какой развилке расходятся их пути с феминизмом? Марксисты считают, что истинная свобода полов возможна только в свободном обществе. Они борются за социалистическое общество. Они считают, что ограничение борьбы требованием реформ, дающих некоторые права женщинам, выгодно только дамам из господствующего класса. Да, они будут выступать в суде, заключать торговые договоры, говорить с университетской кафедры. Но вы, работницы, что получите вы? До тех пор, пока не победит новый строй, вы будете работать сверх силы, рожать детей у станков, биться в тисках нищеты! Только политическое господство рабочего класса даст нам свободу!
Клара приступает к самой острой части своего выступления: оно направлено непосредственно против «коронованных особ, монархов и их прислужников».
— И у них, у этих господ, вы, госпожи феминистки, вымаливаете милосердие к женщинам? Никогда женщины-пролетарки не унизятся до этого. Не мужчины вообще — их враг, а лишь угнетатели, безразлично, к какому полу принадлежат эти сильные мира! Когда тебя хватают за горло, тебе все равно: душит мужская рука или женская! И если среди грабителей с большой дороги редки женщины, то к классу капиталистов принадлежит немало вампирш! Мы написали на своем знамени: «Политическое господство рабочего класса!» Под это знамя становитесь, свободолюбивые германские работницы, вместе с пролетариями всего мира!
Клара опускается на стул. В шуме аплодисментов она улавливает и некоторый протест, который, собственно, и должен слышаться в таком собрании.
Посмотрим, как поведет себя Берта. Реферат она читала, но сейчас ей предстоит экспромт!
«Увидим, какова она в полемике!» — Клара наблюдает, как Берта спокойно, одергивая свой мужской пиджак, подымается за столиком и, картинно протягивая вперед руку, начинает:
— Я позволю себе пока только одну реплику: госпожа Клара Цеткин блестяще защищала здесь доктрину социал-демократии и воздвигла непроходимую стену между имущими и неимущими женщинами. Но не является ли эта стена мифом, разлетающимся от прикосновения действительности? В самом деле… — Берта обегает зал быстрым взглядом, перед тем как выбросить свою козырную карту, — разве не баронесса Ган была инициатором создания «Убежища святой Магдалины»? Разве не эта уважаемая дама и ее подруги на свои средства воздвигли прекрасное здание приюта для падших женщин, в котором эти жертвы преступных мужских устремлений возвращаются к трудовой жизни?
В локале воцаряется тишина. Диспут становится диспутом. Сверкнул клинок. Его острие коснулось затянутой в светлый шелк Клариной груди. Сейчас все зависит не только от убедительности ответа Клары, но и от его тона.
— Поступок баронессы Ган благороден…
Легкое движение проходит по залу: ниспровергательница Цеткин отдает должное аристократке!
— …но поступок этот, как и всякая филантропия, при всех своих добрых намерениях, которыми, как известно, вымощен и ад, — ни в какой степени не решает социальной проблемы. Места на панели, освобожденные питомицами приюта, немедленно заняли другие женщины! Проституция — такой же неотъемлемый спутник капиталистического общества, как эксплуатация рабочих. Что касается «преступных устремлений мужчин», то… Прошу прощения, фройляйн Топиц, вы, конечно, не знаете ночной жизни большого города. Но мне часто приходится вместе с работницами ночных смен возвращаться поздно домой. Смею вас заверить, что носителями «преступных устремлений» являются отнюдь не пролетарии, а господа буржуа! Будьте же справедливы! К ним, к ним, к этим хищникам, покупающим не только труд женщины, но и ее тело, обращайте свой гнев, фройляйн Топиц!
В зале шум, аплодисменты.
Берта вскакивает, как ужаленная:
— Фрау Цеткин призывает женщин-пролетарок бороться вместе с мужчинами их класса за общие интересы? Какие могут быть общие интересы? Простые женщины Германии! — красивым ораторским жестом Берта взмахивает рукой. — Я спрашиваю вас: разве вы не угнетены мужчинами собственного класса? Разве каждая семья не таит в себе зерно рокового противоречия полов? Разве вы не чувствуете железной пяты своего хозяина, мужа, отца? Не он ли диктует вам беззаветную покорность и рабство?
Берта оседлала своего конька, но в собрании, это ясно видно, происходит некий перелом. Насчет «семейного рабства» многие имеют свое мнение, и чем больше нажимает на мужское тиранство Берта, тем беспокойнее становится публика. Чем ужаснее выглядит мужчина-угнетатель, для которого Берта не скупится на черную краску, тем более нарастает, хотя вполне благопристойный, но несколько все же легкомысленный говорок где-то в рядах… И вдруг, в патетическом месте речи фройляйн Топиц, раздается сочный женский голос, с издевкой и довольно громко провозглашающий:
— Позор людоеду-мужчине!
Смех прокатился и быстро замер под шиканье и призывы к порядку председательницы. Но пафос Берты стал сникать. Этот выкрик был как бы проколом шины, которая стала быстро терять упругость.
Между тем Клара рассматривала женщину, выкрикнувшую слова насчет «людоедов». Их сарказм подходил ко всему ее облику: не очень молодой, крупной, с энергичным лицом. Одета она была по моде и весьма изысканно. Противоречие между народной интонацией, лицом и одеждой заинтриговало Клару.
Фройляйн Топиц закончила речь, вовсе иссякнув. Клара поднялась для очередной реплики. На этот раз она коснулась «рокового противоречия» в семье. Она дала место доводам экономики, показывая, как порочность строя уродует семью в капиталистическом обществе.
Спокойная ее аргументация являла собой полный контраст с почти истеричной эмоциональностью Берты. Зал задышал спокойнее.
Председательница предоставляет слово актрисе Кете Дитрих.
Да как же она не узнала Кете Дитрих, которой не раз аплодировала в «Берлинербюне»! Талантливая актриса, известная своим смелым образом мыслей!
Речь Кете образна, чуть-чуть растрепана и все же стройна. Нет, она не против того, чтобы бороться за права женщины в том обществе, в котором мы живем. Реформы? Да, и реформы. Но могут ли они дать действительное освобождение женщине-труженице? Жервезе, скажем, из романа Золя? Или прачке Терезе из пьесы нашего современника?
Кете развивает свою мысль, анализируя образы женщин, которые ей приходилось воплощать на сцене. Она заключает словами сомнения: не уводит ли женщину в сторону от настоящей борьбы программа феминисток? Не подставляет ли вместо истинного врага — врага мнимого: изверга-мужчину?
— Пресловутые три «К» сочинены мужчиной! — кричит кто-то из угла.
— Да, но каким? — с места парирует Клара.
Громовый хохот раздается в зале: это выпад против самого кайзера…
С поддержкой Топиц выступает жена акционера горнорудных компаний, занимающаяся филантропией. Победоносно помахивая пером на шляпе, она риторически вопрошает:
— Кто принесет женщине свободу?
— Кайзер! — раздается смешливый мужской голос из задних рядов.
Люди покидали локаль, растекаясь по вечернему Берлину. Кете и ее друзья пригласили Клару поужинать. Это были актеры, театральные критики и художники, среда, знакомая Кларе по Парижу. Все они оказались друзьями «Равенства», считая, что в газете щедро и правильно трактуются темы искусства.
— Фрау Цеткин, вы знаете погребок «Среди скал»? — спросила ее Кете.
— Нет.
— О! Вы не пожалеете. Здесь совсем близко.
Они свернули в переулок, освещенный единственным фонарем, сиротливо помаргивающим желтым язычком пламени в овальной стекляшке. Место вы глядело глухим. Около погребка, однако, стояло много народу. Претенциозное название проистекало, видимо, из того, что погребок был частично встроен в каменный выступ небольшого холма, а два огромных валуна образовывали проход к двери, тоже стилизованной, одностворчатой, с медным кольцом. Название «Среди скал» было написано суриком прямо на скале.
По крутым ступенькам компания спустилась в просторное помещение, в котором сейчас яблоку негде было упасть. Музыки тут не было, но шуму хватало. Среди молодежи, которая превалировала, бросались в глаза пожилые хорошо одетые господа и дамы, привлеченные, вероятно, эксцентричностью заведения. Столики при ближайшем рассмотрении оказались здоровенными бочками, покрытыми простыми полотняными скатертями, а бочонки заменяли стулья. Но главное заключалось в том, что стены погребка были расписаны не яркими ландшафтами или натюрмортами, как это недавно вошло в моду, а карикатурами, исполненными углем на белой штукатурке стен. Карикатурные, смешные, но одновременно и страшненькие фигурки преувеличенно тучных господ во фраках и дам, наоборот, состоящих из одних костей в декольте; офицеров в шлемах с султанами, из-под которых выглядывали не лица, а мертвые черепа; шуцман — в виде толстой резиновой дубинки с пририсованными к ней ногами в крагах и крошечной головой в каске…
Все уродство капиталистического города вылилось на эти стены, запечатленное одними черными линиями, как бы небрежными, кое-как выведенными, но необыкновенно экспрессивными и безусловно созданными одним художником.
— Этот погребок уже дважды закрывали и бессчетное число раз штрафовали, — сказал режиссер Ганс Мульде, — но доходы его с лихвой покрывают все моральные и финансовые потери. Вы слыхали об этом художнике, фрау Цеткин? Он пока еще мало известен. Несомненно, у него большое будущее.
— Я знала Георга Нойфига много лет назад, — ко всеобщему удивлению заявила Клара.
— О, жаль, что его здесь нет. Впрочем, он обычно появляется около полуночи. Это же наш театральный декоратор. Единственное, что дает ему средства к жизни!
За столом завязался оживленный разговор об искусстве, о трудностях свободного театра в кайзеровской Германии, о пагубном тяготении национального театра к помпезным представлениям бездарных пьес, к прославлению «национального духа» и исключительности германской нации.
Заговорили о Гауптмане.
— Что вы о нем думаете, фрау Цеткин?
— Я думаю, что Гауптман своими «Ткачами» поднял наш театр на высшую ступень.
— Вы оцениваете пьесу по ее социальным устремлениям? — быстро спросила Кете.
— Нет, конечно. Я вообще не могу отделить «социальное» от художественного в произведении искусства, — ответила Клара. — В самом деле, может ли идея пьесы захватить слушателя, если она не находит подлинного художественного выражения?
— А Георг Нойфиг? Можно ли назвать его реалистом с его высокой мерой условности?
— Тем не менее это реализм, — считала Клара. — Саркастически преувеличены глубоко реальные черты. Более того: художник направляет свой сарказм именно на те явления действительности, которые говорят о деградации общества. Во имя этой глубоко реалистической задачи он отбирает предельно выразительные средства.
Потом попросили Кете прочесть что-нибудь.
— Что бы вы хотели послушать? — любезно спросила Клару актриса.
Появившуюся лет пятнадцать назад пьесу Ибсена «Кукольный дом» Клара читала не однажды и высоко ценила образ Норы, женщины буржуазного круга, которой открылась фальшь и унизительность ее положения.
Оказалось, что Кете читает в немецком переводе роль Норы. Мульде согласился подавать реплики мужа героини. С первых слов Кете за соседними столиками притихли. Затем тишина распространилась далее, и голос Кете зазвучал во всю силу. Она читала ту сцену, где открывается «преступление» Норы и обнажается мелкая душа ее мужа. Когда Кете кончила, весь погребок аплодировал. У двери, тоже аплодируя, стояли двое только что вошедших мужчин: один из них, помоложе, с темно-рыжей бородой, в черном берете, из-под которого почти до плеч падали рыжие прямые волосы, мог быть Георгом Нойфигом. Мог быть… Клара не узнавала его. В нем не осталось ничего юношеского, что так било в глаза при встрече с его братом.
Спутник был, вероятно, значительно старше Нойфига. Его наружность, тоже борода, тоже длинные волосы, но темные и с сединой, его одежда: бархатная тужурка и берет — выдавали в нем художника.
Кларе представили художников: Фридрих Цундель, Георг Нойфиг.
Цундель сказал Кларе:
— Я знаю вас по статьям в «Равенстве».
Она засмеялась:
— Я польщена тем, что вы читаете пашу женскую газету. Или это влияние вашей жены?
— Нет, я делаю это по велению собственного сердца: мне нравится, как в журнале ставятся вопросы искусства. Смею, кстати, заметить, что я не женат… — добавил он шутливо.
Между тем Георг продолжал болтать с Кете. На Клару он взглянул мельком и ограничился поклоном в ее сторону.
«Неужели я так изменилась, что он не узнал меня?» — подумала она. Сегодня особенно чувствовала она себя полной энергии, и что-то от ее молодости было в этом вечере. Почему-то она решила, если Георг не узнает ее, пусть так и останется! А вскоре в общем разговоре она забыла о нем. Сразу завязался у нее спор с Цунделем на тему, которая волновала людей искусства: о бурно входящем в культуру века кинематографе. Цундель считал, что кинематограф — всего лишь жалкая имитация театра, он походит на подлинное искусство театра, как обезьяна на человека. Есть какие-то общие черты, но нет главного: интеллекта! Клара горячо возражала.
Когда она заговорила, Георг поднял голову. Мгновение он смотрел на нее, словно не видя. И быстро вскинул на нос пенсне, по-детски изумленными глазами глядя на нее:
— Боже мой, фройляйн Эйснер!
— Ты узнал меня только по голосу, Георг?
— Я узнал бы вас мгновенно, если бы не моя близорукость. Как часто я думал о вас, как хотел вас встретить. Разве могло прийти в голову, что «наша Клара» и фройляйн Эйснер — одно и то же лицо?
Георг придвинул свой стул к Кларе, он говорил без умолку, пока Цундель не заметил:
— Друзья, мы, кажется, здесь лишние. Я давно не видел Георга таким оживленным!
— Ты ничего не понимаешь! — закричал Георг. — Я бы не стал художником, если бы фройляйн Клара не ввела меня в этот адов рай! Я бы спокойно выпускал алюминиевую посуду или оболочки для снарядов, на худой конец. Как мой брат!
Под общий смех Клара стала рассказывать о Георге и Уве.
— Представьте себе двух внешне совершенно одинаковых мальчишек, обуреваемых одним стремлением: чего бы учудить? Какую бы каверзу устроить? Что можно еще придумать? После того как сожгли сарай, подложили живую рыбу под матрац экономке, прокололи шину папиного экипажа и расстреляли из рогатки мамин старинный фарфор? Но это были только подступы к главной цели…
— Побег в пампасы! — закричал Георг.
— Вот именно. Причем оказалось, что Уве всю ночь проплакал и кричал: «Хочу домой!»
— Но я так запугал брата…
— …что он до сих пор трясется. Я видела его год назад в Лейпциге, — вставила Клара.
— Ну, как братишка?
— Ничего, вполне достойный кайзеровский офицер. Вроде тех, которых ты рисуешь…
— Ах, фрау Цеткин, боюсь, что когда-нибудь мой брат меня пырнет штыком в очередной свалке за «национальные интересы», которые мы будем защищать где-нибудь на Огненной Земле или подальше…
— Тебе порядком попадет еще здесь, на нашей собственной земле! — сказала Кете. — За что ты отсидел два месяца в Ораниенбауме?
— За сущие пустяки!
— Говорят, ты нарисовал Бисмарка с ночным горшком на голове вместо цилиндра? И вместо ручки развевался султан!
— Квач! — воскликнул Цундель. — Это был кронпринц! Мы ездили в Росток. Я рисовал там натуру, Георг дал слово, что не будет никаких эскапад. Я умолял его дать мне спокойно закончить работу. Но надо же! — оказалось, что именно там спускают на воду очередное чудовище морского министерства… Понаехало столько высокопоставленных лиц, что незатейливый Росток выглядел, как Потсдам в дни коронации.
— Георг, конечно, был в экстазе? — захохотала Кете.
— Еще бы! Самое удивительное, что удалось подкинуть в местную газету вполне благонамеренного направления карикатуру! Георг, у тебя нет этой газеты?
— Кажется, есть. Я оставил в гардеробе папку.
Газетный листок пошел по рукам. Спуск на воду военного корабля был изображен в виде отправки Ноева ковчега. В Ное можно было легко признать самого кайзера: голый детина, но с железным крестом на волосатой груди, командовал погрузкой ковчега. На него всходили с носа — «нечистые» — козлы в кирасах и при шпагах, с кормы — «чистые» — ослы в цилиндрах и с моноклями. Таким образом, в кайзеровском ковчеге спасались от мирового потопа и военщина и капитал. Но было видно, что потоп их непременно захлестнет и безумный ковчег вот-вот рассыплется…
Все удивлялись, каким образом удалось это напечатать.
— Спросите Фридриха. Он мастер на эти дела! — сказал Георг.
Цундель стал уморительно рассказывать, как ему удалось при помощи своей бумаги с печатью имперской Академии художеств уверить редактора газеты — совершенный кретин! — что это вполне благонамеренный рисунок на библейские темы.
— И он поверил? — изумились все.
— Конечно… — Цундель выдержал паузу. — После того как мы двое суток поили его в этом проклятом ростокском «Левенброе», где даже нечем было закусывать.
— А омары? Живые омары, которых ты разбросал по залу и пугал дам.
— Это ты разбрасывал и пугал!
— В общем, вы оба были хороши… Вы еще дешево отделались, — сказала Кете.
Расходились уже поздней ночью. Вышло так, что Клара и Цундель оказались вдвоем и он предложил пойти пешком до ее отеля. Теперь он показался ей погруженным в себя, может быть, даже чем-то угнетенным. Они вышли к каналу, некоторое время продолжая идти по берегу. Запах осенней воды и сухих листьев, шуршащих под ногами, тревожно и грустно напоминал о близкой зиме.
Они обменивались короткими замечаниями, частые паузы их не тяготили, и не хотелось заполнять их лишними словами, а только слушать шорох и плеск воды.
Оставшись одна в номере, она еще не сразу легла, вспоминая с улыбкой все происшедшее: и удачное выступление, и глубоко симпатичных ей Кете и Георга, и Цунделя с его двойственным обликом. Она сидела перед зеркалом, все еще не откалывая шляпы и не снимая накидки.
Да, в волосах — тонкие белые ниточки. И у губ две складки. Не рано ли? Жизнь не поскупилась для нее: дала достаточно невзгод. Но и счастья! Да, в ее жизни было все отвешено полной мерой!
«Я еще совсем не стара, — подумала она, — если могла скрестить шпаги с блистательной фройляйн Топиц!»
Ей жилось теперь много сложнее, чем раньше. Тот голос, который часто произносил ободряющее слово, умолк навеки. Ушел из жизни Энгельс.
А жизнь подбрасывала новые трудности. И бороться приходилось не только с извечным врагом — классом капиталистов. Шли споры в собственных рядах: с оппортунистами, с теми, кто придавал слишком большое значение парламентским формам борьбы. В этих спорах надо было резать по живому, громить вчерашних друзей, вчерашних учителей, ниспровергать вчерашних кумиров.
То, что партия стала так популярна, что миллионы рабочих подали голос за ее кандидатов при выборах в рейхстаг, что она пробивалась в самую гущу пролетариата пламенным словом своих агитаторов, боевыми страницами своих газет, — в этом была ее сила, ее размах, ее гордость. Но где-то рядом с успехами копились тени. Они выглядывали из темных углов, где таились сомнения, усталость, где поджидало слабых разочарование. И они подсказывали слова — и теории! — сначала компромисса, уступок, а потом пересмотр и измену.
Кто шел во главе колонны, ушедшей из боевых порядков партии и выбросившей белый флаг соглашательства? Чьи барабаны пробили отбой? Кто облек в форму красивых слов и блестящих парадоксов неприглядную мысль о сглаживании классовых противоречий, о пересмотре теории Маркса?
И уже воздвигал Эдуард Бернштейн здание «новой теории» под модным, хлестким, опасным девизом: «Движение — все, конечная цель — ничто». Эдуард Бернштейн, бывший редактор нелегального «Социал-демократа», к слову которого с таким трепетным уважением прислушивалась когда-то молодая Клара.
Дрогнули и другие, дав вовлечь себя в сеть разнообразных «но», в паутину уступок мелкой буржуазии, крестьянству, рабочей аристократии.
И Клара взывала к вчерашним друзьям, к вчерашним своим учителям, высмеивала и проклинала, убеждала и требовала:
— Еще башмаков вы тех не износили, в которых шли за гробом Энгельса! Еще траурный креп не снят с наших знамен! А дух ревизии шастает под сводами нашего партийного дома!
Накал разногласий достиг высшей точки на Штутгартском съезде. Клара высказалась за исключение Бернштейна, навязывающего партии свое «учение», свои «идеи», выражающие чаяния партийных и профсоюзных чиновников и аристократической верхушки рабочего класса.
Большинство поддерживало Клару, но не решалось на исключение Бернштейна.
Да что они — слепы? Не видят опасности этих воплей о «классовом мире»? Не слышат угрозы национализма в этих требованиях голосовать за военные кредиты?
А если видят, а если слышат, то почему же так половинчаты в своем решении?
Клара, вся под впечатлением своего выступления, прослушала, кому предоставили слово. Но, кажется, она узнает маленькую худенькую женщину на трибуне. Это доктор Роза Люксембург, главный редактор «Саксонской народной газеты». Она совсем молода, и что-то даже девичье есть в ее некрасивом лице, освещенном большими темными глазами. Но что она говорит своим нежным, девичьим голосом, который все крепнет по мере того, как она умножает свои доводы? Роза бьет по оппортунистам без пощады!
У Розы совершенно другой метод, чем у Клары. Клара эмоциональна, резка, саркастична. Когда она отчитывала «господина депутата рейхстага Гейне», замер весь зал.
Роза сильна логикой, эрудицией, топкой иронией. Она предлагает съезду проследить, как одну за другой ревизионизм сдает высоты революционного учения. Вместо насильственного ниспровержения угнетателей — сделка с ними, вместо классовой борьбы — болтовня в парламенте! Вместо боеспособной партии — нечто аморфное, расплывчатое, киселеобразное…
О, эта маленькая женщина не из слабых! Клара видит, как она будто вырастает на трибуне. Ее ораторский стиль своеобразен: она не ставит риторических вопросов, почти не употребляет метафор. Она подымает в атаку цифры. Выстраивает их в боевые порядки, в которые трудно врезаться противнику. Они подкреплены тяжелой артиллерией научных выводов, Клара давно не слышала — даже из уст признанных авторитетов — столь аргументированного выступления в защиту партийных позиций.
Она мысленно подписывается под каждым словом Розы. Да, эта женщина ясно видит перед собой врага! Сейчас особенно важно: ясно видеть врага. Потому что он набирает силу. И потому, что хочет обойти с тыла. Обмануть бдительность рабочих. Поймать на крючок такой опасной и такой соблазнительной мысли о «единстве нации», об «общности всей Германии перед лицом мира»…
Роза — теоретик, это очевидно. Она крепко стоит на почве фактов. Под каждым ее тезисом живая действительность. И это делает ее речь такой действенной. Роза поддерживает Клару. Ими как будто заключено молчаливое соглашение о взаимных действиях.
«Наверное, Роза готовится к выступлению, — думает Клара, — но впечатление такое, что она находит нужные слова, уже стоя на трибуне!» Клара тоже тщательно готовит свои выступления. Она стремится выстроить аргументацию по точному плану. Но всегда построенный с таким тщанием план рушится, едва Клара произносит первые фразы. И всегда, оказавшись на трибуне, она словно обретает второе дыхание. И уже не приготовленными загодя доводами разит противника — совсем другие слова приходят на ум! Вся легкая и напористая рать насмешек, метафор, аналогий налетает на противника, и Клара по движению зала, по то и дело прорывающемуся смешку и взрыву аплодисментов понимает, что цель поражена.
Мысли ее прерываются, зал рукоплещет Розе. Председательствующий Игнатий Ауэр, склонный к поддержке реформистов, острит по поводу того, что «слабый пол» не так уж угнетен, судя по выступлениям в этом зале. Острота не принимается. Объявляется перерыв, и Клара спешит к Розе, чтобы выразить свое удовольствие от ее речи. Она делает это с присущей ей горячностью и непосредственностью. И с удивлением видит, что ее слова заставляют «фрау доктор» залиться юношеским румянцем. Боже мой, она же совсем молода!
Роза расположила к себе Клару и заинтересовала ее. Это совсем другой тип, чем Кларины сподвижницы по газете и женским организациям: скажем, Кете Дункер или Эмма Ирер. Они по-немецки основательны и дотошны, тяжеловесны в полемике, они следуют своему плану, не очень сильны в маневрировании и учете действий противника. Роза удивительно маневренна, реакции ее мгновенны, и это — в соединении с блестящей теоретической подготовкой!
Странно, на трибуне Роза, несмотря на свою хрупкость, кажется очень значительной. Сейчас она совсем затерялась среди мужчин. На Розе светлая блузка с высоким воротником, обшитым рюшем, и широкая черная юбка. Свои блестящие темные волосы она стягивает большим узлом на затылке.
Пока женщины идут к выходу, их то и дело останавливают товарищи: предполагается совместный ужин. Как Роза смотрит на это? Она говорит, что устала и склонна вернуться в гостиницу. Кларе не хочется ее отпускать, она кое-что понимает в людях и безошибочно определяет, что с Розой они будут не только соратниками, но и друзьями.
— Товарищ Роза, поедемте ко мне! У меня очень тихо. Если мои сорванцы станут нам мешать, то пока они еще несовершеннолетние, я могу выпроводить их.
Роза охотно соглашается, и Клара уже предвкушает, как она повозится, поколдует — она это отлично умеет! — в своей маленькой кухоньке и стол будет что надо! И они сядут за стол вдвоем.
Она забыла про Фридриха. Она так часто забывала про него! Фридрих стоит под каштанами в картинной позе, с трубкой в зубах. Он не скрывает, что ждет именно Клару и потому отбивается от товарищей, которые силятся увести его с собой.
Клара соображает: помешает ли он их беседе с Розой? В крайнем случае, его ведь тоже можно отправить с мальчишками. Они отлично ладят!
Клара знакомит Розу с Фридрихом Цунделем.
— Мы уже знакомы, — говорит он. И Роза подтверждает это своей медленной улыбкой и кивком головы.
— Товарищ Цундель дал в нашу газету очень интересную статью о молодых художниках Саксонии.
— Ну, на это он мастер, — говорит Клара, — особенно если эти молодые не очень педантичны в изображении действительности.
— Товарищ Клара — совершенный ретроград в области изобразительного искусства! Прошу прощения, только изобразительного, — Фридрих хочет откланяться, но Клара говорит, что он имеет возможность пообедать с ними, причем обед — ее собственного приготовления.
Цундель поднимает обе руки:
— Видит бог, как я ценю подобную возможность!
И Клара почему-то вдруг заключает, что обед пройдет прекрасно и Фридрих не будет лишним:
Так и получилось. Клара обрадовалась тому, что Роза открылась ей с новой стороны. Роза увлекалась искусством, хорошо понимала живопись, и тотчас у них с Цунделем загорелся спор о Дега. Роза считала, что, уйдя от портрета, художник обеднил себя: последние его полотна менее значительны.
Фридрих горячился, доказывая, что именно эти удивительные скачки и балетные сцены — это и есть подлинный Дега. Почему именно скачки, именно балет? Потому что Дега сделано открытие в изображении движения, диалектики, то есть шаг вперед от живописи-фотографии. Фотография запечатлевает статичность; искусство, подобное творениям Дега, передает жизнь в движении.
— И поэтому все так расплывчато? — воскликнула Роза.
— Конечно. Если вы смотрите на быстро катящееся колесо, — вы не видите отдельных спиц, однако составляете себе правильное представление: колесо катится! А краски? Палитра современного художника несравненно богаче, чем во времена Делакруа.
— Ну, Делакруа! Плохо ли?!
— Да, но его чрезмерная определенность, выписанность — уже анахронизм! В том, что на холсте возникают совершенно новые цветовые сочетания, в этом закон все большей осложненности, изысканности искусства. Как, впрочем, и вообще в развитии живого от простейшего к высокоорганизованному. Первобытный человек не воспринимал всех цветов, которые открылись нам…
— Ты полагаешь, что это — область искусства? — усомнилась Клара.
— Нет, конечно, нет. Но искусство помогает этому процессу.
— Я думаю, — сказала Роза нерешительно, — что мы очень мало знаем о природе воздействия искусства. Мы объясняем те стороны его, — которые связаны с экономикой, с политикой. Но сказав, что искусство классово, то есть объяснив его природу, мы не отвечаем на множество других вопросов, которые ставит оно в целом и отдельные его отрасли. Мы стоим только у порога марксистской эстетики. Вы согласны, Клара?
— Конечно. И я не вижу перспективы в этом смысле в рамках буржуазного общества с его монополией на красоту. Я только решительная противница тех, кто утверждает, что чувство прекрасного свойственно лишь людям высокой культуры.
— Вы должны приехать ко мне в Дрезден, — воскликнула Роза. — Нет в Германии еще города, который сам по себе был бы так… художествен!
Роза раскраснелась и, смеясь, закончила:
— Вы предложили нам обед на уровне лучших произведений современного искусства, Клара!
— Накормить друзей вкусно и при этом красиво — один из Клариных талантов. Один из многих, — сказал Фридрих.
В Клариной семье в кулинарной области царила мать-француженка: от нее Клара заимствовала привычку к легким и пряным блюдам, умение накрыть стол просто и изящно.
А Фридрих сегодня в ударе: разговорчив и оживлен. Он не всегда бывает таким. Как многие творческие люди, он неровен, эмоционален, не знаешь, чего от него ждать в следующую минуту. Но Клара всегда может вывести его из депрессии, вернуть ему его природную жизнерадостность. «Я обращен к тебе моей самой лучшей стороной, — сказал он ей как-то. — Как только — упаси бог, чтобы это случилось, — я почувствую, что тебе открывается моя оборотная сторона, я исчезну!»
И все-таки настоящий разговор с Розой начался позже, когда Фридрих удалился и женщины перешли в другую комнату.
Здесь стояла большая фотография Клары с обоими мальчиками.
— Как их зовут? — живо спросила Роза.
— Костя и Максим.
— О, это русские имена?
— Мой муж был русским.
— Простите, я напомнила вам…
— Это не забывается. Я овдовела совсем молодой. И была счастлива так недолго. И все же оно было, это счастье.
Роза смотрит на нее своими темными, удивительными глазами. Она молода, у нее все впереди. Вернее всего, мир женских чувств еще закрыт для нее. И Клара чувствует неловкость от того, что затронула эту тему. Но Роза говорит просто:
— Как редко случается, что женская судьба складывается счастливо, не мешая, а помогая женщине в ее деле, в ее борьбе. Правда?
— Да, к сожалению, так. Но со временем это изменится.
— Вы полагаете, еще на нашем веку?
— Конечно. Мы вступаем в век революций. Надо надеяться: победоносных революций. А это значит — полная и фактическая свобода женщины.
— Но психология людей… Она меняется не сразу. Мужья останутся мужьями.
— Безусловно, но новый строй сформирует новое общественное мнение. И в конце концов мужья — тоже люди, — смеясь, закончила Клара, — и никто не посягнет на лавры Отелло!
Роза расположилась в кресле, сбросив ботинки и поджав под себя ноги. Сейчас, с растрепавшимися волосами, раскрасневшаяся, она выглядела совсем юной. «Вот же, некрасива, и нос крупный, и рот почти мужской. А сколько обаяния! Как она показалась Фридриху, на его взгляд художника?»
— Как вы вошли в движение, Роза?
— Вероятно, помог случай. Нет, пожалуй, все равно это бы произошло. Но, может быть, много позже. Арестовали старого рабочего, который жил в нашем доме. Я знала его с детства и была к нему очень привязана. Я забегала, хотела узнать о его судьбе. И нашла его товарищей. Они как-то сразу поверили мне. Ведь в сущности я была девчонкой. Из мелкобуржуазной семьи. Просто девочка, просто гимназистка. Но когда рабочие приняли меня в свою среду, тут я поняла, где проходит моя дорога. Мне повезло: я попала к настоящим людям. Были среди них и интеллигенты. В наших условиях, в Польше, где двойной гнет: русского самодержавия и «своего» панства — все будит в нас протест очень рано. В семнадцать я уже была партийной функционеркой, а в восемнадцать должна была бежать из Польши.
— В Швейцарию, конечно?
— Конечно. Границу переходила нелегально.
— Живописный жандарм, подкупленный кабатчиком?
— Почти. Жандарма, правда, я не видела, поскольку лежала на телеге под копной сена и боялась только одного: расчихаться! А кабатчик, по-нашему корчмарь, действительно, был вполне театральный: с могучими усами, похожими на приклеенные.
— А потом Женева?
— Нет, Цюрих. Там я окончила университет. Вы знаете, Клара, я всю жизнь мечтала заниматься естественными науками: люблю все живое, мне дорога каждая травинка. Позже я стала изучать общественные науки. Это очень помогает мне в партийной работе. Вы ведь тоже гуманитарий?
— Я кончила Учительскую семинарию. Мечтала об учительстве. Я тогда понятия не имела о политике.
— Вам довелось преподавать?
Клара засмеялась.
— Моя педагогическая деятельность — печальная эпопея. Сначала меня выгнали из одного аристократического семейства, потом я должна была сама уйти от симпатичного чудака-нувориша. Бывало всякое… После многих странствий я уехала к мужу в Париж. Там родились мои дети. И было счастье… И было горе.
Роза увела Клару от печальных воспоминаний. Она вернулась к тому, что сейчас волновало их больше всего. Прошлое, конечно, объединяло их тоже, но гораздо крепче — происходящее сегодня. Роза с горечью рассказывала о своей встрече с Каутским:
— Я нагрянула к нему без предупреждения и застала Карла за работой. Как всегда. Но вопрос был слишком серьезным, и я прочно уселась в кресло, показывая всем своим видом, что не намерена уйти, пока не добьюсь ясности. Карл соглашался со мной! По существу. Позиция Бернштейна ошибочна, даже вредна, — он и с этим был согласен! Казалось бы, надо делать выводы: пока Бернштейн в рядах партии, он выступает от имени партии — так это понимают в массах, и нельзя понимать иначе. Когда он будет исключен, пусть носится со своей пресловутой теорией! В глазах рабочих это одна из буржуазных теорий, каких много. Карл не мог отбросить мои доводы! Соглашался… Но насчет исключения Бернштейна из партии — это нет! Не согласен! Он смотрел на меня своими близорукими глазами совершенно беспомощно, а нагромождение книг и бумаг на его большом столе явно говорило, что хозяину не терпится выставить меня и вернуться к ним! Тут жена Карла принесла нам кофе с бисквитами, и он так обрадовался, как будто два дня не ел. Естественно, на этом деловой разговор закончился… — В голосе Розы звучало глубокое разочарование.
Им обеим казалось таким ясным, таким насущно необходимым радикальное решение; таким опасным то, что в партии состоят люди, которые, словно камень за пазухой, несут идею «классового мира».
Обе они понимали, откуда проистекает нерешительность Каутского. Теоретик, оторванный от масс, от живого рабочего движения, он в какой-то срок отстал от него. Он не понял, что времена переменились, стали суровее, жестче.
Позже Роза часто бывала в Силенбухе, где поселилась Клара. Здесь Роза писала свои статьи в маленькой комнате в мезонине, которую она любила за то, что свет встающего солнца прежде всего попадал сюда. А Роза вставала с первым его лучом.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава 1
Уве не солгал Кларе, он действительно ввел совершенно новые порядки на своих — теперь уже трех! — предприятиях. Сравнивать современные предприятия с фабричкой его отца — означало бы то же, что сравнивать, скажем, выдолбленный из дерева челн с миноносцем «Германия», при спуске которого на воду Уве Нойфиг недавно присутствовал.
Алюминий — металл будущего. Тверже олова, мягче цинка. А легчайший вес? Флот-то строить надо! А сплав с медью дает такой результат… О, будущее за ним, за алюминием!
Нойфиг сказал Кларе в том давешнем разговоре о своем адвокате… Зепп Лангеханс — не совсем бескорыстный, но безотказный советчик. Преданный семейству Нойфиг с давних пор. Уве слушал его не только ушами, но всей кожей. Всезнающего Зеппа. Необходимого Зеппа. Зеппа-Безменянельзя.
Технический прогресс есть не только прогресс техники. Нет и нет! Зепп Лангеханс обладал способностью, которую он сам, будучи страстным охотником, называл «верхним чутьем». Прилагательное «верхний» прилагалось тут в двух планах: в непосредственном, охотницком, и в том смысле, что Зепп чуял малейшие нюансы конъюнктуры в верхах общества. Он давно понял то существенное обстоятельство, что не в военных штабах, не в недрах министерств и даже не в голове кайзера рождаются решающие планы и определяющие идеи. Растущая германская индустрия требует определенных экономических и политических решений. Вот где зачинаются прогрессивные идеи и генеральные планы. На этой стадии они еще не выходят на свет божий. Они пребывают, так сказать, в эмбриональном состоянии во чреве тайных совещаний промышленников и банковских воротил. И только потом, скрепленные волею монарха, превращаются в самые идеи и решения, четко выраженные языком меморандумов, законоустановлений, дипломатических и торговых демаршей, соглашений и нот. Так думал Зепп.
С тех пор как папа Нойфиг пожирал своих конкурентов — скромных жестянщиков с улицы Розенвег, все радикально изменилось. В обществе, как и в естественном мире, конечно, идет борьба: кто-то кого-то обязательно должен слопать. Без этого нет прогресса, нет движения вперед, нет человеческого общества. Но человек тем и отличается от животного, что на определенной стадии кооперируется с себе подобными. Первобытные люди кооперировались, например, для борьбы с мамонтом. Современные люди, люди дела, должны объединяться для совместных усилий на пути прогресса.
Так вырастают мощные современные объединения, картели и тресты, связанные сложной системой с банками, финансами.
Но объединение людей дела, как называл Лангеханс себя, Уве и подобных им, нужно и для другой цели. Для борьбы с современными мамонтами — с подрывными элементами, разлагающими тех непосредственных исполнителей, без которых немыслим технический прогресс и вообще цивилизация. Так рассуждал Зепп.
И опять же: ушли в вечность те времена, когда папа Нойфиг знал в лицо каждого своего рабочего и переругивался с нерадивыми подмастерьями из-за плохо приклепанной ручки кастрюли.
С тех пор рабочие тоже прошли немалый путь со всеми этими профсоюзами, всякими ферейнами и товариществами, не говоря уже о том, что существует политическая партия…
И тут-то и зарыта собака. Современный человек дела не рабовладелец с хлыстом, которым он обеспечивает производительность труда. Нет и нет. Современный рабочий — свободен, совершенно свободен. То есть он, конечно, не свободен от необходимости работать, это — нет. Он вынужден работать, и предприниматель, если он идет в ногу со временем, дорожит своими рабочими.
Среди них попадаются вполне приличные люди. Даже среди социал-демократов. И таких людей следует приближать и отмечать. В этом Нойфигу особенно полезен он: юрисконсульт Зепп Лангеханс! Он подсказывает, кто бы сгодился Уве для личных отношений, для добрых отношений, отношений отца и духовных его детей…
Ведь нашел же Лангеханс мастера Лео Фукса. Лео Фукс — это то что надо. Вокруг него группируются такие же порядочные люди из рабочих, как он сам. Не крикуны, не рвачи: солидные главы семейства, понимающие свою пользу. И то, что эта польза — вовсе не вразрез с пользой хозяина, а рядом с ней. И таким людям не жалко дать какого-то лишку. Сверх положенного. Улучшить условия жизни, как говорится. Так решил Зепп.
Все дело в том, что времена изменились, времена кардинальным образом изменились! Даже Железный канцлер орудовал не только кнутом, но и пряником. Включаясь в глобальную битву за владычество в мире, надо обезопасить себя с тыла. Когда мы будем врезаться в боевые порядки наших соперников на мировом рынке, хорошо бы иметь полную уверенность в том, что за нашими спинами не точат ножи, чтобы всадить нам между лопатками. Для такой уверенности и нужно иметь под рукой Лео Фукса и его друзей… Так думал Зепп.
Сразу после больших военных маневров Уве приехал в Лейпциг. Он велел вызвать Лангеханса. Пока Уве служит императору, Лангеханс наблюдает за предприятиями. Вчера это алюминиевые кастрюли, а сегодня — пожалуйста! — испытания на плавучесть, военные заказы… Миноносцы! А завтра — оболочки для бомб! На предприятии, имеющем перспективу такого рода, все всегда должно быть в порядке. И ни в коем случае нельзя терпеть, чтобы верх взяли крикуны и напроломидущие.
Зепп Лангеханс явился незамедлительно. Хотя он был намного старше Уве, он все еще обладал легкой фигурой, реакции у него были мгновенными, что особенно ценил Уве, полагая эту черту необходимой современному человеку дела.
На Зеппе была модная визитка и полосатые брюки.
— Ах, Уве, — начал было он с ходу, — какой Лотрек на весенней выставке в Кунстхаузе!
Но Нойфиг быстро привел его в порядок.
— Я узнал, что фрау Цеткин снова в Лейпциге. Как вам известно, она весьма популярна в определенных кругах, — сказал Уве, присев на край стола и тем показывая, что разговор идет неофициальный. Уве сделал паузу, ожидая, что Зепп как-то выскажется по этому поводу, но тот промолчал.
— Она приехала в Лейпциг, — продолжал Уве, — агитировать за самые радикальные меры. Цеткин принадлежит к тем людям, которые не могут спокойно спать, если им не удается натравить рабочих на хозяев. Меня интересует: будет ли фрау Цеткин выступать на моих предприятиях? Что говорят по этому поводу?
— Выступление Клары Цеткин назначено на послезавтра, — спокойно ответил Зепп.
— Вот как? Любопытно. Кто же тут постарался?
Зепп пожал плечами.
— Вы знаете, что Крюгер делает то, что хочет. Вчера он был в «Кайзерхофе» у Цеткин. Вряд ли что-нибудь может помешать такому собранию. Да и отмена его возбудила бы опасные кривотолки среди рабочих.
— Что же делать? — спросил озадаченный Уве.
— Следует пойти по другому пути: обеспечить обстановку на этом собрании. Может быть, где-то действительно тяжелые условия труда. Может быть, где-то имеет место жестокая эксплуатация. Но не у нас! У нас рабочие обеспечены, существует охрана труда, система поощрений. Учитывается семейное положение, болезни…
— Еще бы, — прервал Уве, — я держу целый штат дармоедов, которые всего-то и делают, что смотрят: не зашиб ли кто пальчик, не загремел ли кто-нибудь в канаву с отходами…
— Я говорил об этом с Фуксом. Все будет обеспечено.
— Учтите, фрау Цеткин острый и коварный противник. Ее метод — поднять оппонента на смех и доказать, что все, кто выступает против нее, — хозяйские подлипалы! Это она умеет.
— Знаете, Уве, — Зепп присел на стол рядом с хозяином, — я встречал фрау Цеткин, когда она была еще фройляйн Эйснер. Ее политический темперамент мне хорошо известен. На нашей стороне то преимущество, что она не в курсе дел фабрики и мы можем разочаровать ее теми особыми обстоятельствами, которые отличают ваши предприятия, господин Нойфиг. Обстановкой доброго содружества фабриканта с рабочими, этим последним словом современной политики.
— Да, Лангеханс, вы правы, это единственный способ выйти победителями из драки, которая наверняка заварится вокруг выступления Цеткин. А каким именно образом вам пришлось познакомиться с фройляйн Эйснер?
— Очень просто. Во времена исключительного закона я отказался от активной партийной работы. Но отнюдь не зарекался помогать тем, кто продолжал работу в обход закона. Время показало, что я поступил мудро.
— О да! — согласился Нойфиг.
— Фройляйн Эйснер обратилась ко мне за помощью: речь шла об освобождении из тюрьмы ее жениха, Осипа Цеткина.
— Ах, вот оно что. Я вспоминаю какие-то разговоры вокруг этого. Ведь фройляйн Клара служила у нас в доме. Я был тогда еще маленьким мальчишкой.
— Ваш отец был человек исключительно терпимый. Гогенлоэ выставили ее в два счета.
— Они всегда были чванны и неумны, — запальчиво произнес Уве, — и особенно Альбрехт. Он несколько по-другому судит теперь, когда ему приходится играть в демократию с депутатами рейхстага.
— А знаете, Альбрехт снова в Лейпциге. У него какие-то дела с наследством.
Это известие не заинтересовало Нойфига: он думал о другом.
— Значит, вы помогли когда-то фройляйн Кларе?
— В некотором отношении — да. Мне удалось узнать о судьбе ее жениха.
— И вы не встречались с ней потом?
— Встречался. Когда она после смерти мужа вернулась в Лейпциг, она захотела вернуть себе германское подданство.
— Вот как! Разве это имело для нее какое-нибудь значение? Они ведь — «дети мира»…
— Значение чисто практическое: естественно, она приехала не с пальмовой ветвью, а с намерениями продолжать работу в партии. И угоди она в тюрьму, будучи иностранной подданной, ее тотчас бы выслали.
— И вы помогли фрау Цеткин?
— Конечно. Ведь ее желание было вполне в рамках закона. Я только облегчил ей процедуру, которая могла бы длиться бесконечно.
— Вы сделали для нее многое… — Уве оглядел Лангеханса: юрист, несомненно, пройдоха, каких свет не видел! Но не за прекрасные же глаза Лангеханс счел нужным оказывать услуги этой женщине. Значит, он допускал еще тогда, что времена изменятся. Что когда-нибудь это ему пригодится. Интересно!
Он с каким-то новым чувством, словно переоценивая, окинул взглядом Зеппа: его стройную фигуру — занимается спортом! — продолговатое лицо, спокойные глаза с каким-то рассредоточенным взглядом, который, казалось, вбирал все, без разбору, и не выделял никого и ничего, все принимая бесстрастно, как бы про запас. Удивительно, что такой ловкий субъект в общем-то мало преуспел в жизни. «А он изрядно полысел!» — почему-то обрадовался Уве, словно какой-то изъян в его советчике делал его более понятным и надежным. «Мы с ним оба молодые, — подумал Уве, — нам еще многое предстоит. Нельзя предугадать ход истории. Кто мог подумать в годы исключительного закона, что на рабочих собраниях будут открыто призывать к забастовкам и антиправительственным выступлениям! Кто мог допустить, что у владельца предприятия не будет другого выхода, как опереться на какую-то часть рабочих, безусловно, достойных, но все же людей другого круга. И через них проводить свое влияние. Нет, во времена папы Нойфига жизнь была гораздо легче и во всяком случае проще. «Да» это было «да», а «нет» было «нет»!
Вот в прошлом месяце в ущерб себе — да, нанося немалый урон себе, — он выделил изрядную сумму на занятия спортом своих рабочих. Боже мой, у папы глаза полезли бы на лоб от всего этого! Зачем предпринимателю гребцы и лыжники? Что, это помогает лучше работать? Способствует развитию производства? Дурь! А надо!.. Надо потому, что все это делают. И его не убудет от того, что изредка в субботний вечер он сыграет партию в кегли со своим мастером, тем же Фуксом, например… Но папа не знал таких забот! И если играл в кегли со своими мастерами, то разве только потому, что не помышлял о другом обществе. И другом времяпрепровождении!»
Но сейчас он вызвал Лангеханса, имея в виду определенную цель. Уве беспокоило предстоящее выступление на его фабрике.
Странно, Клара Цеткин в качестве агитатора совсем не сливалась в его сознании с той женщиной, которая так мило говорила с ним в ресторане в тот свой приезд. Даже не верилось, что она — из этих крикунов и напроломидущих. Уве считал, что в партии теперь так много хорошо воспитанных и терпимых, широко смотрящих на вещи людей. Ведь Лангеханс — тоже в партии, и Фукс — само собой… Почему такая культурная дама, как фрау Цеткин, должна науськивать рабочих на хозяев и призывать к крайним мерам? Да, хорошо подготовиться, подстраховаться — это необходимо!
— Вы считаете, что Фукс организует собрание как надо?
— Безусловно: на фабрике есть еще разумные люди.
Уве приободрился: еще бы! Он столько сделал для своих рабочих! К тому времени, когда он уйдет в отставку и посвятит себя исключительно производству кухонной утвари и кое-чего другого, у него будут первоклассные предприятия с самыми передовыми рабочими. Теми самыми, которые удерживают партию от левых излишеств и стоят на почве реальности.
Успокоенный, он отпустил Лангеханса. Этот Зепп — находка в паше время! И надо привязать его покрепче к делу «Отто Нойфиг и сыновья» — Уве не хотел менять название фирмы. Участие в прибылях? Почему бы нет?
Размышляя таким образом, Уве машинально смотрел в окно, как его советчик и друг быстрым деловым шагом проходит по заводскому двору в своем щегольском легком пальто с атласными отворотами, в модной шляпе с загнутыми вверх полями на лысеющей голове. Вот он приветливо отвечает на поклоны рабочих. Приподнимает шляпу перед женщинами, толкающими вагонетку на подъездных путях. Вот он пожимает руку инвалиду-привратнику, вытянувшемуся перед ним, словно перед фельдфебелем. Пройдоха Зепп. Необходимый Зепп. Зепп-Безменянельзя…
Лангеханс миновал высокую ограду с многократно повторяющейся готически хвостатой надписью «Отто Нойфиг и сыновья» и отправился прямиком в винный погребок Ауэрбаха. Историческое место, где в свое время веселился с друзьями Гете и где, как гласит предание, впервые предстало ему видение доктора Фауста, настраивало Зеппа на философский лад.
«Что есть Фауст в наши дни? Где взять Мефистофеля, которому можно было бы запродать душу? Кому нужна душа?» Зепп пил маленькими глоточками кюммель и предавался своим сложным мыслям. До какого-то пункта они шли, абсолютно совпадая с ходом мыслей Нойфига: «Мы с Уве оба принадлежим к молодым, — Зепп всегда опускал то обстоятельство, что был на десять лет старше. — Мы новое поколение людей дела. Нас ждет новая эпоха. Новый век. Новый век — у… это штучка! Чтобы достойно войти в него, надо уже сейчас тренироваться… На пролезание в игольное ухо! Все эти старые патриархальные порядки годились, когда «да» было «да», а «нет» было «нет». Но наступают времена другой формулы: «И да и нет». И потому…»
Тут мысль юриста сворачивала на свой собственный путь: «Когда-то говорили: за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. И это был голос здравого рассудка. А теперь поймает зайца только тот, что погонится за двумя. Одного поймает наверняка, а возможно, и обоих. Раньше, кто тише ехал, оказывался дальше. В век, когда скорости решают все, он всегда будет в хвосте. И самое главное: наступило время «службы двум хозяевам». Когда-то Гольдони очень веселился, разоблачая слугу двух господ. Старомодный господин не подозревал, что именно такой слуга будет главной фигурой грядущего века».
Лангеханс допил кюммель, заплатил по счету и поднялся по винтовой лестнице погребка. Швейцар распахнул перед ним тяжелую одностворчатую дверь и пожелал господину юристу приятно отдохнуть в кругу семьи. Адвокат не собирался этого делать, хотя бы потому, что не имел семьи.
Перед ним открылась картина вечернего Лейпцига, который он так любил. Улицу заливал желтоватый свет этих новомодных фонарей с лампионами, висящими, словно гроздь винограда на железном столбе. Экипажи, медленно двигавшиеся по мостовой, ловили тревожные отблески своими лакированными боками, умножая световые точки, роящиеся, словно светляки, в узком русле улицы между шпалер старых лип. Слева шпиль Томаскирхе ясно рисовался в небе, подсвеченном снизу рекламой колбасного заведения Беренцвейга. Справа Гриммаишештрассе уходила перспективой залитых светом домов, первые этажи которых представляли сплошную линию сверкающих витрин и пестрых вывесок.
Толпа праздных людей катилась по тротуарам, обдавая сложным ароматом фиксатуара, духов и зубного эликсира Плюмке, «гарантирующего сохранность зубов и свежее дыхание».
Лангеханс подозвал извозчика и велел везти себя в гостиницу «Кайзерхоф».
Клара начала свое выступление с события недавних дней: повышения цен на продукты питания.
— Кому выгодно повышение цен, почему правительство идет на эту меру? Разберемся!
И Клара разбирает по косточкам таможенную политику правительства, направленную на удорожание хлебных продуктов.
Клара только что совершила большую поездку: она рассказывает о тяжелой жизни рудокопов Силезии и металлургов Рейнской долины, кустарей Тюрингии, об изнурительном крестьянском труде на полях богачей за Эльбой. Жены и дети рабочих и крестьян давно тянут лямку труда на фабриканта и помещика.
На совести правящих классов, на совести буржуазных писак, вопящих о прогрессе и классовом мире, на совести строя миллионы жизней, g том числе — жизней женщин и детей. Вопиющее противоречие между словами и делом разъедает современное общество опаснее, чем мор, чем эпидемия — бич средневековья! То были опасности, рожденные самой природой. Массовое убийство сегодня — порождение преступного строя. И ответственность за уничтожение людей, за нищету и социальные болезни, за деградирование масс несут в равной мере с капиталистами те, кто уводит от борьбы, кто усыпляет бдительность угнетенных, те, кто призывает к братству овец и волков! Эти болтуны так же опасны, как прямые защитники бесчеловечного строя. «Чума на оба ваши дома!» — восклицает Клара словами Шекспира.
Клара испытывает тот особый подъем, когда нужные слова сами приходят к ней, она не выбирает их, не ищет. Мысли выношены ею, они стали ее сущностью. Это ее мир, мир, который она избрала и который не покинет до последнего своего дыхания.
Так можно говорить только с людьми, жаждущими именно этих слов, принимающими их как свои собственные мысли, выраженные другим человеком ясно и глубоко. И Клара с уверенностью опытного оратора определила, что здесь, в спортивном зале, которым гордился Нойфиг, она должна говорить именно так. Она уже не помнила, что нашептывал ей накануне в «Кайзерхофе» Зепп Лангеханс, ее давнишний знакомый. Очень-очень совестливый господин. Очень-очень ловкий господин… О чем он ее предупреждал? От чего предостерегал?
Нет, в глубине сознания у нее, конечно, отложилось что-то от его неожиданного вторжения, но сейчас это казалось мелким и несущественным. Сейчас, когда ее так слушали! Так принимали! И как могло быть иначе? Это же с ними, с этими людьми ей идти дальше и подниматься выше. И когда горнист протрубит атаку, они будут в одной цепи наступающего класса. Потому что у них один враг. Один. В какие бы личины он ни рядился! О, она узнает его под любой маской!
И зная его так хорошо и сделав борьбу с ним целью своей жизни, она указывает пальцем на тех, кто куплен! Кто вопит о классовом мире, об изживании противоречий.
Как сигнальщица, стоит она на мостике и машет флажками, предупреждая об опасности, о подводных скалах, о скрытых рифах, о глубинных течениях, грозящих кораблю…
Когда она садится и председатель поднимается, чтобы назвать фамилию следующего оратора, она наконец вспоминает странное свидание накануне.
…Лангеханс почти не изменился со времени их последней встречи. Он тогда помог ей, проявил внимание и дружелюбие. И все же настороженность ее не растопилась. Он принадлежал к тем социал-демократам, которые отошли от партии, когда исключительный закон распростер свои черные крылья над Германией. Таких людей было немало: они боялись социализма, но допускали его победу. И хотели при всех обстоятельствах быть среди победителей. Так она понимала Лангеханса в то время. А теперь? Одно дело — откликнуться на ее просьбу, а другое — проявить инициативу, предупредить ее, что на фабрике Уве Нойфига ее ждет организованный отпор со стороны самих рабочих. Чем руководствовался Лангеханс в данном случае? Соображениями перестраховки? Конечно, за эти годы он мог, как бывало с другими, перемениться, примкнуть к последовательным социалистам: он же не был связан ни родством, ни богатством с сильными мира сего. Но Клара не верила в это. Лангеханс был как раз из тех прилипал, которые неотлучны от кита капитала.
Эти благопристойные господа не имеют ничего общего с палачом в красной рубахе. Но есть некая потайная дверь, более тайная, чем банковский счет, чем мобилизационные планы и секретные сговоры государств. Однажды эта дверь откроется и впустит палача в благопристойный кабинет!..
Нет, Клара не забыла того, что ей сказал Лангеханс. И забыть не могла. По простой причине: все рассказанное им было ей известно раньше. И даже еще до приезда в Лейпциг. Ушлому юристу было невдомек, что корреспонденты «Равенства» информировали ее в полную меру их осведомленности. Нет, конечно, она не дала ему понять, что он явился с запоздалыми новостями. Важно то, что он вообще явился. Значит, он не уверен в том, что ставка на хозяев — верная ставка, что к финишу прибежит именно лошадка Нойфига. И как бы финиш этот ни рисовался воображению пройдохи-юриста, он счел нужным перестраховаться!
Почему она не выступила сразу с тем, что ей открылось еще до Лангеханса и подтвердилось им? О, не так просто положение. Она держала пока в резерве эту подлую историю с подкупом инспектора по охране труда. Историю, которую она знала раньше и снова услышала от Лангеханса. Из тех же соображений она не выступила с ней на страницах газеты.
Несомненным являлось одно: рабочий погиб по вине администрации, потому что не была остановлена машина. И больше того: остановить машину запретили! А затем, путем подкупа и подлогов, изобразили «несчастный случай»…
Но вот на трибуне Фукс. Это о нем предупреждал ее Лангеханс. Надо признать, что Фукс — вовсе не простак. Цель его выступления — отвести слушателей подальше от ее доклада. Доказать, что у них на предприятии нет оснований для пессимистических выводов.
— Не везде же есть поводы и необходимость в стачках! Это же сильнодействующее средство. Там, где можно договориться, ни к чему крайности! Договорились же мирным путем о снижении норм на сверхурочные работы…
Клара молчит. Опыт подсказывает ей, что у Фукса найдутся оппоненты. Она заключает это по тому, как настроена аудитория. Хотя никто не прерывает Фукса, в зале — шумок. И выражение лиц тоже говорит ей о многом.
Действительно, тотчас выскакивает маленький, щуплый человек с таким лукавым, в смешливых морщинках лицом, что в нем сразу угадывается местный остряк и балагур. Это подтверждается репликами с мест: «Ну, уж Крюгер даст жару!», «Сейчас он сделает из Фукса[11] муфту для своей жены!»
— Что это тут говорилось о снижении норм на сверхурочную работу? А где эти сверхурочные работы, если рабочий день и так продлили на полтора часа и именно для того, чтобы не оплачивать сверхурочных! И если стачки — сильнодействующее средство, как сказал Фукс, то разрешите вам напомнить, что при холере не помогают слабодействующие! А от работы в нашей кочегарке подохнешь скорей, чем при холерном море.
При полном одобрении зала Крюгер рубит дальше:
— Хорошо Фуксу рассуждать о мире с хозяевами: комнатная собачка тоже собака, но живет иначе, чем дворовый пес. Получая из рук хозяина аппетитную косточку, она не нуждается в экскурсиях на помойку.
В зале хохочут, Крюгер даже не улыбается. Но все его многочисленные морщинки напряглись от язвительности:
— Наша Клара очень хорошо знает, что нам нужно. И как опасно для нас пускаться на уступки. Протяните хозяину палец, он откусит руку!
Крюгер останавливается на секунду и постным голосом добавляет:
— Даже если это наш глубокоуважаемый и высокоценимый господин Нойфиг!
Смех покрывает его слова, но он еще не кончил:
— И только два слова о нашем юрисконсульте. Есть такие люди: где они проходят, там трава вянет. Все. И больше я не скажу ни слова. Я пока не приискал себе другого места: мне еще надо у них поработать!
Клара смеется вместе со всеми. Фукс, как ни в чем не бывало, тоже смеется, — о, это бывалый и очень натренированный субъект! А Лангеханс? Что Лангеханс? Юрист не прост. Он говорит без напряжения и делает вид, что не принимает всерьез Крюгера:
— Крюгер любит посмешить народ, когда собрание становится немного скучным…
Куда он клонит? Он ищет популярности. Адвокат рассказывает, как ему удалось выиграть дела в пользу рабочих, — может быть, это действительно так. Возможно также, что не все знают ему подлинную цену. Лангеханс — из породы оборотней. Он легко оборачивается радетелем за права рабочих.
Во всяком случае, на заводе чувствуется мощная рабочая организация, и Клара ясно видит расстановку сил.
Ее радует еще одно обстоятельство: выступает женщина, работница. Речь ее, уступая крюгеровской в хлесткости, деловита и остра. Она рассказывает о событии: аварии со смертельным исходом… В зале становится так тихо, что слышно только жужжание вентилятора и этот женский голос, глубокий и, можно было бы сказать, бесстрастный, — так твердо произносит слова эта немолодая женщина. Можно бы, если бы не ее лицо. На нем — ярость. Она бросает в зал беспощадно:
— На нашем заводе, в нашем цехе, погиб человек. Он оставил вдову и двух сирот. Они не получили ни копейки, потому что умные судьи признали, что он сам себя убил, избрав такой странный способ. Ребенок не поверит этой глупости! Как же нам работать с сознанием того, что жизнь наша ценится не дороже листа белого металла, из которого и выйдут-то едва ли две кастрюли!..
И с этого момента, с этих слов начинается полный драматизма настоящий разговор, которому Клара только помогает, распутывая дальше клубок обоснованных подозрений, который обрастает все более достоверными деталями. Она уже видит, как это будет выглядеть на страницах «Равенства», вся эта история во всей ее полноте!
Поезд в Дрезден отходил вечером. Как всегда, на вокзале собралась толпа. Встречать и провожать Клару выходили рабочие с женами, брали с собой и детей. В этих встречах и проводах незаметно затерялось то зернышко официальности, которое, наверное, было когда-то.
И это уже не речи, а простые прощальные слова, которые вырываются сами собой. Клара знает, что эти люди рады встрече с ней и будут ждать ее снова. А какая-то девушка, постеснявшаяся подойти, прислала ей записку, что в августе у нее свадьба и как было бы хорошо, если бы Клара приехала именно тогда.
Из-за того, что так много народу столпилось на перроне, к вагону первого класса с трудом пробивается маленькая группа. Это господа в черных пальто и цилиндрах и дамы в собольих и норковых палантинах. В центре компании — долговязый, сухой военный. Его лицо так костисто и так обтянуто желтоватой, почти пергаментной кожей, словно под остроконечной каской мертвый череп. А длинная пелерина стального цвета как будто наброшена на скелет.
И только когда поезд двинулся и уже набрал скорость и позади осталась махающая платками, кричащая и даже немного расстроенная прощаньем толпа… И, конечно, та компания в цилиндрах и палантинах — тоже… Только тогда Клара вдруг сообразила, что в одном поезде с ней едет Альбрехт Гогенлоэ. Это обстоятельство вообще-то было ей безразлично, но оно вызвало воспоминание. Нет, вовсе не о том давнем случае в замке Гогенлоэ, когда ее выгнали из-за Альбрехта. А более позднее. Когда она была гувернанткой в богатом семействе, проводившем тогда лето в Зальцбурге. Да, в Зальцбурге… Ей сейчас увиделось удивительно ясно то раннее утро. Наверное, было часов семь, не позже. И она поднялась так рано, чтобы побыть одной. Хоть немного. Болтовня девочек мешала ей воспринимать красоту этих мест, и уже совсем было невозможно среди уличного шума, толкотни и криков торговцев представить себе, что вот именно здесь родился и провел свою юность Вольфганг Амадей Моцарт.
И когда она очутилась совсем одна на вымощенной крупным булыжником небольшой площади, то увидела, как через эту площадь проходит очень маленький человек в лиловом камзоле и туфлях с бриллиантовыми пряжками, подаренными ему Марией-Терезией. В руках у него папка в сафьяновом переплете с золотыми шнурами.
Она видит его сбоку, и потому особенно нежным кажется его профиль под шляпой с плерезом. Она счастлива, что видит то же, что и он: излучину Зальцаха, такую плавную и безмятежную, словно там не текучая вода, а тонко окованная серебряная серьга, уложенная на зеленом бархате берегов. И горы, кажущиеся совсем близкими, — в легком тумане, однако, различаются альпийские луга на верхних склонах и блестящие снежные языки, облизывающие вершины. Игру воды в Хельбрунне и тюльпанное поле парка Мирабель.
И слышит то, что он слышит: мелодичный перезвон знаменитых зальцбургских колоколов, который кажется ей целым представлением, маленькой оперой, где на фоне мужественных басов игриво и ласково тянут тонкую нитку лейтмотива альты.
И она идет за маленьким нарядным человечком, выступающим так важно и излучающим музыку, как солнце — тепло. И не теряет его из виду даже тогда, когда он скрывается в дубраве, потому что и оттуда продолжает литься музыка. Она узнает ее. Это концерт для скрипки, написанный именно здесь, в Зальцбурге. Адажио звучит так естественно и свободно, как будто это голос леса или ветра, а не какого-нибудь инструмента.
И она долго слушает, пока звуки не сливаются с утренним небом в розовых парусах, с переливами красок тюльпанного поля, с туманной перспективой, медленно проясняющейся, словно раздвигается тюлевый занавес и уже открываются декорации: горные склоны, то каменистые, то луговые, и замок вверху, почти на вершине.
Все детали ландшафта выступают четко, как будто она смотрит на них, регулируя на резкость бинокль. Глаза ее вбирают все больше: синеву дальних ущелий, тень буковой рощи, сверканье вечных снегов, овал горного озера и двойной шпиль собора в долине.
И вдруг смолкла музыка и тень упала на гравий. И цокот копыт, дробный, синхронно-слитный, словно кто-то быстро вбивал гвозди в деревянную стену, заполнил все. Клара увидела, как проносится кавалькада молодых мужчин в синих и красных фраках и черных лакированных сапогах и женщин, боком сидящих в седле, так что складки длинных широких юбок падают до самого стремени. Вуали, прикрепленные к их маленьким цилиндрам, развеваются, как веселые облачка. И все: кони, картинно перебирающие ногами, фигуры всадников, наклоненные вперед, и эти вуали-облачка — все придает ландшафту законченность и даже смысл!
Как будто именно для этих людей вставало солнце, и дул ветер, и шелестели деревья, и уж, конечно, трава росла единственно затем, чтобы ее попирали копыта их лошадей.
Среди красных и синих фигур всадников, изредка перебиваемых белыми шарфами и воротничками, была одна блестящая точка, один блестящий предмет, который вобрал в себя все: и свет, и краски, и тот веселый слитный шум, который пришел вместе с кавалькадой и сейчас исчезнет вместе с ней.
Она подумала именно так: «предмет», потому что молодой человек так блестел и искрился, благодаря всему на него нацепленному, как не может блестеть и искриться человек. Начиная от головы в сверкающем кивере, увенчанном тонкой спицей с сидящим на ней орлом, так жарко и победно горящим на солнце, словно он был из чистого золота, и кончая лакированными сапогами с блестящими же серебряными шпорами. Все, что было посредине, тоже переливалось и словно бы кипело. Казалось, с офицерского мундира всадника падают звезды. Падают, падают — этот необыкновенный звездный посев грозил смертоносным урожаем! Кларе вдруг показалось, что вместо венчиков тюльпанов на стеблях расцвели гогенцоллерновские короны, а уж дубовые листья сами собой расположились вокруг железных крестов[12].
Если бы Клара и не рассмотрела лица молодого всадника, замыкавшего кавалькаду на высоком караковом жеребце, она бы без сомнений сказала, что это Альбрехт Арминий Гогенлоэ, просто потому, что на свете не могло быть никого, кто бы так сверкал и искрился, блистал и переливался.
Почему же такой зловещей, такой опасной и словно бы не реальной, а как бы видением, мелькнула перед ней пестрая кавалькада с блестящим всадником в арьергарде? Мелькнула и ушла, оставив что-то похожее на тонкую темную паутину смутного предчувствия.
Клара стала женой Фридриха Цунделя. Это был союз двух уже немолодых людей, объединенных многим, и в первую очередь — политическими взглядами. Правда, убеждения художника не имели столь прочного фундамента, на котором строились воззрения Клары. Его взгляды могли давать зигзаги, подчас неожиданные. Для Фридриха главным делом жизни было искусство. Зато здесь они были полностью единомышленниками.
Дом в Силленбухе, где они жили, был невелик и без затей. Его привлекательность заключалась в том, что он стоял вблизи леса, сохранившего какую-то нетронутость, почти дремучесть: такими мохнатыми были ели, так густа и высока некошеная трава на полянах, а то, что участок при доме не был обнесен оградой, а только окружен живой изгородью, делало его как бы пространственнее и диковатее.
Здесь собирались не только партийные функционеры, но и люди искусства. Не только разгорались споры, но звучали стихи. Чудесные вечера проходили на террасе дома, откуда открывался вид на склоны, покрытые буковым лесом.
Здесь, на воле, росли мальчики Клары.
Клара была счастлива. Она жила напряженно, полно, испытывая радость от своей работы, от своих детей, от своего дома, друзей и от того, что шла рука об руку с человеком, который любил ее давно и был ей продан, а то, что она не могла ответить ему чувством, которое возможно только раз в жизни, — что ж, это было ясно не только ей, но и ему.
Она была счастлива так, как умела быть счастливой в своем гостеприимном и веселом доме в Силленбухе, который надолго, очень надолго станет ее пристанищем, ее гнездом и крепостью, в котором еще придется пережить тяжелые дни…
Глава 2
На пороге зимы Клара возвращалась из агитационной поездки.
Прикрывая утомленные глаза, она слышала перестук колес и отрывочные фразы соседей. Клара всегда ездила третьим классом. Она любила красочную речь простого люда, заполняющего неказистый, душный вагон: несложные сцены, разыгрывающиеся у нее на глазах; звуки губной гармошки или простой песенки, исполненной странствующими артистами, собирающими гроши в старую шляпу. Она могла вмешаться в политический спор, острой насмешкой сразить противника и поддержать единомышленника.
Что несет новый век им, трудящимся людям?
Да, новый век обещал многое Германии. Ее «деловым людям». Тем паладинам «новой эры», которые с опущенным забралом и занесенным мечом готовились ринуться — нет, разумеется, не в сшибку с противником из плоти и крови, — времена крестоносцев давно прошли, — а в битву более грандиозную, более изощренную и более опасную. С противником, хотя и незримым, но вполне реальным, хотя еще и не хлопочущим около пушек, не лежащим за пулеметом и даже не припадающим на колено с винтовкой, но могущим это сделать в любую минуту.
Ведя войну еще бескровную, хотя и вполне материальную, капиталисты знали, что близок момент, когда заговорят пушки, пулеметы и винтовки.
В свалке держав-хищников вокруг рынков сбыта, вывоза капитала, резервов дешевой рабочей силы — вокруг всего этого сладкого пирога колоний — самым молодым и самым жадным, самым зубастым и нахрапистым был германский империализм. С опозданием, когда когти и зубы его соперников уже терзали свои жертвы, гогенцоллерновская Германия только еще вступила в драку за владычество в мире.
Идея захвата «жизненного пространства», самая реакционная, самая ядовитая, преподанная под множеством разных личин в зависимости от того, кого надлежало одурачить, — эта идея исходила на заре века как утренняя звезда империализма, предвещая его сияющий безоблачный день.
Но лучшие люди века уже тогда увидели погибельность этой идеи для народов и заговорили об этом. Эти люди были и в Германии. Клара гордилась своими учителями и друзьями, принадлежавшими к ним: Карлом Либкнехтом, Францем Мерингом, Августом Бебелем и другими, более молодыми, но шедшими за ними след в след. Раскрывая преступные замыслы правительства, подготовку военных авантюр, они вступали в острые конфликты с оппортунистами, разгадав в них агентов буржуазии в рабочем классе. Трещина, расколовшая партию, углублялась, рушились последние мосты между последовательными социалистами и теми, кто уже без оглядки бежал с поля боя и окапывался в глубоком тылу рабочего движения под сенью соглашательских теорий о «единстве нации».
Клара перебирала в памяти встречи с дорогими ей людьми, а окружающее вторгалось в ее мысли репликами соседей, перестуком колес.
Вагон потряхивало на неухоженной колее.
— Скоро и железная дорога придет в негодность. Будем ходить пешком по шпалам, — говорил худой человек в рабочей одежде.
— Да будут ли шпалы! — откликнулся кто-то.
Все засмеялись.
— И рыба подорожала, — не к месту объявила толстуха с корзинкой на коленях.
— Не знаю как где, но у нас, в верховьях Рейна, рыбы скоро не будет вовсе. Все предприятия спускают в реку отходы, — подал голос скептик из темного угла.
— Куда только смотрит кайзер? — поддакнула женщина с корзинкой.
Из коридора просунулась вихрастая голова. Бойкий фабричный говорок зачастил:
— Кайзеру некогда, муттерхен! Он занят турками! Он боится, чтобы турок не обидели англичане!
— При чем тут турки? — закричала женщина. — Мне нужна дешевая рыба!
— Еще чего захотели, муттерхен? Может, вам ананасов? Или бла-ман-же? — вихрастый захохотал и вернулся в коридор.
Клара вышла за ним. Оказывается, здесь шла игра в скат. Несколько молодых мужчин азартно бросали карты на поставленный ребром чемодан.
Один из игроков узнал Клару:
— Здравствуйте, товарищ Цеткин. В прошлом году я слышал вас в Нойкельнских казармах. Вы говорили против войны. А что вы думаете о заварушке в Криммитчау?
— В Криммитчау?
— Вы не видели сегодняшний вечерний выпуск? Я купил его на станции. Сейчас принесу!
Он тотчас вручил ей вечернюю газету. В Криммитчау забастовали ткачи, требуя сокращения рабочего дня и повышения зарплаты.
Клара посматривала в окно; ей не терпелось поскорее добраться до редакции «Равенства».
Зимним вечером Клара приехала в Криммитчау. Саксонские ткачи и ткачихи вступили в решительную и планомерную стачечную борьбу с предпринимателями. Обстоятельства в Криммитчау были совершенно особыми даже на фоне общего оживления стачечного движения в стране.
Город текстильщиков казался вымершим. Дым не поднимался над крышами фабричных корпусов, ветер гулял на дворе, уставленном сугробами. Забастовочные пикеты не допускали за ворота фабрики полицейские команды, мобилизованные на уборку снега.
Клара никому не сообщила о своем приезде, хотелось самой окунуться в атмосферу много месяцев борющегося города, теперь вступившего в решающую фазу этой борьбы.
Приближалось рождество. Зима была на редкость снежной, метельной. Маленький городок утопал в снегу. Тощая кляча единственного извозчика, стоявшего на площади, с усилием потащила пролетку с поднятым верхом.
— Какие новости в городе? — спросила Клара возницу, напоминавшего елочного Санта-Клауса, запорошенные снегом его усы и борода казались сделанными из ваты. И снежинки на них блестели, словно бертолетова соль, которой украшают Деда Мороза и Снегурочку.
— А вы откуда, уважаемая? — ответил он вопросом на вопрос.
— Из Штутгарта.
— Вот как! Невеселое время вы, однако, выбрали для посещения нашего Криммитчау. Наверное, здесь у вас родные?
— Да.
— В газетах пишут про нас не совсем то, что происходит на самом деле, — раздумчиво заметил возница, понукая коня.
— А именно?
— Да взять хотя бы нашу пожарную команду. Сообщают, что она потушила пожар на складе отходов.
Возница замолчал надолго, и Клара нетерпеливо спросила:
— А что же на самом деле? Не тушила? Или пожара не было?
— И пожар был. И команда, действительно, его потушила. Но спрашивается: кто поджег, а?
Клара сказала, что ее это тоже интересует.
Возница щелкнул кнутом над спиной своей клячи и полуобернувшись, многозначительно сообщил:
— Все дело в брандмайоре.
— Ах так! — Клара ждала продолжения, но оно не последовало. Пролетка ныряла по ухабам, возница не оборачивался больше.
Узкая улица вела на небольшой взгорок. Темные фабричные здания высились на нем.
— Кладбище, — выразительно сказал возница, указывая на них кнутом.
— Ну, а что же брандмайор? — напомнила Клара.
— Брандмайор, чтоб вы знали, и дал в газету сведения. Но-о, перебирай ногами, Эльза, скоро в конюшню!
— Какие же сведения?
— Будто склад подожгли забастовщики.
— А на самом деле?
Возница долго крутил кнутом в воздухе, прежде чем сделать свое сообщение:
— А поджег кладовщик, у которого еще с того квартала не сходится сальда-бульда.
— А брандмайор?
— Брандмайор? О, брандмайор! — оживился возница. — Брандмайор и надумал покрыть это дело за счет забастовщиков!
— Почему же ему вздумалось покрывать кладовщика?
Возница бросил на Клару такой взгляд, словно она задала бог знает какой глупый вопрос:
— Так брандмайор же — его родной брат.
— Ну, тогда все понятно, — сказала Клара.
— Всем давно понятно! Всему городу. Еще на Цецилиенкирхе часы не пробили полночь, как пожарники с трезвоном и гиком вывалились из-под каланчи. Но, спрашивается, как они узнали про пожар, если никакого пламени или дыма еще вовсе не было?
— Что же это значит? — продолжала Клара свои расспросы, явно доставлявшие удовольствие Санта-Клаусу.
— Неувязка! — с важностью объяснил тот и больше не произнес ни слова. Да и некогда уже было.
Они остановились перед стандартным двухэтажным домом, окна которого были неярко освещены желтоватым светом: Криммитчау освещался керосиновыми лампами, не так давно сменившими свечи.
Расплачиваясь, Клара сказала:
— Спасибо за ваш рассказ о пожаре. Он гораздо интереснее «сведений» брандмайора и уж наверняка — правдивее. Счастливого рождества!
В доме Франца Рунге появление Клары произвело веселый переполох. Семейство сидело за столом, и Клара тотчас отметила скудность ужина, накрытого с такой тщательностью, словно тут предполагалось что-то путное. Она привезла с собой кое-что, и к радости троих детей Рунге на столе появились традиционные рождественские лакомства в разноцветных обертках.
— Завтра надо будет получить багаж, там много всего: и теплые вещи, и продукты, и игрушки. Все, что прибыло к нам в «Равенство». Со всей страны. С надписью «Для бастующих в Криммитчау».
— Спасибо, Клара! Ты просто била в набат в своей газете. Почему ты не сообщила, что приедешь?
— Ах, Франц! Сейчас не время для пышных встреч. Надо подымать дух людей. Пусть почувствуют, что не одиноки, что с ними вся рабочая Германия. И даже больше. Вы читали сообщения из России?
— Конечно. Но, наверное, ты расскажешь об этом: подробнее?
— Да, я затем и приехала. На юге России и в Петербурге забастовщики выдерживают бои с полицией.
— У нас не слаще. Ты сама увидишь, — сказала Гедвиг Рунге.
Позже, когда детей уложили спать, они еще долго сидели в кухне, где в очаге дотлевали угли и слабо светила лампа с приспущенным фитилем.
— Подумай, Клара, — сказал Франц, — какие перемены произошли в Германии только на нашем веку. А ведь мы с тобой не такие уж старики…
— Поверь мне, — ответила Клара, — что за ту вторую половину жизни, которую нам с тобой еще предстоит пройти, мы будем свидетелями еще больших перемен!
— А знаешь, Клара, я бы все-таки узнал тебя, если бы даже встретил случайно. И спросишь, почему? По чертикам в глазах!
Потом они вспоминали давние дни в Видерау, когда семейство Рунге ткало у себя на дому, а приказчик фабриканта, которого за усы торчком звали «дядя Кот», объезжал округу в фургоне, запряженном парой кляч, забирал продукцию и расплачивался за нее часто не деньгами, а залежалыми товарами, предназначенными для подобных случаев.
— Я даже помню, — сказал Франц, — как мои сестренки радовались побрякушкам, словно дикари с какого-нибудь острова.
— Да, и приказчик представлял в единственном своем лице класс капиталистов, — продолжала Гедвиг. — Но всего удивительнее то, что сейчас, рядом с современными ткацкими фабриками продолжает вовсю процветать та же кустарщина. Даже у нас в округе. И кустари эксплуатируются еще бессовестнее, чем во времена «дяди Кота»…
— Но сейчас они бастуют вместе с вами?
— Конечно. Иначе стачка могла бы сорваться.
Она стала рассказывать, как отважно ведут себя женщины, ткачихи и жены ткачей. И в этом тоже было знамение времени.
Когда-то, много лет назад, в качестве классового врага перед ними представал «дядя Кот» со своим фургоном. А сейчас — изощренный и безликий враг: империализм.
Саксонские капиталисты — владельцы текстильных фабрик — не жалели денег на оплату штрейкбрехеров и полицейских сил для их охраны. Но рабочие пикеты не допускали предателей к заводским воротам. Пикетчиков арестовывали, на их место становились другие.
Собрание, на которое пришла Клара, было многолюдным. Выступали не члены стачечного комитета, не партийные или профсоюзные функционеры, а рядовые рабочие и работницы.
— Нам тяжело. И все же будем бастовать дальше. Прошли те времена, когда мы, женщины, понуждали отцов и мужей прекращать борьбу. Мы многому научились за эти годы. Мы требуем только человеческих условий труда. Потому что мы — люди. Свободные люди, а не рабы. И никогда рабами не будем. Пусть хозяева зарубят это себе на носу!
Пожилая женщина говорила, сложив на груди руки, так спокойно и безнатужно, словно дело происходило у нее дома, а не в переполненном зале.
— Мой сын и моя невестка бастуют. А мои внуки — школьники… Мне не просто с ними: каждую ночь я думаю, чем накормлю их, когда наступит утро. И хотя это плохое утешение, но все же я говорю себе: пусть мальчишки знают, что их родители — не штрейкбрехеры, а борцы! Ведь это тоже великое дело: давать пример детям!
Когда. Кларе предоставили слово, она вдруг заволновалась. Такой опытный оратор — да, сотни собраний, тысячи речей. Она произносила их перед лицом врагов и в кругу друзей, среди товарищей по классу и в накаленной атмосфере вражды и насмешек. Она прекрасно продумала свою речь. Как всегда.
И вдруг ощутила знакомый толчок в груди. И начала совсем по-другому, чем думала начать:
— Дорогие мои товарищи! Не могу найти слов, чтобы выразить, как я горжусь вами…
Она должна была сказать эти слова: именно они выражали сложное чувство, которое Клара испытывала, глядя в зал, глаза в глаза забастовщикам Криммитчау. Хотя люди здесь были разные, и вели себя по-разному, и разной была их доля в общем деле, но то, что питало ее гордость, отмечало их всех: решимость. Они решились на жертвы ради общей победы. В разных судьбах и разных характерах открывалась Кларе готовность постоять за себя и за товарищей, чувство собственного достоинства, все, что рождается в совместной борьбе, в рабочем единстве.
И все это делало особенным и значительным окружающее.
А между тем это была обыкновенная харчевня, вовсе неуютная со своей круглой железной печкой посередине, напоминающей старую заводскую трубу. И в обычное время, покрытые жиденькими скатертями простые длинные столы на толстых, скрещенных ногах вызывали только одно желание: поскорее поесть и ретироваться. В самом деле: хозяин знает, что бессемейный рабочий все равно не минует непривлекательное заведение, — куда ему деться?
Но сейчас столы отставлены, а стулья сдвинуты в ряды, и это уже не просто посетители фабричной кнайпы, а собрание! И все пришли сюда именно затем, чтобы послушать оратора и обсудить свои дела. И женщины не теснятся позади обособленной стайкой, а сидят вперемежку с мужчинами.
На всех — праздничная одежда. Она подчеркивает то, что они не работают: они бастуют. Пиджаки с жилетами на мужчинах, хоть из грубошерстной материи и куплены в магазине дешевых товаров, выглядят отлично — так тщательно они вычищены и отглажены. А крахмальные воротнички, только чуть-чуть пожелтевшие от частой стирки, красят даже пожилых мужчин. Шляпы и котелки они положили на колени, а женщины опустили на плечи свои пуховые косынки или держат за ленты вязаные капоры.
Хотя в зале не видно ни одного полицейского, ясно ощущается их присутствие за стенами, у входа. Там, на короткой дистанции, маршируют патрули. Рослые шуцманы позволили себе слегка отпустить ремни касок, но они готовы затянуть их и ринуться в зал по первому знаку офицера, который время от времени выходит на крыльцо складского помещения, где наскоро оборудован полицейский штаб. А склад — пуст: откуда бы взяться продукции, если ткачи бастуют? И не допускают в цехи штрейкбрехеров.
Иногда к зданию склада подлетают верховые и, спешиваясь, торопливо проходят внутрь, на ходу отстегивая полевую сумку. И что-то необычное и опасное есть в присутствии здесь этих вооруженных людей. Но и они, несмотря на свое оружие, чувствуют себя не очень спокойно. В поспешности их твердого шага, в уклончивости взглядов, в том, как нарочито громки их голоса и резки движения, проглядывает опаска, неуверенность и, может быть, даже стыд… Ведь тот, кто носит полицейский мундир, не родился же в нем!
Откуда эта неприкаянность? Почему под мундиром начинают теплиться совсем неподходящие для него чувства? Их слишком много тут, этих забастовщиков, не единицы, не кучки, как бывало. А то, что среди них — женщины, ведь это тоже меняет дело. Тут уж поневоле раздумаешься, когда потащишь из ножен саблю или в горячке замахнешься рукояткой пистолета на какую-нибудь… Точь-в-точь похожую на твою матушку или сестру.
И все эти мысли не только оттого, что их так много: недовольных, протестующих, решившихся. Это не толпа, которую легко рассеять одним выстрелом поверх голов, а организованная масса. И отсюда — опасность.
Да, так выглядит все это теперь. Теперь, в другие времена. Времена массовых рабочих выступлений, немыслимых еще несколько лет назад. Маленький городишко Криммитчау, заваленный снегом, со своим маленьким мирком, в котором так недавно главными фигурами были управляющий фабриками, плутоватый брандмайор и пастор, — все сместилось в нем.
И главной фигурой стал забастовщик. Вдруг сделалось всем отчетливо видно, что именно от рабочего зависит жизнь городка, он главный здесь, как и повсюду. И когда его натруженные руки сложены, не подымается дым из фабричных труб, стоят станки, заносятся пылью пролеты цеха.
А хозяевам остается щелкать на счетах, подсчитывая убытки. И если до конца быть стойкими, неутешительный итог принудит капиталиста согласиться на требования рабочих.
Теперь, после событий в России, после стачки на Обуховском заводе, после крестьянских выступлений на Волге, — общность цели стала яснее. Рабочий мир далекой страны придвинулся, встал плечом к плечу.
Но Клара не отдалялась от того, что заботило ее и сидящих в зале сегодня, сейчас. Ткачи выставляли конкретные требования: десятичасовой рабочий день. Весь рабочий класс Германии борется за издание закона о сокращении рабочего дня. В Криммитчау — застрельщики, но они не одиноки: за ними идут другие.
Клара видела на лицах людей, одетых в праздничную одежду, знакомое ей выражение спокойной решимости. Непоказной отваги, свойственной людям труда, вероятно, оттого, что они трудятся вместе, что при всем несходстве личных судеб накрепко сцементированы общими экономическими и политическими интересами. И негромкий их героизм дорог именно своей естественностью, этим «я со всеми», которое рождается в самом сердце рабочего единства. И оно-то и есть самое опасное для класса господ.
Да, разумеется, героизм — в открытой схватке с полицейскими отрядами или даже с регулярными войсковыми частями, которые однажды строевым шагом вступают на фабричный двор. И фабрика, где ты знаешь каждый листок чахлой липы у проходной, каждый выщербленный кирпич на дорожке к цеху, вдруг становится чужой и опасной, как лагерь противника, как угроза твоему миру, твоему очагу, жизни твоих детей. И в ярости, с которой ты вступаешь в неравный бой с мыслью не только о себе, но и о своих товарищах, — да, в этом героизм. Но он — и в долгих месяцах стачки, изматывающей силы, сжимающей сердце жалостью к детям, к непониманию в их глазах. Мы можем сказать себе, но не им же: надо выстоять! Повседневный, обыденный героизм рабочего-стачечника!
И об этом тоже говорит Клара.
Ее не смущает шепоток, возникающий то там, то тут в зале, улыбка, вдруг пробегающая по чьему-то лицу, звук отодвигаемого стула. Это собрание не сковано: оно живет, дышит, реагирует на ее слова, но вместе с тем и на мысли, вызванные ее словами. И наверняка сейчас тетушка Гертруда шепнула соседке что-нибудь язвительное по адресу хозяйского холуя Мерца, который сидит на краешке стула, готовый в любую минуту смыться. Но при этом слушает, словно церковную проповедь, выражая всей своей нескладной фигурой сосредоточенное внимание.
А хохотушка Анни, незаметно отставив свой стул, оказалась как раз рядом со стеснительным молодым подручным ее отца. А отец уже заметил ее маневр и хмурит брови.
Но лица Франца Рунге, его жены и наладчика станков Алоиза суровы, а глаза их обегают зал, словно взвешивая силы. Это вожаки забастовки, тень ответственности лежит на них. Они слушают Клару с особым чувством: ведь в ее речи, в ее глубоком подтексте одобрение их трудной работы. Хотя Клара ни слова о них не говорит.
Но она дает им понять, что разделяет с ними тревоги, опасения, ответственность. С ними сейчас все ее помыслы, и нет людей более ей близких. Потому что они делают дело и ее жизни. Есть такая вещь: рабочая солидарность! Вот она в действии — здесь, в Криммитчау. И нет более благородной цели, чем укрепление ее.
Она еще не кончила свою речь. Ей надо сказать еще многое. Она радуется прочному контакту с залом, наполненным тишиной и дыханием людей, не только слушающих, но и обдумывающих ее слова.
Но вдруг чувствует какую-то перемену. Что-то произошло, что-то отвлекло внимание от нее. Она замечает движение у дверей, все головы поворачиваются в ту сторону. Похоже, что за дверями происходит свалка: уже слышны выкрики и шум там, снаружи.
По проходу между скамьями бежит парнишка:
— Полиция ломится в зал! — кричит он, впрочем, без всякой паники в голосе: по молодости лет ему это только интересно!
— Спокойствие, товарищи! Полиции не удастся разогнать наше собрание! Давайте завалим вход.
Алоизу не дают закончить: все срываются с мест. Мужчины громоздят один на другой тяжелые столы и скамьи. Их руки как будто соскучились по работе, и она у них спорится. Настоящая баррикада выросла у дверей.
— Продолжай, Клара! — кричат из зала.
Событие дает новый поворот ее речи: нельзя ждать мира между волками и ягнятами! Всякое соглашение с буржуазией будет уступкой ей. Посмотрите: капиталисты не считаются ни с чем. Они разгоняют рабочее собрание силой оружия. А кто дал оружие в руки солдатам? Государство! Кайзер! Она защищают капиталистов всеми средствами, какими располагают! А располагают они всем: армией, полицией, тюрьмами, законом. И если прольется рабочая кровь, то она ведь ценится у них дешевле водицы! А мы можем противопоставить им лишь свое единство. И это немало, потому что нашим трудом держится земля. Потому что нет в мире вещи, не сотворенной рабочими руками! И мы не просим, а требуем!
Последние слова Клара почти выкрикивает, покрывая шум у дверей. Сейчас по ним снаружи бьют прикладами. Видно, как содрогаются половинки тяжелой дубовой двери. Замок трещит. С грохотом валятся скамейки. Двустворчатая дверь распахивается, и в зал вступают полицейские во всем параде, держа руки на кобуре, словно им угрожает смертельная опасность. Они оцепляют зал, заняв позиции вдоль стен и у окон. Офицер проходит вперед и делает знак, требуя тишины.
Но его слова тонут в шуме. Видно только, как он раскрывает и закрывает рот, словно рыба, вытащенная на берег. Клара отстраняет его и подымает руку, постепенно зал затихает. В тишине звучит ее голос, спокойный и гневный:
— Товарищи! Наше мирное собрание незаконно сорвано полицией! Мы требуем от вас, — оборачивается она к офицеру, — объяснения, на каком основании вы врываетесь в зал и вводите в него вооруженных людей.
— Я действую на основании закона о воспрепятствовании бунтовщикам…
— Здесь нет бунтовщиков, господин офицер! — прерывает его Клара. — Здесь организованные рабочие! Товарищи, выйдем отсюда в полном порядке с нашими боевыми песнями!
Улицы городка, заваленные снегом, тонкие морозные узоры на стеклах окон, пламечки елочных свечей на них. В тихий этот мир врывается боевая песня. Может быть, ее слова повторяют сейчас забастовщики России?
То январское утро было в редакции «Равенства» праздничным. Едва Клара переступила порог, к ней кинулась сияющая Кете Дункер:
— В России революция!
Кете смотрела на Клару, пробегающую глазами столбцы последних сообщений. Она все еще стояла посреди комнаты в пальто и шляпе, и на лице ее было выражение, поразившее Кете: что-то еще, какое-то еще чувство примешивалось к радости Клары. Что она видела за строчками этих первых известий? Может быть, она подумала в эту минуту о своем муже? Как-то Клара сказала Кете: «Чем старше становятся мои сыновья, тем яснее проступает в них сходство с отцом». Она произнесла это с радостью, но и с печалью, которую, вероятно, только притушили, но не истребили годы.
Могла ли Клара не вспомнить об Осипе Цеткине сейчас?
Кете знала, как жадно собирает Клара вести из России. Кларе говорили многое не только встречи с русскими революционерами, бежавшими от кары царя, не только письма из России. Она могла увидеть картину жизни в нескольких строчках русской газеты, в жестких определениях приговора царского суда. И на страницах «Равенства» рассказывалось о русских женщинах, их бедах и их стойкости.
Кете хотелось сказать Кларе, как глубоко она понимает ее, но при самых добрых отношениях Клара всегда была сдержанна в проявлении своих чувств. И Кете ограничилась необходимым:
— Германа вызвали в Берлин. Он уже уехал.
«Герман Дункер, партийный функционер, вызван Правлением партии… — мыслями Клара была уже в Берлине. — Надо полагать, там сейчас все кипит, развернется кампания в поддержку русских».
— Наши бонзы попытаются затормозить ход событий. Впрочем, это невозможно. Рабочие подымутся, не дожидаясь сигнала. Очень важно немедля начать кампанию помощи русской революции. Не только резолюциями о братской солидарности, но сбором средств. Мы выступим с этим на первой странице. Подумай, как составить номер, посвященный русской революции. Надо, чтобы Роза дала статью. Я напишу ей.
Клара тут же набросала черновик передовой статьи: читателю надо не только показать преступления царизма, трагедию Кровавого воскресенья, но дать представление о силе гнева, мощи пролетарского отпора. Будить не чувства жалости, а протеста. В России наступила пора революционного действия, и это должно стать ясным читателям «Равенства».
Организуя выступления газеты, Клара не переставала думать: есть же и другие меры воздействия на массы, не менее значительные. Что делается в Берлине? Почему нет сведений о широких, массовых рабочих собраниях? Неужели будет упущен такой момент? Какой стыд! Раздумывать и помалкивать в тот час, когда русские пролетарии строят баррикады? Да возможно ли это? Понятно, кунктаторы[13] из верхушки партии заняты псевдотеоретическими дискуссиями. Но вопреки им всегда подымалась боеспособная, верная принципам часть партии. Ведь у них в Штутгарте уже проводятся митинги солидарности, и Клара выступала на них и видела, как настроены рабочие, — это их кровное дело — революция в России!
Клара решает отправиться к Тагорам. Профсоюз, которым руководит Пауль Тагер, самый боевой. И конечно, швейники уже сказали свое слово русским братьям по классу.
На дворе ясный январский день. Зима в этом году дает себя знать: ударили десятиградусные морозы. Неккар лежит как ледяной мост между заснеженными склонами берегов. И деревья одеты инеем. Словно тут приложили руки лучшие кружевницы штутгартского предместья.
Клара подняла меховой воротник и сунула руки в муфту. Но острый ветер пронизывает до костей. Но из одного желания укрыться от него, но из любопытства она останавливается перед вывеской кафе «Регент». Это владения Кунде, здесь собираются «отцы города». Интересно, что-то они говорят насчет событий!
Она попала как раз вовремя: все в сборе. За столом, уставленным пивными кружками. Даже Куурпат здесь. Он, правда, косит глазом в сторону тира, устроенного в нише задней стены: оттуда долетают сухие щелчки мелкокалиберных «Монте-Кристо» и оживленная перебранка стрелков.
Ораторствует Фохт. И, как видно, уже давно: его лысина блестит от пота и, возможно, от непосильного умственного напряжения. Увидев Клару, все встают, изображая каждый на свой лад радость от ее появления.
— Фрау Цеткин, мы как раз обсуждаем последние новости и определяем свое отношение к ним, — объявляет Фохт напыщенно. Можно подумать, что от того, как он отнесется к русской революции, она расцветет или засохнет на корню! Но все же небезынтересно, до чего они тут додумались.
— И что же вы решили, господа? Сдается, вы уже немало времени судите и рядите здесь? — Клара обводит глазами стол с ровными столбиками картонных подставочек. Воздух такой густой от сигарного дыма и пивного дрожжевого запаха, что, кажется, его можно пощупать.
— Да, события призывают нас! — неопределенно отзывается Фохт. Его правая рука засунута за борт сюртука, словно он готовится произнести какую-то программную речь. Заинтересованный Куурпат отворачивается от тира и придвигает стул поближе. Кунде снимает с Клары пальто и вешает его на оленьи рога в углу. Тотчас перед Кларой появляется кружка светлого пива.
— Подогрето, как вы любите, фрау Цеткин.
Она благодарит кивком головы и приготавливается слушать.
— Я вся внимание, господин Фохт.
Фохт откашливается. Похоже, что он заподозрил какую-то каверзу. И уж во всяком случае насмешек от Клары — не оберешься! Но он признанный политикер здесь, в «Регенте», и обязан поддержать свое реноме.
— Речь у нас идет, естественно, об известных событиях в России.
— О революции в России, хотите вы сказать? — с невинным видом спрашивает Клара.
— Подождем давать определения, фрау Цеткин. Еще рано говорить о революции… Да и есть ли основания для этого? Могут ли рабочие столь отсталой страны с ее дикими законами, при полном отсутствии демократизма — подняться на революцию?
— Для революции нужна прежде всего культура! — выпаливает Кунде.
— Правильно, — благосклонно кивает ему Фохт, словно подскочившему с нужным ответом школьнику. — Поэтому мы прежде всего должны выяснить для самих себя: что мы имеем в России, господа? Революцию или стихийный бунт? Движение рабочих или всего лишь эпизод борьбы?
— Какой эпизод? — не сдержалась Клара. — Рабочий класс России ведет испытанная партия! И она подымает пролетариат на революцию. Социальную революцию! Разве ее размах не ясен даже из официальных сообщений, если уметь читать их?
— Не будем горячиться! — произносит Фохт, закрывая для важности глаза. — Будем думать.
Кларе вдруг становится смешно: чего, в самом деле, могла она ожидать здесь, в «Регенте»?
— Думайте, думайте! — весело бросает она и подымается со стула.
Когда тяжелая дверь захлопывается за ней, словно напрочь отрезая все, что осталось там, в глубине кафе, она ощущает резкость и свежесть ветра, дующего в лицо, и в его порывах — легкий аромат: это запах зимы — снега, хвои, дымков из многочисленных труб, они прижимаются к самым крышам.
Клара тотчас забывает о компании в «Регенте», ее теплые башмаки скользят уже по узкому тротуару окраины. Домики рабочих теснятся к фабричным корпусам, гордо вздымающим свой флагшток над чугунными воротами.
Клара открывает калитку, знакомой тропинкой, с которой старательно счищен снег, идет к крыльцу. Дверь, обитая войлоком, заперта на замок. Между тем Паулю уже пора бы вернуться с работы, и уж во всяком случае Эмма должна бы ждать его с обедом.
Клара стоит перед дверью. Да, пожалуй, и весь поселок словно вымер. В этот час здесь обычно людно. Кто спешит домой, кто — на перекресток в трактирчик, где всегда есть свежее пиво и где ведутся жаркие дискуссии на темы дня. Не заглянуть ли туда?
Звонкий мальчишеский голос выводит ее из раздумья:
— Фрау Цеткин! Фрау Цеткин!
— Почему ты так кричишь? Ты думаешь, за эти дни, что мы не виделись, я оглохла?
Это внук соседки, Макс. Макс-Всезнаюпервый. Он и на этот раз оправдывает свое прозвище:
— Я боялся, что вы уйдете, а дядя Пауль наказал мне высматривать вас. Вроде я на посту. Но стоило мне на одну минуточку отойти от окна, посмотреть, что там делает в кухне Микки, не подбирается ли к клетке с канарейками… И вот вы здесь. Фрау Цеткин, наши все в зале ферейна, там очень большое собрание. А если вы хотите погреться в доме, вот ключ… Или лучше пойдемте к нам, наш Микки…
Она прерывает его многословие:
— Иди в дом, Макс, зачем ты выскочил раздетый?
Клара быстро идет по знакомой дороге к мрачноватому зданию на пригорке. Массивный этот дом издавна принадлежит союзу швейников. Когда-то один из владельцев фабрики в филантропическом порыва затеял здесь благочестивые чтения с показом посредством «волшебного фонаря» сцен из Священного писания.
Затея не имела успеха. Домом завладел певческий ферейн. А потом большой двухсветный зал пригодился для собраний. Если и он не вмещал желающих, что, впрочем, случалось редко, раздвижная стена давала возможность расширить аудиторию.
Так было и на этот раз. Клара бросила пальто на стол, где уже лежала груда других, — вешалки были переполнены. «Весь поселок здесь… И это связано с событиями в России», — поняла она и сразу окунулась в атмосферу митинга — да, конечно, это был именно митинг. Маленькая толкучка у дверей — тс! тсс! — зашикали кругом. Значит, митинг уже идет.
— Товарищ Клара, сюда! — кто-то тихо позвал ее, что-то шепнул соседу. Люди раздались, она протиснулась в зал и очутилась недалеко от возвышения для хора. Впереди нее стояло еще много людей, и она раньше, чем увидела его самого, услышала голос Пауля Тагера, чуть хрипловатый, с заметным саксонским выговором.
Она осторожно придвинулась, и теперь он уже стал ей виден. Чуть косолапя, стоял он, сжав здоровенные кулаки; один прижав к груди, а другой выбрасывая вперед и жестикулируя им, словно вбивал кувалдой точки после каждой фразы. И это придавало какую-то значительность его словам, неторопливым и веским, разделенным мгновениями раздумий.
Зажатая со всех сторон, она одновременно слушала и следила за настроением зала, за выражением обращенных к оратору лиц.
Как он вырос, Пауль Тагер! Настоящий рабочий вожак. Его не собьешь с пути теорийками о недоросшем до революции русском пролетариате. Классовое чутье подсказывает ему верные оценки. И в теории он тоже подковался за эти годы. Его ум, цепкий, своеобычный, природный юмор, уменье говорить с людьми заслужили ему авторитет. Вот и сейчас — как слушают его! Он говорит о происшедшем в России так, словно это случилось совсем по соседству. И то проклятое воскресенье, когда царь встретил картечью безоружный народ, — разве это воскресенье не могло быть их кровавым днем, и разве не могла пролиться кровь и на немецкой земле? В простых словах Пауля Тагера, рабочего вожака, звучит всем понятное: рабочие — братья. На каком бы языке они ни говорили, на какой бы земле ни стоял их дом — у них есть еще общий дом, общая семья, общий язык… И когда царь стреляет в русских рабочих, пули пронзают и наше сердце. А когда путиловцы в Петербурге подымаются против гнета монархии и капитала, и мы, немцы, расправляем плечи: вы начали, русские братья? Мы пойдем за вами след в след!..
Вот же произносятся здесь и принимаются всеми прямые честные слова о поддержке русской революции. И не возникает ни у кого сомнений в правильности ее методов. Но оппортунисты уже толкуют о непригодности русских методов в Германии.
Уже тушат боевую энергию рабочих изо всех своих брандспойтов, заряженных ядовитыми сомнениями и клеветой.
Из теневых углов выступают рыцари Большого Компромисса, и нашептывают, и подсказывают: «Не немецкое дело эти всеобщие политические стачки! Баррикады! Уличные бои! Это для русских максималистов, а мы, немцы, люди порядка!»
И Клара легко принимает от Пауля Тагера эстафету митинга, говорит о последних событиях, о развитии революции в России. Самое главное — это то, что поднялся рабочий класс и не за копейку, не за одни экономические свои права борется — а с замахом на самый режим.
Через несколько дней Клара уже была в Берлине! В столице проводились многолюдные митинги протеста против преступлений русского царизма, митинги солидарности с рабочими России.
В Люстгартене с пламенной речью к тысячной аудитории обратился Карл Либкнехт. В Веддинге выступал Август Бебель. Моабит, Нейкельн и Панков слушали гневную речь Клары, обращенную к виновникам Кровавого воскресенья. И там, в Берлине, на массовом митинге работниц Клара сказала слова, которые стали крылатыми и потом возвращались к ней из чужих уст: «Нужда учит ковать железо. Нужда учит бороться с помощью железа! И если реакция пустится в пляс, то пролетариат докажет ей, что, когда он поведет наступление, он сумеет заговорить по-русски!»
Глава 3
Однажды, ранним августовским утром, Клара проснулась в ожидании значительных событий. Их медленно и торжественно нес разгорающийся день.
Еще совсем рано. Клара любит этот час, когда город полон легким прозрачным туманом. Эти пеккарские туманы! Они совсем особые. В них нет густоты и мрачности белесой нелепы, ползущей с заболоченных северных озер. Нет и мутной, подсвеченной желтыми огоньками фонарей мглы, придающей зыбкость и призрачность ненастному дню Парижа.
Неккар набрасывает на город тонкий поблескивающий покров, через который зеленые склоны холмов видятся бархатными, и как будто дымятся покрытые плющом стены домов, своевольно и все же гармонично разбросавшихся в долине.
Клару радует наступающий день. Сегодня социалисты всех стран впервые соберутся в Германии. И Штутгарт будет связываться в людской памяти с важным этапом борьбы. Борьбы единственно справедливой и праведной. Той борьбы, которая составляет смысл ее жизни.
Клара сидит на балконе, тихонько покачиваясь в плетеном кресле-качалке. Это редкая минута какого-то расслабления, в ней — тишина, как и во всем вокруг. И в этой тишине Кларе яснее видится: много перемен на берегах Неккара. И она со своим «Равенством», с его пахнущими типографской краской страницами, которые открывают каждый ее день, причастна к этим переменам. Переменам, в большой мере рожденным активностью женщин…
Как случилось, что именно с женским движением так тесно связана ее судьба? И когда это случилось? Может быть, в те молодые, горячие годы, когда они с Лаурой Лафарг приносили тонкие листки «Социалиста» в убогие жилища ткачих, швей и вязальщиц в предместьях Парижа, в улочках, освещенных тусклыми газовыми фонарями? Или раньше, у Мозермана в Лейпциге, где впервые Клара услышала горькие слова: жены рабочих срывают забастовку, уговаривая мужей вернуться на работу. Работницы мучного короля Шманке не вышли на демонстрацию…
Или еще раньше, когда подростком Клара переодевалась в мужское платье, чтобы услышать откровенные речи в харчевне «У развилки»?
Когда единство работниц-женщин стало реальной силой, силой, которая может и должна противостоять привычному гнету? И разорвать частую сеть, сплетенную из многообразных «нет», произнесенных громовым голосом закона или вкрадчивым шепотом вековых предрассудков?
Какое разнообразие женских характеров выявляет то же «Равенство»! На его призывы откликаются матери, задумавшиеся над судьбой дочерей. Матери, ищущие для своих детей выхода из душного мира, бремя которого они сами несли безропотно.
Если страницы «Равенства» показывают женщине свет впереди и она идет на него — это многого стоит!
К «Равенству» тянутся и те, кто еще в начале пути. Кто хочет сам строить свою жизнь. Им надо помочь вопреки закону, поставившему женщину наравне с умалишенными и детьми, лишив ее избирательного права. Вопреки церкви, раз навсегда объявившей женским уделом семью и кухню. Вопреки — увы! — глубоко укоренившимся даже в рабочих семьях взглядам на женщину как на рабу.
Есть особый смысл в том, что первая международная конференция социалисток собирается здесь же, в Штутгарте, в одно время с конгрессом. Это умножает силу обоих.
И теперь, перед лицом военной угрозы, особенно важно сплочение женщин-социалисток, посланниц пятнадцати стран. Они возвысят голос против войны. За избирательное право для женщин!
Мысли о том, что предстоит уже сегодня, радуют Клару. Туман рассеялся, и все вокруг изменилось. Краски стали ярче, гуще, сочнее. И присущие городу переливы их, все оттенки зеленого и коричневого: зелени и стволов деревьев, домов и церквей — выступили яснее.
Она входит в комнату и раздвигает занавеси окна. Утренний свет падает на лица ее сыновей, открывающих навстречу ему глаза, еще полные легких снов молодости.
Неподалеку от городских стен Штутгарта распростерся огромный зеленый луг. Просто диво, что его не вытоптали тысячи ног в тяжелых казенных ботинках: здесь топчутся новобранцы, обучаемые науке убивать.
Но буйная трава, как вода, залила следы зловещих приготовлений, и удивительно мирной и торжественной выглядит зеленая площадь в этот день.
Многие штутгартцы пришли с семьями. Да, сейчас жены не остаются дома: это ведь и их день. Страницы «Равенства» шуршат в каждой квартире, и ведь именно к женщинам обращает свое слово газета.
Сегодня Клару избрали секретарем Международного женского бюро. Здесь уже знают эту новость.
— Значит, так: это Бюро, оно будет постоянно. При Исполкоме Интернационала. Это значит, что мы, женщины, будем всегда на виду, что наши вопросы будут решаться каждодневно, — важно произносит немолодая толстуха с лицом в добрых мелких морщинах. Видно, что эти слова ей не внове, она давно приобщилась к миру идей. С удовольствием и немного осторожно она выговаривает значительные, «не женские» слова, вводя подруг в этот уже знакомый ей мир.
— Твоя Эмма просто настоящий политикер, сосед. И наверняка ты уже слышал от нее, что именно ты и есть домашний тиран, деспот и все такое… — замечает удобно расположившийся на траве коренастый человек в подтяжках поверх праздничной белой рубахи, которую он очень боится измарать, и потому подстелил под локти кусок клеенки.
Муж Эммы Пауль Тагер не очень похож на тирана, хотя бы и домашнего. Чем-то он похож на жену, как бывает в семьях, где супруги долго и дружно живут вместе. Он снимает очки в серебряной оправе и, протирая стекла клетчатым платком, неторопливо отвечает:
— Видишь ли, Отто, нас с тобой варят в таком котле, где запросто снимается мясо с костей…
Отто морщит свой хитрый острый нос и немедля дополняет:
— А потом вылавливают мясо, а кости выбрасывают собакам. Это ты хотел сказать, Пауль?
— Примерно. Так вот, что может сказать своей жене человек из котла?
— Он может сказать: «Ай-я-яй!», — не задумываясь, откликается Отто.
— Правильно. И хотя мы — непьющие, не гуляки и не деспоты — что доброго мы можем дать своим женам, а? Обглоданную всякими жучками получку?
— Побойся бога, Пауль, — энергично протестует Эмма, — а дети? Разве это не радость? И разве не радость хороший муж, если он даже не приносит жене полноценную получку? Это же не его вина.
Пауль ничего не отвечает и не смотрит на жену. Он додумывает что-то. После большой паузы он возвращается к тому, с чего начался разговор:
— Если женщины даже ничего не сделают — что они могут сделать? — но просто хоть поймут всю эту хитрую механику, все это свинство, которое происходит… То одно это уже много значит. Тебя хоть не будут шпынять за то, что ты не добытчик.
— Паульхен, — тихо говорит Эмма, — почему ты так считаешь? Помнишь, что рассказывала Клара о ткачихах Криммитчау. Они не посрамили себя.
— Верно. Но я веду речь не об отдельных забастовках. А о чем-то большем…
— Самое большее и важное, чтобы не было войны! — Слово «война» Эмма произносит совсем тихо, словно боясь накликать ее, назвав по имени.
— Что уж говорить! — соглашается Пауль. — Как подумаешь, что нас могут погнать. И не посмотрят на возраст: сунут в руки винтовку, нахлобучат каску и — ступай, таскай из огня каштаны для тех, кому выгодна бойня.
— Об этом и пойдет сегодня речь, — говорит Эмма, укладывая в корзинку остатки завтрака.
Трибуна пока пуста, но по тому, как народ, обтекая ее, сбивается на площади в одно целое, чувствуется приближение того главного, из-за чего собрались здесь.
Обширное каре, в центре которого — трибуны. Под ними расположились оркестры: их медь сверкает на солнце, соперничая с золотым шитьем знамен. Шеренги знаменосцев выдвинулись вперед, с тихим шелестом развернулись знамена. Сейчас покажутся делегаты конгресса.
— Смотри, вот Клара! — кричит Эмма и, увлекая за собой мужчин, пробирается вперед. Она жадно смотрит, как неторопливо двигается Клара к трибуне, отвечая на приветствия. Кто-то из мужчин протягивает ей руку, и Клара легко для своей несколько полной фигуры подымается наверх. Вот она уже у самого барьера…
Ах, боже мой, Клара! Совсем недавно ей исполнилось пятьдесят, а ведь Эмма Тагер знала ее, когда Кларе было и тридцать, и двадцать, и десять. Судьба то разъединяла их, то вновь соединяла. Судьба рабочего человека, который не в ладах с хозяевами. И потому часто вылетает за проходную. А Паулю Тагеру довелось и за решеткой сидеть! И тогда, в тяжкие их годы, Клара была с Эммой. И первые слова правды о женской доле Эмма услышала от Клары. Изменилась ли от этого жизнь семьи Тагеров? Нет, она не стала ни богаче, ни спокойнее. И все же в эту жизнь вошло нечто повое. Новый смысл, новое понимание окружающего. И самой себя тоже. Пожалуй, это даже странно, но союз Эммы с ее мужем тоже стал другим. Пауль Тагер открылся ей с новой стороны. А она ведь думала раньше, что он весь — там, в цехе, а в субботние вечера — в кегельбане за углом. Иногда ей не хватало слов — подумать только! — в разговоре с собственным мужем. От которого у нее двое детей. Клара открыла ей многое. Но, наверное, еще далеко не все, что предстоит открыть.
Клара хорошо выглядит сегодня. Эмма знает, какой усталой она бывает иногда, в конце своего рабочего дня. «Это ты, Эмма? — спрашивает она, отрываясь от бумаги. — Что у тебя слышно? Как дети?» — «Я провожу тебя домой, Клара. Хочешь?» Эмма любит этот поздний путь рядом с Кларой, простые беседы. Ей кажется, что они снова молоды, что все у них еще впереди…
И сейчас Эмма ловит в облике Клары, стоящей на трибуне, какие-то новые черты. Но Клара все та же. И на трибуне тоже. Она проста и естественна. В ней нет ни грана напыщенности или рисовки, какие бывают у других ораторов. В ней столько воодушевления, когда она обращается к людям. Ее слова понятны всем. О чем они? О русской революции, о том, что в мире есть страна, где пролетариат открыто выступил против царизма. И в боевых шеренгах шли и женщины.
Это важно, что есть уже опыт, пример! Что Интернационал подхватывает боевые знамена, не давая реакции их затоптать. И песет их дальше!.. Эмма так давно и хорошо знает эту женщину на трибуне, которую уже много лет зовут «нашей Кларой».
Митинги на воле, среди природы, а не в душном зале какого-нибудь ферейна всегда вдохновляют Клару. От того, что многие пришли на этот луг с женами и детьми, как на праздник, все это многолюдие похоже на одну большую семью.
И Клара, конечно же, по-особенному воспринимает тишину, воцарившуюся в тот момент, когда она начала свою речь, и сотни лиц, обращенных к ней с выражением внимания и расположения, которые она научилась ловить и понимать.
Эти чувства словно бы держат ее, как волна держит пловца, и делают дыхание ее свободным, а речь — наполненной.
И снова Клара говорит о том, что всего больше волнует сейчас ее и всех собравшихся здесь, — об угрозе войны, и заключительная мысль ее выступления посвящена русской революции.
— Такой многолюдный и представительный конгресс! Событие, правда? Уже одно то, что собралась такая мощная рать. Кажется, около девятисот человек.
Роза быстро роняет слова, подымаясь по лестнице и то и дело раскланиваясь со знакомыми делегатами. С большинством из них она уже виделась, так как встречала делегации, прибывающие в Штутгарт.
— Нас, немцев, больше всех! Почти триста делегатов. Это хорошо или плохо? — прищурившись, спрашивает Роза.
Клара идет рядом, с любопытством оглядываясь вокруг: ей еще непривычна пестрая и разноязыкая среда.
— Хорошо это или плохо? Ты же видишь, Роза, сколько в нашей делегации бонз. Ожидать от них смелости в решении вопросов трудно. Они способны замусорить самую ясную проблему.
— Одно ясно: предстоит борьба. Но спокойствие никогда еще не сопутствовало нашим собраниям, а? Тем более — таким масштабным. Сядем здесь. Отсюда виден весь зал, и я укажу тебе товарищей, которых ты еще не знаешь.
Роза шепчет Кларе на ухо:
— Посмотри, впереди налево сидят русские. Видишь, крайний оперся рукой на колено? Это Владимир Ленин!
Клара заметила его и раньше. Не потому, что в нем было что-то броское, обращающее на себя внимание. Просто она с особым чувством исподволь оглядывала русскую делегацию.
— А кто это рядом с ним? С бородкой?
— Луначарский. Тоже очень образован. И блестящий оратор.
Клара смотрела на них жадно. Она так много говорила об опыте русских, с горечью отмечая, что их собственные германские идеологи марксизма нередко уходили от живой жизни, исповедуя те засушивающие теории, от которых предостерегал Маркс.
Ленин внимательно слушал своего соседа, что-то говорившего ему, и время от времени усмехался. Усмешка его была добродушной. Клара еще не знала, какой язвительной она может быть.
Они с Розой еще немного по-женски пошушукались на его счет: у него лоб философа, а во взгляде есть какая-то остринка. Иногда он иронически поднимает бровь, и тогда кажется, что он сейчас громко рассмеется.
— Я тебя познакомлю с Лениным, — шепчет Роза.
— Удобно ли?
— Почему же нет? В перерыве.
— Ты уже слышала его?
Да, конечно, Роза встречалась с ним.
— Его жена тоже в партии. Ее зовут На-дежда Круп-ская.
— Как она выглядит?
— Очень скромная. И миловидная.
Было что-то торжественное в самой сути этого собрания: в том, что здесь собрались со всех концов земли, чтобы сообща решать общие для всех вопросы — вопросы, которые требуют именно общего решения. И таких вопросов становится все больше. Клара ведь помнит и Первый конгресс Второго Интернационала. Тот был более декларативен: тогда самым важным являлось заявить о себе, о своем существовании, о своем намерении сплотить социалистов всех стран, положить начало прочному содружеству.
Сейчас это содружество успешно развивается, этот конгресс должен определить линию для всех партий по важнейшим вопросам.
В зале все еще негромкая разноголосица, словно настройка в оркестре. Август Бебель окружен англичанами: здесь его друзья, с которыми он встречался, еще приезжая к Энгельсу в Лондон. Небольшая, изящная фигура Августа выделяется среди несколько мешковатых, рослых мужчин в скромных темных костюмах.
В этот же день Клара выступала против очень уж велеречивой фабианки, призывающей женщин-работниц бороться за свои права вместе с буржуазными дамами. И только постепенно, шаг за шагом, завоевывать эти права.
— Современные кунктаторши существенно отличаются от своего прародителя: Фабий Максим, прозванный «Медлителем», медлил в войне с Ганнибалом, полагая, что политика выжидания ослабит напористого противника. Оставим на совести Фабия мудрость его решений. Как-никак третий век до нашей эры — время далекое, можно найти примеры и поближе. Но капитализм, против которого мы выступаем, вряд ли можно уподобить Ганнибалу: замедленные маневры фабианок ему — что слону дробинка!
Клара разгорячилась, почти выкрикнула:
— Только выступая в боевых колоннах пролетариев, добьется женщина-работница своих прав!
В комиссии по избирательному праву Клара сразу заняла наступательные позиции. Она не раз на страницах «Равенства» критиковала австрийских социал-демократов и сейчас никак не хотела упустить возможность нанести ощутимый удар их оппортунизму, их половинчатости. Она понимала, что дело ей придется иметь с «самим» Виктором Адлером! Тем лучше!
Виктор Адлер не привык к критике. Он привык к лести и поклонению. К тому, чтоб его называли «отцом социал-демократии». И даже к тому, чтобы самая фамилия его обыгрывалась как символ[14]. Тем хуже для него!
На этом конгрессе Клара вовсе не ограничивается сферой чисто женских вопросов, но в комиссии по избирательному праву она, конечно, будет говорить о правах женщин.
Виктор Адлер входит в зал заседаний, когда Клара уже произносит свою речь. У него величественный и благодушный вид, но где-то в глубине глаз мерцает беспокойство. Естественно! Он читал выступления Клары в печати против беспринципной тактики австрийских социал-демократов в избирательной кампании. Ясно, что и здесь разговор идет о том же.
Клара ловит этот его настороженный взгляд и возвращается к первоначальным словам своей речи: пусть Адлер послушает, она ему в лицо скажет все, что думает об их избирательской эквилибристике!
Австрийские социал-демократы задвинули в тень проблему избирательного права женщин. Как задвигают второстепенный предмет, чтобы не болтался под ногами! В погоне за парламентскими местами они склонны замять вопрос о праве женщин избирать и быть избранными. Товарищ Адлер, видно, считает, что не стоит раздражать господина волка: тот сам знает, какого ягненка раньше съесть!
У Адлера на лице одна из самых приятных его улыбок. Его речь льется плавно, слова выплескиваются безостановочно. Но он выдает себя круглый словом «удобно». Да, ради завоевания парламентских мест они сочли удобным в своей агитации не выдвигать на первый план требование избирательных прав и для женщин!
— Господин Адлер! Вы разоблачили себя полностью! О каких «удобствах» может идти речь, когда надо проводить в жизнь принцип! Разве активная и открытая поддержка прав женщин не придала бы больший размах агитации? Не усилила бы народное движение?
Клара высказывается жестко, без оглядки на авторитет Адлера, на лица его сторонников, которые безмолвно говорят: «Ну можно ли так?..» Она настаивает на том, чтобы ей было предоставлено право выступить по этому вопросу на пленуме конгресса.
Ее поддерживают, особенно энергично — Ленин. Кажется, ему по душе такой нелицеприятный и прямой разговор.
В этом можно убедиться и по обсуждению других вопросов конгресса: колониальному, об отношении социалистических партий к профессиональным союзам. Возникла по меньшей мере странная формулировка: «нейтральность профессиональных союзов». Нейтральность по отношению к кому? К партии?
Клара решительно высказывается против пресловутой «нейтральности».
С досадой она констатирует, что оппортунизм, столь явственно обнаруживший себя в работе конгресса, идет от немецкой делегации.
— Мы проявили себя не с лучшей стороны. Многое утеряно из былых наших качеств! Что из того, что касса партии полна, что социал-демократы сидят в рейхстаге, если утрачивается боевитость партии!
Роза печально соглашается: на долю делегации Германии пришлись незавидные лавры «вожаков оппортунизма». Хорошо, что конгресс в целом очистил резолюции от путаницы и ошибок.
Вскоре после конгресса Кларе доставило радость известие о том, что перевод ее статьи «Международный социалистический конгресс в Штутгарте» на русский отредактирован Лениным и им же снабжен примечаниями. Роза перевела ей эти замечания.
— Вот такие слова по твоему адресу: «Оценка Штутгартского конгресса дана здесь замечательно правильно и замечательно талантливо: в кратких, ясных, рельефных положениях резюмировано громадное идейное содержание съездовских прений и резолюций…» И дальше тут поясняются некоторые положения твоей статьи. То, что для русского читателя может быть неясным. Вот о требовании избирательного права для женщин: «Клара Цеткина еще раньше в печати упрекала австрийских социал-демократов за то, что в агитации за избирательное право они отодвинули назад требование избирательного права для женщин…» И напоминается о твоей полемике с Адлером. И еще о дискуссии с той фабианкой.
Роза и Клара обдумывают, как на страницах «Равенства» передать не только решения, но и атмосферу конгресса.
— Ты знаешь, Кете, я просыпаюсь и засыпаю с мыслью о Карле, — говорит Клара. Она стоит у окна своего маленького редакторского кабинета, сейчас залитого светом зимнего утра. Этот свет, холодный и резкий, вызывает представление о стылом камне. О стенах крепости, в которую заключен Либкнехт. Невыносима мысль о том, что он, такой деятельный, такой подвижный, как будто одновременно появляющийся в разных местах, — в узком пространстве за толстыми прутьями решетки!
— Я очень уважаю Карла. Можно ли не уважать его отвагу? Его одержимость! Но я отношусь к нему и с нежностью. Почти как к своим сыновьям. Может быть, потому, что он много моложе меня, я знала еще его отца.
— Карл похож на него?
— Пожалуй — нет. Вильгельм Либкнехт… В нем было больше от рассудка, чем от темперамента. И больше сдержанности. Хотя огня там тоже хватало — он же был пламенный оратор. Но то был огонь… более организованный. Пламень же Карла вырывается неожиданно, иногда — стихийно.
— На мой взгляд, он слишком уж эмоционален. Он держит в постоянном напряжении слушателей…
Кете сидит у стола Клары. Плоская корзиночка для писем на нем переполнена: Клара еще не прикасалась к почте.
— Его приговорили за антивоенную пропаганду. Это симптоматично, Кете.
— Конечно. Он ходил по лезвию ножа. Выступал перед молодежью, перед теми, кому первыми обрядиться в солдатские шинели. Власть над их душами — этого Карлу простить не могли.
Клара не отвечает: она видит перед собой худощавую фигуру Либкнехта: его голову, чуть откинутую назад, — от этого у него несколько гордый вид. Под топкой черточкой усов — беглая улыбка. Она только накоротке освещает его обычно задумчивое, нервное лицо. А слегка курчавящиеся над лбом волосы и ямочка на подбородке придают ему что-то юношеское.
— Мне всегда казалось, что у Карла есть нечто, отличающее его от всех нас. Наши общие мысли он преподносит слушателям в иной форме. Более острой и обнаженной. Более контрастной, что ли. Его речь — как негатив: только черное и белое. Резко, прямолинейно. Может быть, такая форма ближе к современности.
— А ты, что же, считаешь старомодными свои выступления? Я помню, как все хохотали, когда ты публично высмеяла министра полиции.
— А! Фон Фейлиха?
— Да. Ты сказала, что он от господа бога обрел свой должностной разум и с помощью четвертого измерения узнал намерения давно скончавшихся законодателей. И это было очень смешно: как раз тогда началась эта мода на спиритизм.
— Она еще не кончилась. Верчение блюдечек продолжается. Боюсь, что военные замыслы кайзера будут представлены как наитие. Блюдечки вертятся в ту сторону, куда их вертят.
Клара садится за стол и читает длинные узкие листочки — гранки «Равенства». Основное сейчас — разоблачать приготовления к войне.
— Понимаешь, чего тут не хватает, Кете? Мне хотелось бы теснее связать решения конгресса с сегодняшним днем. Ведь если вчитаться, в них все — тревога! Тревога за мир. Давай двинем в номер беседу с тетушкой Гертрудой! Ее простые мысли об угрозе войны.
Обе улыбаются: бесхитростные высказывания старой работницы о богатеях, алчущих войны, настоящий народный юмор, едкая насмешка… И все это появится на страницах «Равенства» рядом с научно обоснованными решениями конгресса. В этом будет та контрастность, та острота, которые делают агитацию действенной.
Они углубляются в работу.
— Я хотела сказать тебе, — вдруг говорит Кете, — что после того шума, который ты подняла вокруг фабрики Фохта, он рвет и мечет.
— Еще бы! Такие безобразия! Подтвердился ведь систематический обсчет рабочих.
— Фохт коварный противник.
— Но в штутгартской организации ведь не один фохты. Она достаточно сильна.
— Чтобы поддержать тебя и не дать Фохту поносить тебя открыто. Но недостаточно гибка, чтобы помешать его интригам.
— Ах, Кете, интриги украшают жизнь таким фохтам. А это еще что такое?
Клара обнаруживает в почте пакет со штампом полицейского управления. Орудуя ножницами, Кете объясняет:
— Ты еще не знаешь, Клара. Теперь у нас вершит полицейскими делами новое лицо: некий Людвиг Тронке.
— Что он такое?
— Полицейский офицер, так сказать, новой формации. Хотя и не молод. Много мудрствует. Играет в либерализм.
— Ну, эти игры до добра не доведут. Что он хочет от меня?
Клара с великим изумлением читает текст очень уж вежливого приглашения в полицейское управление.
— Когда полицейский бурбон начинает проявлять вежливость, я слышу свист резиновой дубинки, — ворчит Клара. — Может быть, это связано с запрещением той статьи о вотировании военных расходов?
— Не думаю. В конце концов, мы сумели протащить ее под другой шапкой.
— Ох эти протаскивания верблюда сквозь игольное ухо! Они отнимают столько времени и усилий. Впрочем, Кете, ты наловчилась в этом. Нет ни одной запретной темы, которую ты не сумела бы развернуть в самых безобидных словах. Скоро под шапкой «Советы по домоводству» ты поместишь призыв к ниспровержению кайзера.
Посмеиваясь, Клара отчеркивает карандашом столбцы гранок: она уже забыла про Людвига Тронке и его непонятное приглашение.
Однако тут же вынуждена о нем вспомнить, — в ее руках исполнительный лист: редактор «Равенства» приговаривается к штрафу за оскорбление правительства в статье об избирательном праве.
— Что там такое говорилось по адресу правительства, Кете?
— Посмотри: я подложила эту статью. Ты сама писала ее.
Клара читает:
— «Псевдопатриоты низводят родину до положения дойной коровы, обеспечивающей их маслом, и до дракона, стерегущего награбленные ими сокровища. Такая родина не может быть отчизной для эксплуатируемых». М-да… Не очень-то почтительно по отношению к господам, заслуживающим, впрочем, большего. Я готова уплатить штраф вдвойне, если мне разрешат усилить выражения в следующий раз.
Кете смеется:
— В следующий раз штрафом дело не ограничится.
— Да, по нынешним временам!
Клара разделывается с почтой:
— Штраф придется уплатить. Ты думаешь, что следует свести знакомство с этим Тронке?
— Наверное.
— Ну что ж! Когда свинья хрюкает, это лучше, чем когда она молчит: значит, она не подрывает втихомолку стенку сарая.
Кете уходит, а Клара продолжает свою работу над статьей для «Равенства». Теперь, когда нет с ними Карла, она ловит себя на мысли: а как бы он написал в данном случае? Какие слова нашел бы?
Пролетка останавливается перед скучным казенным домом, и Клара, подбирая юбку, поднимается по не очень чистой лестнице, уставленной пыльными растениями в кадках.
Кларе как-то довелось посетить это учреждение: оно знало лучшие времена — при старом начальнике здесь все сверкало чистотой, но зато его административное рвение не распространялось на более серьезные дела. Людвиг Тронке, видно, пренебрегает мелочами. Впрочем, не все ли равно? Не в Штутгарте решаются вопросы, как-то задевающие Клару и ее газету. И если на какую-то статью накладывается вето или редактор наказывается штрафом — то, значит, вверху закрутили гайки…
Клара велела прыщавому юноше в новеньком мундире доложить о себе.
— Господин Тронке просит! — было сказано почти тотчас.
Навстречу ей шел от стола довольно стройный для своих лет мужчина с приятным, но каким-то очень мелким лицом. Да и все у него было мелким: рост, руки, ноги — даже перебирал он ими мелко, по-женски. При всем том он держался уверенно и даже самодовольно, и какая-то своеобразная внушительность была в его мелкой жестикуляции и в неожиданно густом голосе, когда он назвал себя: Тронк-ке… В это мгновение, когда Тронке произнес, свою фамилию, усилив звучание последнего слога, как если бы там было два «к», в это мгновение фамилия неожиданно показалась Кларе знакомой, очень знакомой. Что-то давнее смутно связывалось с ней.
Но она не успела вникнуть в эту странность.
— Уважаемая госпожа Цеткин, мне очень лестно, что вы посетили меня. Я бы не осмелился заявить вам о моем существовании, если бы не одно ничтожное формальное обстоятельство…
И тон, и смысл как-то не подходили полицейскому чиновнику: да, он же — «новой формации»!
— Что же это за обстоятельство, господни Тропке?
— О, совсем незначительное! Но форма… Форма — это вещь! Без формы ведь нет и содержания.
«Склонен к философии… Но какое отношение это имеет к ней как редактору «Равенства»? Или лично?» Клара ждала.
— Вот, — Тронке нашел в ящике стола какую-то бумагу и подал Кларе, всем своим видом показывая, насколько ему не нужна и даже противна эта вовсе никчемная бумажонка.
Клара с удивлением читала ее. Это был полицейский протокол, составленный по поводу ее выступления в Криммитчау. За «произнесенную на собрании бастующих рабочих речь, призывавшую к разжиганию классовой розни».
— Помилуйте, да это было больше трех лет назад.
— Совершенно верно. Мой предшественник держал эту бумагу как камень за пазухой. До случая!
— И вы полагаете, что такой случай представился? — спросила Клара, посмотрев на Тропке прямо и внимательно: решительно, она где-то его уже видела.
— Нет, госпожа Цеткин, ни в коей мере, — ответил он без всякой, впрочем, уверенности в голосе. — Но дело состоит в том, — он вздохнул с наигранной грустью, — что времена меняются. И должен вам заметить, что те самые слова, которые вы изволили про износить в Криммитчау три года назад… Ну, безобиднейшие, невиннейшие даже слова… сегодня они звучат иначе.
— И что же из этого следует? — спросила Клара спокойно, но с явным стремлением ускорить события: ей надоели психологические эксперименты этого доморощенного философа.
Он что-то уловил в ее тоне. Речь стала определеннее:
— Вам надо это подписать. Для формы. Просто, что вы ознакомились. Я не позволил бы себе вернуться к этой бумаге, — небрежным движением он отправил ее обратно в ящик, — если бы не обстоятельства сегодняшнего дня.
Тронке поднялся и щелкнул замком сейфа. Нырнув в него, он извлек всего-навсего хорошо знакомый Кларе экземпляр «Равенства». «Стоило ли его держать в такой секретности?» — подумала Клара, но тут же увидела, что газета сплошь расчеркана красным карандашом.
— Попрошу вашего внимания, фрау Цеткин, — сказал Тронке, заметно укрупняясь, может быть, благодаря выражению важности своей особы и значительности происходящего. — Вот ваша статья. И вот строки: «Такая родина не может быть отчизной для эксплуатируемых». Если понять смысл этой фразы точно, то она сеет сомнения в душе патриота. Она ставит под вопрос любовь к родине…
— Но ведь выше очень ясно говорится о застрельщиках войны, о том, как они понимают патриотизм. Когда я пишу: «такая родина», я имею в виду умаление понятия родины эксплуататорами.
— Я-то все хорошо понимаю, фрау Цеткин. Но поймет ли вас темный человек, простой рабочий? Право, вы преувеличиваете мыслительные способности ваших читателей.
— Надо полагать, здесь не место для ведения дискуссии по этому вопросу, — отрезала Клара. — Может быть, господин Тронке ближе подойдет к цели нашей беседы.
— Цель нашей беседы… Гм… Отнюдь не утилитарная — упаси бог! Цель превентивная, так сказать. Я хотел посоветовать вам, чтобы впредь именно о таких понятиях, как патриотизм, защита отечества, на страницах газеты не высказывались бы мнения, заставляющие… заставляющие подводить их под ту или другую статью закона.
Слово «закон» словно волшебной палочкой дотронулось до говорившего. Во всяком случае в нем снова что-то укрупнилось: глаза его уже не были мелкими, когда уставились на Клару почти с вызовом.
— Наш закон, фрау Цеткин, очень, оч-чень точен и, я бы сказал, педантичен в определении антипатриотических высказываний.
Тронке помолчал, а когда заговорил вновь, улыбка снова собрала мелкие морщины вокруг глаз и показала редкие, мелкие зубы под черными усиками.
— Наш разговор, фрау Цеткин, сугубо, сугубо превентивный. Направленный, так сказать, на то, чтобы умерить страсти. Мы живем в эпоху всеобщего примирения.
— Вы полагаете?
— Да ведь вы это и сами чувствуете, фрау Цеткин. Но не хотите признать. Потому что принадлежите другому времени, когда были модны крайности.
Клара вовсе не хотела втягиваться в политический спор с полицейским. Но ее заинтересовало последнее утверждение.
— В чем же вы видите это умерение страстей, в котором вы даже склонны усмотреть веяние времени?
— Аромат эпохи, госпожа Цеткин, аромат эпохи! Да в том простом факте, что далеко не все социалисты нашего времени высказываются за абсолютную противоположность интересов капиталистов и рабочих. Развитие общества способствует развитию и совершенно новых отношений. А именно: сглаживанию противоречий. И в этом — аромат эпохи…
Он повторял это полюбившееся ему выражение, раздувая ноздри, словно физически воспринимал некий аромат.
Клара могла бы несложными доводами загнать в угол полицейского мудреца, но ей была противна даже мысль об этом.
— Хотелось бы, чтобы вы привели свою газету в соответствие с этими новыми веяниями.
О, это уже слишком! Клара поднялась:
— Мне все понятно, господин Тропке. «Равенство» будет говорить полным голосом, пока оно существует. И я — тоже.
Она не посмотрела на него уходя, но в дверях он задержал ее на мгновение:
— А ведь я имел удовольствие знать вас раньше, фрау Цеткин. И вашего мужа также. Давно. В Париже.
Уже на улице, уже отойдя на несколько шагов от скучного здания, когда она оглянулась в поисках свободного извозчичьего экипажа, очень издалека пришел к ней образ молодого человека с мелкими чертами лица. Да, он же был всегда поблизости от организации. Даже при исключительном законе. И кажется, даже пострадал. Так вот откуда такое свободное манипулирование партийной терминологией! И циничное использование ее для своих целей! Какая «эволюция»! И не в ней ли «аромат эпохи»?
Она так и не нашла извозчика и пошла быстрыми шагами напрямик через сквер, инстинктивно стараясь поскорее отдалиться от этого дома, от этой беседы. У нее было ощущение, что она выходит из грязноватого тумана, в котором копошится мелкий человечек с печатью предательства на всем своем облике.
«А ведь этот разговор — тоже симптоматичен. Это — «подбирание хвостов»… Перед чем? В ожидании чего? Войны?» — подумалось ей, когда она подходила к своей редакции.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Глава 1
В Берлине стояли жаркие дни начала августа 1914 года. По улицам беспрерывно маршировали солдаты. Это были не те снаряженные по-походному воинские части, которые грузились вдалеке от главных вокзалов в эшелоны с надписями на вагонах: «С богом и кайзером — на русских варваров!» Здесь под ликованье труб и торжество фанфар показывали себя, гордились собой, заявляли о себе такие стройные шеренги, словно они состояли вовсе не из живых людей. Оловянные солдатики — модель воюющей Германии — маршировали по улицам. Кайзер произносил с балкона пышные речи. Рейхстаг готовился вотировать военные кредиты. Под каждой крышей прощались, плача или красуясь. В каждой темной нише целовались. Регулируя уличное движение, шуцманы делали послабления новобранцам, поэтому толпы двигались как попало. Мужчины на тротуарах вздымали свои трости, словно смертоносное оружие. Дамы срывали с головы шляпы и махали ими проходящим солдатам, пренебрегая прическами во имя патриотизма. А владельцы мясных лавок объявили распродажу свиных ножек для холодца.
Рейхсканцлер Теобальд фон Бетман-Гольвег более чем когда-либо походил на пастора своим постным видом и костлявой фигурой, обтянутой длиннополым черным сюртуком. Уклончивый взгляд глубоко запавших глаз и натянутая улыбка придавали ему что-то елейное, слащавое.
Канцлер был чрезвычайно озабочен. Назначенное на четвертое августа заседание рейхстага висело над ним как дамоклов меч. Он ведь не был Железным канцлером. И вообще не был железным.
Он мог договариваться с теми, с кем можно было договориться: с партией центра, например. Пожалуйста. С другими партиями, состоящими из людей его круга. Договариваться с социал-демократами он тоже, конечно, мог, но это не доставляло ему удовольствия.
Да, с социал-демократами было сложно. Канцлер испытывал своеобразное уважение к Либкнехту: он знал еще его отца — Вильгельма Либкнехта, которого считал выдающимся деятелем. Хотя и радикалом свыше меры. Но Карл Либкнехт все отвергал: авторитеты отвергал, коалицию, единство нации тоже отвергал… И договориться с ним было невозможно. Карла поддерживали мощные фигуры, популярные, тут ничего не скажешь, в народе. И при единстве платформы — люди разные: престарелый Франц Меринг, например, — не пора ли ему утихомириться? Ученый ведь, теоретик… Клара Цеткин — ну, она вся из острых углов. Конечно, он, Бетман-Гольвег, подсмеивается над злобными и неумными обвинениями Клары: «антипатриотизм», «сговор с русскими». Это нонсенс. Просто она — в плену губительных теорий! Будущее Германии ей видится черт знает в каком виде. Роза Люксембург… Блестяще образованна, не по-женски логична. Из хорошей семьи. И она туда же: в лидеры нищеты. Опять же — крайности, радикализм, фантазерство…
Эти женщины стоят за Карлом Либкнехтом и подобно паркам ткут, ткут… Ткут его непокладистость, резкость, которые кое-кто, впрочем, считает мужеством.
В глазах Карла за стеклами пенсне холодный и дерзкий блеск. Это впечатление, может быть, оттого, что голова его немного откинута как бы с вызовом. Узкая белая рука энергично двигается, подчеркивая мысль. У этого поколения во всем своя манера. Парламентский деятель, политический оратор — здесь уместно бесстрастное лицо, приподнятый тон, обилие цитат — преимущественно из древних! Эти же тарахтят, как пролетка по булыжной мостовой… Их речи не лишены остроумия, они вызывают смех слушателей, ловко, к месту вставляя народные поговорки и жаргонные словца. Но Либкнехт — в другом духе: интеллигент с головы до ног. А пожалуй, Вильгельм Либкнехт мог бы гордиться таким сыном.
Но все эти размышления сейчас — не по существу!
«Договариваться!» Подумать только, что это слово выражает самую суть сегодняшнего политического дня.
Договоренность должна быть достигнута в течение двадцати четырех часов. Рейхстаг получит готовое решение: результат договоренности.
Теперь все решается часами. Сегодня, третьего августа, Германия объявила войну Франции. Завтра ожидается вступление в войну Англии; на стороне Франции — Россия…
Сегодня — последний срок для достижения пресловутой договоренности! Основное, самое главное, без чего все словопрения — напрасное сотрясание воздуха: подготовить единодушие при голосовании за военные кредиты в рейхстаге.
В конференц-зале дворца собралось предварительное совещание. Бетман-Гольвег мрачно оглядывал собравшихся. Шейдеман и Гаазе, депутаты-социалисты, держатся так, словно всю жизнь заседали во дворцах: эта пара отлично применяется к обстоятельствам. Особенно Филипп Шейдеман. Он весь какой-то… шоколадный: коричневая бородка, темно-коричневый костюм. В его словах тоже что-то шоколадное: несколько приторное и… быстро тающее. Его манера поглаживать лысину пухлой, даже на вид мягкой рукой усиливает это впечатление.
Гаазе внешне похож на пожилого рабочего: узкое лицо с выдающимися скулами, седоватые усы торчком. И взгляд жестковатый. Гуго Гаазе — более колючий, но это те колючки, которые можно в конце концов легко обломать.
Канцлер был стар и многое видел, а теперь приходилось взвешивать все: все малейшие оттенки настроений хотя бы тех же Шейдемана и Гаазе.
Можно надеяться, что договоренность с ними будет достигнута!
Заседали совместно: парламентская фракция и Правление партии. Либкнехт призывал завтра в рейхстаге выступать против военных кредитов. Он, конечно, понимал, что самые пламенные его слова не дойдут до сознания большинства. Он был трезвым политиком и не строил себе иллюзий. Но все же была надежда на какую-то поддержку. На то, что он не будет одинок в своем упорном стремлении сохранить самое дорогое: верность интернациональному долгу.
Глазами опытного оратора он пробегал по лицам, почти с физической болью ловил убегающие взгляды одних, натыкался на каменную сдержанность других. И не найдя ни малейшей опоры, продолжал свою речь, думая уже не о тех, кто сидел здесь, пряча свое малодушие или выставляя напоказ свою верноподданность. А о тех, перед которыми он выступал совсем недавно, которым нес свою ненависть к войне, к ее застрельщикам. Свою решимость преградить ей путь! Карл видел себя среди рабочих, принимавших его слово, как хлеб насущный, как глоток воды. Слово обещания, клятву в том, что против войны встанут силы сопротивления. И он не мог предать их!
В этот горький час Либкнехт думал о тех, кто напряженно ждал исхода бесславной битвы в рейхстаге. Кто остался верен знамени. И видел лица друзей, и мысленно обращался к ним. Он терпел поражение и мог вынести из этого боя только одно: верность партийным принципам.
Остановившись на этой мысли, он закончил свою речь, не снижая ее накала. Последовала тяжелая пауза, показавшаяся ему очень долгой, но, вероятно, это был лишь минутный интервал перед тем как предоставить слово следующему оратору. Интервал, заполненный усиленным покашливанием, звяканьем стаканов о бутылки с минеральной водой и астматическим дыханием тучного депутата справа.
В этом интервале не было слышно даже обычного шепота, беглого обмена мнений. Ничего. Как будто все было столь ясным, что не вызывало и мимолетного отклика.
И встал Шейдеман. Одно только это: встал, приготовившись говорить. Несомненно — красно, кругло, без пафоса, без словесных излишеств. И обдуманно. И предрешенно. Но уже в том, как он поднялся, отбросил руку — короткий, выразительный жест, похожий на движение, которым сбрасывают косточки счетов, — уже в этом как бы заключался некий итог, подводилась черта и словно бы начинали новую страницу.
Каким-то обостренным зрением, как бывает в минуту смертельной опасности, Либкнехт увидел больше, чем видели его глаза: на лицо Шейдемана легла зловещая тень стоявшего впереди. Того, что предстояло этому человеку на пути измен и позора.
Шейдеман сказал просто и буднично: социал-демократическая фракция рейхстага будет голосовать за военные кредиты! И хотя вдогонку этим словам он послал пышные фразы о «долге нации», о «преданности отечеству», — главным осталось только одно: Интернационал не существовал более, социал-демократия предала революционные принципы.
В смятении пребывал Либкнехт в продолжение всего заседания рейхстага. Впоследствии он с трудом мог проанализировать это свое состояние. Как могло случиться, что он вместе со всеми проголосовал за военные кредиты? Против своих убеждений. Против высказанного им только вчера твердого мнения о пагубности войны и ее поддержки…
Клара проводила на позиции сына. Молодой военный врач в полевой форме, как-то вдруг возмужавший и огрубевший, — это ее сын! Ее упрямец, настоявший на том, что медицина — его призвание. И вот теперь гуманнейшая из профессий позвала его на поля неправедной войны.
До Штутгарта дошла весть о том, что социал-демократическая фракция рейхстага одобрила военные кредиты — единогласно! Единогласно? Что это значит? Конечно, смешно было уповать на то, что Шейдеман обернется последовательным интернационалистом. Но Либкнехт?
Что происходит в Берлине? Что предпринимают друзья?
Клара металась по опустевшей квартире, и все причиняло ей боль. Уколами воспоминаний ранили знакомые предметы.
Обильный дождь, по-летнему озорной, со стуком по крыше, с пузырями на лужах под окном, показался сумрачным предвестником долгой осени. Пустой дом отзывался ливню хлопаньем оконных створок, скрипом флюгера. Какой-то трепет проходил по комнатам, лихорадочно взлетали занавески, словно в испуге убегали в глубину дома, и змеиное шипенье потоков из водосточных труб явственно слышалось, странно не сливаясь со всем этим шумом: громыханьем, скрипом, треском.
Вдруг раздался звонок, такой неожиданный, почти неправдоподобный.
Клара пошла к двери со смутной надеждой, вероятно, нелепой, потому что еще рано было ждать известий от сына.
В дверях стояла Кете Дункер. И сейчас было в ней, как всегда, спокойствие, тишина, терпеливость. В ее гладко зачесанных волосах, в светлом взгляде, в неразмашистости движений, в речи. Несмотря на то что она так глубоко все переживала.
Складывая зонтик, сбрасывая в передней промокшие башмаки, Кете рассказывала: Герман Дункер только что вернулся из Берлина. Он приехал больной и согласился остаться дома при условии, что Кете сейчас же отправится к Кларе и все ей расскажет.
Клара захлопотала: принесла теплый платок, поставила на плитку кофейник. Дункер всегда была ее опорой. Она с любовью смотрела на молодое лицо Кете, удивительно молодое для ее сорока трех лет, с чистым лбом под короткими волосами. Несмотря на эту короткую стрижку и энергичную линию рта, Кете — настоящая Гретхен. Нежный ее облик так контрастирует с жесткими словами, которые она сейчас произносит…
Да, действительно, фракция в рейхстаге единогласно проголосовала за военные кредиты. И Либкнехт? Да, и он. Как это случилось? Как он мог?
Слушая Кете, Клара силилась понять происходящее.
Итак, Либкнехт в решительную минуту — что?.. Струсил? Или изменил свои убеждения?
— Нет, ни то, ни другое. Было какое-то минутное затмение, опасная мыслишка о «единство фракции». И все же надо отдать ему справедливость: он сразу же понял свою ошибку…
Клара резко перебивает подругу:
— Откуда это известно?
— Карл сам заявил об этом.
Карлу пришлось выслушать осуждение товарищей. Вместе они обсудили положение и наметили план действий. Надо было собрать и сплотить всех оставшихся верными интернациональному долгу, развернуть антивоенную пропаганду.
Это были опасные решения в столице, объявленной на «чрезвычайном положении». И каждый понимал, что работа и жизнь их вошла в новое русло и что они должны быть готовы к худшему…
В Штутгарте на все лады толкуют о Либкнехте. Его имя так популярно. Всякая неопределенность его позиции — это пища для сомнений, колебаний, может быть, ренегатства.
На собраниях, при личных встречах, в любом разговоре Клару засыпают вопросами: с кем же Карл? С нами или с шовинистами?
Клара отвечает, что они узнают об этом от него самого: Либкнехт приезжает в Штутгарт.
Клара ясно воображала, как все произошло. Она знала гнетущую атмосферу этих заседаний «в верхах». Живо представляла себе эту машину голосования, запущенную с точным расчетом. Порядок, который так трудно сломать. Такое нечеловеческое усилие надо, чтобы твоя одинокая рука, твое одинокое «нет» прозвучало в согласном хоре «да». Она знала силу слова «дисциплина» — вероятно, оно слишком догматически воспринималось Карлом. Именно это заставило его подчиниться общему мнению, проголосовать «как все», «со всеми»… Но кто же эти «все»? Шейдеман, Гаазе, Носке? Она отлично знала их всех: корректного, обтекаемого господина Шейдемана, который всегда знает, «что нужно». Что нужно, чтобы, оставаясь социал-демократом, не раздражать «сильных мира»… И Гаазе — мастера сидеть на двух стульях, готового спрятать в карман укор совести под давлением обстоятельств. А Густав Носке? Человек без совести и чести! Он сам в себе, он неподвластен иным соображениям, кроме соображений своей карьеры, своего благополучия. Носке орошает мертвой водой любое живое начинание, любую живую мысль…
Но сама понимая это, как могла Клара объяснить все Паулю Тагеру, ветерану движения, твердо стоящему на своем: «Нет войне!» Паулю Тагеру, которого, несмотря на его преклонные лета, вот-вот упекут во вспомогательные части. Курту Раабу, уже получившему повестку. Их женам, посылающим проклятья кайзеру.
Нет, Карл сам должен держать ответ перед этими людьми! И великий смысл его встречи с ними будет состоять не только в том, что они убедятся: Либкнехт — с ними! А и в том, что Карл почерпнет новые силы из общения с рабочими.
Карл приехал утром и застал ее одну. Когда она открыла ему дверь и он уже с порога протянул к ней свои длинные руки и нагнулся, чтобы обнять ее, она почувствовала, что последняя льдинка сомнения тает в ее душе. На его нервном, худощавом лице она прочла, как нелегко ему дался короткий миг колебания и как много мучительных часов последовало за ним. И вместе с каким-то материнским сочувствием к нему Клара ощутила и радость. Радость от того, что ее младший друг глубоко пережил свой ложный шаг. Она ведь была не только женщиной, но и борцом. И прежде всего думала о том, какое впечатление произведет на рабочих его искреннее и горячее выступление. Она не хотела предварять его и не расспрашивала ни о чем.
Когда она усадила его за стол, и придвигала ему его любимые кушанья, и он обвел усталыми глазами комнату, в которой провел так много отрадных часов, — в ней снова шевельнулось что-то материнское. Как будто перед ней был не зрелый политический деятель, виднейший партийный функционер, а юноша, нуждающийся в ее поддержке, в ее твердом рукопожатья. Это было смешно, но именно так чувствовала она, когда он глубоко вздохнул и как-то горестно и в то же время с облегчением сказал просто:
— Мне было очень тяжело, Клара.
— Потом, потом… — она заторопилась, забросала его вопросами о жене, пак же Соня сейчас — верно, он совсем не бывает дома? И что в Берлине? Непрерывные «Хох» и «Да здравствует»… И пока они так сидели за столом и отрывочно, бессвязно касались то одного, то другого, только не самого главного, именно самое главное и решалось: Карл открывался ей таким же, как всегда — чистым, беззаветным и отважным. И она радовалась, уже понимая, уже точно зная, что таким его воспримут и штутгартские пролетарии, многоопытные бойцы, которых нельзя обмануть, которым нельзя изменить.
Известие о том, что Карл Либкнехт в Штутгарте и будет выступать на широком рабочем собрании, привело множество людей в обширный зал ферейна, который все же не может вместить всех желающих, и у входа теснится толпа. Она расступается, чтобы пропустить Клару, быстро, по-молодому поспешившую к трибуне. Карл уже здесь, и она сразу видит по его лицу, как он рад ей и как нужна она ему в этот нелегкий час.
Клара вглядывается в зал. В нем, конечно, нет ни Фохта, ни Кунде. Нет, они вовсе не на полях сражений. Они вряд ли и попадут туда: не только из-за возраста — как же, они необходимы в тылу. Свои предприятия они умудрятся перестроить на нужды войны! Клара видит здесь не только рабочих. Интеллигенты, которые пришли сюда, ищут правды, они честно хотят разобраться в обстановке.
Но в подавляющем большинстве здесь рабочие. Это их глаза, суровые и чуть ироничные, обращены к Либкнехту. Эти люди знают жизнь, знают, что она — не тихий пруд, а бурная, порожистая река. Где-то грозная волна накрыла с головой их товарища. Вынырнул он? Поднялся на поверхность?
Либкнехт начинает прямо, без обиняков. Он не отрицает своей ошибки. Он только хочет быть понятым ими и потому говорит об обстановке, в которой поддался чувству ложно понятой дисциплины.
Карл переводит дух, сбрасывает пенсне. Без стекол глаза его приобретают выражение какой-то беззащитности, что-то почти юношеское в них, в жесте, которым он хочет усилить впечатление от сказанных им слов.
Перелом в настроении зала заявляет о себе бурными аплодисментами, когда Либкнехт кончает речь. Чувство большого облегчения наполняет Клару. Она берет обеими руками голову Либкнехта и целует его по-матерински в лоб. Она ощущает его влажность, видит близко усталые глаза. Он совсем измучен. И она понимает, что ему еще предстоит немало!
Либкнехт готов исправить свою ошибку.
Вскоре он делом доказывает это: при повторном голосовании в рейхстаге Карл решительно выступает против военных кредитов.
Клара быстро приспосабливается к новой обстановке: искушенная в «эзоповом языке», она находит способ довести свои мысли до множества людей, которые по-прежнему преданы «Равенству». А то, что все-таки нельзя сказать на листах газеты, говорится языком листовок, теперь уже нелегально печатаемых в типографии «Равенства».
В штутгартских кнайпах толкуют о положении на фронтах, обсуждают на все лады письма земляков из армии. Если судить по этим письмам, до победы совсем недалеко. И дух воинов повышается так быстро — как бы он вовсе не вознесся к небесам! Даже нескладный Куурпат получил железный крест первого класса. Земляки отличаются на фронтах. Ну а те, кого уже нет, обрели царство божие, поскольку отдали жизнь за фатерланд и кайзера.
В трактирах пьют, читают газеты, прикрепленные к круглым палкам. Здесь все возбуждены, здесь все стратеги. И в меру веселы… Потому что сюда не приходят убитые горем. Из тех квартир, куда колченогий почтальон Лукас принес письма с черной каемкой.
Потом они придут в себя и появятся здесь: ведь им некуда деваться. И будут слушать стук кеглей и прогнозы о близкой победе. И будут стучать кружкой о стол, заглушая в себе назойливый голос: «Моего сына все равно не вернуть!» И гасить в себе мысль об одной безымянной могиле с каской на простом кресте. Нет, наверное, со многими крестами, совсем одинаковыми. С одинаковыми касками; недаром эти могилы зовутся «братскими».
Перед лицом войны вся нация должна быть одной семьей. Это так. Почему же сыновья богачей не на позициях, а «служат отечеству» в разных комитетах по поставкам армии? Конечно, все должны приносить жертвы. Бросить на алтарь родины, великой и бесконечной, самое дорогое. Но одни бросают деньги, а другие — сыновей! И те, кто бросают деньги, с лихвой получают их обратно. А сыновья не возвращаются. В самом деле, так ли уж необходимы Германии завоевания, во имя которых встали под ружье сыновья и братья? И какой Германии они необходимы?
Такие мысли чаще всего посещают женщин. Они носятся в воздухе фабричных цехов, куда многих из них привела война. И над домашним очагом они витают тоже. Мысли тревожные, ищущие выхода, все чаще обращаются к Кларе.
Призывы «Равенства» не остаются втуне. И по-прежнему газетные листы шуршат в домах рабочих, поддерживая их дух добрым голосом старого друга.
Глава 2
Война шла по земле в громе орудий, в зареве пожарищ.
Еще не пикировали над мирными городами бомбардировщики, и человечество еще ничего не знало об атомном оружии. Свастика была только древним символом, известным лишь специалистам по истории религии; рабство казалось безвозвратно ушедшей общественной формацией, а вандализм — понятием историческим и применяемым лишь как метафора в начале нашего просвещенного века. И уж, конечно, аутодафе на площадях было атрибутом канувшего в лету средневековья.
Но империализм уже набирал силу, уже пробовал когтистой лапой почву: выдержит ли грозный вес «фердинандов» и «пантер», человеческие множества на Нюрнбергском стадионе, силу нашествия и силу триумфа. Империализм еще не бросил в игру главный козырь, не выпустил самых страшных своих порождений. Он еще только готовил их. И никто не мог полагать, что видение ада, рожденное религией и подхваченное литературой, войдет в реальную жизнь во вполне материальной форме золингеновской стали, крупповских печей и отравляющих газов «ИГ Фарбен».
Уже шли к бою пушки с длинными стволами, дальнобойность которых еще недавно была мечтой военной науки. И только входили в страшный обиход войны огнеметы — оружие ближнего боя. Предвосхищая испепеляющее действие напалма, они метали огонь, поражая цель пламенем, словно обливая ее расплавленным металлом.
Новый, 1915 год, не предвещал ничего утешительного.
— От того, что Гинденбург стал главнокомандующим Восточного фронта, а Людендорф — начальником штаба, вряд ли что-нибудь изменится. Не это важно…
— А что важно, Клара? — спрашивает Роза.
— А то, что блицкриг провалился. Вот это важно. Никакие новые назначения не скроют от масс провал основного плана войны.
— Какая бойня! Только на Марне бились полтора миллиона человек… — Роза нервно ходила по комнате, ломая тонкие пальцы.
Клара встретилась с Розой в маленьком кафе, недалеко от городских ворот Штутгарта. Эта встреча напоминает давние дни нелегальщины. И кафе имеет свою не совсем обычную историю: его содержит Эмма Тагер. Когда она получила его в наследство от тетки, Эмма была в затруднении: она никогда не занималась торговлей.
Но Клара подумала тогда, что крошечное и незаметное заведение может пригодиться для работы, для встреч по делам партии. В тяжелые времена. Так и случилось. Здесь спокойнее, чем в доме Клары, вокруг него крутятся несложно замаскированные — то колесом точильщика, то палкой фонарщика — соглядатаи.
Встреча с Розой вызвана важным обстоятельством. С большой осторожностью Клара ведет переписку с единомышленниками во многих странах: ищет возможности собрать международную конференцию женщин-социалисток.
Мысль об этом была подсказана еще в первые месяцы войны Лениным. А обратилась с ней к Кларе Инесса Арманд. И теперь настала пора действий.
Подготовка конференции должна быть нелегальной: такова обстановка в Германии к концу первого года войны. Когда «Равенство» выходит в белых заплатах, наложенных цензурой, когда всякое слово правды влечет за собой наказание по законам военного времени.
Роза и Клара ценят каждую минуту этой своей встречи. Единство взглядов, взаимное понимание придает их дружбе особую глубину и значение. «Как она изменилась! Раньше годы словно обтекали ее, а теперь вот они, все видны в морщинах лица, в седине, в горькой улыбке. И только глаза прежние. Как будто вся энергия, вся жизненная сила сосредоточилась именно в них. Как странно они сохранили не только свое выражение, но и голубизну. И седые волосы подчеркивают ее». Так Роза думает о Кларе.
«С годами женские лица расплываются, теряют свою определенность, но у Розы наоборот! Все черты обострились, и без того худое лицо словно бы уменьшилось. И весь облик ее приобрел еще большую хрупкость, почти бестелесность»… — думает Клара.
Они слишком близки, чтобы изливать свои чувства в потоке слов. Роза отчетливо представляет, чем полнятся дни Клары: ее усилия сохранить верность традициям «Равенства», ее отчужденность от штутгартских «политикеров» и ожидание писем от сыновей; и важнее всего — упорные попытки создать новое единство, противостоящее войне.
— В сущности, случилось самое страшное, — говорит Роза. — Грянула война, и мы оказались разобщенными. Предложение из России — словно огонек впереди.
— И все же мы плывем по темной реке, Роза, так много препятствий, и вовсе не видно, как их обойти.
Даже для сугубо предварительных переговоров необходимо выехать в другую страну. Они выедут, скажем, в Амстердам и вызовут туда некоторых лично знакомых им деятельниц женского движения. С ними надо говорить уже о конкретных сроках и месте конференции.
Их беседа прерывиста, как дыхание взволнованного человека, они касаются то одного, то другого…
— Были письма от Максима?
— Несколько дней назад. Спрашивает о тебе. Где он — непонятно. Естественно: военная цензура. Судя по тому, как он пишет о работе, он — в полевом госпитале у самых позиций.
— Клара, что сталось с Эммой? Она открыла мне дверь, и я едва узнала ее…
— Что удивительного? Ее муж убит. Он был мобилизован на перевозки фуража. Сразил случайный снаряд. Какой был человек! Я ведь так давно знаю их семью: мне всегда было тепло у их камелька.
— А дети?
— Сын призван, пока — в сравнительной безопасности. Пишет. Замужняя дочь — в Эссене. Что говорит Карл о наших перспективах?
— Когда Сони нет в комнате — что нас скоро упрячут за решетку. А если серьезно — он активнее, чем когда-либо. И ты знаешь его особенность: как будто появляется одновременно в разных местах.
— Ты непременно хочешь сегодня же уехать, Роза?
— Да. Я думаю, что мне лучше не маячить здесь. Штутгарт, в общем, маленькое местечко. Когда будет решено со встречей в Амстердаме, мы с тобой съедемся, скажем, в Дюссельдорфе, да?
— И поедем вместе?
— Конечно. Если нам дадут визу — хорошо. Нет — тоже не заплачем: устроимся с чужими паспортами. Да?
— Лишь бы удалось списаться со всеми. Чтобы в Амстердаме был уже ясный разговор о цели и сроках.
Лампа на столе шипит, и Эмма входит со свечой в руке:
— Этот керосин военного времени!
— Посиди с нами, Эмма… Что говорят женщины на рынке?
— Все то же, Роза. Что скоро и на мясо будут карточки. И шлют проклятья войне и тем, кто ее начал. Но, конечно, большинство верит тому, что не мы виновники ее, что немцы только обороняются, — Эмма горько улыбается.
С тех пор как убили Пауля, она особенно близка с Кларой. И забота о ней сделалась для Эммы необходимостью.
Это совсем крошечное кафе так сгодилось теперь. Доходов от него — кот наплакал! Кому придет в голову расположиться здесь, если за углом имеются настоящие заведения? Зато для друзей Клары, для встреч со своими людьми — не придумаешь ничего удобнее. После полицейского часа Эмма закрывает ставни, заставляет деревянным щитом дверь. И если Клара как раз в это время пишет текст листовки, то может это делать вполне спокойно.
— У тебя, как всегда, отличный кофе, Эмма, — говорит Роза, — и совсем довоенный штрудель.
— Ах, Роза, кофе, конечно, желудевый, но я научилась манипуляциям с цикорием. А штрудель, да, он почти как прежний. Если не считать того, что мука наполовину с отрубями.
— Не будем мелочными: зачем вдаваться в детали! Будем наслаждаться нашей встречей! — весело говорит Роза.
За окнами синеет вечер. Фонарь на крыльце выхватывает у него только маленький кусочек света. Такой маленький, что в нем видны лишь до блеска надраенные ступеньки, ведущие к входной двери под козырьком крыльца, и куст боярышника, сейчас присыпанный снегом: он падал целый день.
В помещении тепло и уютно, на дешевых обоях дрожат тени, пламя свечи слегка колеблется.
— Надо бы заклеить окна, чтобы не дуло, да все руки не доходят, — бормочет Эмма и вынимает из кармана передника свои большие руки, переделавшие столько работы за долгую жизнь.
Роза зябко кутается в пуховую шаль, ее длинноватый носик морщится от улыбки:
— Знаешь, Клара, у вас тут так тихо, как будто роскошный локаль Эммы Тагер заколдован от посторонних посетителей!
И хохочет: смех ее прежний.
Эмма отвечает серьезно:
— Можете быть спокойны: никто не посягнет на наше гостеприимство.
И в эту минуту бойко и весело зазвонил колокольчик входной двери.
— Пройди за стойку, в комнату Эммы, — быстро сказала Клара, и Роза скользнула в узкую дверь.
В крошечное зальце вошел невысокий мужчина в дорогой шляпе, в модном касторовом пальто — такой посетитель был бы уместен где-нибудь у Кемпинского, а не в скромной забегаловке фрау Тагер.
— Добрый вечер! — сказал гость.
— Добрый вечер. Раздевайтесь, пожалуйста, — ответила Эмма.
Посетитель повесил шляпу и пальто на вешалку у входа и, приглаживая одинокие волоски на лысине, прошел к свободному столику. Их было тут всего два, и он быстро сообразил, что может подсесть к даме, которая в одиночестве допивала кофе в свете догорающей свечи.
— Вы позволите? — спросил он учтиво.
— Пожалуйста.
Эмма внесла заправленную лампу, и теперь незнакомец во все глаза смотрел на Клару.
— Фрау Цеткин! Боже мой, фрау Цеткин! Сколько лет я не видел вас!
Клара могла бы на это заметить: что касается ее, то она вообще его никогда не видела! Могла бы… Но что-то знакомое в нем все-таки было! Воображение ее тотчас пририсовало к бледному, слегка одутловатому немолодому лицу соломенного цвета баки, сняло очки, навело румянец на щеки, спрямило фигуру… Получилось! Получился адвокат Зепп Лангеханс. Очень совестливый, очень ловкий господин.
— Я узнала вас, господин Лангеханс. Хотя вы несколько изменились!
— Какая неожиданная встреча! — все не мог успокоиться адвокат. — Что можно у вас выпить, чтобы согреться? — обернулся он к Эмме. — Чего бы я хотел? Ха-ха! Мало ли чего бы я хотел? Французское шампанское! Русскую водку! Но как патриот я готов выпить рюмку рейнвейна. Большую рюмку рейнвейна. И кофе, конечно.
— Где же вы теперь проявляете свой патриотизм, господин Лангеханс? — спросила Клара улыбаясь.
— О! Я стар и немощен… Конечно, для того, чтобы сидеть в окопах. Но можно служить фатерланду и другим путем, не правда ли?
— Конечно. Какой путь избрали вы?
— Я? Доступный мне. Я прокурист фирмы, работающей на оборону.
— «Нойфиг и сыновья»? — внезапно вспомнила Клара. Она заинтересованно повернулась к адвокату: — Скажите, а как сыновья?
— Уве процветает, а что касается Георга, то он — на позициях. О нем ходят плохие слухи.
— Какие же?
— Ну, он всегда был несколько экстравагантен. Но это хорошо в мирное время. Когда идет война, лучше шагать в ногу со всеми. Не правда ли?
— Как сказать. Вы, наверное, знаете, что когда солдаты переходят мост, подается команда: «Идти не в ногу!» Иначе есть опасность провалиться.
Лангеханс смеется:
— Георг Нойфиг — деструктивная натура! Вы помните его выставку незадолго до войны? На ней все было «не в ногу».
— «Не в ногу» с кем?
— С искусством, конечно.
— Гм… — Клара не была склонна вступать в дискуссию об искусстве: Роза отдыхает в комнате Эммы, но до ее отъезда они могут поговорить. Однако следовало еще потрясти адвоката: с начала войны она потеряла Георга из виду.
— Георг Нойфиг — тоже человек немолодой. Что он делает на позициях?
Адвокат небрежно махнул рукой:
— Таскается с мольбертом и красками, и, говорят, именно там, где горячо. Мазня его просто ужасна: трупы и черепа! Это уже тенденция!
— Тенденция? Какая?
— Видеть только оборотную сторону медали.
— Вы полагаете, что война имеет и лицевую сторону, герр Лангеханс?
— Конечно. Радость победы. Слава. Героизм немецкого солдата. Разве это не достойно кисти художника? Я понимаю: вы придерживаетесь других воззрений. Для вас патриотизм…
Клара перебила его:
— Патриотизм, который оборачивается палачеством для других народов, — такого патриотизма я не приемлю.
Но она вовсе не хотела вступать в спор. Ее интересовало другое.
— А семья Георга Нойфига — вы что-нибудь знаете о ней?
— Только со слов Уве. Сыновья Георга пренебрегли помощью дяди и, кажется, очень нуждаются. Я слышал, что младший — Эрих — подавал большие надежды, но потом его исключили из Академии художеств. За недостойное поведение.
— Что же, он спился?
— Отнюдь. Кажется, участвовал в антивоенной демонстрации.
Адвокат допил свое вино и подозвал Эмму, чтобы расплатиться.
Но был еще один вопрос, который обязательно следовало выяснить…
— Что вас, собственно, привлекло сюда?
— В Штутгарт? Здесь один из моих доверителей.
— А в это непритязательное кафе?
— О, чистый случай. Видите ли, я — на автомобиле…
— Господин адвокат — всегда на уровне века!
— Да, приходится держать марку: я веду дела современных, в высшей степени современных фирм. Что-то забарахлил мотор; я вызвал из гаража механика. Он уже должен быть тут. Рад был встретить вас, фрау Цеткин. Надеюсь, что у вас все в порядке?
Не дождавшись ответа, Лангеханс поднялся:
— Не хотите ли посмотреть мой автомобиль?
— Пожалуй.
Вероятно, все обстояло так; как рассказал адвокат. Против кафе, правыми колесами на тротуаре, стояла большая черная машина. К ней уже подходил человек в кожаной куртке и кожаной кепке, к которой он по-военному прибросил ладонь, завидя адвоката.
Вернувшись в кафе, Клара услышала шум заводящегося автомобиля, и вскоре отблески его фонарей проплыли на оконной занавеске.
— Спит, — сказала вышедшая Эмма, — спит, как ребенок, носом в подушку. Жалко будить.
— И не надо, — сказала Клара, как будто именно то, что Роза спит, уткнувшись в подушку, заставило ее принять решение. — Поедет завтра, восьмичасовым.
Она представила себе ночной поезд, сидячие места узких купе, набитых военными, дорожные разговоры, в общем те же, что повсюду: под бодрячеством, где-то на дне, тлеют страх и отчаяние.
Стоячие часы в деревянном футляре пробили десять. Кларе представилось, что сейчас в ее квартире тоже бьют часы. А в комнате темно и пусто.
— Постели мне на креслах. Я, пожалуй, останусь у тебя.
Эмма закрыла ставни и принесла постель. Поставив свечу на столик в изголовье, она присела на низенькую скамеечку, сложив руки на коленях. И Клара отметила эту, уже ставшую привычной, позу Эммы, позу пожилой женщины, погруженной в невеселые думы.
— Ложись и ты, Эмма. У тебя был тяжелый день, — сказала Клара.
— Да, когда продукты на исходе, все труднее пополнять запасы. А шиберы без совести взвинчивают цены.
— Еще бы.
Они помолчали.
— Смотрю на вас с Розой, — сказала Эмма, — немолодые уже вы, а покою вам нет. Роза — она вроде совсем слабенькая, как стебелек…
— Есть, Эмма, такая травка, что через могильную плиту и то пробивается…
Эмма со вздохом поднялась и, пожелав доброй ночи, ушла к себе.
А Клара, придвинув поближе свечу, раскрыла начатую книгу. Постепенно она отключилась от окружающего, от привычных тягостных мыслей и погрузилась в мир щедрой и причудливой фантазии.
Скрипнула узкая дверь за стойкой. Роза, в чересчур широком ей Эммином халате, присела в ногах у Клары.
— Почему вы меня не разбудили? Что это за самоуправство?
— Ты так вкусно спала, Роза…
— Да? А помнишь, как я улеглась на скатерть?
И они вспомнили, как однажды Роза неожиданно приехала в Силленбух. А там уже спали. И Костя, открывший Розе дверь, спросонья постелил ей на диване вместо простыни скатерть.
— Как я удивилась, выйдя утром в столовую: ты расположилась на моей парадной скатерти…
— Как поросенок, поданный к обеду.
— Помнишь, был такой пасмурный день. Мы сидели на террасе, и Костя читал нам вслух. Кажется, это был Бернс…
Они вспоминали важное и незначительное, теперь тоже казавшееся важным, потому что оно прошло и стало невозвратным. И очень дорогой показалась та рождественская ночь, которую они провели с друзьями в штутгартской квартире Клары. Все были веселы, полны надежд. Это было бурное время. В Руре и Рейнланд-Вестфалии бастовали тысячи горняков. В Саксонии — текстильщики, в Гамбурге — докеры. Из России шли вести о боевых рабочих выступлениях…
— Помнишь, Роза, мы с Мархлевским танцевали, и вдруг на вас упала елка со всем, что там на ней было.
— Да, и мы бросились подбирать уцелевшие игрушки. И кто-то предложил украсить ими елку в саду…
— И все тотчас высыпали из дома…
— А Максим и Костя где-то гуляли — они ведь были уже взрослые парни. И поздно ночью вернулись, увидели наряженную в саду елку и веселились с нами.
— А к утру пошел снег, потушил свечи, пестрые бумажные фонарики раскисли. И мы вымели из сада поблекшие лоскутки…
Роза грустно улыбнулась:
— Надо спать. Ты устала. Что ты читаешь? Гофман? «Крошка Цахес»… Слушай, прибавь ему росту, и получится, ни дать ни взять, наш кайзер. Он имеет ту же чудесную способность: когда наши войска побеждают, все воздают хвалу военному гению Вильгельма. А когда нас гонят — виноватыми оказываются бездарные генералы.
Они договорились, что немедля начнут хлопоты о визе в Голландию.
В погожий февральский день на оживленном вокзале Дюссельдорфа Клара встречала поезд из Берлина. Пора долгих хлопот и опасений осталась позади. Были получены заграничные паспорта и нужные визы. И сейчас Клара ждала, что вот-вот из голубого вагона скорого поезда покажется хрупкая фигура Розы в ее сером зимнем саке, отделанном беличьим мехом, с видавшим виды саквояжем в руках.
Роза, со свойственной ей дотошностью, сообщила не только номер поезда, с которым выедет из Берлина, но — и вагона. Они условились встретиться в Дюссельдорфе, чтобы отсюда вместе выехать в Амстердам. Там была назначена встреча группы организаторов международной женской конференции. Клара сняла в гостинице номер всего на сутки: завтра они вместе с Розой покинут город и, хотя до самой границы беспокойство, конечно, не оставит их, все же они будут себя чувствовать на пути к цели.
Эти мысли и удивительно ясный для здешнего февраля день с безоблачным небом, в которое подымались, прямые в безветрии, частые дымы многочисленных заводских труб, — все радовало Клару.
Но вот уже пассажиры покинули вагон, водоворот, бурлящий около него, быстро рассосался, оставив пустую платформу, между составами, словно русло высохшей реки.
Клара прошла вдоль поезда, но в распахнутые двери купе, открывающиеся прямо на перрон, хорошо просматривалась внутренность пустых вагонов, где только проводники шаркали щетками по плюшевым диванам первого класса.
Это было непохоже на Розу, но все-таки она, видимо, опоздала на поезд. Клара справилась по расписанию о приходе следующего поезда из Берлина. Но Роза не появилась. Тревога овладела Кларой. Она решила ехать в Берлин. Она не могла отправиться в Амстердам одна не только потому, что именно у Розы находились некоторые нужные им адреса: жгучее беспокойство за Розу охватило ее.
Поезд приходил в Берлин вечером. С вокзала Клара отправилась на квартиру Розы. Город был погружен во мрак: экономили на уличном освещении, и возница, словоохотливый, как все берлинские извозчики, долго и нудно жаловался на оскудение столицы.
Клара нетерпеливо взбежала по лестнице и дернула звонок у знакомой двери. Долго не открывали, но какое-то движение угадывалось в квартире, и наконец голос Матильды Якоб, живущей вместе с Розой, опасливо спросил, кто здесь.
Клара весело закричала, чтобы ее впустили, и едва распахнулась дверь, накинулась было на Матильду с расспросами.
Но даже беглый взгляд пояснил ей все: в квартире, казалось, не было ни одной вещи, оставленной на своем месте. Все было разбросано, вывернуто, вещи и бумаги выброшены из шкафов и ящиков…
— А Роза? — боясь услышать ответ, спросила Клара.
— Ее увезли на Барнимштрассе. Ох, что здесь было, Клара! Второй день я не могу навести порядок.
— Матильда, вы не слышали, что ей предъявляли? По чьему приказу?
— Ей сказали, что по приговору франкфуртского суда за антиправительственную деятельность.
Клара сидела у стола, не раздеваясь, потрясенная. Значит, имперская юстиция воспользовалась законом об исполнении ранее вынесенного приговора. Розу осудили за «антиправительственную деятельность», но франкфуртский суд отложил исполнение приговора в связи с ее болезнью. Но случайно ли, что именно сейчас, перед их поездкой в Голландию, вспомнили о приговоре? Роза — за решеткой… С ее хрупким здоровьем. В тюрьме военного времени. А режим женской тюрьмы на Барнимштрассе суров. И что будет с делом, начатым ими? Ведь уже все приведено в движение: в Амстердам вот-вот съедутся социалистки для разговора о созыве конференции. Мысль Ленина о международной встрече женщин встретила такой отклик в сердцах, такое понимание у передовых женщин мира… И теперь арест Розы ставит под удар участие немецкой делегации.
Клара не слышала, что говорила ей Матильда, снуя по комнате и пытаясь наводить хоть какой-то порядок. Как связаться с Розой? И если даже удастся свидание, то каким образом договориться по нерешенным еще вопросам? Как может арест Розы отразиться на всем деле? Во всяком случае, прежде всего надо пробиваться в тюрьму: хлопотать о свидании.
— Роза ничего не сказала тебе, когда ее увозили? Никаких поручений?
— Не было возможности: они глаз с нее не спускали. Только уже сходя по лестнице, Роза сказала: «Мне должны прислать теплые вещи из Дюссельдорфа, принеси их обязательно».
Все было ясно. Роза думала о ней, Кларе, и подбрасывала ей мысль…
На следующий день Клара принялась за дело. Стояли на редкость морозные дни. Клара обивала пороги канцелярий, добиваясь разрешения на личную передачу теплых вещей Розе. Она напоминала, что однажды исполнение приговора было уже отсрочено ввиду болезни Розы. Она тяжело больна и сейчас. Это оказалось действенным аргументом: имперская юстиция избегала смертельных исходов среди заключенных. Правда, время было военное, церемониться не приходилось, но посыплются запросы в рейхстаг, жалобы, тем более что уж обязательно окажется какой-нибудь родственник на позициях, а жалоба с театра военных действий — это уже сплошные неприятности!
Кларе разрешили личное свидание с заключенной в женской тюрьме Розой Люксембург.
С утра у железных ворот тюрьмы собираются плохо одетые, молчаливые женщины. Не слышно ни перебранки, ни шуток, ни тех едких насмешек над «начальством», которые раздаются в очередях за продуктами или у фабричных проходных.
Опытным глазом Клара отмечает, что большинство женщин — работницы. Их близкие по ту сторону ворот заключены сюда, вернее всего за протест против войны, может быть, за призыв к стачкам: закон военного времени приравнивает всякие выступления против хозяев к противоправительственным актам.
Время, назначенное для свидания, уже истекает, но ворота не открываются. Там, за их толстой броней — собственный счет минутам.
Женщины терпеливо ждут, притопывая на холоде плохо обутыми ногами, перекладывая из руки в руку свертки и корзинки.
Клара, нагруженная теплыми вещами Розы и приготовленной Матильдой едой, обегает взглядом небольшую толпу. Она старается прочесть на лицах окружающих, что их привело сюда, какие жизненные драмы, и опыт подсказывает ей коллизии, такие обычные для этих лет, когда война усилила до предела тяготы трудящихся.
Наконец врезанная в ворота калитка отворилась, и однорукий страж в поношенной одежде тюремного ведомства стал по списку выкликать фамилии. Список был длинный, после одних фамилий произносилось короткое «отказано!», и за этим в толпе следовало горестное восклицание, подавленное рыдание, и кто-то выходил из толпы и удалялся нетвердыми шагами. И в конце концов в ворота влилась редкая цепочка женщин, среди которых и Клара со своими узлами.
Когда по ту сторону частой проволочной сетки возникла маленькая, тоненькая фигурка, Клара на мгновение растеряла все приготовленные слова. Она поймала взгляд Розы со сложным выражением радости от этого свидания, и иронии по адресу ситуации, и нетерпения все как можно яснее и полнее высказать в краткие минуты, отмеренные им.
И Кларе передались Розины спокойствие и деловитость. Она поспешно заговорила о всяких домашних делах, вкрапливая в свою речь деловые вопросы, которые Роза схватывала на лету.
— Возьми в чистке на Шпиттельмаркт, пять, мое голубое платье. Спроси там Эльзу, — кричала Роза через сетку, и Клара запоминала адрес «Эльзы», с которой ей надо было связаться.
— Напиши Гюнтеру, где я. Он, наверное, беспокоится. Пусть тетя Хильда пришлет мне теплые носки, съезди к ней на Бауернплац…
Роза давала быстрые наставления, и Клара кивком и улыбкой показывала, что да, все поняла, все сделает. И у них не хватило даже времени обменяться теми словами нежности, дружбы и опасений, которые безмолвно выражали их глаза.
И только когда, прощально взмахнув рукой, Роза исчезла за хлопнувшей на блоке дверью, Клара поняла, что хрупкая Розина фигурка за частой черной проволокой напомнила пойманную рыбу, бьющуюся в сети. Клара ушла, подавленная этим скорбным видением, но у нее вовсе не было времени предаваться своим тягостным мыслям; она должна была поскорее расшифровать и записать то, что услышала от Розы.
Глава 3
Клара продолжала думать о Розе в вагоне скорого поезда, когда, наконец, после всяких волнений и суеты очутилась в тишине пустого купе: военная пора не располагала людей к дальним путешествиям. К тому же гражданские поезда ходили отвратительно: то и дело их отводили на запасные пути, уступая дорогу воинским эшелонам. Расписание превратилось в пустую фикцию в кожаном переплете…
Клара ехала в Амстердам, чтобы там развернуть работу по подготовке конференции. Она мысленно перебирала адреса деятельниц женского движения, с которыми надо списаться, сговориться по телефону или встретиться.
Проводник, мужчина непризывного возраста, в потрепанном кителе, отодвинул дверь купе:
— В вагоне холодновато? Что поделаешь: топим одной угольной пылью.
— Да, холодно… Солдатам в окопах еще холоднее. Теперь тепло только во дворцах.
Дверь поспешно задвинули, и Клара снова погрузилась в свои мысли. Роза… как она выдержит тюрьму? Тогда, в 1905-м, когда была разгромлена русская революция, Розу схватили в Польше. Она отправилась туда нелегально, с чужим паспортом. Ее засадили в знаменитый Десятый павильон, где она пережила страшные месяцы. Тогда они, немецкие социал-демократы, подняли кампанию за ее освобождение и добились его. Розу выпустили под залог, крупную сумму, которую удалось собрать. Роза вышла совсем больной… Но оправилась. Тогда она была моложе, много моложе. Что будет с ней сейчас? Клара знала твердость ее духа, но годы и болезни… Шум в коридоре вернул Клару к действительности. Она отодвинула дверь: двое жандармов тащили молодого человека, который, собственно, и не сопротивлялся, а только бессмысленно повторял:
— Это ошибка! Уверяю вас, это ошибка! — На его лице был написан подлинный ужас.
— Еще одного дезертира поймали! — объяснил Кларе стоящий у окна пожилой толстяк, вынув изо рта сигару. — Не стоит беспокоиться. Далеко изволите ехать?
— Далеко, — сухо ответила Клара и притворила дверь. Лицо, сведенное гримасой страха, еще стояло перед глазами.
«Человек не должен бояться. Это ужасно, что люди все время чего-нибудь да боятся. Мы боремся за мир, из которого будет изгнан страх», — подумала она. И сразу вспомнила, что у нее самой сейчас веские причины для опасений: она получила разрешение на выезд из страны, но это еще не гарантия, ее могут вернуть с границы. Честно говоря, удивительно, что ее выпустили. Товарищи предполагали, что просто в сутолоке войны дело решило некомпетентное лицо. Вполне возможно, позже где-то кто-то спохватится: «Нет, не за добром в 1915 году пресловутая Клара Цеткин отправляется за границу».
Ей вдруг стало неуютно здесь. В купе стоял прочный запах кожи и дезинфекции — это был запах войны. В протяжном реве за окном чудилось что-то дикое, словно это был не обычный паровозный гудок, а волчий вой.
В дверь постучали. «Войдите!» — крикнула Клара, но никто не вошел. «Вероятно, ошибка, — решила она, — спутали купе».
Становилось уже темно, но ей не хотелось света: глаза отдыхали в непрочной тьме, то и дело пронизываемой светом фонарей маленьких станций, где скорый поезд лишь замедлял ход. Но и здесь о войне напоминали черный палец, указывающий дорогу к дежурному по гарнизону или к пункту сбора, и бесчисленные надписи: «Только для офицеров», «Низшим чинам воспрещается». Формула «Только для господ» продолжала действовать.
Гудок паровоза в отдалении нарастал, приближался и потонул в грохоте встречного поезда.
Приникнув к стеклу, Клара различала платформы с укрытыми брезентом орудиями, огромными, как слоны с вытянутыми хоботами; товарные вагоны, в оконца которых были выведены железные трубы. И она живо представила себе людей в шинелях, сгрудившихся вокруг печки там, внутри. Их скованность, растерянность, тоску, недоумение или ярость. Ведь те, кого везут, отнюдь не преисполнены энтузиазма, и смерть за кайзера не представляется им воротами в рай, как твердят полковые попы…
В трудных раздумьях Клара подводила итоги последних лет. Что сделано, чтобы предотвратить войну? И сделано ли все возможное? Как пророчески тогда, восемь лет назад, в Штутгарте, прозвучал голос предостережения, голос, зовущий всех честных социалистов встать стеной против грабительских войн.
Что было потом? Она много ездила. Это были агитационные поездки, время на них она вырывала у «Равенства». Да, всегда на колесах. Она не могла бы перечислить все города и городки, деревни и поселки, в которых побывала. Отчетливо вставал перед ней деревенский трактир, где с потухшими глиняными трубками в руках сидели крестьяне. Они слушали Кларину речь, согласно кивая головами: они-то знали, что такое война. Клара взывала к их здравому смыслу, к их классовой ненависти. Война — для князей. Для обладателей огромных поместий. Не для них фронтовой цвет — хаки. Для них — блестящие кивера и развевающиеся султаны. Зачем человеку, возделывающему землю, белый султан или золотые аксельбанты? Это утехи господ. Но крестьянину война несет лишь смерть и голод. «Крестьянин ревностным трудом всечасно наполняет свой амбар; солдаты же его опустошают! Меч разорил империю дотла, и только плуг ее обогатит…» — Клара воодушевленно произносит эти строки.
Она видит себя в рабочем кафе и просто в пролете цеха, в каком-нибудь углу, где рабочие собрались в обеденный час, жертвуя коротким отдыхом и чашкой горячего кофе, чтобы послушать «нашу Клару». Клару, которая состарилась вместе с ними, знала их повседневную жизнь как свою, а теперь призывала их — поднимитесь во весь рост и скажите полным голосом: «Мы против войны, мы не пойдем в окопы. И не станем работать на войну». Если каждый скажет «нет» — правители поневоле задумаются, прежде чем начать бойню.
Ее слушали в казармах молодые солдаты и матросы. Их глаза широко открывались, потому что это было первое слово протеста, подсказанное им. Против войны, к которой их готовили. Для чего им уменье стрелять и окапываться, рубить саблей и колоть штыком? Чтобы убивать своих братьев! Сделают ли их жизнь легче завоевания, которые обещает кайзер?
Ее слушали студенты и учителя, и она говорила им: война — это гибель и духовных ценностей, угроза цивилизации. Не их ли священный долг открывать глаза народу на истинные цели войны, глубоко запрятанные под лесом знамен и штандартов, заглушенные литаврами оркестров и кликами ликования.
Клара учила коллективно, массово выражать свой протест. Собираться в колонны и выходить на площади под красными знаменами. Она учила «летучей» агитации против войны: в рабочих кнайпах за кружкой пива, в искренней дружеской беседе, в мимолетном обмене репликами у станков.
Учила срывать военные поставки, военные заказы. Срывать подготовку войны словом, действием, всеми силами. А ее «Равенство», ее газета? Она тоже ложилась перед ней нескончаемой лентой газетных листов. Газета помогала распознавать фальшь ура-патриотических воплей, разоблачать шовинистов. Святое слово — патриотизм, писала Клара, имущие классы накрепко привязали к своим интересам. А свой голос они отождествляют с голосом родины. Так кто же, в самом деле, должен от имени отчизны решать: быть миру или войне? Крупп и Кирдорф, которые ждут от войны новых прибылей? Или миллионы пролетариев, которым отвратительны грабеж и покорение других народов?
«Равенство» убеждало, звало, раскрывало злодеяния господствующих классов: от уловок какого-нибудь мелкого хозяйчика до преступлений в государственном масштабе.
Еще за два года до войны, когда уже ясной становилась расстановка сил империализма, Клара писала, что Европа похожа на арену, где государства беснуются, взрывая песок, словно рычащие, скалящие зубы звери. Выжидая момент, чтобы кинуться друг на друга, вырвать добычу. И это цивилизованный мир!
А международные форумы? Ведь решения их всегда были повернуты своим острием против войны, и когда она, Клара, предложила на Копенгагенской конференции женщин учредить Международный женский день Восьмое марта и это было принято с таким ликованием и энтузиазмом, — и тут был замысел: проводить этот день под знаком борьбы за мир.
А Базель? С какой горечью вспоминает теперь Клара дни Базельского конгресса Второго Интернационала. Чрезвычайного конгресса. Собравшегося именно ввиду приближающейся угрозы войны.
А ведь это был еще 1912 год. Ноябрь 1912 года. И она так хорошо помнит стены древнего собора, готически заостренные, рвущиеся ввысь, и сумрак и протяженность каждого звука под каменными сводами, и благородную темную окраску дерева, перемежающуюся с золотом канделябров.
И видит себя поднимающейся на трибуну. О чем она говорила тогда? О преступлении, которое готово совершиться, о преступлении, замышленном и организуемом извечным их общим врагом — империализмом. Об отпоре, о предупреждении беды. И о том, что для этого не надо жалеть себя.
Она обращалась к конгрессу от имени женщин-социалисток всех стран. От имени женщин — хранительниц и продолжательниц жизни приветствовала конгресс, объявивший начало крестового похода против войны. Она и сейчас помнит текст Манифеста конгресса и про себя повторяет точные строки о том, что рабочие будут считать преступлением войну ради интересов капиталистов! И вот теперь в это преступление втянуты миллионы рабочих.
Клара шла в колонне демонстрантов, овеваемой множеством красных знамен, под гул колоколов, под бой барабанов, ощущая необычную, тревожную атмосферу этого нескончаемого шествия.
«Ты уже немолода, — говорила себе Клара, — уже столько лет реют над твоей головой наши старые боевые знамена. И твои друзья состарились. Август Бебель! Над твоей седой головой пронеслись годы и беды! И твой голос услышат все, когда ты его возвысишь против войны».
И вот уже нет Бебеля. Он первый поднял женщину, распростертую перед алтарем или коленопреклоненную перед хозяевами жизни. Первый открыл ей мир борьбы.
«Жорес! Что ты скажешь сегодня своим гулким басом, знакомым всей Франции? Добрый великан с большой бородой волшебника, каждое твое слово ловят миллионы людей! Твой портрет висит на стенах миллионов французских домов!» — думала Клара тогда.
И вот Жан Жорес пал первой жертвой новой бойни, злодейская рука нанесла предательский удар из-за угла. Опустел веселый дом в Пасси, и вся Франция шла за гробом любимого сына народа…
Клара вспоминает толпы на набережной Рейна. Их всех объединяли слова гимна. Слова о грядущем великом бое, о победе, которая сметет с лица земли свору псов и палачей, о той единственной цели, ради которой стоит жить.
И все это было. Почему же оно потонуло в криках «Хох!», в медном громе оркестров, в пышных речах о «единстве нации» и «гражданском мире»? Да, именно здесь крылась первопричина. Оппортунизм проник так глубоко, в самое сердце партии. Его теоретики подбрасывали угодные хозяевам, удобные лозунги о «классовом мире во время войны», а практики спешили подкрепить их, гася в зародыше всякую искру протеста…
Вдруг перед ней встало перекошенное злобой лицо Фохта: она столкнулась с ним как-то на фабричном дворе. Только что закончился митинг в красильном цехе, Фохт, несомненно, спешил туда, желая лично прекратить опасное сборище. О, теперь он делает это лично! А когда-то опасался, как огня, любого закутка, где собиралось больше десятка рабочих. Сейчас от него так и пышет самодовольством, оно окутывает его тучную фигуру с головы до пят, от меховой шапки до суконных ботиков. «Вы опоздали, господин Фохт: митинг окончен». — «Вы не имели права, фрау Цеткин. Вы ответите за неправомерные действия! Собрание не было зарегистрировано». — «Можете зарегистрировать мой кукиш!» — раздается позади чей-то озорной голос. Почему запомнилось? Почему что-то новое и опасное почудилось в раздобревшей фигуре Фохта? Фохта, которого она так давно знает. И никогда его ни во что не ставила.
И сразу выплывает другое лицо. Даже не лицо, а нос. Острый, будто что-то вынюхивающий. «Мы идем навстречу новой эре. Эре сотрудничества труда и капитала»…Философствующий полицейский. Модернизированный жандарм. Знамение времени!
Она отгоняет эти видения. Ей хочется вспомнить что-нибудь отрадное. И воспоминание приходит.
Приходит в образе старого человека с молодыми глазами. Хотя они до краев наполнены усталостью и цвет их поблек, что-то неожиданно молодое просверкивает за стеклами пенсне, когда он наклоняется к ней:
— Увидишь, Клара, тяжелые времена пройдут. Нельзя оболванить целый народ. Главное: не сдаваться. Нас недаром зовут горсточкой стойких. Этим можно гордиться…
Франц Меринг! Кларе делается теплее на душе, когда она думает о нем. Может быть, из своих многолетних занятий наукой он извлек эту способность при всех обстоятельствах сохранять спокойствие. Когда стало известно о том, что Либкнехт вместе с социал-шовинистами поднял руку за военные кредиты, все просто кипели: и Роза, и Лео Йогихес, и Дункер. Но Меринг покачал раздумчиво седой головой и сказал: «Не будем спешить. Надо послушать самого Карла». — «Вот как! — закричала Роза. — Значит, есть моменты, когда оправдывается измена?» — «Нет, есть моменты, когда надо точно знать, измена ли это».
Как часто тихий и вразумительный голос Меринга охлаждал их запальчивость и нетерпимость!
Если бы ты сейчас оказался рядом, старый друг, мне не было бы так одиноко и в холодном купе повеяло бы теплом!
Клара остро ощутила свое одиночество, всю непрочность плана, построенного ими, казалось, так расчетливо и наверняка. Частое мелькание фонарей напоминало о близости границы. Вот здесь, при контроле паспортов, ее задержат… Но если даже этого не произойдет, то есть ли основания думать, что конгресс соберется? То, что недавно казалось достижимым и близким — вдруг отодвинулось, исчезло, растаяло в сумраке этого неприютного угла. И она попыталась стряхнуть с себя подавленность, слабость.
Снова раздался робкий и словно бы поспешный стук в дверь.
— Да войдите же, наконец!
Дверь отодвинули и тотчас прикрыли за собой.
— Извините меня за вторжение. Но я узнала вас. И подумала, что, может быть, вам нужна будет моя помощь.
— Почему же мы сидим в потемках? Вот так. Теперь я могу рассмотреть вас…
Молодая женщина. Скромно одетая. Похожа на учительницу: есть какие-то приметы этой профессии, может быть, педантичная аккуратность в одежде. Или эта манера держаться: сдержанная, но не стеснительная.
Взгляд голубых глаз из-под темно-русой челки такой нежный и немного любопытный. Она не худышка. Напротив, пожалуй, коренаста.
Как удивительно, что именно в такой миг рядом оказалось это милое молодое существо!
— Кто вы, дитя мое?
Девушка, возможно, вообще-то не болтлива, но необычность обстановки и такой встречи…
Она — немка, но родилась в Амстердаме. Служила гувернанткой в доме богатого промышленника под Берлином.
Как странно! Эта девушка похожа на нее, Клару. И не только внешне, но и — судьбой. Словно ее молодость уселась тут на кончик дивана, сунув руки в беличью муфточку.
— У меня был жених. Он убит. Теперь я решила вернуться на родину.
— Как вас зовут?
— Анна Майнеке.
— Почему вы решили предложить мне свою помощь?
— Потому что я слышала ваши выступления против войны. И подумала: раз вы в такую пору собрались ехать так далеко, то наверное — по важному делу. А что может быть сейчас важнее протеста против войны?
Анна говорила так искренне. Эта молодая жизнь, уже надломленная войной, внесла сюда как бы напоминание, как бы заверение: «Ты еще нужна нам, Клара! И твои усилия — тоже!» Как она сказала: «Что может быть сейчас важнее?» И в глазах у нее промелькнуло то выражение, которое часто ловила Клара на лицах, обращенных к ней: доверия, надежды. «Да, в тебе ищут опору. В тебе привыкли находить частицу большой силы. На тебя падает свет высокой идеи. Идеи, которая так много лет владеет столь многими людьми и все же так тяжело пробивает себе путь».
Простая эта мысль высветилась из хаоса перебивчивых, разорванных воспоминаний и, раз уж вырвавшись, она держала Клару на волне вновь обретенной уверенности.
— Вы сможете мне помочь, Анна. В том случае, если у меня будут затруднения на границе… Нет, не волнуйтесь: мои документы в порядке. Но все может случиться. Постарайтесь быть поблизости от меня, когда будут возвращать паспорта после контроля. Если паспорт мне не вернут… Тогда по ту сторону границы опустите в ящик письмо, которое я вам дам. Если все будет благополучно, вы мне его вернете, когда переедем границу.
— Сделаю это с радостью.
Клара вдруг вспомнила, что ничего не ела с самого отъезда. Матильда приготовила ей всякую снедь на дорогу.
— Мы сейчас поужинаем с вами, Анна.
Клара снова была бодра и деятельна. Она написала несколько строк, условно, намеками, сообщающих, что ее вернули с границы. Клара адресовала их голландской подруге. Но теперь, когда письмо было написано и Анна ушла с ним, очень довольная поручением, всякие опасения оставили Клару. В самом деле: ее документы в полном порядке, паспорт пестрит штампами и печатями. Мало ли что могло ей почудиться в одиночестве и темноте!
В Берне разгар весны, необыкновенно яркой и пахучей. Сам этот город в зеленой долине, омываемой с трех сторон широко разлившейся Аарой, с видом на Альпы, как будто вопиет: «Люди, прекратите бессмысленное уничтожение друг друга! Солдаты, вонзайте в землю штыки!»
То, что здесь собрались делегатки воюющих стран, оказалось особенно важным и определило настроение всей конференции.
Клара была довольна ходом ее. Здесь социалистки почти всех стран Европы. И они все единодушно подписались под Манифестом, призывающим всех женщин мира добиваться окончания войны. Но это не только призыв: Манифест говорит о мире без аннексий, закрепляющем права народов на независимость.
Русские делегатки, однако, вносят свой проект резолюции. Они идут дальше, чем большинство делегаток. Они ясно показывают — «Вот враг!». В глубине души Клара согласна с ними. Но эта резкость оттолкнет большинство…
Решения и Манифест были приняты с таким единодушием. Почему же русские социал-демократии разошлись с большинством? Клара силится это понять. Она так упоена успехом. Но позиция русских мешает ей ликовать. И она ждет открытого разговора, откровенных высказываний. Кларе хочется глубже понять русских делегаток, встретиться глаза в глаза со скромной, располагающей к себе какой-то тихой, неброской привлекательностью Надеждой Крупской и Инессой Арманд, внешне полной ее противоположностью: красивой, стремительной в речи и в движениях, страстным оратором…
Они встречаются в рабочем кафе, по-человечески и по-женски радуясь этой встрече и остро ощущая значение ее: их страны воюют между собой, но это не их война, их братство нерушимо!
Но Клара не хочет обходить острые углы.
— Дорогие мои! Ваше мнение для меня дорого. И, по совести говоря, то, что вы не согласны с большинством, не дает мне торжествовать. Ведь основное все же сказано нашей конференцией!
— Оно сказано, Клара, но не так, как надо бы… — говорит Инесса. Ее глаза полны дружелюбия, но слова произносятся твердо. И Клара ясно ощущает, что в них не только собственная убежденность, но влияние могучего ума Ленина. И это больше всего волнует Клару: она знает, что Ленин пристально следит за работой конференции.
Крупская добавляет своим негромким голосом:
— В решениях конференции есть элемент маневрирования. В ней нет прямых оценок оппортунизма.
Клара шумно вздыхает, отирает платком лоб. Эта Надежда Крупская умеет в самую деликатную форму облечь самый суровый упрек. «Маневрирование»! Да, в решениях и в Манифесте конференции нет таких жестких слов, как «черная измена», «предательство». Нет категорических, императивных требований порвать с буржуазными правительствами! Нет слов, которые казнили бы шовинистов, растоптавших решения Интернационала и самый дух его.
— Да, таких слов, которые были сказаны в Штутгарте и Базеле, — таких слов в нашей резолюции, в нашем Манифесте нет, — решительно произносит Клара и вглядывается в лица соратниц, — но если бы эти слова были сказаны, мы испугали бы многих.
Клара нетерпеливо ждет ответа: разве ее доводы не логичны, не основательны? Небольшая пауза, возникшая после вопроса, томит Клару, она нервно барабанит пальцами по столу, переводя взгляд с одной собеседницы на другую.
И вдруг Надежда Крупская произносит:
— Вот вы и признали, Клара, этот момент маневрирования!
Клара взрывается:
— Допустим. Но во имя чего? Во имя достижения единства.
— Не надо делать фетиш из единства, — отвечает Крупская. В ее тоне твердость, и — странно! — она не входит в противоречие со всем ее обликом — воплощенной деликатности!
— Нет, положительно, у вас особый склад ума! — восклицает Клара. — Вы не хотите успокоиться на том немалом, что уже сделано! Разве это не огромно, не значительно, наше общее — общее! — обращение к миру?
— Что вы, Клара! Мы не преуменьшаем значения самого события! Самого факта такого представительного собрания женщин всех стран. Но, согласитесь, что в документах конференции должен был найти место отпор шовинистам. Во весь голос сказать, что мы о них думаем! — говорит Инесса.
В чем-то они правы. И признание этого отравляет Кларе ее в общем-то триумфальное возвращение. Как-никак, но интернациональная женская конференция состоялась!
Друзья были озабочены состоянием Клары: ее болезнь, тяжкие приступы лихорадки, усугубляла стойкая бессонница. Длинные ночи без сна обострили ее черты, иссушили кожу, одни глаза блестели на изможденном лице.
— Тебе надо отдохнуть, будни нашего «Равенства» стали такими хлопотными… Как никогда, — говорила Кете, сидя у постели Клары. — Я принесла тебе ворох почты, но, право, лучше я сама с ней расправлюсь.
— Нет. Меня только и поддерживает работа.
— И письма, — добавила Кете, увидев в руках Клары квадратик фронтового письма.
— Письма? Не знаю. Понимаю умом, что сын — военный врач, на позициях. Значит, в опасности. Каждой матери чудится, что жерла всех орудий нацелены на их сыновей. Иногда является надежда: а вдруг он все же не в самом пекле! Приходят письма, в них нет того, чего я жду: живого слова. Где он? Здоров ли? Сыт ли? А тут еще цензура. Мне всегда кажется, что именно там, под жирной черной полосой, те слова, которые мне необходимы. Тревожусь и за Розу: все еще в тюрьме. Хрупкая, больная.
— Зато у меня новость о Карле! — объявляет Кете.
С тех пор как Либкнехта отправили с рабочим батальоном на фронт, Клара о нем ничего не знала. И вот Кете принесла радостную весть: Карл жив, энергично работает. Он удивительно применился к обстановке, его речи к солдатам передаются из уст в уста. Они напечатаны нелегально и распространяются в войсках.
— Подумай, в окопах солдатские руки хватают листовки с речами Карла! Я представляю себе их воздействие. Там, на фронте. Где человек каждый миг может погибнуть. И ему показывают всю бессмысленность этой гибели.
Клара поправлялась медленно и трудно. К ней возвращались ее обычные энергия и оптимизм. Манифест Бернской конференции был запрещен оппортунистическим руководством партии. Но его удавалось распространять несмотря на запрет. Он стал популярен среди рабочих: одно то, что женщины воюющих стран собрались вместе и держали совет, внушало большие надежды.
Теперь рядом с легальной работой, выпуском газеты, открытыми собраниями — шла другая, подпольная. Нелегально печатались листовки. В них говорилось то, что нельзя было сказать на страницах «Равенства».
Роза присылала бодрые письма: как-то она сказала, что труд, который тебя захватывает целиком, и есть полное наслаждение жизнью. Такой труд над новой книгой и в стенах тюрьмы давал Розе радость.
Большой день был для Клары, когда она смогла вернуться в редакцию. С удовольствием она погрузилась в привычную атмосферу. Жизнь газеты с ее ежеминутными новостями снова захватила разнообразием каждодневных забот. Трудности с типографией: мастера ушли на фронт, газету печатают неопытные юнцы. С транспортом: последних лошадей увела война. С бумагой: война требует много бумаги, — чем больше у нас неудач на фронте, тем длиннее военные приказы…
И все же тираж «Равенства» растет, и все больше приверженцев у газеты. Это выводит из себя Фохта и компанию. Они ведь снова — «наверху», их верноподданнические позиции, их пресмыкательство поощряются оппортунистами из Правления партии…
После долгого и трудного дня Клара вернулась домой, в свою маленькую квартиру на окраине Штутгарта.
«Как томительны стены дома, когда лежишь в постели больная. И как они милы, когда, усталая, возвращаешься в них», — подумала Клара.
Но у входной двери раздался звонок. Предчувствие несчастья укололо Клару — она подумала о сыне. И тотчас успокоила себя: в эту пору не бывает известий с фронта! Может быть, нежданный гость, товарищ из Берлина? Она все еще была далека от истины, когда подходила к двери.
— Телеграмма, — ответил на ее вопрос мужской голос.
И теперь она уже поняла: что ж, этого можно было ожидать. Хотя, надо сознаться, она вовсе не ждала: просто ей некогда было вникать в опасности, грозящие ей лично.
Они вошли: трое, в мундирах, при оружии. Людвиг Тронке не упустил случая участвовать в таком спектакле. Сейчас он не кажется столь мелким: он приподнят значительностью своей роли.
— Скорблю, сударыня. Служба… — Тронке предъявляет ордер на обыск. Он продолжается недолго: трудно ожидать, что многоопытная партийная функционерка будет держать у себя на квартире компрометирующие документы.
— Еще более скорблю… Вот приказ об аресте.
Тюремная тишина никогда не бывает полной. Даже ночные звуки не дают забыть, что ты в тюрьме. Звон ключей, скрип половицы под ногами обутой в мягкие туфли надзирательницы, перекличка часовых, дальний бой курантов… Даже и одиночная камера не дает полного одиночества. Трижды в день откидывается форточка в двери, на нее ставится кружка с кипятком или миска с едой. И в это время Клара видит то одно, то другое человеческое лицо. Лицо женщины. Она уже знает, что их трое. Три надзирательницы сменяют друг друга. Каждый день одна из них выводит Клару на прогулку. Тюремная прогулка! Маленький двор для обитателей одиночек. Крупный булыжник внизу, кусочек неба вверху. Каменные стены кругом. Положенное время — двадцать минут надо быстро двигаться, глубоко дышать. Клара делает это и мысленно повторяет запомнившиеся строки:
В тюремной куртке через двор Прошел Он в первый раз, Легко ступая по камням, Шагал Он среди нас, Но никогда я не встречал Таких тоскливых глаз. Нет, не смотрел никто из нас С такой тоской в глазах На лоскуток голубизны В тюремных небесах, Где проплывают облака На легких парусах.Мозг Клары лихорадочно работает. Ей предъявлено тяжелое обвинение «в поступках, являющихся государственной изменой». Под это определение подводится распространение Манифеста Бернской конференции. Положение обостряется тем, что оппортунисты из руководства социал-демократической партии в своих циркулярах объявили распространенно Манифеста «вредным», а деятельность участниц Бернской конференции — непатриотической.
Клара заключена в тюрьму города Карлсруэ. Свидания запрещены. И переписка тоже. Тем настойчивее ищет Клара возможности связаться с волей.
Из трех надзирательниц она выбирает ту, что постарше. Седые волосы ее туго стянуты черной косынкой, как у монашенки, но в лице ее нет монашеской отрешенности: на нем мирские заботы, обычные, женские. Иногда глаза ее заплаканы. В такие дни она рассеяннее следит за Кларой, вышагивающей по тюремному двору и, забывшись, уводит ее с прогулки на несколько минут позже.
Клара научилась различать ее шаги, хотя они почти неслышны, когда надзирательница подходит к двери, и ее странно увеличенный глаз в круглом отверстии. Однажды Клара случайно услышала, как эту женщину кто-то назвал по имени. Значит, она — Эльза… Кларе показалось, что теперь она знает о ней почти все. Пора было рискнуть.
Ставя пустую кружку на откинутую форточку, вырезанную в двери, Клара на минуту задержалась.
— Что пишет ваш сын с фронта, фрау Эльза? — спросила она. Кларе не видно лица женщины. Только ее руку, взявшую кружку. Рука дрогнула. Ответа не было: форточка захлопнулась. Клара не повторила вопроса. Но на третий день, в дежурство Эльзы в форточке прошелестело:
— Он убит…
И на минуту горестный этот шепот заставил Клару забыть о том, что по ту сторону двери — тюремщица со связкой ключей у пояса. Клара слышала голос матери, потерявшей сына.
На следующий день Клара не взяла миску с едой. И отказалась от прогулки. Она не поднималась с койки. Ночью, в бреду, видела себя среди близких, ее сыновья были с ней, но — не взрослыми людьми, а мальчиками. И она звала их шутливыми и ласковыми словами, как в детстве. Когда она очнулась, в камере, где никогда не гасился свет, было почему-то темно, только окно смутно светлело серым квадратом, перечеркнутым толстой решеткой. «Значит, уже утро, — подумала Клара, — скоро проверка». Хотела подняться и не смогла…
Ключ в замке щелкнул, и вошла Эльза.
— Лежите. Вас переводят в тюремную больницу.
И добавила тише:
— Скажите, куда сообщить о вашей болезни.
Клара не знала, что весть об ее аресте облетела весь мир, что многочисленные рабочие собрания в Германии и за границей выносят резолюции с протестом против заключения в тюрьму старой и больной революционерки. Под давлением мировой общественности кайзеровская юстиция вынуждена была освободить Клару.
Но еще долго тяжелая болезнь не отпускала ее. Клара не смогла быть на конференции левых социал-демократов в Берлине. Но она приняла смелые и последовательные решения группы, назвавшей себя затем «Союзом Спартака».
После тюрьмы и тяжелой болезни Клара снова руководила «Равенством». Хотя издательством, в котором выходила газета, теперь заправляли правые, им не легко было убрать с этого поста такую авторитетную в массах деятельницу, как Клара Цеткин. Издательство лихорадочно искало предлога, чтобы устранить Клару от руководства газетой. И такой повод нашелся, когда в мае 1917 года она выступила в «Равенстве» со статьей в поддержку русской революции.
Трусливо уклонившись от прямого разговора с Кларой, «опекуны» газеты рассчитались с ней одним ударом, нанесенным из-за угла. Клара получила официальное уведомление о том, что она освобождается от работы. На отличной меловой бумаге с солидным готическим штампом. Они умеют облечь любую гадость в сверхприличную форму!
Клара сидит над этой бумагой, белой и блестящей, как могильная плита. Четверть века она руководила газетой, была ее редактором, автором и метранпажем. Все лучшее, что ею написано, увидело свет на страницах «Равенства». Она знала сотни читательниц газеты, одних — лично, других — по письмам. Ей были так близки их заботы и радости. Разлучить ее с газетой, которой отдано двадцать пять лет жизни!
Оппортунисты готовили удар долго. Они замахивались на нее не раз. Всегда прятались от прямого слова правды, честный разговор с читателем приводил их в смятение! Вы победили, господа. На данном этапе — не более!
Клара обводит глазами скромный кабинет: с этой минуты она чужая здесь!
И уходит. Но почему-то направляется не домой, а поднимается в гору. Туда, где одинокая скамейка стоит под деревом. Ты постарела, бедная ольха! Ствол твой согнулся, и ветки поредели на подветренной стороне. И крона округлилась с годами. Здесь, на вершине, ты одна встречаешь порывы зимнего ветра, и снежные бури, и летние ливни. Сейчас лето, и твои темно-зеленые листья широки и блестящи. Они так скромны, с неброско выраженными зубцами и тонкими прожилками. Они похожи на доверчиво протянутую ладонь, на которой ясно читаются линии судьбы: горести и счастье. И длинная-длинная линия жизни…
Как всегда, жизнь приносила и печали, и радости. Однажды в дом Клары вошел старый друг, вырвавшийся из стен тюрьмы. Франц Меринг, тяжело больной, еще не оправившийся после заключения, мечтал не об отдыхе, а о работе в партии.
— Сейчас так тяжело, Франц. Нас опять только горсточка.
— Зато расширилось наше влияние. И в тюрьму проникали вести о стачках. Даже на военных заводах. И когда я об этом слышал, передо мной вставала ты, Клара, наши друзья. «Союз Спартака» — не такая уж горсточка.
— Ты знаешь, как поступили со мной в издательстве?
— От них можно было ждать любого свинства, но, откровенно говоря, такое трудно было предположить. Ты не должна принимать это близко к сердцу.
— Что ты говоришь, Франц… — тихо произнесла Клара. Ему показалось, что она сейчас заплачет. Это было ужасно. Он забыл, что перед ним шестидесятилетняя женщина, знающая жизнь и все ее крутые повороты. Что теперь уже оба ее сына на фронте и она трепещет за их жизнь. Что она ведет агитацию против войны в самой гуще рабочих и на военных заводах тоже, каждый день рискуя свободой и даже жизнью. Что лучшие ее друзья все еще в стенах тюрем. Он глядел на ее гладко причесанную голову, в глаза, в потускневшей голубизне которых читал жалобу. Она нуждалась в дружбе, в утешении, в словах, которые, вероятно, произносила сама про себя. Но надо было, чтобы их сказал ей друг…
И он сказал ей эти слова.
Слова о том, что путь, который она прошла, никто отнять у нее не может, его нельзя отобрать вместе с редакторским креслом. Четверть века ушли ведь не попусту. Не на ветер брошены ее силы, ее талант, ее темперамент! Сколько молодой буйной поросли выросло вокруг газеты стараниями Клары. Какие люди поднялись! Какой памятник ты себе воздвигла, Клара, двадцатипятилетней подшивкой «Равенства»! Меринг по-настоящему воодушевился. Он добился своего: Клара улыбнулась.
— Я получаю вороха писем, Франц, от читателей «Равенства». Похоже, что они не забывают меня.
— Ни тебя, ни твоих уроков, Клара.
Клара приняла предложение редактировать «Приложение для женщин» в «Лейпцигской народной газете».
И пришел самый значительный и счастливый день в жизни Клары. Известие о победе пролетариата в России в октябре 1917 года спартаковцы восприняли как свою кровную победу. Клара немедленно встала на защиту русской революции от «аптекарей от социализма», которые взвешивали на аптекарских весах прочность победы в России.
Известия из России вдохновили «непоколебимых» — так звали в народе спартаковцев.
Власти вынуждены были освободить из тюрьмы Карла Либкнехта и Розу Люксембург.
Третьего ноября 1918 года матросы Киля подняли флаг восстания. Это было началом германской революции: недолгой, преданной соглашателями и утопленной в крови лучших людей страны.
В эти дни Клара, тяжело больная, лежала в своем доме под Штутгартом. Она смогла еще подписать обращение спартаковцев к пролетариям мира, порадоваться вестям от Розы из Берлина.
Но болезнь осложнялась: редкие просветы были заполнены тревогой за друзей. Сведения о наступлении реакции доходили до Силленбуха, где лежала больная Клара. Только Эмма Тагер была с ней.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Глава 1
Тем господам, которые сидели здесь, в ставке Тренера в Далеме, все уже было ясно. Кончилось время разговоров, и они их прекратили. Пришло время действовать, и они действовали. Военное совещание в Далеме было военным совещанием. Несмотря на то, что блеск мундиров оттенялся черными сюртуками и визитками. Эти штатские господа были столь же верными режиму, как и военные. Да, их присутствие здесь, в Далеме, было закономерно. И более того, именно оно подчеркивало особенность момента. Момента, решающего судьбу Германии.
Поэтому увешанные орденами генералы, с трудом приводя в движение шеи, стянутые твердыми расшитыми воротниками, прислушивались к лаконичным препозициям господ в штатском: к голосу прославленной немецкой индустрии. Голосу магнатов, руководителей концернов, головки германских промышленников, держащих в руках ключ военного потенциала страны. Людей дела, подобных, скажем, Уве Нойфигу, который, хоть ушел в отставку всего-навсего полковником, но делает на своих заводах намного больше для отечества, чем если бы он командовал армией. Не хватая звезд с неба на поприще чисто военном, он проявил себя как деятель военной индустрии и достоин сидеть здесь, в ставке, на узком совещании, где цвет государства решает вопрос «Быть или не быть». Быть или не быть великой Германии с ее правом (и перспективой!) на мировое владычество. И пусть даже не с кайзером на вершине, но с достойными правителями, ведущими страну именно туда, куда она уже устремилась, — к этому самому владычеству.
И если для того, чтобы покончить с хаосом революции и поднять на пьедестал сильную власть, нужно смешать «чистых с нечистыми», а социал-демократические лидеры, действительно, могут сыграть роль троянского коня, да будет так!
Собственно, этот процесс, процесс «приживления» к буковому дереву, символу крепкой Германии, — беспокойной, но удивительно живучей поросли социал-демократизма, начался уже давно.
Есть великий смысл в том, что социал-демократ Носке, военный министр, присутствующий здесь, назначен главнокомандующим войсками, выступающими на штурм столицы, объятой революционным хаосом. Разгром мятежа руками социал-демократических главарей — этот удачный ход можно считать даже не столь тактическим, сколь стратегическим ходом, поскольку именно он призван решить не только исход данного боя, но и — всей кампании. И потому Носке, который выглядел бы нелепо в качестве полководца в обыкновенной войне, в этой — вполне на месте!
Интересно все-таки, что сам этот господин чувствует себя вполне в своей тарелке и ненавидит вчерашних соратников лютой ненавистью. Вот эта ненависть и должна быть солидным вкладом в дело подавления смуты!
Слова Носке, сказанные им при назначении его на пост главнокомандующего, уже передаются из уст в уста словно бог весть какая мудрая сентенция. Такую фразу никогда бы не пустил гулять по свету настоящий полководец. Только Носке может сам себя назвать «кровавой собакой», этот Наполеон от социал-демократии, этот «социалистический Тьер»! Но вполне возможно, что эти слова войдут в историю вместе с самим Носке. Сколь он ни ничтожен сам по себе, но успешное подавление мятежа возвысит его имя.
Так думали одни из генералов, ворочая толстыми шеями в расшитых воротниках.
Другие заходили в своих мыслях несколько дальше:
— Что такое разведка? Посланец в стан врага. Войсковой разведчик идет с оружием и в форме своей армии, агентурный — принимает чужую личину, оружия не применяет, вживается в неприятельский лагерь. Естественно, что в этом качестве наиболее желателен человек, которому и вживаться не надо, он сам — из этого лагеря. Но работает на другую сторону. Кто сказал, что в войне общественных формаций — они их называют «классами» — не действуют законы обычной войны?! Прекрасно действуют. И эти Носке, они десятилетиями играли роль лазутчиков. И тем ценны. А теперь, когда пришел час выступить без забрала, Носке не оплошал. И молодец.
Что ж, эпоха вносит свои новации. Одна из них — этот самый «слоеный пирог», в котором добротная немецкая сдоба переложена тонким слоем социал-демократического повидла.
Генерал Тренер больше, чем другие, импонировал Уве Нойфигу. Тренер не тратит лишних слов, особенно когда речь идет о красных:
— Топить, томить, пока слепые! Вырастут — перегрызут нам горло!
Остальных собравшихся здесь Уве Нойфиг глубоко презирал.
Если бы не мягкотелость этих старых вояк — «Спартак» существовал бы лишь в мечтаниях красных! К тому же они слишком доверяют старой лисе Эберту: лиса предала своих, предаст и нас.
Нойфиг знал, что Тренер заручился согласием Эберта на ввод в Берлин верных кайзеру войск. Естественно, что рейхсканцлер дал такое согласие: у него самого поджилки трясутся, — вчерашние друзья не простят ему измены… И действительно, рейхсканцлеровское кресло — тоже не пустяк! Но было, противно сознавать, что типы, подобные Эберту, в какой-то мере твои хозяева. Уве Нойфиг готов был жизнь отдать за кайзера, за Германию. Но причем тут Эберт?
«Топите, пока слепые!» — в этом генерал прав. Уве кожей чувствовал опасность фанатиков, присвоивших себе имя Спартака, наверное, потому, что оно симпатично каждому еще со школьной скамьи. Они имеют подход к массам — этого от них не отнимешь!
Так размышлял Уве, чтобы скоротать время, пока генералы бубнят насчет «национального долга» и прочего. Все давно известно. Известно, что от них, промышленников, нужны деньги, без денег в наше время и щенка не утопишь. Но за наши деньги мы хотим покоя. Кто обеспечит нам этот покой и возможность расширять наши предприятия? Давать людям работу, а родине — опору и защиту? Да, защиту! В буквальном смысле слова. Сегодня алюминиевая посуда, завтра — оболочки для бомб!
В то утро Уве Нойфиг был разбужен шумом, доносившимся со стороны шоссе. Со сна ему показалось, что он снова на маневрах и слышит слитный шаг полка на марше, сливающийся с топотом коней артиллерийского дивизиона.
Он накинул халат и с биноклем в руках поднялся в мезонин. Отсюда шоссе было видно как на ладони. Во всю ширину его развернутым строем двигались войска. Видно было, что это последнее перестроение перед вступлением в столицу.
Расчехленные кайзеровские знамена реяли над колоннами. Заговорил барабан. Под его дробь в одну линию вытягивались ноги марширующих как на параде солдат.
Черт возьми! Это внушительное зрелище! Старая калоша кайзер может сидеть себе в Голландии, выращивать тюльпаны! Но он оставил им, новым силам отечества, неплохое наследство! Армия, вот на кого надо опереться! Разумеется, в сочетании с фалангами «добровольцев», с этими отчаянными головорезами, не обременными предрассудками парламентской эпохи.
Уве Нойфиг, несколько замедленно соображавший, чувствовал потребность в консультации своего друга Зеппа Лангеханса. Несмотря на то, что Зепп был старше его, он умел быстро разбираться что к чему. Прокурист крупнейшего концерна, в свое время женившийся на дочери своего патрона, Лангеханс, можно было бы сказать, достиг своего потолка. Можно бы, если делать отсчет с того времени, когда он был средней руки адвокатом и не имел ни гроша…
Но так как его друга не было и не могло быть на совещании в Далеме, Уве пытался сам взвесить известные ему факты.
Да, то, что в ставке уже было ясно, в трудолюбивом мозгу Уве еще складывалось одно к одному, складывалось начерно, не очень стройно. Господин Нойфиг воспринимал всякое новшество с чувством некоторого неудобства, как, скажем, новую, еще не обношенную одежду. И лишь в результате общения с другом не вполне освоенные мысли должны были приобрести удобство и привычность хотя и новых, но разношенных ботинок.
Уве Нойфиг припоминал все сказанное на военном совещании. Он считал слова Носке о «кровавой собаке» шокирующими, но поскольку их уже так разрекламировали, может быть, это именно та собака, которая, согласно старой немецкой поговорке, как раз здесь и зарыта…
В своем новом автомобиле французской марки, обращавшем на себя внимание модной низкой посадкой и легкомысленным цветом морской волны — прекрасная модель, можно презирать этих выскочек и кривляк французов, но нельзя отрицать, что автомобили их изящны, — Уве ехал на виллу Лангеханса.
Стояло морозное январское утро. В пригородах Берлина правительственные войска, выступившие по приказу главнокомандующего военного министра Носке, вели бои с рабочими отрядами.
Авангардные части, втянувшись в улицы окраин, перегороженных баррикадами, потеряли маневренность, продвижение их застопорилось. Тогда подтянули полевые орудия и минометы.
Баррикады сметались артиллерией, защитников их расстреливали тут же.
На улицах с неубранными трупами появились подростки в полувоенной одежде с ножами в чехлах у пояса. Они срывали революционные призывы и наклеивали листовки: «Смерть лидерам «Спартака»!», «Смерть Карлу Либкнехту и Розе Люксембург!».
Отряды «добровольцев» громили рабочие районы, убивали заподозренных, хватали всех, кто казался им подозрительным.
Несмотря на пропуск на стекле машины, Нойфига то и дело останавливали патрули, а на перекрестке его задержали на несколько часов воинские колонны, занявшие шоссе. Поэтому на виллу адвоката он прибыл уже под конец зимного дня.
Все окна «Лючии» были освещены, и привратник, распахнувший ворота, сообщил господину Нойфигу, что у хозяйки — малый прием. Раз у хозяйки, так это, конечно, всякая шушера: актеришки, художники. Нашла время для приема! Неприятную мысль о том, что его собственный брат и даже близнец Георг Нойфиг не только принадлежит к странному племени художников, но даже к какому-то «левому» крылу, Уве привычно отогнал. Платить штрафы, которые время от времени накладывались на Георга за нарушение всяких границ приличия в его «художествах», в смысле буквальном и переносном, — это все, что он мог сделать для брата. А впрочем, Георг никогда его ни о чем не просил и, как передавали Уве, отзывался о нем такими эпитетами, какими награждал его в начальных классах, когда Уве, стоя у доски, никак не мог разобрать подсказку брата.
Эти времена давно кончились. Уве прошел свой путь не без блеска. И без братниной подсказки. А чего достиг Георг?
Сомнительной популярности в берлинских кабаках? Говорят, что бумажные салфетки, разрисованные им, продаются любителям по баснословным ценам. Но мало ли причуд у так называемых меценатов!
Уве бегло взглянул на освещенные окна: жена Лангеханса, Лотта, примадонна небольшого берлинского театра, могла выдрючиваться сколько угодно, имея за спиной такого отца и мужа!
Уве прошел на половину хозяина и послал лакея сказать о своем приезде.
Опустившись в кресло, он с привычной завистью оглядел кабинет Зеппа. Ну конечно, Зепп — акционер процветающих компаний, но все же банковский счет его — тьфу! — рядом с его, Нойфига, счетом. Но как-то получалось, что юрист и живет шире, и слывет богачом, и все у него сверхмодное, все — новый век… Новый век, конечно, эти картины: Ренуар или кто он там — бледнолицые женщины с растрепанными волосами. А старинная мебель: красное дерево и штоф — это тоже новый век? И кто такой этот сосуд в рост человека — из глины, что ли? «Кто» — потому что ручка назойливо напоминает протянутую человеческую руку, а весь «экстерьер» — о боже! — фигуру беременной женщины. Уве вспоминает, что юрист с недавних времен стал интересоваться какими-то раскопками! Даже сплавал в Египет. Теперь мода на раскопки. Древние века — это тоже новый век? На этот век теперь сваливают все на свете: эпидемию инфлуэнцы и повышение цен на кофе, развращенность молодежи и обмеление рек, инфляцию и кризис абсолютизма. Все это якобы неотъемлемо от нового века! И такие, как Лангеханс, несмотря на возраст, вприпрыжку бегут за веком, словно молодой пудель за хозяином…
Аналогии Уве прервал приход адвоката.
Зепп выглядел неплохо: совершенно голый череп даже украшал его, усиливая сходство с Мефистофелем, которое он всячески подчеркивал. Рожки легко воображались над узким бледным лицом с сине-черными — «Не иначе, фиксатуар!» — подумал Уве — усами, кончики которых под прямым углом загибались кверху и заканчивались такими тонкими и острыми стрелками, словно юрист намеревался выколоть ими собственные глаза.
На нем был костюм из английской шерсти в крупную клетку. Брюки имели внизу широкие отвороты по моде, которая называлась «в Лондоне идет дождь», а короткий пиджак неприлично открывал заключенный в серо-красную клетку зад юриста. Вместо крахмального воротничка из ворота у Зеппа вылезала какая-то тряпка, впрочем, под цвет костюма. А часы он давно уже носил не при цепочке в кармане, а на запястье на кожаном ремне, словно монах, намотавший на себя четки.
— Ты слышал об Элькадо? — спросил с ходу, вбегая в кабинет, Лангеханс, словно Уве приехал к нему поздним вечером и в такое время исключительно затем, чтобы слушать, — даже не самого Элькадо, а разговоры о нем.
Лангеханс, привычным жестом опустив голову на руку, локтем опершись на колено, сидел в хорошо знакомой Уве позе Мефистофеля с известной скульптуры.
Теперь, когда Зепп обзавелся небольшим брюшком, она была ему не совсем удобна. Но он полагал, что запечатлев именно эту позу в памяти современников, подобно скрещенным на груди рукам Наполеона или отставленной ноге Фридриха Великого, он обязан делать усилие, которое требовалось, чтобы эдак согнуться пополам…
— Ты же знаешь, что я не интересуюсь музыкой, — буркнул Уве.
— Причем тут музыка? Элькадо — проповедник, удивительное существо! — Зепп закатил глаза. «За шестьдесят, а все те же фокусы, — завистливо подумал Уве, — нашел время заниматься проповедником! Впрочем, что он проповедует? Вселенское братство? Непротивление злу?»
— Понимаешь, он проповедует полное, ну абсолютное воздержание от мясной пищи! Колоссально! Рыба и молочные продукты — представляешь? Простокваша, простокваша и простокваша…
Зепп сделал движение рукой, как будто плавал в волнах молочных продуктов. Уве смотрел на него, болезненно сморщившись: «Посидел бы там, в Далеме, где речь шла о том, «быть или не быть». И чему быть? Хаосу революции или разумному порядку! Вмиг забыл бы про молочные продукты!»
Впрочем, едва Уве упомянул о Далеме, юриста словно подменили, он стянул шелковую тряпку с шеи, обнаружив нормальный воротничок, и сбросил куцый пиджачишко.
Теперь, в широких подтяжках, вышитых розочками, он выглядел обыкновенным старым немцем, каким, собственно, и был. А «лондонские» отвороты смотрелись просто как подвернутые ввиду плохой погоды штаны.
В одно мгновение, как он это умел, Лангеханс сделался как бы другим человеком, и этот человек наедине со своим другом растолковывал ему то одно, то другое, как первый ученик туповатому товарищу. С той разницей, что здесь именно тупица все знал, но не понял, а первый ученик ловил на лету смысл услышанного и тут же вкладывал его в голову друга. Разница заключалась еще в том, что предметом беседы был не бином Ньютона, а политическое положение Германии в январе 1919 года.
Для того чтобы оно предстало во всей его угрожающей ясности, следовало перебрать по косточкам события недавнего прошлого. В конце концов петля на шее революции затянута!
— И за то, что социал-демократы — трезвые социал-демократы, а не фанатики! — помогли нам сконструировать и закинуть эту петлю, это лассо, спасшее всех нас, нашу индустрию, нашу Германию, — низкий поклон всем Эбертам, Носке, Гаазе и иже с ними! — распинался адвокат. — Ты понимаешь, Уве, что, имея перед глазами пример России, наши крикуны — еще одна секундочка! — и могли бы сохранить Советы и никакой Эберт не спас бы нас от социальной революции.
— Откровенно говоря, я не совсем понимаю, — робко сказал Уве, — почему мы, немцы, должны равняться на Россию, отсталую страну, как известно, варварскую и…
Юрист всплеснул руками:
— Это же говорят нормальные немцы! Они и не равняются! Но пролетариям свойственна подражательность в этом деле. Уверяю тебя, она у них в крови. Или нет, вероятно, это особые флюиды, общие у всех наций. Флюиды единства! Да, именно так: незримые флюиды, просачивающиеся через границы… — Юрист пошевелил пальцами, как бы показывая «просачивание» флюидов.
Зеппа, как это бывало с ним, занесло, и Уве поспешил вернуть его к здравым размышлениям.
— Оставим философию, — взмолился Уве. — Я прекрасно помню, — это же было совсем недавно! — как удалось обезоружить Советы и сосредоточить всю власть в руках Эберта. Разве это не гарантия против будущих революций?
— Ах, Уве, не так давно Пастер подарил человечеству прививки против бешенства. Но прививку против революции вряд ли изобретут на нашем веку! А ты знаешь, какую опасность представляют для нас эти фанатики, эта новая партия, которая называет себя «Коммунистической», потому что в середине прошлого столетия Маркс ввел это слово и это понятие в нашу жизнь. Чтоб оно вечным жупелом стояло над нами! Вечным mene, tekel, fares[15]…
— Вечным — что? — растерянно спросил Уве.
— Ну, это роковые слова на стене во время пира Валтасара.
— О чем ты говоришь, Зепп? — воскликнул Уве, — причем тут Валтасар? В такой момент, когда вот-вот прольется немецкая кровь…
— Знаешь, Уве, немецкая кровь проливалась в таком количестве и по таким разнообразным поводам… Но послушай меня: что бы ни говорили там, в Далеме, — слушай мои слова: новая партия, назвавшая себя «Коммунистической» — это реальная угроза!
— Но, Зепп… — Нойфиг пытался унять адвоката, однако тот бегал по кабинету, ероша невидимую шевелюру на лысом черепе и сверкая глазами, словно модный гипнотизер Устрилло. И в таком трансе прервать Зеппа было просто невозможно.
— Не думай, что доктор Люксембург — безвредная дамочка, эрудированная в области экономики! — кричал Зепп, хотя Нойфиг и в мыслях не имел эту Люксембург.
— Не думай, что Карл Либкнехт — просто потомок своего маститого папы! А твоя наставница, твоя знаменитая Клара… Что сделало ее «нашей Кларой»? Что, если не безграничная демагогия и спекуляция на жизненно необходимых массам вещах?
— Зепп, остановись, прошу тебя! — отчаянно закричал Нойфиг. Он закричал так потому, что сейчас ясно вспомнил пункт в том решении, принятом в Далеме. В нем, правда, обтекаемо, говорилось: «Физическое уничтожение анархиствующих элементов, срывающих восстановление порядка». По этому пункту велись неофициальные переговоры. И упоминались имена этой самой Люксембург и Карла Либкнехта. И Уве не мог бы теперь сказать точно, но, вероятно, и Клары. Да, и Клары тоже… Нет, он не слыхал ничего про Клару, он готов присягнуть, что не слыхал! И тут совесть его может быть спокойна. И вообще, какое ему дело до «физических уничтожений»! Он — промышленник, а не завоеватель. Он и в отставку-то ушел всего лишь полковником.
Все это наконец удалось «вкричать» в Зеппа. И моментально отрезвить его. Лангеханс присел на штофное кресло, челюсть у него отвисла, руки затеребили несуществующие волосы еще более нервно.
— Значит… Значит, в рейхстаге проштампуют поворот на сто восемьдесят градусов? И во имя сохранения порядка… Да, да, — бормотал адвокат, — во имя будущего Германии — любые жертвы! Любые! — он засверкал глазами, потом закатил их и легонько порычал, словно пес над костью. — Уве! — сказал он сакраментальным шепотом. — Помяни мое слово: Германия стоит на пороге великих событий! Назревают силы, которые подымут нацию на своих могучих крыльях выше облаков жемчужных и алмазных россыпей звезд!
— Это, кажется, из Фрейлиграта, — рассеянно заметил Уве.
— Нет, это мой собственный образ, — неожиданно отрезвев, ответил юрист.
— А что же ты все-таки скажешь по существу предстоящего, Зепп?
— Волею судеб ты, Уве Нойфиг, стоишь в авангарде. В этом есть особый смысл, — заговорил юрист повышенным тоном, очевидно подражая проповеднику вегетарианства. — И стой! Положение таково, что Германию может спасти только беспощадное искоренение коммунизма. Он — у ворот отечества! — закричал Зепп, снова впадая в транс. — В руках безобидных на вид женщин — скрижали великой смуты! Под знаменами, обагренными кровью кайзера…
— Зепп, что ты?! Какой кровью? Кайзер ведь жив и невредим!
— Я выражаюсь метафорически, — спокойно пояснил Зепп и — без перехода, тем же тоном: — Пойдем на половину Лотты. Посмотришь, как проповедник ест салат из дерна с оливками.
Уве отказался смотреть, как проповедник ест дерн.
По плохой погоде он добрался домой только к полуночи. И всю дорогу его неприятно царапала мысль о том, что там, в ставке, где решался вопрос «Быть или не быть», все же упоминалось рядом с Либкнехтом и Розой имя Клары Цеткин.
Проводив Нойфига, адвокат и не подумал вернуться на половину жены, а опустился в кресло, на котором только что сидел его друг, и глубоко задумался.
Что следует предпринять? Не пришла ли пора службы одному хозяину? Нет и нет! Никаких гарантий. Все может измениться. А самое главное, он знал, как можно предупредить Клару о грозящей ей и ее друзьям опасности.
Это Уве Нойфиг ничего не знал о своем беспутном брате-художнике. А он, Лангеханс, знал, отлично знал, что Георг Нойфиг связан с этой новой, опасной партией. И даже больше: сын Георга Эрих беспрерывно мотается в Силленбух и обратно, и мальчишке доверяется многое. Лангеханс не хотел доверяться мальчишке, он должен поговорить с самим Георгом.
Несмотря на поздний час, адвокат сам вывел машину из гаража: это было слишком щекотливое дело, чтобы иметь свидетелем даже собственного шофера.
Лангеханс держал направление на Ванзее, где Георг после смерти жены устроил настоящую ночлежку. Вечно толкутся там эти «левые» художники. Их картины Лангеханс, конечно, покупает: они в моде. Но долго раздумывает, не повесил ли он их головой вниз!
Если Георг Нойфиг дома, он, несомненно, выслушает его. Несомненно. И конечно, пошлет сына к Кларе. Колоссально! И у Лангеханса будет солидный вклад в банке Возможного Случая. А Случай — капризный банкир: вдруг ты вознесешься в то время, когда все остальные загремят в пропасть.
Было же в России… В русском кабаке на Тауэнцинштрассе бегают же с подносами русские аристократы и гвардейские офицеры. А все потому, что вовремя не заручились вторым господином. Вот теперь им и выходит труба!
Чем ближе подъезжал Лангеханс к Ванзее, тем с большим удовольствием вдыхал он воздух, полный запахов зимней холодной воды, бензина и торфа. И тем легче становилось у него на душе. Ведь он поступает по совести! Уже старая женщина эта Клара! — он как-то всегда забывал, что они ровесники. И вполне порядочная. Уж он-то знал Клару! Он помнит, как сейчас, — она пришла к нему вместе с этим пройдохой, отцом Уве…
Даже самый закоренелый ее враг не может сказать о ней ничего дурного, кроме обычных обвинений: «фанатичка», «агент Москвы» и все такое. Так ведь теперь на это никто не клюнет. И те, кто решил загубить Клару, сами прекрасно понимают, что дело не в ней лично. Просто она давно стала одним целым с красным знаменем пролетариев. Приросла к его древку. Кто хочет затолкать в грязь знамя, тот подымет руку на знаменосца.
Он не одобряет всего этого. Нет. Он честно предупредит друзей Клары. А уж то, что ему это зачтется, — ну, само собой!
Его удивило, что в такое позднее время в доме Георга освещены все окна. Он знал, что художник работает по ночам, и ожидал увидеть свет в мастерской. Но все окна…
Механически он притормозил, не доезжая до поворотного круга.
— Эй, объезжайте! — услышал адвокат грубый голос. Голос исходил из «пикапа», стоящего под каштаном и так незаметно здесь расположившегося, что Лангеханс едва не наехал на него.
— А что тут происходит? — удивился адвокат.
Шофер вышел из кабины: это был верзила в зеленой грубошерстной куртке и плоской кепочке.
— Послушайте, если я пять минут назад сказал: «Объезжайте», то вам надо быть в пяти километрах отсюда.
От этих слов адвоката почему-то стала бить дрожь. Он пробормотал:
— Я совершенно случайно…
— Мне это до печки, — мрачно прервал верзила, — валите отсюда!
Лангеханс повиновался. Отъехав, он оглянулся и увидел, что двое в длинных кожаных пальто волокут под руки третьего. Даже не рассмотрев лица, Лангеханс уже знал, что схватили Георга.
Зепп дал газ и поехал обратно домой. Под свою крышу! Где, вполне возможно, еще сидит пророк и ест фальшивые котлеты.
Настроение у него несколько понизилось. Но с другой стороны… Глядя с другой стороны, так просто счастье, что он не оказался в такой момент в доме Георга Нойфига. И совесть его тоже была спокойна. Он пытался что-то сделать, чтобы предотвратить несчастье. Он хотел. И если не сделал этого, то не по своей вине: Георга схватили! Что же делать?! Все в конечном счете делается ad maiorem dei gloriam[16].
Привычная латынь успокоила его.
Глава 2
Ночью Клара не спала. Волнение ее все нарастало, а болезнь делала его непереносимым. Она слышала бой часов в кухне и как, на секунду запаздывая и словно торопясь догнать их, повторяют удары, только глуше и как бы с придыханием, большие часы в деревянном футляре, стоящие в столовой, справа от балконной двери.
И почему-то она не только слышала, но и видела, как они бьют там, в одиночестве, среди большой комнаты, в которой сейчас так пусто. Пуст раздвинутый на всю длину обеденный стол, который не складывали, точно ожидая, что он вдруг сам собой, словно скатерть-самобранка, окажется тесно уставленным всякой всячиной, как бывало в недавние дни. И старомодный буфет с резьбой на дверцах тоже, вероятно, стоит пустой: Эмма держит все необходимое в кухне. И стеклянная дверь в сад тоже ведет в пустоту, в пустоту обглоданного зимними ветрами сада, где любимая Кларина ольховая аллея сейчас тоже пустынна.
Часы одни жили в комнате. Клара видела, как путь поблескивает их стекло от скудного света, сочащегося в балконную дверь; как за ним смутно, смазанно, точно бледное человеческое лицо под газовым уличным фонарем, белеет циферблат; как мелко и мгновенно, одними кончиками, вздрагивают усы стрелок, черные, как бы нафиксатуаренные, будто застигнутые врасплох боем. В том, как плотно прижимаясь к циферблату, они шарили по нему там, в темноте, что-то напоминало насекомое, ползущее по сердцевине цветка.
Часы воспринимались Кларой как нечто враждебное. Конечно, она сейчас целиком зависела от них. От того, как быстро пройдет эта бесконечная ночь и настанет утро. И может быть, даже оно не принесет ясности, не положит конца ее беспокойству, нет — тревоге, нет — хуже: страху! Страху перед тем, что может случиться. Хуже, хуже! Перед тем, что, наверное, уже случилось. Возможное несчастье не имело в ее мыслях определенной формы, даже пунктиром не обозначалось еще, чтобы можно было противопоставить ему что-нибудь, хотя бы в воображении, как-то защититься от него. Оно было неотвратимо, как землетрясение.
Клара видела сбоку и неясно, только в боковую створку окна, как бесснежная зимняя ночь терзает молодые березки, высаженные у крыльца. Казалось, что их легкая стайка сейчас разлетится под порывом ветра. А оттого, что только и были видны слабые тонкие деревца, казалось, что во всем парке бушует и свирепствует, как хочет, жестокий вихрь, скатившийся с горных вершин.
Вихрь носит по парку какие-то темные фигуры. Или это ей чудится?
Она устала раздумывать, противопоставлять, собирать в памяти по колесику, по винтику все обстоятельства, из которых можно было бы сделать вывод о происходящем в Берлине. Центральные газеты не доставлялись уже пятый день, связь безмолвствовала. Но то последнее, что дошло сюда, в Силленбух, что привезла из Штутгарта сама совершенно измученная тревогой за сына Эмма, — это не успокаивало.
Циничная фраза Носке о «кровавой собаке» уже облетела страну. И в общем, было понятно, почему эти слова произнесены. Назначение Густава Носке главнокомандующим войсками реакции положило конец иллюзиям. С того самого момента, когда стало известно о решении, принятом Носке, — возглавить расправу с революцией, Клара поняла, что генералы будут душить революцию руками ренегатов.
Под стенами столицы стоят на исходных позициях вооруженные до зубов войска под командой кайзеровских генералов. В Берлине баррикады. Рабочие готовятся к обороне. Передавали, что город наводнен угрожающими воззваниями генералов, на которых рабочие пишут бранные слова и накалывают их на штыки своих винтовок.
Эмма виделась со своей двоюродной сестрой — огородницей из-под Берлина. На окраине, как она сказала, каждый дюйм занимали вооруженные люди, которых называли «спартаковцами». «Но, конечно, настоящее войско есть настоящее войско, — сказала огородница, — и не всякий Ганс с винтовкой — настоящий солдат». Она добавила: «Но там, в Берлине, среди красных, немало солдат, которые вернулись с фронта целыми вовсе не для того, чтобы подохнуть с голоду».
Что же происходит в Берлине? То, что ее товарищи там, в центре событий, — было для Клары абсолютно ясно. Она понимала, что и Карл, и Роза, и Вильгельм Пик, и вся гвардия революции направляют сейчас боевые действия. Но это не давало Кларе самого главного: представления о реальных событиях последней недели.
Она опять слушала, как бьют часы. Промежутки между не гулкими, а даже как будто приглушенными ударами заполнялись расплывчатыми мыслями, тупой болью во всем теле и ударами ее сердца.
Потом она забылась или ей только показалось, что она забылась, а на самом деле — крепко уснула, потому что ей ясно послышались легкие шаги Розы наверху, в мезонине. Там была одна такая шаткая доска, которая скрипела даже под ее маленькой ногой. У Розы такие маленькие ноги, ну просто как у девочки. Клара вдруг увидела, как они, обутые в черные лакированные туфли на низких каблуках, выглядывают из-под длинной серой юбки, которую Роза носила в Силленбухе. Да, значит это Роза ходит там своей легкой походкой, чуть припадая на одну ногу. Вероятно она что-то напевает, как обычно, своим небольшим, тоже каким-то очень юным голоском, но этого, конечно, не слышно. Весь облик Розы — такой молодой, а ведь фрау доктор уже сорок восемь!
Когда Клара увидела ее впервые — на трибуне, в тот солнечный, в тот счастливый день…
Все очень смеялись, когда Август сказал те слова: «У нас в партии есть только двое настоящих мужчин: Роза и Клара». И потом добавил: «И еще третий — я».
И все начали кричать, что он хвастун и нечего ему себя приравнивать к этой компании. И еще тогда у нее было такое предчувствие, что у них с Розой будет долгая, большая дружба.
От того, что она слышала шаги Розы над головой и хорошо представляла себе, как она отдергивает там занавески, потому что ведь уже скоро утро, а Роза подымалась раньше всех в доме, — Кларе стало хорошо и спокойно. «А я еще посплю», — подумала она, как обычно думала в такую рань, с таким оттенком, как будто вот она перехитрит их всех: и Розу, и сыновей, и Эмму. И пусть они там дружно ставят все с ног на голову, как обычно, а она будет спать. И только она зарылась в подушки, успокоенная легкими шагами наверху, присутствием Розы в ее любимой комнате в мезонине; только приятно ощутила прохладу подушки, только положила под щеку руку; и уже сама эта поза была началом сладкого, утреннего сна, — шаги наверху вдруг замерли, В том, что они вдруг так резко и неожиданно оборвались, было нечто ужасное, погибельное. Как бывает во сне, когда что-то грозит тебе, а ты не можешь сдвинуться с места. Клару всю обдало холодом. И уже проснувшись, она сразу поняла, что это только во сне, только во сне может показаться ужасной совсем простая вещь: то, что шаги Розы в мезонине затихли. Но она не успела успокоить себя этой мыслью, потому что уже окончательно вернулась к действительности.
Вернулась в силленбухскую ночь, где не было ни Розы, ни кого-либо, кто мог бы сказать, как она, что там, в Берлине… И до рассвета было еще долго: часы пробили пять. А ведь это январь, середина января. Первого месяца этого года, который должен был принести события решающие, поворотные.
Нет, конечно, поворот к прошлому невозможен! Невозможно, чтобы вернулся кайзер с его двором, с его «верным Гогенлоэ»! Альбрехт — ее ровесник, ее антипод, олицетворял собой одну из сил, противостоящих ей и всем, кто шел с ней в боевых порядках революции. Естественно, что и сейчас он оказался в змеином клубке, свившемся вокруг генерала Тренера. Гогенлоэ не краснобай: лошадник, солдафон кайзеровской ориентации, в теоретики не лезет. За ним стоит вся рать тупой солдатчины, звенящей медалями, топающей сапогами, запевающей хриплыми голосами: «Анне-Мари, откуда у тебя ребеночек?» Знание ружейных приемов, двух-трех молитв — этого для них вполне достаточно.
Но был еще Носке… Густав Носке. И если Кларино знание других фигур зловещего единства Далема составлялось из разных источников, то Густав Носке был ей известен непосредственно. Носке воплощал в себе — наиболее беззастенчиво и последовательно, если ренегат может быть последовательным! — теорию и практику предательства. С пальмовой ветвью в зубах Густав Носке годами стоял на задних лапках перед империалистами. Теперь наступил момент, когда Носке спустили с цепи.
Да, она знала его раньше. Еще тогда, в Эссене, на съезде, она крикнула ему в лицо, что он проповедует братоубийство! Она и ее друзья были беспощадны к оппортунистам. Они били их всюду: в теории и практике, в профсоюзах и в партии, в рейхстаге и в низовых организациях. Они били их, почти всегда выходя победителями.
Но они слишком держались за единство. Они слишком боялись раскола. Они не видели в своем доме гнилых досок, из-за которых мог рухнуть весь дом.
Мысль об этом причиняла ей острую боль, потому что ничего уже нельзя было изменить и поздно было что-нибудь исправить!
Утром Клара попросила шофера Петера и парня из поселка, пришедшего наколоть дрова для растопки, переставить ее кровать так, чтобы ей были видны ворота и ольховая аллея, ведущая к дому. Она хотела сразу же увидеть почтальона или кого-то другого, кто бы ни появился. Лишь бы прекратилось это ожидание, эта неизвестность, которая держала ее как будто погруженной в безвоздушное пространство. И начинало казаться, что она вместе со своей кроватью, с этой комнатой, почему-то не выглядевшей уже привычной, прочно обжитой, а тоже словно бы только оболочкой чего-то чуждого, вместе с кусочком парка, видным ей теперь до самой ограды, — что вместе со всем этим она выхвачена из жизни, накрыта стеклянным колпаком. И поди ж ты, как неясно, словно под водой, видятся ей за окном черные верхушки ольхи, растопыренные пятерни веток, которые хватают редкие снежинки, не давая им упасть на землю, черную и мокрую, как весной!
Она пробегала взглядом по выложенной красным кирпичом дорожке, вдоль которой, кажется, совсем недавно, цвели лупинусы… И конечно, Роза, которая обожала все живое, пусть даже некрасивое, — какую-нибудь гусеницу или лягушку! — уж вовсе была в восторге от этих лупинусов! Действительно, они ведь были и розовые, и сиреневые, и фиолетовые. И шпалерами стояли просто как гвардейцы на плацу.
И Клара вспомнила, что в то лето, когда Роза впервые приехала в Силленбух, тоже как раз цвели лупинусы, их было тогда меньше, но они цвели особенно пышно, и кисти их чуть не лопались от жизненных соков.
Но скользя взглядом по дорожке, Клара ни на минуту не теряла из виду ворота и калитку. Почему-то ей казалось очень важным сразу же увидеть того, кто войдет, кто принесет весть, какой бы она ни была! Теперь она так хорошо видела ворота и эту калитку: зеленый квадрат с блестящими бляшками вверху и с железной панелью внизу, и даже запор и цепочку, которая сейчас висела под ним. И металлический ее блеск на зеленом фоне, казавшемся ярким от мокроты: снег падал и таял. От этого ей стало немного спокойнее, и даже как будто притупилась боль в ногах и пояснице, обессиливающая боль, которая сделала ее неподвижной. В такое время, когда как раз надо было быть далеко отсюда…
Она опять остро, как ночью, ощутила свое одиночество. Нет, не потому, что оказалась здесь одна и не было детей. Ее дети, ее взрослые дети не могли быть всегда с ней. Это же ясно. Ее одиночество проистекало только из того, что она не могла быть со своими товарищами в такой час, в час опасности, которую она хотя и знала — она очень хорошо знала эту опасность, — но сейчас еще больше, чем знала, чувствовала ее.
Не имея сведений о происходящем в Берлине, она надеялась на лучшее, но масштабы угрозы ясно рисовались ей. Ведь Густав Носке выставлен как таран силами реакции, а Эберт беспрерывно совещается с генералами и уж, конечно, там распределены роли, и разработана диспозиция, и все хорошо продумано господами империалистами — руками правых социал-демократов душить революцию!
Господи, как давно это началось! Это ренегатство, эти измены, это черное предательство.
Она ведь, слава богу, не новичок в движении. И прекрасно понимает, как нужны империализму именно такие людишки, состоящие из бесхребетного тела картонного плясуна и лысой головы, с убогими перепевами «теории врастания» и с длинным-длинным языком, подобным грязному помелу!
Да, она хорошо знает своего главного врага и его союзников.
Она видела, как враг набирал силу, и наращивал мускулы, и острил клыки. Шевелил-шевелил мозговыми извилинами — потому что у него тоже не простая жизнь! И сейчас, когда она больна и, может быть, поэтому все ей немного странно представляется, она видит длинную шеренгу атакующих, в которой где-то на правом фланге хлопочут у Длинной Берты почему-то сами господа из «Рейнметалла»… И Крупп-отец собственной персоной, хотя одет в приличный сюртук и с моноклем на шнурочке, тоже присутствует здесь. И какие-то тины в штатском, с черными нарукавниками, словно кассиры, тащат газовые баллоны на тележках, а шланги их противогазов извиваются по-змеиному, а в глазные отверстия не видно глаз, а только мерцают слепые, слюдяные кругляшки… И Альбрехт Арминий Гогенлоэ тоже в этой шеренге, он — на коне, на мраморном коне, словно взятом напрокат из Зигесаллее. Впрочем, и сам он каменный, хотя в губах у него дымится очень длинная тонкая сигарета.
Кларе показалось даже, что приторно-медовый ее аромат доходит до нее.
А юркий адвокат Лангеханс бесстрашно ныряет под брюхо мраморного коня и тащит, тащит какую-то железную штуку, ведя ее на тросе, словно таксу на цепочке. Или большую игрушку, но не на колесиках, а на зубчатых лентах.
И Клара, хотя никогда не видела их даже на картинках, догадалась, что это танк…
Клара не успела удивиться тому, что вертлявый адвокат так бойко и весело управляется с танком, как все же бодрствующей частичкой сознания восприняла: сначала лай, потом звонок. Калитка неторопливо распахнулась, пропустив двоих. Кларе достаточно было только беглого взгляда на вошедших…
Не успела Эмма открыть дверь, как Клара сказала:
— Позови ко мне Петера.
— Сейчас. Там пришли монтеры. Насчет проводки.
— Позови Петера.
Эмма выскочила из комнаты, недоумевая: не в характере Клары было заставлять ждать людей.
— Петер! — Клара приподнялась, опираясь на локоть. — Я прошу тебя, Петер, скажи этим двум господам, что если они сию же минуту не уберутся из усадьбы, я спущу на них собак, и пусть доги покажутся им в окне…
Петер отправился выполнять приказание. Оно не вызвало у него никаких эмоций, кроме удовольствия от мысли о том, какое впечатление произведут на непрошеных гостей морды Гога и Магога за стеклом окошка.
Клара откинулась на подушки и слушала, как Петер позвал собак и скомандовал им вспрыгнуть на подоконник. Потом она уже ничего не слышала, но увидела, как он своей валкой моряцкой походкой идет от дома по аллее. Через несколько минут — Петер, безусловно, не осложнял положение лишними словами — она проследила, как «монтеры» поспешно проследовали в обратном направлении.
Однако этот незначительный инцидент, какие, собственно, происходили и ранее, обеспокоил Клару, потому что она мгновенно сопоставила его с другими. Возможно, что ночные призраки были вовсе не призраками, а соглядатаями из плоти и крови. И эта активность не была ли связана с какими-то событиями в Берлине?
— Эмма! — позвала Клара. Она чувствовала в себе силу, которая не могла оставить ее сейчас. В момент такой неизвестности, такой опасности.
Она попросила приготовить ей дорожный костюм и меховые ботинки. И теплое пальто.
— Господи! Ну разве это можно? Ты совсем больна, — всплеснула руками Эмма.
— Можно, Эмма. И даже необходимо. Не расстраивайся, поедем вместе.
— Мы поедем в Штутгарт? — лицо Эммы мгновенно преобразилось. С одной стороны, ей не терпелось сейчас же начинать сборы, с другой — она не представляла себе, как может совершенно больная Клара ринуться в такую поездку.
— Петер пусть готовит автомобиль. Не позже чем через час мы едем.
Было около полудня. Часы в гостиной отбили четверть, бой часов на кирхе не был слышен в обычном дневном шуме. Из дивного местечка, некогда пленившего Клару наивной нетронутостью и очарованием, Силленбух превратился за эти годы в довольно шумный перекресток бойких шоссейных дорог.
Клара подумала об этом, потому что уже обрела способность думать о чем-то, кроме положения в Берлине. Принятое ею решение успокоило ее. Она всегда предпочитала встречать опасность с открытыми глазами, а то, что сейчас идет речь об опасности, это было для нее ясно. Дурацкая игра в «монтеров» — их начальство не могло не понимать, что это не для нее! Значит, они там уже не церемонились, уже не затрудняли себя какими-либо мало-мальски правдоподобными прикрытиями. И это было тревожно, очень тревожно…
По двору прошел Петер, и тотчас проскрипели тяжелые двери гаража. Появилась Эмма с ворохом одежды.
— Оставь все это здесь и приготовь завтрак для нас троих! — сказала Клара. Она увидела, что Эмма остановилась в дверях и опасливо смотрит на нее, вероятно, сомневаясь, что Клара сможет подняться, и не смея придти к ней на помощь.
Клара села в постели, это потребовало от нее усилия, которое показалось ей чрезмерным. Этот «испанский грипп», казалось, лишал все кости твердости, превращая их в киселеобразное вещество.
Пандемия гриппа, охватившая всю Европу, собственно, пошла уже на убыль, так надо же, чтобы Клара заболела повторно именно в эти дни!
Все же ей стало немного спокойнее, когда она приняла решение и уже начала его осуществлять: спустила с кровати ноги и нашарила мягкие туфли Мысль о том, что ей придется натянуть тяжелые ботинки, ужаснула ее, но она тут же взяла себя в руки: то, что она задумала, было, конечно, трудно, но все же легче, чем пережить еще одну ночь неизвестности.
И она стала медленно, методически одеваться принуждая себя не торопиться и говоря себе, что слабость и пот, заливающий ее лицо, — естественное следствие понижения температуры и это, конечно же лучше, чем если бы ей пришлось ехать в горячке.
Черный кузов автомобиля на высоких колесах почему-то напомнил ей полицейскую карету, влекомую парой коней по утопающим в грязи окраинным улицам Карлсруэ, по прямой дороге в «Тюремный замок». Она отогнала аналогию, фукнув на нее как на собачонку, которую можно отогнать и забыть о ней. Но на ее место сразу выбежала свора шавок. Назойливо лезли в голову кусающие, царапающие, бередящие мысли: надо было сразу ехать в Берлин, пренебречь дурацкой «испанкой» — в конце концов, почему болеть надо обязательно в Силленбухе? «Да, вот именно, ты избрала это свое гнездо, окопалась здесь! А все — твой эгоизм, твоя черствость. Детей давно здесь нет. Твои друзья — в Берлине. Зачем же ты здесь? Но я же не знала, что события пойдут крещендо, я не могла этого знать. Должна была знать. Но ведь я и сейчас не знаю, что там. Может быть, ничего плохого. Там плохо, очень плохо. Потому что ночью — эти тени. И днем — эти двое. И еще потому, что у меня такая тяжесть на сердце…»
Она вспомнила ночь и содрогнулась. И уже благословляла и тихоходную машину, и дождь пополам со снегом, который снова принялся сечь высаженные вдоль дороги яблони; и туманную в дымке дождя перспективу, в которой словно висели в воздухе очертания каких-то строений, какого-то поселка, который она почему-то не узнавала, что было чрезвычайно странно и даже немного испугало ее.
И она отдалась сонливости, которая уже разливалась по всему ее телу, и перестала удивляться и пугаться того, что не узнает дороги, по которой ездит двадцать лет. Потому что она, конечно же, была больна и нервная система тоже в конце концов поизносилась.
Она закрыла глаза: вот теперь все было нормально, ее укачивал небыстрый, ровный ход машины. И теперь, закрыв глаза, она как будто закрыла и доступ преждевременным опасениям. И только погрузилась в дрему, как услышала голос Петера: он что-то говорил про запасное колесо. Ну неужели — они же отъехали совсем недалеко! — нельзя было предусмотреть… Нет, никуда не денешься! Придется все-таки менять колесо! Они только доехали до Нидервайде — вон под горой. И там Клара может отдохнуть в харчевне, в которой, безусловно, найдется чашка кофе, а может быть, и бульона. Клара позволила Эмме увести ее от машины, они прошли несколько шагов под мокрым снегом, и Кларе казалось, что хлопья его тяжелы, как комья грязи. Они вошли в харчевню, где жарко горел очаг и все небольшое зальце было таким сухим и горячим, как печь, готовая для выпечки хлебов и ожидающая, пока их подадут на деревянных лопатах, покрытых крупными листьями лопухов.
В комнате никого не было, но хозяин тут же появился на звон дверного колокольчика. Вернее сказать, он выскочил как чертик из табакерки, так пружинисто подбрасывал он свое маленькое, ловкое тело, увенчанное головой в теплом колпаке, который, как он объяснил, не снимает, боясь проклятой «испанки».
Он узнал Клару и рассыпался в приветствиях, в которых ей почудилась какая-то стесненность, может быть, боязнь.
Клара тотчас заказала омлет, салат, и кофе, и еще чаю с лимоном, который, на удивление, оказался в этой маленькой и неприглядной харчевне.
И вдруг, только тогда уже, когда сделала первый глоток этого почти коричневого, несмотря на лимон, чая, — вкус его, что ли? — напомнил ей, когда именно, при каких обстоятельствах она уже пила здесь точно такой чай. «Да, почему же я не вспомнила раньше? Как могла забыть?» — спрашивала она себя, как будто что-то удивительно важное случилось тогда с ними: с ней и Розой, в тот давний, давний день, нет, вернее, уже в сумерки, когда они пришли сюда усталые, грязные и почему-то очень счастливые. Но что делало этот день, эти сумерки такими значительными? Почему они чувствовали себя счастливыми? Просто потому, что они были на десяток лет моложе? Нет, это же была пора больших надежд перед Штутгартом, и они так деятельно готовились к конгрессу… Столько прошло митингов и бурных встреч. И было страшное напряжение и очень много работы. И Клара тогда заболела, то есть совершенно свалилась. Так же, как сейчас. Только тогда у нее было больше сил. И тогда она была спокойна. И спокойно уехала в Силленбух. Там быстро поправилась. После дождей стояли прекрасные теплые дни. Даже тополиный пух ни с того ни с сего стал носиться в воздухе, хотя пора его давно прошла. Клара уже хотела возвращаться в город, и вдруг приехала Роза. Нет, она даже не приехала, а пришла: день был, правда, теплый, но не жаркий. А Роза — так смешно! — пришла босиком! И свои щегольские ботинки она связала шнурками и несла в руке. И это выглядело еще смешнее оттого, что Роза была так красиво одета: в свой серый костюм в клеточку и с черной отделкой, а на голове у нее была модная «тиролька».
Роза стояла босая на террасе и, подвывая, как это делали модные поэты, произнесла: «От Кельна до Гагена сто́ит проезд пять талеров прусской монетой. Я не попал в дилижанс, и пришлось тащиться почтовой каретой…»
— Ну, конечно! Со времен Гейне мы так деградировали, что почтовая карета, и та нам недоступна! Иди скорее в ванную!
Роза вышла с накрученным на голову, полотенцем и в халате Клары, который был ей чересчур широк и длинен, и она подобрала его таким жестом, словно это был шлейф бального платья.
Костя и Максим, хохоча, обнимали ее. В семье Клары сыновья никого не привечали так бурно, как Розу.
Потом сыновья уехали — они ведь еще учились — и, как часто случалось, Клара осталась с Розой вдвоем в силленбухском доме. В ту пору не было ни автомобилей, ни даже выезда, они ходили пешком до ближайшего поселка, откуда можно было отправиться в Штутгарт рейсовым омнибусом.
И в доме не было никакой прислуги. Зачем она им? Обе с таким удовольствием и так весело хозяйничали в эти дни.
Роза была не сильна по части кухни, но Клара всегда блистала на этом поприще, и Роза сказала, что из всех других талантов Клары именно этот, кулинарный, больше всего ее поражает!
— Где ты научилась печь такие кухены? В редакции «Равенства»? А, я знаю, в профсоюзе кондитеров!
— Сразу видно, что ты из другого поколения! В наше время немецкая девушка училась домоводству предпочтительно всем остальным паукам. Иначе ей грозила участь старой девы.
— Теперь я понимаю, почему ты выскочила замуж почти из пеленок. Все ясно. Цеткин пленился твоими кухенами.
Говоря так, Роза хватала с противня пышки, которые Клара испекла из оставшегося теста.
Они болтали вперемежку о важном и тут же о какой-то ерунде. Роза жаловалась, что ее совсем загоняли и чихнуть некогда!
— Сама знаешь, что значит редакция, плюс всевозможные заседания и конференции. А что будет потом, когда все переменится радикально? И все это будет, подумай, в первый раз.
— Не совсем первый. Есть же Россия…
Роза пробыла тогда в Силленбухе три дня, и все три дня было много солнца, короткого и обильного дождя с пузырями на лужах и таким сильным теплым ветром, что в конце концов его порыв вместе с дождем бросил на террасу одуревших от своего воздушного путешествия маленьких лягушек. Они запрыгали на дощатом полу, и Клара сказала, что это похоже на модный балет, где доминируют длинные прыжки. Но Роза собрала лягушек в свой передник и выбросила их на волю, в сад. А потом, сообразив, что в эти дни должно быть видимо-невидимо грибов, они отправились в лес и, действительно, принесли оттуда две корзины подосиновиков, и лисичек. И, конечно, Роза так усердствовала, что порезала палец ножом, которым срезала грибы, но Клара тут же прилепила ей подорожник, и все продолжалось…
Продолжался удивительный счастливый день, полный лесных светотеней, тонкого запаха хвои, обильно падающей на землю, болтовни ручьев, после недавних дождей превратившихся в маленькие потоки, уходящие в болотца, налитые сине-зеленой водой с утлыми лодочками сорванных ветром листьев. Дятлы перестукивались, а кукушки навязчиво предлагали свои пророчества дурными голосами с многозначительными паузами — ну точно наши правые в рейхстаге!
— Кукушка, кукушка, скажи, сколько мне осталось жить? — крикнула Роза.
«Ить, ить, ить», — передразнил ее из болотца тонкий голосок.
— Удод, — сказала Клара. Роза принялась считать. Она считала, считала, обшаривая в то же время кусты, заглядывая под низкие ветви елей, осторожно подымая их. А кукушка все отсчитывала Розины годы.
— Слушай, это какая-то ненормальная, она не может остановиться! — сказала Роза. — Может быть, это уже другая, которая приняла эстафету пророчества?
— Ничего подобного, — авторитетно сказала Клара, — просто ты будешь жить вечно.
В эти удивительные дни, действительно, казалось, что жизнь их не имеет конца. И даже она, Клара, в те дни вовсе не чувствовала ни груза лет, ни болезни, и наверное, это Роза заразила ее — она умела это делать — своим весельем и трогательным пониманием каждого дерева, каждой лесной твари. В понимании их и в сочувствии к ним было у Розы что-то особенное, как бы на равных, словно она сама была какой-нибудь пичужкой или полевой скабиозой на лугу. Но одновременно в этом заключалось нечто очень человеческое, духовное и высокое. А в лесу, или на лугу, или в горах, или на воде у Розы сейчас же делалось такое лицо, как тогда, когда она слушала Кларину игру: словно звуки рояля рождали видения более определенные и более жизненные, чем сами звуки. Словно лес, и луг, и вода были для нее полны еще чем-то, что она воспринимала не как мечту, а как реальность.
В один из этих дней они вернулись домой в сумерки, когда тени больших ольх, что стояли вдоль аллеи, стали длинными и черными, будто на песке нарисовали указательные линии для транспорта, которые с недавних пор делались на асфальте больших городов.
И вдруг в светлом промежутке между этими линиями появился на ольховой аллее маленький трехцветным котенок. Изогнув спинку, он прыгал задом, задом, отрываясь сразу всеми четырьмя лапами от земли, и все отступал и отступал перед идущими, попадая то на черную полосу, с которой он сливался и тогда совершенно исчезал из глаз, то опять — на светлый промежуток. И тут показывал свое мохнатое тельце и круглую головку с мерцающими зелеными глазами.
— Смотри, у нас гость! — удивилась Клара.
— Не совсем гость. Я забыла тебе сказать, что нашла его на дороге и принесла сюда. Он, наверное, заблудился, а может быть, его выбросили. Это очень хороший кот, смотри, как он прыгает!
— Как Муймер из цирка Кроне. Ты его покормила?
— Да, он пил молоко. Смотри какой циркач, это же совсем не котячьи прыжки!
— Ну конечно. Это детеныш кенгуру, убежавший от Гагенбека[17]. Он преодолел расстояние от Берлина до Силленбуха, чтобы ты напоила его молоком.
Пока они болтали и смеялись, котенок терся об их ботинки, и Клара сказала, что ему крупно повезло в жизни: если бы собак не увезли на ученье в питомник, тут разыгралась бы драма. Они его, конечно, но сожрали бы, но котенок сам умер бы от страха. Как его звать?
— Он мне не представился, — сказала Роза. — Но я думаю, что ему понравится имя Касьян: там есть это «кс», которое они любят.
— В жизни не слыхала такого имени.
— Это русское имя. Касьяны бывают именинниками раз в четыре года.
— Ну что ж, мы, по крайней мере, сэкономим на именинных пирогах.
Они были очень голодны, и когда Клара разогрела то, что осталось от завтрака, все показалось им необыкновенно вкусным, хотя это был всего-навсего цвибельклопс с картофелем и капустные котлеты.
…Кларе казалось, что запахи жареного лука и кофе доносятся до нее не от печки, на которой готовилась сейчас еда для приезжих, а с того стола на террасе, где сидели они с Розой и ели прямо со сковородки, нахваливая все, словно это был роскошный обед в «Адлоне», а не деревенская стряпня. И вся атмосфера счастья и дружбы с такой силой охватила Клару, что на какой-то миг сняла даже ее тревогу. Как будто была какая-нибудь логика в подсознательном ощущении: не может кончиться плохо то, что началось так хорошо! Как будто законы жизни не допускали вторжения зла и несчастья в тихий сад, где прыгал в ольховой аллее трехцветный котенок…
— Можем ехать! — объявил Петер и стал мыть руки в умывальном тазу, вытирая их не висевшим тут же белоснежным полотенцем, а ветошью, вынутой из кармана.
Клара, тяжело поднявшись, сделала уже шаг к двери. Но в это время она открылась и впустила Эриха Нойфига. Он совершенно растерялся, увидев Клару. По тому, как он побледнел, она уже многое поняла. И сразу же сообразила, что он, безусловно, ехал в Силленбух, потому что больше ему незачем было сюда ехать. И наверное, не с добрыми вестями, иначе он бы так не растерялся при виде ее.
Поняв все это, она собрала все свои силы и сказала себе, что впереди сил потребуется еще больше и надо к этому готовиться. И голос ее, хотя прозвучал хрипло, но был спокоен, когда она сказала:
— Здравствуй, милый Эрих! Ты, конечно, ехал ко мне? И наверное, тебя послал отец.
— Да, товарищ Клара, к вам, — ответил он. — Я выбрался из Берлина еще в пятницу, но поезда ходят вне расписания и я…
«Выбрался!» Он не уехал, а «выбрался». И он не привез письма от отца — значит, письмо нельзя было дать. Значит, это было рискованно. Существовало еще одно соображение: у Георга ведь есть машина. Значит, машина нужна для более важного. Там…
Все это в один лишь миг промелькнуло в мыслях Клары, в тот именно миг, когда она вернулась на свое место, в то самое кресло, где она сидела, когда видения того дня в Силленбухе…
Теперь она усадила рядом с собой Эриха и сказала ему, чтобы он все выкладывал сразу. Она добавила:
— Потому что я собралась в Берлин, и что бы ни было, поеду туда!
— Невозможно! — воскликнул Эрих. Что-то очень похожее на отца мелькнуло в его лице. Выражение испуга… И она вспомнила, что, конечно, не на лице Георга видела это выражение, а на лице его брата. Да, тогда, когда она сказала ему все, что о нем думает. В их последнюю встречу в поезде. Случайную встречу по дороге в Мюнхен.
Но опять-таки только мельком она подумала об этом, потому что главное сейчас было то, что скажет Эрих, за чем он мчался к ней, «выбравшись» из Берлина.
Она видела, как трудно ему начать. Хотя бледность его прошла, но он был весь скован. Чем, чем? Своею ролью дурного вестника? Да, конечно. Она ведь подготовилась к худшему.
Подчинившись ей, он начал…
Революционный Берлин пал. Солдаты Носке, с белыми повязками на рукавах, врывались в дома, вытаскивали рабочих, не успевших скрыться, и ставили их к стенке. Войска заполонили город.
Отца схватили сразу и потащили в их штаб — в отель «Эден». Там была страшная кутерьма, и какой-то генерал, полупьяный, закричал, увидев отца: «Кого вы привезли, идиоты? Это же Уве Нойфиг!» Он принял Георга за его брата. Генерал сам вывел отца из отеля. Сейчас отец скрывается…
— Где Роза? Где Карл? Вильгельм? — хрипло прервала Клара. Она так боялась за них, потому что знала, как это бывает, как разжигают кровавые инстинкты. Она знала черные души всех носке и эбертов на свете!
— Пику удалось скрыться. Его нет среди убитых и арестованных. А Карл и Роза… Я расскажу вам все по порядку, как велел мне отец. Он сказал, чтобы я последил за домом на Мангеймерштрассе. Мы знали, что Карла и Розу ищут, но уже было поздно предпринять что-нибудь. Но все же товарищи хотели перевезти их в другое место.
— Да, да дальше…
— Это было пятнадцатого января. Как только стемнело, я стал крутиться около дома. Ко мне подошел парень из дома напротив, знаете, где табачная лавочка. Он узнал меня, наверное, понял, зачем я здесь, и сказал: «Уходи, в квартире засада». — «Как, они уже там?» — «Да, с самых сумерек, я видел, как они подъехали и вбегали по лестнице, все с белыми повязками на рукавах, а в руках — пистолеты…» Он ушел, а я остался и стал смотреть на окна. Они все были освещены, и на стеклах мелькали тени многих людей, но я не заметил женского силуэта и подумал, что, может быть, ее там нет.
— Дальше… — требовала Клара, ей казалось, что Эрих еле двигает языком, что рассказ его тянется вечность.
— Подъехал полицейский автомобиль, полный солдат. Офицер с белой повязкой, лейтенант, скомандовал им следовать за ним. В машине остался один только водитель — солдат. Я видел, как он бросил в рот сигарету и начал хлопать себя по карманам, не находя спичек. Тогда я стал на подножку и дал ему зажигалку. Он закурил и сказал мне: «Проходи, малыш, а то могут под горячую руку замести тебя вместе с этими спартаковцами!» — «Разве тут есть спартаковцы?» — спросил я, думая, как бы хоть что-нибудь узнать. «Да еще какие! Главари!» — сказал он важно. «И что же с ними будет?» «Это не нашего ума дело. Мое дело крутить баранку, ехать куда прикажут». — «А куда?» — «Вернее всего, в «Эден», в штаб».
Когда он сказал мне про «Эден», я помертвел, потому что в штаб свозили всех функционеров и там их истязали, и живым никто оттуда не выходил! Но я еще надеялся. «Проваливай, проваливай отсюда, пока цел!» — сказал водитель.
Я зашел за угол и стал наблюдать. И подумал, что если даже там идет обыск, то такая куча народу быстро его закончит. А я был тепло одет, отец дал мне свои перчатки…
Эрих отвлекался, и Клара поняла, что он боится. Что дальше последует самое страшное. Но ведь из сказанного уже ей все стало ясно.
— Дальше, Эрих, дальше!
— Во втором этаже открылась створка окна, и тот лейтенант — совсем молодой, с усиками, я его где-то уже видел — крикнул водителю: «Сейчас поедем». Тут я подошел к самому углу и стал смотреть. Я увидел, как вывели Карла. Его даже не вывели, а вытащили. И пинками загнали в автомобиль.
— Боже мой! — сказала Клара. — И ее…
— Да.
— Дальше!
— Карла посадили на заднее сиденье, между солдатами, а на переднее — Розу. Голова у нее была непокрытая. На плечах — шубка. Лица я не видел, только видел, как она высоко держала голову. И снег падал на волосы. А Карла я рассмотрел: у него было бледное лицо, и он ругался. Я слышал, как он сказал: «Палачи, скоро вам воздастся». Я не знал, что мне делать, но поскольку было сказано про «Эден», решил ехать туда. Мне повезло: я поднял руку, и карета «Скорой помощи» подхватила меня, я сказал, что опаздываю на ночное дежурство в госпиталь. Они довезли меня до Гедехтнискирхе, и я побежал на Буданештенштрассе, думая, что, наверное, опоздал. «Скорая помощь» мчалась на красный свет, но ведь полицейский автомобиль тоже. Подойти близко к «Эдену» нельзя было: отель окружала охрана, словно крепость. Все окна были освещены очень ярко, слышна была музыка, как обычно из ресторана отеля. Рассказывали, что на этажах там допрашивают, бьют и расстреливают, а в ресторане ужинают и танцуют.
Все же я не опоздал: подошел тот самый автомобиль, и я увидел, как высадили Карла и еще какого-то арестованного, оказалось, там с ними был еще третий, которого я сразу не заметил. А потом — Розу. Шарф выскользнул у нее из кармана и волочился по земле, но она не подбирала его. Они толкали ее — лейтенант и другой, в каске и серой пелерине, лица его я не рассмотрел — и сразу исчезли в дверях отеля. А солдаты прошли мимо меня. Они громко, возбужденно говорили. Один, вертлявый, в очках, сказал: «Теперь им крышка». «Наверное», — ответил другой.
Я вернулся домой и рассказал все отцу. Он сказал, что поедет на квартиру фрау Путц, которая служит в «Эдене» буфетчицей, а отец ее знал, потому что бывал в «Эдене»: там встречались выпускники Мюнхенской художественной школы. Я сказал, что поеду с ним и поведу машину, поскольку все еще шел снег и было очень скользко. В Берлине объявили осадное положение. У нас на ветровом стекле был пропуск на право ночной езды. И у отца еще было старое удостоверение от имперского общества художников, работающих для фронта.
— Дальше, дальше, Эрих. — Он как будто всходил по ступеням крутой лестницы, и чем выше поднимался, тем труднее ему становилось. И ей — тоже. Как будто это была та самая лестница в «Эдене», по которой тащили Розу…
— По дороге отец передумал: решил сначала попробовать узнать что-нибудь в «Эдене».
Конечно, мы не надеялись подъехать к нему: около входа там всегда стояла вереница автомобилей. Мы пристроились в хвост. Потом я выключил мотор, и мы пошли к входу. Мы повязали себе белые повязки на рукава, а удостоверение общества было на гербовой бумаге.
Но у входа очень проверяли пропуска, и нас не пустили. Отец сказал: «Тогда вызовите буфетчицу, фрау Путц, я ее свекор, у нас дома несчастье». Вахмистр пробурчал: «Сейчас у всех несчастье», но все же крикнул кому-то, чтоб позвали фрау Путц. «А вы посторонитесь. Вон там ждите», — и показал, где встать. Снег все шел. В отеле играла музыка, и все время страшно хлопали двери. Пока мы стояли в ожидании, подъехали две машины, из них не выходили, а просто выпрыгивали, не дожидаясь пока шофер им откроет дверцу, военные. Только один генерал вышел медленно. Отец вздрогнул, увидев его, и сказал: «Вот палач. Запомни его имя — это Альбрехт Гогенлоэ».
И тут Клара прервала его — Эрих удивился, что она сказала те же слова:
— Запомни это имя, Эрих, — и сделала знак продолжать.
— А в одной машине была дама в меховом манто. И один раз выволокли какого-то старика, хорошо одетого, но, видно, страшно избитого…
— Дальше, Эрих, дальше!
— Вахмистр крикнул нам: «Фрау Путц только что ушла домой» и посмотрел подозрительно, но отец сказал: «Мы живем не вместе».
Мы поехали в Панков, где жила фрау Путц. По дороге отец сказал: «Мы на машине, а она ведь добирается, как придется. Так что ты не гони. У нас много времени». А куда тут гнать? Снег шел вторые сутки, и никто не чистил улицы. Дом стоял во дворе, и мы въехали во двор. Отец велел мне зайти к фрау Путц и, если у нее кто-нибудь есть, то сказать, что я посыльный из отеля, привез ей кое-что. А если нет, то сделать знак из окна. У нее никого не было, и отец тотчас поднялся. Фрау Путц страшно перепугалась, увидев меня. Она же меня не знала. А когда вошел отец, она сразу расплакалась и сказала: «Я уж думала, за мной! У нас в «Эдене» такие страсти!»
Отец еще рта не успел открыть, как она сказала сквозь слезы: «Вы, наверное, хотите знать про ваших Розу и Карла. Так их дело очень-очень плохо». — «Расскажите все. Вы их видели?» — спросил отец. «Да, когда их только привезли». Она стала рассказывать: они все, она, и горничные, и судомойки видели через стеклянные двери, как Либкнехта подгоняли в спину прикладами на лестнице. Рубашка у него была разорвана на груди. Но Розы тогда не было. Очень скоро там, в хохпартере, куда подняли Либкнехта, послышались выстрелы и грохот. Потом сверху крикнули: «Теперь ее давайте!» Вот тут они увидели Розу. Фрау Путц сказала, что не узнала бы ее, такая была она бледная-бледная, с черными кругами под глазами, а главное — волосы…
— Что — волосы? — шепотом спросила Клара. И Эрих почему-то тоже шепотом ответил:
— Они ее таскали за волосы.
Клара молчала, и он посмотрел на нее обеспокоенно, но вспомнил, как отец сказал ему: «Ей надо говорить правду. Что бы ни было. Она не простит неправды».
Клара шевельнула побелевшими губами, ему показалось, что она хочет сказать: «Дальше».
— Они потащили ее в хохпартер, внизу слышен был шум, крики, стук, словно упал стул. Тут сверху спустился лейтенант, которого фрау Путц хорошо знала, потому что он околачивался в «Эдене» с самого начала. Он попросил у нее бутылку коньяку, чтобы взять с собой наверх. Она дала ему, и он велел ей записать на него…
— Как его звали? — неожиданно твердым голосом спросила Клара, и Эриха удивило, что она так спросила: «звали» — лейтенант-то был живехонек. Но он был рад, что запомнил его имя, — Юнгер.
— Фрау Путц сказала ему: «Если вам нужен еще коньяк, возьмите, потому что я запираю буфет и ухожу». Он ответил, что больше не надо. Когда они закончат, то пойдут в ресторан, он ведь открыт всю ночь. «А разве вы еще не закончили?» — «Только с одним». И он ушел. А фрау Путц уехала домой, потому что, как она сказала, не могла всего этого выдержать.
— Она жива, — вдруг сказала Клара очень твердо.
Эрих с сомнением покачал головой.
— Почему ты качаешь головой? — прикрикнула она. — Разве кто-нибудь видел их мертвыми?
— Только Либкнехта. Они подбросили его «Скорой помощи», а там работал наш парень, и он сообщил Пику, в какой морг его отвезли. И наши выкрали его из морга и похоронили. Но Розы нигде не было.
— Она жива, — повторила Клара. Но говоря эти слова, она слушала не голос рассудка, а — упрямой надежды, которая одна теперь руководила ею. Видение тех счастливых дней, того вечера уже исчезло, но на минуту ей почудилось, что Роза там, в Силленбухе. А дома никого нет… «Впрочем, Роза же знает, что ключ на гвоздике под крыльцом, а потом сын Петера придет кормить собак», — она тотчас поняла, как безумна эта мысль и решительно отбросила ее.
Эрих поднял голову: ему показалось, что Клара не слышала его. Но она кивнула, показав ему, что — нет, она все слышала. Он не знал, что странное чувство — второй раз в жизни! — охватило ее: будто можно вычеркнуть из жизни страшный миг, чуть сдвинув время. Вернуть тот сладкий час — не наяву, нет, но хотя бы в воспоминаниях. Тот вечер с полосатой от теней ольховой аллеей, ведущей к террасе. И котенка, упруго подскакивающего сразу на всех четырех лапах перед Розой. «Смотри, словно церемонимейстер двора, какие ужимки и прыжки!» — «Как его зовут?» — «Он мне не представлялся».
Вернуть тот час, когда еще ничего не было известно.
Но теперь она была старше и справилась с этим быстрее. Она не могла скрыться в мир спасительных иллюзий.
— Мы едем в Берлин. Организуем поиски. — Она поднялась. — Нельзя терять ни минуты. Я скажу, чтобы нам на дорогу приготовили бутерброды, а большой термос с кофе у меня в машине. Эмма, скажи Петеру, чтоб готовился к выезду!
— Товарищ Клара! — тихо и убежденно сказал Эрих. Губы его дрожали. — В Берлине белый террор. Схватили всех наших в Нойкельне. Было решение убить не только Розу и Карла, но и вас и Пика. Наш человек из ставки сообщил об этом. Отец передал вам, что вы не должны покидать Силленбух.
— Твой отец — умный и дальновидный человек, — сухо сказала Клара, — но когда-то давно я была его учительницей…
Глава 3
Август в Германии — это еще лето. В России августом открывается осенняя пора. Странная пора! Словно то, что редеет листва, обнажается перспектива, и в душе человека открывает какую-то даль, побуждает всматриваться в себя и окружающее.
Клара ехала в Россию ранней осенью. Давнее воспоминание связывалось у нее с поэтической строкой: «Унылая пора, очей очарованье». Оно было таким давним. Оно принадлежало другому времени. Когда была молодость. И любовь. Это ее муж, ее любимый муж, который ушел так рано, это он произносил своим глуховатым голосом: «…очей очарованье». Вероятно, эти слова вызывали в его памяти образ оставленной им родины. Он повторял их как заклинанье, как обещание вернуться. Повторял и тогда, когда уже знал, что не вернется.
Клара въезжала в русскую осень, полная надежд и тревог. Она знала о революционной России много. Но прекрасно понимала, что это знание станет иным, соприкоснувшись с действительностью.
В поезде, как нигде в другом месте, может быть, от обычного вагонного одиночества среди людей или от вынужденной неподвижности ее мысли текли свободно.
Она вспоминала… И видела себя в скорбной процессии, идущей за гробом Розы. И тот ужасный день, когда тело Розы нашли в Ландверканале, опутанное колючей проволокой. Словно убийцы боялись, что и мертвая, она встанет со дна.
Шли и шли колонны. И одни плакали — кто еще мог плакать, у кого не иссякли слезы. Но другие, у кого не было больше слез, — те только проклинали. И не думали о том, что было, а только о том — что будет. Потому что они думали о возмездии.
Они не знали, что через полтора десятка лет колючая проволока вытянется и поползет по всей Европе. И будет змеиться вокруг погибельной земли, на которой миллионы людей найдут муки и смерть.
Клара думала о сегодняшнем дне. О сегодняшних трудностях России. России двадцатого года. Это была страна их общей победы. Она существовала как реальность, которую нельзя было отринуть. Ее окружали сетью клеветы и лжи, ее пытались душить когтями блокады и давить сапогом интервента, но она все равно существовала.
Во главе государства рабочих и крестьян, республики, каждый день утверждавшей себя непреклонным голосом своих декретов, пламенными речами трибунов и непререкаемой логикой мыслителей, стояли люди, которых Клара знала. Она встречала их, когда они были еще совсем молоды, но голос их уже тогда звучал твердо, и к нему прислушивались те, кто презирал компромиссы. Эти люди сидели на конгрессах и конференциях в своих скромных пиджаках, обратив к трибуне славянского склада лица, по которым часто пробегала насмешка, но еще чаще — искра гнева. Их называли странным словом «большевики», которое теперь стало привычным и порхает на страницах газет много чаще, чем слова «реформы» и «классовый мир», слова, которые так любили их противники. Клара знала, что на этих людей можно положиться. И Роза тоже знала это. Как часто они выступали единым фронтом, и бывало так, что, не сговариваясь, они атаковали своих противников с разных сторон, били разными доводами, но в одну точку. Это получалось так ладно, потому что все они думали о конечной цели. Этой целью не были парламентские кресла. Хотя они боролись за них тоже. Но кресла были только средством. Они знали, что кресла трещат и рушатся, когда начинается настоящая драка. Этой целью не были богатые партийные кассы, хотя и за них они боролись. Они знали, что ни за какие деньги нельзя купить свободу. И этой целью, конечно же, не были «реформы», которые время от времени правительства, как подачку, бросали рабочим. Они хорошо знали цену «уступок» — это слово тоже любили их противники.
И вот теперь вошли в жизнь другие слова. Они совсем простые: земля — крестьянам, фабрики — рабочим. Искусство — трудящимся. Мир хижинам, война дворцам. Давно знакомые слова. Клара была «головой и сердцем» с русскими, строящими новый мир. «Головой и сердцем» — так она однажды сказала от имени своего и своих друзей. Эти слова тоже пришли и от разума, и от чувства. И, вероятно, поэтому запомнились тем, к кому они относились.
И Ленин в своем письме к ней повторил эти слова.
В письме, написанном два года назад, Ленин радовался, что германские спартаковцы поддерживают русских большевиков. Он писал так же, как говорил, с этой своей открытостью, без приукрашивания, без иллюзий. О том, что они, большевики, переживают самые трудные недели за всю революцию. Классовая борьба и гражданская война проникли в глубь населения. В деревне беднота поднялась к жизни, а кулаки, эти русские гроссбауэры, яростно сопротивляются. Контрреволюционное восстание бушует в стране, и буржуазия мира прилагает все силы, чтобы свергнуть большевиков.
И тогда, говоря обо всем этом в своем письме откровенно и бестрепетно, Ленин выражал твердую веру в победу революции.
Он умеет находить нужные слова, не смягчая их смысл, — в этом его сила. Когда Ленин сказал о Каутском, что он несет позорный вздор, что это детский лепет и пошлейший оппортунизм, то разве это не было упреком Кларе? Им всем… Они не всегда находили беспощадные слова для своих противников, для «своих», немецких оппортунистов! Часто имя довлело над ними. Громкое имя, известное имя, которое вкатывалось в зал заседания раньше самого деятеля и прежде, чем он откроет рот.
Но рядом с резкостью, прямолинейностью, непримиримостью есть у Ленина какая-то непосредственность, умение удивляться и радоваться каждому новому дню революции, тому, что этот день несет. Что является в первый раз, но утверждается навечно.
И Клара вспоминает, какой постскриптум сделал Ленин к своему письму. Он уже закончил его, но не мог не поделиться замечательной новостью! Действительно, это была замечательная новость: ему только что принесли новую государственную печать!
И он ставит ее оттиск на листок своего письма! И переводит на немецкий текст на печати: «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
От двух коротких слов «только что» это событие — принесли первую печать первого рабочего государства! — как будто произошло на их глазах. На глазах Клары и Франца. Да, тогда еще был жив Меринг, и его старые глаза долго рассматривали ясно получившийся оттиск печати. И русские слова на ней.
— Смотри, Клара, — сказал он своим тихим голосом, который становился таким сильным, когда он говорил с трибуны, — посмотри, он уже закончил письмо. Видишь: в первом постскриптуме он передает привет от своей жены. И тут как раз приносят печать. И конечно, некоторое время он ее рассматривает. И конечно, радуется. И пишет этот второй постскриптум насчет печати!
От слов Меринга Кларе еще яснее представилось, как Ленин радуется первой государственной печати первой Советской Республики. Но она представила себе Ленина таким, каким его видела первый и последний раз в Штутгарте на конгрессе. А с тех пор ведь прошло больше десяти лет. И теперь после того письма прошло еще два года, и наверное, эта печать скрепила уже множество документов русской революции. И к ней привыкли. Но почему-то Кларе думалось, что время от времени Ленин берет в руки печать и, как в первый раз, удивляется и радуется ей.
Как странно: ее собственная судьба, судьба немецкой женщины, оказалась так тесно связана с Россией.
Когда Клара впервые услышала о ней? Нет, не об ее огромных пространствах и жестоком климате, не о силе ее оружия и величии ее правителей. Не те слова, которые падали со школьной кафедры, круглые и звонкие, как монеты с отчеканенными на них безглазыми лицами монархов. И не те туманные, стершиеся от времени полубыли, которые разматывал длинными зимними вечерами старый солдат, привратник Иозеф, перед девочкой из серого дома на Мошелесштрассе.
Эта страна открылась ей много позже. Так случилось, так счастливо случилось, что именно любимый человек открыл ей все, что составило смысл ее жизни. И среди того многого, что ей открылось, была родина ее мужа, его суровая родина. А когда Клара вошла в и мир политической борьбы, тогда для нее и ее единомышленников Россия стала примером. Подумать только, что тогда, в 1905-м, после девятого января, они все, и Роза, и Франц, и тогда ведь был во всей своей силе Бебель, — они верили в то, что руководство германской партии выступит против злодеяний русского царизма! Что лидеры дадут высокий пример. Ведь это германская социал-демократия! Аванпосты… Но руководители воды в рот набрали, когда надо было поднимать массы! Все эти бонзы уже тогда взращивали в глубине своих душонок семена измены! Тогда они: Клара с Розой и все те, которые не сдались в тяжелые времена, не стали молчать.
А когда в России победил Октябрь, это переменило всю их жизнь. И наполнило ее новым смыслом. У Клары уже не было тогда «Равенства». Но на страницах «Лейпцигской народной газеты» она полностью высказалась. И те, кого она назвала «знахарями и аптекарями от социализма», — получили свое. Вот тогда она написала Ленину большое письмо — их общее «спартаковское» письмо. Какие это были дни! Дни ликования, дни триумфа. Нет, они, спартаковцы, вовсе не преуменьшали трудностей русской революции. Они понимали их и спешили на помощь ей на всех парусах. И тогда яснее и непереносимее стало все, что мешало им, немецким коммунистам, идти вперед.
Но прошло еще много времени, и много произошло событий, пока Клара смогла порвать с «независимыми», продавшими свою независимость. Это случилось весной 1919 года. Она объявила о своем выходе из Независимой социал-демократической партии. И об этом же она говорила на внеочередном съезде партии. О том, что дальнейшее сотрудничество с правыми в Независимой социал-демократической партии для нее дело совершенно невозможное. Она отмежевалась от нее. Сорок лет борьбы за социализм дали ей право тогда сказать: «Как бы я ни была стара, — а мне, возможно, осталось уже не так много жить, — я хочу все-таки то время, в течение которого я еще смогу работать, стоять на той стороне, бороться в том лагере, где кипит жизнь, а не там, где царят развал и бессилие. Я не хочу еще при жизни ощутить на себе дыхание политической смерти».
Она волновалась. Очень волновалась. Она впервые сказала о своей старости, но чувствовала ее ведь уже давно. А теперь начинала все сначала. И в этот миг она услышала, как одинокий голос взволнованно крикнул откуда-то из глубины зала: «Браво!». И тогда, уже спокойнее, она продолжала: «В такое время, когда пробьет великий час, на посту должны быть достойные. Нам нужны будут настоящие люди, готовые действовать в любое время. А для этого им нужны настоящие лозунги. Выбор один: капитализм или социализм. Никаких соглашений».
Эта ее решительность тоже была подсказана победившей в России революцией. Чтобы стать ее союзницей в Германии, надо было прежде всего очиститься от оппортунизма.
Когда Клара вступила в молодую Коммунистическую партию Германии, стала членом ее Центрального Комитета, она обрела второе дыхание. От имени молодой партии она обратилась к Советской России. Это была дань уважения к ее героической борьбе против внутренней контрреволюции, против капитализма во всем мире.
Впервые взойдя по ступеням рейхстага как его депутат, она в первой же своей речи произнесла клятву верности в борьбе рядом с русскими пролетариями. И за этим следовала напряженная и опасная работа по срыву военных поставок Антанте для ее похода против большевиков.
Так, не очень последовательно, повинуясь внутренней потребности, вспоминала и размышляла Клара, а поезд мчал ее уже по новым местам, и она не отходила от окна, отдавшись отрадному ощущению приближения к цели.
Она много раз пересекала границы многих государств. Иногда это было обычным, иногда тревожным, изредка — опасным.
Сейчас она ехала в Москву как делегат Конгресса Коминтерна. Но была другая тревога: какой увидит она Россию? Что даст ей первый взгляд, первый час, первый шаг?
Она смотрела на уходящие назад ржавого цвета равнины, безлюдные и печальные, и на редкие селения, черные избы которых взбегали по невысоким холмам, а иногда закатное солнце ударяло в стекла маленьких окошек, и тогда казалось, что за ними бушует пламя. Потом пошли леса, и было необычно, что они так близко подходят к путям, тянутся так долго и как будто смыкаются где-то впереди, где железная стрела поезда вонзается в зеленую массу, терпко пахнущую прелым листом.
В Гатчине ее встретили защитники Петрограда, не так давно разбившие под стенами города белогвардейские банды Юденича. Среди встречавших были и старики и юноши. Они были одеты кто как: в потрепанные солдатские шинели и фуражки без кокард и в рабочие куртки. Кларе показались знакомыми их широкие жесты, и оживленные лица, и свободная речь, слов которой она не понимала, но схватывала интонацию. Они показались ей похожими на восставших моряков Киля.
Среди встречавших был вернувшийся из германского плена солдат, и на ломаном немецком он сказал Кларе, что они посланцы всего рабочего Петрограда; что встречать ее хотели все, но было решено, что выберут из тех, кто участвовал в боях за Питер; что они рады ее видеть, потому что знают ее давно и любят ее как братья по классу. Как младшие братья — старшую сестру и великую революционерку! Но, может быть, он плохо говорит по-немецки и она не поймет его?
Но Клара сказала, что поняла его очень хорошо. И очень хорошо понимает остальных, хотя они не говорят по-немецки.
Речь, произнесенная пожилым человеком, солдатом, на лице которого так ясно можно было прочесть, через какие рытвины и ухабы шел он к этой минуте, — его речь была очень простой, но и возвышенной.
Потом Клара услышит в России много других речей и подумает, что для них характерно это соседство простых и возвышенных слов.
Солдат кончил свое краткое слово, как будто вкатил его на высоту возгласом: «Да здравствует наш друг Клара Цеткин!» И все трижды прокричали «Ура!». Это было так необычно, и столько чувства исходило от этой небольшой горсточки людей, словно, действительно, был здесь весь рабочий Питер.
Она отметила, с какой жадностью, с каким любопытством, которое пожилые и степенные не очень выдавали, но молодые не могли скрыть, они смотрят на нее. Так смотрят только на того, кого очень ждали, кого часто представляли себе, и теперь говорят мысленно: «Вот, значит, он какой»…
И неожиданно Клара обрадовалась тому, что она именно такая: уже немолодая, что «все при ней», все приметы долгой, долгой жизни с ее редкими праздниками и большим трудом. Наверное, странно и неразумно радоваться своим сединам, но было в этом что-то правильное: в том, как она стояла на ступеньке вагона и обращалась, действительно, как старшая сестра, как ветеран, к этим солдатам революции, уже совершившим ее.
Клара заметила среди встречавших ее совсем молодого парнишку. На его русых волосах набекрень сидела солдатская папаха. Видно было, что в эту еще теплую пору он носит ее для лихости. Клара спросила, кто он, откуда. Ей перевели его ответ: он учился на токаря на Путиловском заводе и записался в красногвардейский отряд в самом начале. Клара спросила еще, почему полы его куртки сожжены? Это случилось в бою? И ей смеясь объяснили, что однажды ночью он заснул у костра и свалился в огонь.
В Петрограде Клару привезли в шикарную гостиницу, в которой не действовали ни водопровод, ни канализация. Ни лифт, конечно. Но номер оказался на первом этаже, и около мраморного умывальника, похожего на роскошное могильное надгробие, стояло цинковое ведро с водой. А уборную можно было посетить во дворе, где для этих целей были, видимо, недавно выстроены домики из свежего теса.
Клару спросили, что бы она хотела посмотреть в Питере, и она сказала, что хочет увидеть места, где зарождалась революция. Ее усадили в автомобиль, очень старый, наверное, созданный на заре автомобилизма, и повезли в Смольный.
Вечером Клара выступала на большой женской конференции, а на следующий день выехала в Москву.
Первое приветствие москвичей донеслось до нее в открытые окна вагона: знакомые звуки «Интернационала», исполняемого оркестром.
Вокзальная площадь словно кипела, и хотя люди были одеты более чем скромно, и даже бедно, толпа казалась нарядной от самой своей пестроты. А может быть, такой делали ее радостные и воодушевленные лица.
Это воодушевление на лицах Клара тоже отметит не раз за свое пребывание в России. В деловых ее буднях, на улицах, выдающих все признаки неизжитой разрухи, незаживших ран гражданской войны, бросилось в глаза, что кругом много смеющихся людей. Идут мужчины и женщины, плохо одетые, плохо обутые и — это видно — не очень сытые. Клара не понимает, о чем они говорят, но язык смеха — интернационален. Они смеются… Она никогда не видела на улицах столько смеющихся людей! Разве только где-нибудь на фешенебельных курортах. Но там смеялись богатые и бездельные люди, а эти были бедны и очень заняты.
Ленина Клара встретила тотчас по приезде, в Кремле. Ее пригласили в Свердловский зал, где он вел заседание. Он пошел Кларе навстречу, и когда он обнял ее и она близко увидела его небольшие глаза с естественным для них выражением дружелюбия, она удивилась, что он почти не изменился за эти годы. И так как заседание шло своим чередом и Ленин говорил на нем, — она могла рассмотреть его лучше. И опять удивилась тому, что он так мало изменился. Как будто бремя большой ответственности он нес без натуги, и волна народного доверия легко подымала его на свой гребень. И еще одно уловила она: его слитность с теми, для которых он говорил, знакомым Кларе движением руки словно передавая свою мысль залу, словно подавал ее как нечто материальное в этой своей протянутой руке…
В кремлевской квартире Ленина Клара встретилась с Надеждой Константиновной Крупской. Многое Клара поняла именно через нее, потому что по-женски умела читать детали жизни. Крупская заметно постарела, и видно было, что не столько от лет, сколько от болезни. Но странным образом лицо ее сохранило то, что составляло когда-то, наверное, главную его прелесть: взгляд немного выпуклых глаз был удивительным, зеркально чистым и теплым.
Она очень понимала и ценила юмор, и так как немецким языком она владела свободно, то часто смеялась каким-то словам Клары. Смех ее был негромкий, слегка припухлые губы розовели. Тогда миловидность ее проступала яснее, и живо можно было себе представить Надежду Крупскую совсем молодой. Кларе открылся спартански скромный быт семьи, в которой господствовал дух высокого интеллектуализма. И особенный, чистый, как бы разреженный воздух вершин, которым здесь дышали, в котором досадные мелочи жизни становились не обременительными, а часто — и забавными.
За обедом у Ленина подавали жидкий суп с редкими лапшинками и маленькими кусочками мяса. А на второе — наоборот: кашу с большими твердыми крупинками. Клара очень смеялась, когда Владимир Ильич сказал, что эту кашу называют «шрапнелью».
— Если такой обед подают Председателю Совнаркома, то что ест обыкновенный рабочий? — спросила Клара.
Ленин с улыбкой ответил, что в общем — то же…
Разлили морковный чай из большого жестяного чайника и Клару научили пить чай вприкуску. А когда кто-то заметил, что, мол, скоро трудности будут позади, Клара продекламировала строки Гейне:
А хлеба хватит нам на всех — Устроим пир на славу!И за столом подхватили:
Есть розы и мирты, любовь, красота И сладкий горошек в приправу!Потом, когда Клара заболела, Ленин и Крупская приехали проведать ее. Это была короткая встреча, но ее теплота скрасила Кларе неудачу: заболеть как раз в дни конгресса!
Оправившись, Клара пришла к Ленину в Кремль.
Московская осень уже вступала в свои права. Еще по-летнему теплый дождь шел весь день. В кремлевском кабинете Ленина настежь распахнуты окна, и комната полна шумом дождя и запахом мокрой зелени.
Кабинет был обыкновенный. Разве только какая-то целесообразность окружающего: ничего лишнего. Нагромождение бумаг и книг на столе не казалось ни хаотическим, ни педантичным. Видно было, что здесь работают — и все.
Клара опять подумала, что Ленин, собственно, мало изменился за эти годы. Но сейчас в нем угадывалось и новое: чувство какой-то особой полноты жизни, высокой удовлетворенности.
И это не снималось тенью заботы, которая набегала на его лицо и вдруг таяла в усмешке. Усмешка тоже была беглая, но открывала расположенность человека к смешному и уменье видеть его.
До сих пор Клара встречала Ленина на людях, в пылу выступления, или спора, или напряженного разговора, и первое, что бросалось в глаза: необыкновенная страстность, оживление, с которым он не только говорил, но, казалось, и слушал. Тому, чем он занимался в данный момент, Ленин отдавался весь и не скрывал этого. Его лицо, наклон головы, вся фигура выражали какой-то стремительный интерес к собеседнику или оратору. Он как будто быстро впитывал в себя все, тут же его оценивая. Из его ответов было ясно, что мысль его уже проделала работу над услышанным, повернула его так и эдак и возвращает собеседнику — обогащенным…
Теперь, когда Клара была с Лениным наедине, она определила это его свойство точнее. Говорить с Лениным было легко, прежде всего из-за этого его внимания и поощрения говорить дальше. Оно не выражалось словами, но передавалось самой манерой Ленина слушать.
Поэтому начисто отпадали и естественные опасения отнять у него время, как-то затруднить… «Да он ни минуты не будет говорить о том, что ему неинтересно. Только о том, что даже не просто интересно, а необходимо, — заключила Клара. — А что ему необходимо узнать от меня? То, что я хочу ему сказать, будет ли важным для него?»
Она не успела предположить то или другое, потому что Ленин начал разговор стремительно, как будто продолжая его, как будто не после точки даже, а — запятой.
И тотчас он двинул главную свою мысль, главную в этом разговоре: еще нет у нас международного женского коммунистического движения! Когда он сказал: «Мы должны немедленно приступить к его созданию», — это «немедленно» прозвучало с нажимом и было обращено сейчас к ней, Кларе, а слово «мы» включало в себя то, что русские коммунисты будут в этом главной силой.
Поэтому он и начал беседу с положения женщины в Советском государстве. Одна его фраза сразу осветила вопрос: о том, что пролетарская диктатура искореняет больше предрассудков, чем кипы литературы о женском равноправии. Клара обрадовалась ей, в ней заключалась мысль, близкая ей с юности, — «В деянии начало бытия».
Клара сама вложила немалую долю в «кипу литературы о женском равноправии». И ясно ощутила, как пример страны, практически осуществившей это равноправие, перевел агитацию за него на новую ступень. Если раньше Клара писала и говорила о женском равноправии, видя его в идеале, то опыт России сделал желаемое действительным. В словах о «кипе литературы» не было иронии или пренебрежения, но слышалось удовлетворение от того, что жизнь подтвердила теорию. И с тем оживлением, которое не затухало в нем, Ленин стал слушать ответ Клары на прямой вопрос о работе среди женщин за границей.
Она не могла говорить о ней, не вспомнив о Розе. Не упомянув ее имени.
…Это было сразу после основания Коммунистической партии. Они почувствовали себя уверенней и сильнее: они обрели свой дом. И они помечтали немного о такой газете, которая освещала бы женское движение. И даже прикинули, кто был бы полезен в ней. Ведь они, немецкие коммунистки, никогда не забывали о женском движении.
Первая конференция Компартии Германии была нелегальной. А всякое нелегальное собрание, естественно, тяготеет к краткости. Уж куда там терять время на вопросы второстепенные, если за делегатами идет полицейская охота!
А на конференции все же стоял вопрос о движении женщин. Да как же иначе? Коммунистическое движение без организации женщин — птица без одного крыла! Но Ленин должен был знать, что здесь — трудности огромные, потому что самые опытные агитаторы и руководительницы женского движения остались у социал-демократов. Им, коммунистам, в известной степени — начинать сначала.
Когда Ленин сказал, что предстоят великие дела, эти слова он произнес не пафосно, не приподнято, а обыденно, не подчеркивая их. В этом, однако, содержалось нечто очень важное, потому что великие дела ведь совершались здесь, в первом пролетарском государстве, каждодневно, они стали обыденными. Какая величественная обыденность! И она, Клара, причастна к ней! Нет, в такой мысли не было ничего «итогового», ничего завершающего: напротив, она устремляла вперед. И то, что перед ней снова лежала длинная трудная дорога, радовало Клару.
Она поняла, что Ленин воспринимает ее и обращается к ней — да, конечно, — как к человеку, много сделавшему в партии. Но не это было для него, да и для нее, главным. Главное заключалось в том, что он видел ее стоящей не в конце пройденного пути, а в начале нового. С удивительной ясностью она поняла, что именно это ей дороже, что никакое словесное признание ее заслуг не могло бы дать ей большего духовного подъема, чем этот обращенный к ней призыв идти дальше. Внутренний голос, который часто нашептывал ей о старости, о слабости, о покое, умолк, побежденный страстностью, с которой произносились в этом кабинете другие слова.
Речь Ленина — теперь она касалась дел чисто практических — вызывала множество ассоциаций. Она, словно некий катализатор, усиливала движение мысли, подтягивала к ней аргументы, доводы. Но вместе с тем высвечивала в памяти целые картины.
Сейчас разговор пошел о проблемах пола и брака, и Ленин страстно доказывал, что преувеличенное внимание к этим вопросам, прямо-таки выдвижение их на первый план — просто вредно. И едко высмеивал ту настойчивость, с которой эти вопросы трактуются среди немецких работниц. Сейчас Ленин уже прямо к ней, Кларе, обращал свои упреки. И она попыталась объяснить ему интерес к вопросам пола и брака как своеобразную реакцию против буржуазного лицемерия.
Но пока она это говорила, как назло, перед ней вставали знакомые картины. И она уже с иронией вспоминала, с каким упоением агитаторши вводили работниц в круг фрейдистских идей. Их усилия сейчас по-иному виделись ей. Вся ужасная отсебятина в вопросах пола действительно уводила куда-то в очень, очень боковое русло энергию и помыслы работниц. Все-таки Клара попыталась оправдать этот «окольный путь»: в конце концов он приводит к той же критике буржуазного строя…
Но Ленин не шел на уступки. Нет, он проявлял такую непримиримость в этом как будто частном вопросе, словно от него зависели важные политические выводы. Да ведь это так и было…
Ленин прищурил глаз, и сдержанная улыбка тронула его губы, когда он сказал, что есть более интересные и близкие пролетарке темы, чем формы брака у австралийских негров или внутрисемейные браки в древнем мире.
И тут Клара насмешила Ленина своим рассказом о том, что ее предложение отодвинуть вопросы пола несколько назад вызвало обвинение в «старомодном мещанстве».
Клара с улыбкой вспомнила дискуссионный вечер в рабочем клубе, где это произошло, и увлеченность, с какой молодежь высказывалась «с высоты своего жизненного опыта» о таких вещах, как «зов пола», «извечное стремление друг к другу двух половинок», и все в этом духе…
То, что Ленин говорил о любви, об отношениях мужчины и женщины, было целомудренно без аскетизма, разумно, но не рационалистично. И пресловутую теорию «стакана воды» он разбивал вдребезги совсем другими аргументами, чем это делалось обычно: более острыми и беспощадными.
Убедительность его слов шла не только от глубины их смысла, но и из его собственной убежденности, от ощущения их выношенности, их прямой связи с главным: с интересами революции. И не только русской…
«Он мыслит интернационально», — подумалось Кларе, и это не совсем обычное словосочетание, показалось ей, определило подход к теме их беседы. Клара легко применяла сказанное Лениным к действительности Германии или другой страны. И пожалела, что эти мысли не стали достоянием многих.
Она не могла удержаться, чтобы не сказать об этом. На ее замечание Ленин улыбнулся, и она поняла смысл его улыбки: у русских большевиков, как они говорили, «руки не доходили» — ей понравилось это выражение — до проблем этого рода…
И действительно, Ленин заговорил о положении Советской России, о ее трудностях. Ее поразила уверенность, с которой он сказал, что с военной угрозой они справятся. Его помыслы шли дальше. Он весь был в будущем: революция разрушает не для самого разрушения, а для созидания. Она поняла, что главная задача — восстановление и что он сейчас целиком занят планами восстановления разрушенной экономики страны.
Теперь они уже вступили в другой этап беседы: практический. Обсуждали проект тезисов о коммунистической работе среди женщин. Клара ощутила мощную поддержку своей позиции. Ведь ее мысли о специальной работе среди женщин многими встречались в штыки.
Было видно, что Ленин хотел сказать еще что-то, но Клара заметила какую-то перемену в обстановке. К ним уже дважды стучались, и Ленин, хотя и не прерывал разговор, но посмотрел на дверь озабоченно.
Клару тронуло, что, прощаясь и помогая ей надеть ее по-европейски легкое пальто, Ленин с искренней заботой заметил, что «Москва — не Штутгарт», надо одеваться теплее.
Клара вспомнила, что при каждой встрече он никогда не забывал спросить о ее сыновьях, и женским чутьем она угадывала в этом настоящий интерес к ее человеческой судьбе.
Дождь не шел больше, солнце, уже на исходе, положило косой луч на зеленую лужайку.
Девушка, провожавшая Клару до ворот Кремля, широколицая, в красном платочке на гладко причесанных волосах, поглядывала на Клару со сдержанным любопытством. Остановившись у выхода, она обратилась к ней по-немецки:
— Отсюда вам совсем недалеко до гостиницы. Вы знаете дорогу? — Она говорила осторожно, но правильно. У нее, несомненно, был хороший учитель и — никакой практики.
— Вы учили немецкий язык в школе? — спросила Клара, тоже стараясь четко выговаривать слова.
Девушка засмеялась:
— Нет, я училась в школе только четыре года. И пошла работать на фабрику. Мы занимаемся немецким в кружке.
Клара заинтересовалась, ей не хотелось отпускать девушку.
— Вы можете пройти со мной немного по этому бульвару?
— Конечно, товарищ Клара. Это — Александровский сад.
— Скажите мне: что это за кружок, кто в нем занимается?
— Ну… — девушка подыскивала слова, — это — при клубе Трехгорки, такая фабрика…
Клара знала Трехгорку, она выступала там.
— Нас много в этом кружке. И не только молодежи.
С внезапно вспыхнувшей доверительностью она продолжала:
— Есть даже один пожилой. Он был солдатом еще в царскую войну.
Клара поняла, что эта война для девушки — уже история, как и все по ту сторону совершившейся революции.
— И что же солдат?..
— Он успевает больше всех. Хотя не очень здоров. Он был отравлен газами. И поэтому сейчас не в Красной Армии.
— И вы все занимаетесь в кружке после работы?
— Да, конечно. Три раза в неделю. Мы хотим поскорее научиться говорить по-немецки.
— Вот как? Именно говорить? А почему вы решили изучать немецкий язык? — Клара сбоку взглянула на собеседницу: ее вопрос не вызвал у нее раздумья.
— Потому что в Германии, наверное, тоже скоро будет пролетарская революция. И наверное, наша помощь тогда понадобится.
Клара молчала, и девушка добавила:
— У нас в кружке все так думают.
Клара вернулась. Она вернулась к своим друзьям, единомышленникам, соратникам. И к своим врагам. К своей борьбе, к своим тревогам. Что изменила в ней самой поездка? Что внесла в ее жизнь? Теперь, когда она вышла из ливня впечатлений, Кларе хотелось разобраться в этом.
— Эти впечатления нельзя расписать по карточкам и сунуть в картотеку, как ты любишь делать, — сказала Клара Кете Дункер. — То, что я видела, — сложно. Голод, нищета, разруха. Страдания. Как же сумма таких слагаемых дает в итоге — счастье людей?
Да, в самом деле: после того как она все видела своими глазами, она могла по совести сказать: «Я была в счастливой стране!» Но ты же видела там солдат в ботинках, разваливающихся у них на ногах. Изможденных от недоедания работниц. Главу государства, на столе которого был черный хлеб и жидкая каша. Да, все это так. Но это были не солдаты, а красноармейцы. И эти работницы говорили Кларе: «У нас все делается для детей, все, что можно. А потом…» Они видели это «потом», и оно было прекрасно. «Вот только кончится война, покончим с контрреволюцией и разрухой…» Они произносили слово «мы» с достоинством людей, которые строят свою судьбу сами. Так что же делает людей этой страны счастливыми? — Свобода!
Теперь она была солдатом Третьего Коммунистического Интернационала и выполняла его задания. Не только в Германии. И не только в женском движении.
В один из декабрьских дней того же 1920 года Клара ехала во Францию, в Тур, где происходил учредительный съезд Коммунистической партии Франции. Ей пришлось вернуться к навыкам подполья. С чужим паспортом она пересекла границу и появилась на трибуне съезда. С огромным подъемом выступила на съезде.
И опять нелегальная поездка на конгресс Итальянской социалистической партии в Милане. Клара выдает себя за актрису, приглашенную Миланским оперным театром. Свою речь на конгрессе Клара закончила словами о поддержке Советской России.
Третий конгресс Коминтерна, на котором Клару чествовали горячо и сердечно в день ее рождения, открыл перед ней новую полосу работы: она была выбрана членом Исполкома Коминтерна и возглавила секретариат по женской работе.
Международный женский секретариат забил тревогу при первых признаках тайной подготовки новой войны. И Клара Цеткин опять в пути: она ездит по странам мира. Подымает голову фашизм. Клара собирает силы для отпора этой главной опасности времени!
Глава 4
Старые люди спят мало и трудно засыпают. Даже в таком доме, словно созданном для покоя. В доме, где все устроено с великой любовью, сыновними руками — для матери.
И все же она не спит. Откинувшись на спинку кресла, прислушивается в тишине.
Биркенвердер сдался на милость глубокой осени. Последние листья, сорванные порывом ветра, падают на землю так обреченно, словно струятся желто-красными струями, которые сливаются на аллее парка в дрожащий мелкой зыбью поток, распространяющий терпкий запах тления и ржавой осенней воды.
Это была хорошая мысль: поселиться здесь, на дальней северной окраине. Биркенвердер! Ольха — любимое ее дерево, песок, нагретый солнцем. Тишина.
Дом полон тишиной, словно омут — туманом. И кажется: там, за окном, тоже стоит крепкая, густая тишина. Но это не так. Колеблются верхушки ольхи, перемещаются тени на песчаной прогалине между деревьями, беспокойство разлито в воздухе.
И ей тоже неспокойно. В этом доме, где все сделано по ее вкусу. Ее сыном. Для ее покоя и работы. Дом невелик, весь на виду: ограда совсем низкая и ажурная, — она никогда не любила высокие ограды словно что-то скрывающих, затаившихся вилл. Несколько каменных ступеней, лестница — боковая, в ней нет парадности, а есть милая данность. И поздние настурции в ящиках на площадке хорошо выглядят: оранжевые на сером камне дома. Комнаты просторны, не заставлены мебелью, полны света и воздуха. Все скромно, целесообразно, современно.
Убранство ее рабочей комнаты — как раз то, что ей надо. Письменный стол — впритык к большому, во всю стену, окну. Свет падает прямо на столешницу, и чистый лист бумаги на ней слегка розовеет в солнечном луче. Так волнующ, как обещание хорошей работы — этот чистый лист, обласканный солнечным лучом. Старинный стол-секретер, приземистый, со множеством ящичков. На полке секретера ее любимые комнатные цветы: маленький фикус со своими словно отполированными листьями и крошечный кактус, ежиком выглядывающий из горшочка. Кресло перед столом, разлапистое, удобное, располагает к работе, к тем неспешным и важным размышлениям, которые сопутствуют ей.
Почему же ей неспокойно здесь, на ее родине?
Она услышала, как пробило два, и ей показалось, что это бьют церковные часы Видерау. Ей послышались звуки старенькой фисгармонии, на которой играл ее отец дома. Пальцы его касались клавишей мягко и осторожно, словно боялись причинить им боль. Отец казался выше и сильнее — великаном! — когда выпускал мощный голос органа под своды маленькой церкви.
Она выросла под эти звуки, которые как будто подымают потолок ее комнаты. Или это ветер бушует по верхам деревьев?
Теперь там, за окном, стала видна каждая ветка над песчаной прогалиной: взошла луна. Стволы берез белеют так нежно. Глядя на них, можно подумать, что ты в Узком или в Архангельском, под Москвой, в милых сердцу местах. Здесь нет ни грабов, ни буков — только ольха и береза. И все же остро чувствуется, что ты на родине. Хотя видны только эти облитые лунным светом березы, песок, а дальше — темные кущи парка и ничего больше. Но Кларе кажется, что она видит очень многое. То, что никак не может быть видно отсюда. Видит глазами своей памяти, которая благодарение судьбе! — не померкла.
Бархатистая, зеленая, всех оттенков — от темно-малахитового до прозрачно-изумрудного — долина Рейна. Если смотреть сверху, со скалы Лорелея, она кажется подернутой сизой дымкой с оттенком спелой сливы.
Желтоватые отроги гор, сбегающие к Эльбе, замысловатой петлей охватившей Саксонскую Швейцарию, суровость Вогезов, сказочность Шварцвальда. Дунай, который зовут голубым — а он так редко таким бывает, — с каменистыми уступами, венчающими левый берег. Боденское озеро — как светлый замочек на воротах трех границ.
Она видит реки и горы, леса и равнины. И города. Каждый из них имеет свое лицо, а для нее — еще что-то, какое-то воспоминание, принадлежащее ей одной.
Дрезден — это ненаглядность Цвингера, затаенное дыхание в залах галереи, бесконечность анфилады, бесконечность наслаждения красотой и мудростью искусства…
Она не знает, что пройдет менее двадцати лет и этот город будет в одну ночь уничтожен военной авиацией в самой кровопролитной войне, какую знала история.
Милый старый Бонн, тихое провинциальное убежище вышедших на пенсию чиновников высоких рангов. Дом Бетховена под черепичной крышей. С теми самыми зелеными ставнями на окнах…
Кто мог бы сказать, что через тридцать лет здесь подымется модный, фешенебельный город, подмявший под себя чуточку старомодный Кельн; что здесь будут решаться кардинальные вопросы войны и мира и разгорятся баталии между людьми здравого смысла и партиями тупого консерватизма и злой воли!..
И Нюрнберг, старый уютный Нюрнберг с узкими, средневековыми улочками, с оживленными пивными, где политические споры ведутся под стук кеглей и звуки простенькой песенки, исторгаемые механическим пианино. Это потом, много позже, сюда, на пышные «партайтаги» будут стекаться нацисты со всей страны. И бесноватый фюрер будет кидать «пророчества» в наэлектризованную толпу. А еще позже здесь свершится акт праведного возмездия преступной клике!
Сумрачный, чопорный Берлин, серый город, неожиданно вспыхивает неистовой зеленью Тиргартена, трогает патетичностью Дворцового моста, поэзией Люстгартена…
Всего через восемь лет сюда вступят коричневые и черные колонны, осененные знаменами со свастикой. И в гигантские костры полетят книги — бессмертные творения великих. А еще через двенадцать лет все обратится в руины. И много лет будет висеть над городом тягучий скрежет машин, перемалывающих останки домов в порошок, в каменную пыль — материал для новых строек. И кости тех, кто кидал в огонь книги Маркса и Гейне, истлеют на полях России. И знамена со свастикой однажды, на параде Победы, будут брошены к стенам Кремля…
Хотя она не знает всего, что будет потом, но предчувствие бед живет в ней. Она читает в книге Судеб своей родины главу грядущего так ясно, словно эта книга лежит перед ее глазами. Потому что она отлично знает своего врага! Не только по его имени: «Империализм!». Она знает, что он способен рождать чудовищ и наделять их разрушающей силой. И если люди мира не станут стеной и дадут ему пройти — участь миллионов будет ужасной!
Она хочет уйти от этих мыслей. Она просто смотрит в окно… Эта маленькая песчаная прогалина между деревьями похожа на отмель, на маленькую отмель, облизанную недавно ушедшей волной. Что такое старость? Это отмель. Маленькая песчаная отмель, покинутая волнами. С плеском и грохотом, в облаках пены, ушли они в открытое море. Далеко, к другим берегам, оставив здесь лишь отмель с волнистым следом на песке, с мелкими ракушками и сгнившими водорослями, со всем, что остается от набега волны. Что такое старость? Отмель со следами ушедших волн. Но думая так, она знает, что утро снова вернет ее в грохочущий мир.
Ночь в Биркенвердере… Ее тишина так глубока, а свет так призрачен. И в пустынный дом входят люди, которые давно ушли под своды вечности. Они приходят не бесплотными тенями, а полными жизни, такими, какими она их знала и любила. Ее друзья, ее наставники, ее соратники. Они являются не сразу, сначала — только их голоса.
Это как в музыке, как фуга: два голоса звучат, словно споря, и вдруг в них вплетается третий, и еще, еще. И многоголосье повторяет, умножает, обогащает исходную тему, и уже по новому кругу с новой силой движется она.
Да, это фуга: нанизыванье звуков на стержень одной темы, переплетение голосов, словно бы хаотическое, и все же это гармония. Звуки сплетаются и расплетаются по единому плану. И лидирующий голос направляет все течение, эти медленные заплывы понизу и стремительные взлеты вверх. И все ширясь и обогащаясь все новыми оттенками, открывая все новые дали за поворотами основного потока, — бежит эта фуга, которая и есть ее жизнь, ее долгая, полноводная, бурная и все же гармоничная жизнь!..
Но вот теперь они входят в комнату, заполняя ее своими массивными фигурами. Впрочем, среди плечистых, рослых мужчин, рядом с изысканным Энгельсом с его прекрасной головой в седой шевелюре, с Юлиусом Моттелером — его отличают длинные, светлые и тонкие, как облако, бакенбарды, — маленький человек с красиво закинутыми назад волосами над чистым лбом. Его бородка подстрижена «эспаньолкой». Прямой нос и благородно очерченный рот. Это — Август Бебель.
Здесь самые близкие и дорогие: любимый муж, Осип Цеткин, это его лицо пророка она снова видит так ясно. И свет ее очей — Роза… Ни следа мученической смерти на ее оживленном, как всегда, лице, в ее маленькой, тоненькой фигуре.
И тот, которого совсем недавно проводили из жизни миллионы осиротевших людей, — он тоже тут. С милой картавостью речи, с проницательным, ироническим взглядом.
Клара снова стоит у открытого гроба, чувствуя плечом плечо словно бы закаменевшей в горе Надежды Крупской. И видит, как поток людей медленно и скорбно течет мимо, неся свою беду, свою любовь, свою верность.
Германия 1925 года задает множество загадок. Может ли подсказать их разгадку седая женщина, у которой такие живые глаза, а речь пересыпана острыми словцами, то и дело вызывающими смех. Здесь ее никто не знает. Да и откуда могут знать Клару совсем молодые люди, можно сказать, мальчики, собравшиеся в крошечном кафе на опушке леса? Клара поселилась тут, в Биркенвердере, не так давно. И в эту кнайпу зашла случайно: она просто очень устала, выступала на многолюдном собрании в Берлине и, возвращаясь со станции, зашла выпить чашку кофе. Но беседа этих юнцов не могла оставить ее равнодушной. О, они ведь все знают! Во всем так хорошо разбираются! Может быть, они даже могут объяснить, откуда захудалая нацистская партия, которую еще недавно и всерьез никто не принимал, получает помещения для собраний. И типографии, чтобы печатать свои бредни о «спасении нации»? И место у рупоров радио, чтобы без конца трепать языком и давать бесконечные обещания?
Вы не знаете, откуда взялись такие большие деньги на все это у небольшой, но очень настырной партии? Правда, последнее время ей укоротили руки, но она все-таки не унимается.
Вы ничего обо всем этом не знаете?
Значит, вы не присутствовали на секретных совещаниях вожаков этой партии с самыми богатыми людьми Германии? А она-то по простоте души полагала, что они только и делали, что заседали на таких совещаниях!
Парни смеются…
— И вы ничего не слышали о тайных совещаниях промышленных магнатов и финансовых воротил с лидерами этой новоявленной партии? Вы ничего об этом не знаете? А она думала, что здесь сидят акционеры «Рейнметалла», или, по крайней мере, Борзига.
Молодежь искренне смеется.
— Разве твой отец не владеет родовым поместьем? — спрашивает веселая седая женщина худого парнишку в кожаной куртке, белой по швам. — Твой отец — сборщик деталей на Стиннесверке? Что же, ему нравятся твои рассуждения, он тоже верит в «коричневый рай»? Нет? А почему не верит? Ах, вот оно что: он был под Верденом! Он не хочет, чтоб ты тоже был где-нибудь в Шампани или, может быть, в Пинских болотах.
Милые парни, вы совсем не знаете, что такое война! О, вы участвовали в военных играх? Прекрасно! Это такая война, где гранаты не рвутся, пушки не стреляют, но офицеры все равно кричат: «Вперед, вперед, за святую Германию!» И оркестр играет: «Вперед, солдат, спеши на поле славы!»
Парни смеются:
— Вот Пауль разбил себе коленку, когда бежал в укрытие!
— Ну, значит, ты герой, Пауль! Право, твоя разбитая коленка многого стоит! Может быть, ты вспомнишь о ней, когда получишь повестку. И задумаешься, во имя какой именно Германии тебя посылают убивать таких же славных парней, как ты. Вы спрашиваете: разве Германия, какая бы она ни была, не наша святая родина? Видите ли, милые парни, вы должны прежде всего научиться слушать. Когда вам говорят, что Германия должна владеть всем миром — прислушайтесь: не скрипучий ли голос кайзеровского генерала произносит старые слова на новый лад. А когда вас зовут бить стекла в еврейской лавке — то не зовет ли вас тот самый лавочник-немец, который обсчитывает вас точно с такой же ловкостью, как это делает лавочник-еврей. Вы, сдается мне, ведь не сыновья капиталистов. Нет?
Теперь парни держатся за бока от смеха…
— А пожалуй, тут не до смеха! — говорит серьезно эта странная женщина.
— Да, не очень, — соглашается рослый малый. Он такой тощий, что штаны из чертовой кожи не держатся на нем, и он то и дело их подтягивает. — Мой отец уже третий год безработный.
— И мой!
— И мой.
— Но ведь Адольф даст всем работу! — строптиво замечает тощий.
— Ах, так… Может быть, ты объяснишь, откуда возьмется сразу так много работы? Может быть, военные предприятия расширятся?
— Да, пожалуй.
— Смотрите-ка, — удивленно разводит руками седая женщина, — мы опять пришли к тому же: к войне! Разве вы так уж жаждете — «Вперед, вперед, на поле славы»?
Они смущенно мнутся. Потом самый маленький из них, но, наверное, самый смелый говорит с некоторым вызовом:
— Мой папа был в плену в России. Он говорит, что ни за что никогда не будет воевать против русских! Пусть они еще бедны, но там рабочий человек сам себе хозяин. И посмотрим, говорит мой папа, чего русские добьются…
Тощий хочет перебить малыша, но он упрямо досказывает:
— А про Адольфа мой папа говорит, что он — просто шарлатан.
— Замолчи, щенок! — кричит тощий. Поднимается страшный шум, но женщина водворяет порядок. Неожиданно сильным голосом она помогает им успокоиться. И обращается к тощему:
— Где это тебя научили набрасываться на маленьких чуть не с кулаками? Может быть, ты был в той банде, которая вчера хотела разогнать собрание рабочей молодежи в Веддинге?
— Я ничего об этом не знаю! — говорит тощий.
— И слава богу. Я надеюсь, что ты никогда не будешь заодно с этими подонками.
— В штурмовых отрядах немало рабочих парней… — хмурится тощий Франц.
— Это правда. Но разве ты не слышал, как в Луна-парке зазывала кричит во всю глотку: «Спешите в наш павильон! Вам покажут, как глотают шпаги! А в заключение на глазах у почтенной публики будет съеден живой человек!»
Все снова смеются, а малыш простодушно говорит:
— Ну, это же просто приманка!
— Вот именно. Только у нацистов другая приманка.
Тощий сосредоточенно думает и наконец произносит:
— Но ведь Гитлер — социалист…
— А разве Носке не называет себя социалистом? На слово «социализм» отзывается душа каждого трудящегося человека, вот им и прикрываются шарлатаны, чтобы зазвать простаков в свой балаган.
— Но почему магнаты дают деньги партии Гитлера?
— Потому же, почему кайзеровские генералы назначили Носке главнокомандующим и его руками разгромили революцию… Стиннес и Крупп не очень популярные имена в народе — не так ли?
Им лестно, что она говорит с ними, как со взрослыми.
Она так задерживается еще и потому, что в кафе собираются понемногу его обычные посетители. Они прислушиваются к разговору седой женщины и группы мальчишек. А некоторые подают реплики, и похоже на то, что скоро все здесь втянутся в беседу, которая подымается уже на высший уровень: обсуждаются перспективы Веймарской республики.
И, конечно же, этому приходит естественный конец. Нет, никакое «инкогнито» просто невозможно для нее, не то что в Биркенвердере, но, пожалуй, во всей стране.
К ней протискивается толстяк в рабочей блузе и больших роговых очках, какие теперь модны у функционеров:
— Товарищ Клара, мы так рады тебя видеть здесь.
Она замечает удивление и растерянность на лицах парней.
— Вы даже не поняли, кто тут вас учит, как на свете жить? Хороша молодежь! — говорит им очкарик.
Парни переглядываются и шепчутся. Потом подходит тощий Франц и, насупясь, говорит:
— Фрау Цеткин, мы подумаем над вашими словами. И спасибо, что вы потратили на нас ваше дорогое время.
— А ваше будущее — это самое дорогое, — отвечает Клара.
Она думает о них, когда идет к своему дому по тропинке между молодыми ольхами.
И вспоминает, как совсем недавно в Москве, на собрании в университете, где она выступала, к ней подошел молодой человек с румяными щеками, добротно одетый.
— Вы меня, конечно, не помните, товарищ Клара. Пять лет назад я встречал вас, когда вы впервые приехали в Петроград.
Нет, она не узнавала его. И, сожалея, он напомнил:
— Вы еще спросили, почему у меня сожжены полы куртки.
— А… Ученик токаря с Путиловского?
Он засмеялся, очень довольный.
Клара хотела знать, что он теперь делает. Он — студент? Оказалось, что он изучает медицину: «Царская Россия всегда была очагом страшных эпидемий. Совсем недавно у нас покончили с тифом…» Наверное, из него получится хороший врач: у него такой вдумчивый взгляд и мягкий голос.
Его будущее много яснее для нее, чем будущее горсточки немецких парней из маленького кафе в Биркенвердере.
Она вспоминает о них однажды вечером. Это холодный берлинский вечер. Такой холодный, потому что, как сообщили газеты, в горах выпал снег. Какая ранняя осень нынче в Германии! И предсказывают долгую и снежную зиму.
В старом локале на Цоо уже топят. Здесь все еще стоят изразцовые печи, тепло их уютнее, чем от железных батарей.
В большие зеркальные окна видна площадь. Она так многолюдна, как будто сегодня праздник. Нарядная толпа растекается по улицам, впадающим в площадь, как в светлое озеро, волны которого переливаются в свете модных фонарей. Теперь в моде старинные фонари — на железных стеблях гроздья ламп как светящиеся изнутри желтоватые плоды… Толпа растекается; здесь совсем рядом роскошный кинематограф «Глориа-Паласт». И самый большой кинозал — «Уфа-Паласт ам Цоо». Публика здесь самая изысканная, безработные не посещают таких кино. Они не всегда могут разрешить себе и дневной сеанс в захудалом зальце, каких много на окраинах. Хотя, когда шел русский фильм «Броненосец Потемкин», люди не жалели марок. И когда проходил последний кадр и в зале было еще темно, — все сидели тихо. Только когда зажигался свет, подымалась настоящая буря аплодисментов. И медленно, словно нехотя, люди покидали зал.
Клара сидит с товарищами в этом кафе, которое совсем не изменилось. Она всегда любила его потому, что летом оно напоминало ей Париж: широкая открытая терраса, столики стоят прямо на улице. И поток гуляющих… Теперь терраса пуста, ветер гоняет по ней пестрые рекламные листки, которые всучивают на улице прохожим агенты страховых компаний и фирм.
И вдруг на площади происходит какое-то движение, толпа вытягивается в шеренги вдоль тротуаров. Все лица обращены к мостовой. Одновременно слышится дробь барабана, такая четкая и тревожная, словно приближается глашатай с вестью о войне. Но это всего-навсего маленький отряд юношей в коричневых рубашках. Просто какой-то спортивный ферейн. И все же не так просто: видно, что юноши прошли хорошую военную выучку. У них к поясам прицеплены длинные ножи в кожаных ножнах. И запевают они не какую-нибудь «Деревенскую польку», а «Стражу на Рейне». Их лица не светятся тем ясным светом, который присущ юности, той улыбкой, иногда задорной, иногда мечтательной, которая должна же хоть изредка пробежать по лицу такого вот юнца, хотя бы от удовольствия идти с товарищами по вечернему городу после спортивных занятий. Если это действительно спортивные занятия, а не другие. Не «Спеши, солдат, на поле славы!». А дробь барабана так четка и как-то угнетающа. И молодые голоса не протягивают, а рубят музыкальные фразы «Стражи на Рейне». Словно колют дрова. Или… Или это отстукивает пулемет?
И почему нарядная публика этого фешенебельного района так жадно всматривается в идущих? Машет им платками и шляпами. Словно связывая с ними какие-то надежды. Или расчеты? Может быть, в этих рядах и знакомые мальчики из Биркенвердера?
Германия сегодня — какая она? Что можно ожидать от правительства, если президентом избран Пауль фон Гинденбург, престарелый вояка, за которым все еще тащится пыльный шлейф легенды о битве при Танненберге. И под дымовой завесой патриотических сказаний и исторических аналогий консолидируется буржуазия. В черной тени, отброшенной Локарнскими соглашениями, копошатся застрельщики новой войны. А из Мюнхена доносятся все громче, все азартнее голоса оголтелых реваншистов и трубадуров национал-социалистской революции. Штурмовые отряды разрабатывают пышные ритуалы многолюдных демонстраций. Пока что демонстраций…
Все тот же старый враг, который скрывает свое истинное имя «империализм», называя себя то «техническим прогрессом», то «духом нового века», то «радетелем малых стран» выпускает своих новых чудовищ. Они до времени прячут острые зубы и железные когти, и расточают сладкие улыбки с оркестровых площадок локалей, и рассыпают обещания: покончить с безработицей! Смести универсальные магазины — бич мелкого буржуа! Уничтожить ростовщиков! Порвать цепи Версаля! И все это быстро, одним мановением короткопалой руки, выглянувшей из манжета коричневой рубашки!
Рабочие готовы дать отпор: строются в колонны «Красных фронтовиков», организации самообороны. Тысячные толпы подымают сжатые кулаки с возгласом «Рот фронт!» на митингах в Люстгартене, в Веддинге, и Нойкельне, где звучат голоса Вильгельма Пика и Эрнста Тельмана. Где бурно приветствуют «нашу Клару», волосы которой стали белыми, но дух все так же молод. И с тем же молодым запалом она зовет: подымайтесь против фашизма!
Ощущение близкой опасности заставило тяжело больную Клару выступить в Москве на пленуме Исполкома Коминтерна. Она сделала доклад об опасности фашизма в Германии. Клара не захотела никому передать возможность и обязанность произнести с высокой трибуны слова предостережения. Она прочла свой доклад сидя, потому что болезнь сделала ее совсем слабой и она боялась упасть.
Но через некоторое время Клара опять ездит по странам Европы. Многотысячные собрания на площадях и стадионах и простые беседы в маленьких кафе, где женщины сидят со своим вязаньем, а мужчины бросают игральные кости. Казарма новобранцев — молодые лица с любопытными глазами, в которых еще не отразилась война. Площадка парка в веселый воскресный день и железная палуба военного судна. И трибуна рейхстага.
Клару Цеткин избрали председателем Исполнительного Комитета МОПРа. Организация, носившая это короткое название, быстро ставшее известным, распространяла свое влияние на весь мир. Она входила под холодные своды дворцов юстиции, где творилась расправа с борцами революции, и часто спасала их или смягчала их участь, — так велик был авторитет международной организации и ее председателя. Проникала за стены тюрем и поддерживала жизнь тысяч политических заключенных.
Она раскрывала тайны злодеяний правителей и отдавала их суду человеческой совести. Она подхватывала последнее слово осужденного неправедным судом и делала его достоянием гласности. И принимала под свою заботливую руку вдов и сирот героев, павших жертвой белого террора. Посланцы этой организации добирались до камер пыток и залов секретных судилищ и предавали гласности преступления реакции. Иногда сила мирового общественного мнения останавливала топор, занесенный палачом, или разбивала кандалы осужденного на вечную каторгу.
Глава 5
Клара проснулась рано и не сразу поняла, где она. Несмотря на опущенные жалюзи, своим обостренным слухом она уловила скрежет кофейной мельницы, долетавший с кухни маленького отеля, и монотонные выкрики уличных продавцов газет.
И сразу вспомнила: да, сегодня… Сегодня она снова взойдет по ступеням рейхстага. И множество ненавидящих глаз устремится на нее: нацисты получили огромное большинство на выборах. Магнаты промышленности не скупились на финансирование гитлеровской партии в избирательной кампании, а социальная демагогия была той лошадкой, на которой въехали в рейхстаг Геринг и прочие.
Клара радовалась тому, что сможет сказать им в лицо то, что она твердила давно, что высказала в десятках статей и выступлений. Хватило бы только физических сил!
Ей остро захотелось очутиться у себя в московской квартире. Она закрыла глаза и так ясно приняла в себя покой и уют небольших комнат, где ее окружали лица близких.
Но и в это тихое пристанище постоянно врывались жаркие опасные ветры, бушующие над ее родиной. Переступая порог Клариного дома, ее земляки радовались встрече с Кларой. Но эмоции только сопутствовали главному: друзья приезжали за советом. И этот совет был действенным, потому что Клара чутко слушала и тонко понимала приметы времена.
И однажды вечером против нее сидел сорокалетний человек, в мужественном облике которого Клара угадывала дорогие ей черты Эммы, подруги, давно уже покоящейся под сенью кладбищенской ивы на окраине Штутгарта.
Сын Эммы Тагер, Лео, сидел за столом, покрытым русской льняной скатертью, с самоваром — подарком тульских мастеров, с чашками, торжественно преподнесенными работницами Дулевской фабрики.
А разговор увел обоих далеко отсюда, на Мюнхенские окраины, где Тагер-сын организовывал силы сопротивления растущему фашизму.
И на расстоянии Клара всегда дышала воздухом родины. Врачи запретили эту ее поездку. И друзья отговаривали ее. Но решение Клары было так органично, так естественно завершало дело ее последних лет…
Да, хватило бы только сил!
Какая жара! Август в Берлине — разгар лета. Она наденет легкое, кружевное платье. Хотелось выглядеть наилучшим образом. «Насколько это возможно», — подумала она иронически…
Маленький отель, в котором остановилась Клара, помещался в одной из тихих улиц, пересекавших Фридрихштрассе в самом центре ее коммерческого кипения. Клара медленно пошла по этой улице, только что политой, но уже осушаемой зноем. Серые дома по обе стороны, увитые плющом, были такими характерно берлинскими в этом сочетании серого камня и темной зелени.
Тяжело, опираясь на палку, она прошла до перекрестка и вступила на шумную Фридрихштрассе, по которой два людских потока: от вокзала городской железной дороги и подземки и обратно — текли, расходясь ручейками по боковым улицам. И свернула на Унтер-ден-линден. В этот дневной час под могучими старыми липами было немного народа. Только дети с бабушками или няньками. Она села на скамью под низко пригнувшимися над ней ветками.
Толстый человек в просторном парусиновом пиджаке сидел боком к Кларе на ближней скамье. Прямые седые волосы лежали гладко на непокрытой голове. Это был старый человек и очень грузный. Он следил за девочкой лет семи, которая бегала вокруг него, на ходу подбрасывая свое «диаболо». Но ей никак не удавалось поймать катушку на красный шнурок, туго натянутый между двумя деревянными ручками.
— Вот посмотри, как я это сделаю! — сказал старик и с неожиданной легкостью поднялся со скамьи. Он взял у девочки игрушку, с силой подбросил катушку, натянутую шнурком, и ловко принял ее обратно.
— Браво, дедушка! — закричала девочка. Старик улыбнулся, и теперь, когда он стоял к ней лицом и улыбка скрасила его заплывшие черты, Клара узнала его.
— Здравствуй, Гейнц! — позвала она его так просто, как будто они расстались только вчера.
— Боже мой! Клара! Какое счастье опять увидеть тебя. Столько лет я встречал лишь твое имя на страницах газет.
— Причем чаще рядом с руганью! — засмеялась она.
— Нет, я не читаю их грязной, бандитской прессы.
— Вот как? У тебя прелестная внучка! Как ее зовут?
— Клара. Мы с дочкой назвали ее Кларой. В твою честь. Моя дочка — коммунистка…
Клара молчит, растроганная. Потом она спрашивает:
— Как ты живешь, Гейнц?
— Я похоронил жену пять лет назад. А сыновей у меня отобрали «коричневые». Они ушли в эту банду. И я не хочу их знать.
— И ты поэтому уехал из Лейпцига? Из своего любимого Лейпцига?
— Да. Я не мог видеть все это. И мне надоело выгонять из «Павлина» хулиганов. А потом ждать от них в отместку всякие подлости. Я продал «Павлин» и живу с дочкой и ее семьей. Моя дочь учительница, как и ты, Клара.
Они сидят так под тенью липы, пока солнце, подымаясь все выше, не достигает их.
И Клара, вздыхая, говорит:
— Мне было очень отрадно встретить тебя, Гейнц, особенно сейчас. У меня трудный день сегодня.
До заседания оставалось уже не так много времени. Зной все увеличивался. Два вентилятора мало облегчали его, а их жужжание раздражало Клару и путало ее мысли. В двухкомнатном номере не было ни уголка тени. В конце концов Клара попросила опустить жалюзи и зажечь настольную лампу. Ее мягкий свет не резал глаза, как дневной.
«Как будет там?» — подумала Клара. Ей никак не удавалось восстановить в памяти, освещался ли зал дневным светом. При одном воспоминании о люстрах у нее закружилась голова. Внезапная слабость вступила в ноги, растеклась по телу. «Да что же это я? В такой момент…» Представилось ясно и пугающе все, что ей предстояло. Оно распадалось на отдельные действия, и каждое казалось непосильным. Пройти на этих ватных ногах холл гостиницы. Сесть в машину. Проехать по раскаленной улице. Правда, это совсем близко, но надо еще взойти по ступеням. И потом — говорить стоя. Как могла она подумать, что осилит все это?
Она закрыла глаза, и какая-то почти физическая тоска подсказала ей отрадное воспоминание: тихий дом в Архангельском под Москвой. Из окон видна пойма реки в знойном мареве, но в комнатах прохладно от вымытых крашеных полов, от тени сиреневых кустов под окнами. И милое, постаревшее лицо Крупской — эти дни перед отъездом они были вместе. Приходили друзья. Все волновались, а она, Клара, была спокойна и уверенна… Да что там! Еще вчера она давала интервью журналистам. У репортеров буржуазных газет вытянулись лица, когда она отвечала на вопросы корреспондентов коммунистической прессы!
Почему она, слабая, после болезни, прибыла в Берлин? Потому что ее обязывал долг перед партией, перед миллионной армией антифашистских борцов, перед рабочими. Знает ли она о бешеной травле, поднятой против нее в фашистской прессе, об угрозах нарушить ее депутатскую неприкосновенность, вплоть до убийства? Да, все это она знает, но категорически отвергает всякие полицейские меры по личной ее охране. Фашисты не осмелятся поднять на нее руку.
Уже одно утверждение рейхсканцлером Франца фон Папена говорило о характере правительства: Папен — партия центра, правого крыла. Лидер реакционной аристократии. Гогенцоллерновский дипломат. Выплыли одиозные имена близких к Гитлеру и Герингу: Шлейхера — о, за ним тянется целый хвост военных; Вармбольда — за ним стоит вся мощь концерна «ИГ Фарбен»; Шахта — ловкого финансиста. Бароны Нейрат, и Гайль, и Шверин-Крозигк подпирают здание нового правительства как мощные кариатиды.
Буржуазные газеты больше всего интересовало: будет ли она выступать с речью шли ограничится краткой процедурой открытия заседания.
Это, голубчики, узнаете только завтра. Волнуйтесь, волнуйтесь! Два дня назад все эти щелкоперы с пеной у рта кричали: «Цеткин — старая, больная развалина! Куда там ей рейхстаг открывать! Она и дверь собственной квартиры не откроет, не то что заседание!» А теперь они примчались посмотреть: не разваливаюсь ли я на части. Их просто распирает от любопытства!
Ирма, молодая женщина, ее секретарь, стояла на пороге.
— Вероятно, уже пора, товарищ Клара.
— Ну что ж, будем одеваться.
Поймав озабоченный взгляд Ирмы, добавила:
— У русских есть пословица: «Назвался груздем — это гриб такой — полезай в кузов».
— О, товарищ Клара! Слава богу, вы уже можете шутить. Вы лежали такая бледная…
— Что нового в почте, Ирма?
Все эти дни Клара получает огромную корреспонденцию, просто удивительно, как много людей хочет ее ободрить! Впрочем, почта приносит и анонимные угрозы.
— Телеграммы от антивоенного конгресса в Америке. И лично — от Барбюса.
— Прочтите, Ирма! — Клара давно не может сама читать: не помогают даже сильные очки.
Ирма читает обращение конгресса и теплые строки Анри Барбюса. Кларе слышится между этих строк опасение: сможет ли она?
Но минута слабости прошла. Собственно, Клара уже готова. Если бы не эта жара! От нее время от времени возникает удушье, которое Клара гасит усилием воли.
Зепп Лангеханс вовсе не стремился попасть на заседание рейхстага. Именно на это: тридцатого августа 1932 года. Но «товарищи по партии» подняли такую шумиху вокруг него, что адвокат просто не решался остаться дома. И прислали ему пропуск — как же! Хотя он никого об этом не просил. Он вовсе не хотел так уж быть на виду! Ну их с этими ихними «зовами крови», «зовами предков» и еще кого-то. Кстати сказать, смотря в зеркало, Зепп с опаской отмечал, что не совсем подходит к «нордическому типу». Недостаточно «долихоцефален» и не белокур, нет. Теперь, когда у него совершенно голый череп, пойди докажи, что когда-то у тебя была соломенного цвета шевелюра. Зато у него сходство с Мефистофелем. Это — несомненный плюс! Особенно когда ему удается эта поза: согнутая рука опирается на колено, а задумчивое лицо — на руку. И как-никак он давно с Адольфом! Хотя не носит ни черного, ни коричневого мундира, а только маленький значок свастики в петлице. Значок подарил ему Альфред Розенберг. Давно. Когда еще не все было ясно. И Розенберг — это теперь он кричит, что с первого взгляда уверовал в Адольфа и «предался ему», а когда дарил значок, он вовсе еще не «предавался». Он скрупулезно рассчитывал вместе с ним, Лангехансом, все «за» и «против».
Может быть, сейчас не стоило вспоминать об этом, но адвокат не мог себе отказать в таком удовольствии: этими воспоминаниями он всегда будет держать Розенберга на коротком поводке.
Лангеханс так ясно видел мрачноватый дом «Хофбройхауза». Внизу полукруглые арки, и в них всегда копятся тени. Вверху, на флагштоке, подсвеченное снизу полотнище с монограммой «ХБ» — «Хофброй». Они сидели в нижнем зале. Розенберг был точно такой же, как сейчас: такое же одутловатое лицо с тусклыми глазами. Словно в глазные впадины налит свиной холодец.
Розенберг… Что такое Розенберг? Выходец из Курляндии, недоучившийся студент. Вышибленный большевиками из России и схватившийся за Адольфа, как за якорь спасения.
А он, Лангеханс, раньше как-то не интересовался своей родословной. Но теперь… И выходит, что он-то и есть самый что ни на есть нордический. Нордичнее уж и быть не может! Хоть и не долихоцефал.
Нет, видно все-таки надо идти в рейхстаг.
Зепп, кряхтя, поднялся с кресла и подошел к окну. Подумать только, как удачно он тогда обернулся с этим домом в Ванзее. Домом, в котором когда-то жил Георг Нойфиг. Дом продавался с торгов, когда Георга схватили. Но ему в конце концов повезло: он все-таки выбрался из тюрьмы. А теперь вокруг него — шуму-то, шуму! А чего, спрашивается? Его мазня — все эти пасквили пером и тушью — сплошная политика и ни на грош искусства. Но в Париже любят такие штучки-мучки, — им лишь бы высмеять «тевтонов». Посмотрим еще, кто посмеется последним!
…Какая жара! Словно не конец августа, а середина июля. А впрочем, в Берлине всегда так: когда у них, на благословенной земле Лейпцига, жаркое лето, здесь льет дождь. А когда впору возвращаться в город с юга — тут пекло!
Адвокат перешел в свою спальню: Лотта давно уже обитала на другой половине дома, где по-прежнему собирались знаменитости. Но теперь уже более высокого полета. Сейчас там высоко котируется Отмар Шпанн. Философ. Автор оригинальнейшей теории! Удивительное существо! Доказывает с цифрами в руках, что рабочие эксплуатируют капиталистов. Ну просто сосут из них кровь!
Адвокат позвонил горничной и велел пустить в ход все вентиляторы: у него еще было время отдохнуть немного в прохладе.
Собственно, это заседание рейхстага ему не сулит ничего неприятного! И если кое-кто кинет косой взгляд на его свастику, на друзей, которые теперь его окружают, — так еще неизвестно, чем они сами кончат! За Тельманом и Пиком, конечно, еще стоит сила… Подумать только, в такой обстановке они все-таки собрали больше пяти миллионов голосов! Но ветер дует не в их паруса, нет! А вдруг?
Холодок пробежал по спине адвоката от этого «вдруг», непонятно почему вынырнувшего из глубины сознания.
Но если все-таки… Не слишком ли далеко отошел он от избранной им роли «слуги двух господ»? Кто что знает? Только одно справедливо: tertium non datur! — третьего не дано!
Как всегда, латынь успокоила его. Она напоминала о другом времени. Более простом, более ясном — теперь оно казалось лучезарным! А вдруг все-таки — дано? Дано третье? И он его не знает!
Если быть откровенным с самим собой — совсем откровенным, как можно себе позволить только с самим собой, — он стал слугой одного господина не без колебаний. Да, был такой осенний вечер… И в этот самый «Хофброй» его затащил Розенберг, сказав, что там будет «один человек». Лангеханс и сам уже догадался, что это за человек. Мюнхен в общем-то — большая деревня, набитая слухами. Лангеханс в тот раз жил в Мюнхене несколько месяцев: его дела с банком решались именно там. А он всегда предчувствовал, что в этом городе с ним что-то случится. Что-то значительное.
Конечно, адвокат и раньше слышал все эти «коричневые проповеди». И они чем-то ему импонировали. Нет, не «чем-то», а даже очень определенно — своей направленностью против коммунизма. И вместе с тем — за социализм!
Вот именно такой социализм его устраивал. Национальный. Германский. С некоторой примесью здорового бонапартизма.
Но тогда, когда Розенберг затащил его в «Хофброй», Лангеханс ведь еще не знал самого Главного, самого Коричневого, а только — его учение. Оно было соблазнительно именно для него, адвоката Лангеханса, который отошел от социал-демократической партии, когда Бисмарк загнал ее в подполье. И вынырнул, когда подполье кончилось. И сам Зепп вроде бы и не был капиталистом. Поскольку не имел никаких предприятий, никакой собственности… И вместе с тем вроде бы имел: поскольку был акционером предприятий.
В свете учения этого Главного Коричневого получалось, что все, что происходило в жизни Лангеханса, — это все правильно. И с той и с другой стороны. То, что эти фанатики называли ренегатством и всякими другими позорными словами, — все это было исканиями, поисками идеала, болью мятущейся души. Коричневый принимал таких искателей в свое лоно — без задержки! И Лангеханс снова был Зеппом-Безменянельзя!
Но это выяснилось позже. А в тот вечер они сидели с Розенбергом в нижнем зале «Хофброя», где было очень много мужчин в штатском, но с военной выправкой. И все они были в бешенстве от того, как их встретила родина, от своего неустройства. Все они сидели, как собаки, поджавшие хвост. И просто кипели: за годы войны разжирели торгаши с их универсальными магазинами, из-за них валились, словно карточные домики, лавки фронтовиков, вернувшихся к разбитому корыту.
А Коричневый обещал им камня на камне не оставить от Карфагена универмагов! И разорить их владельцев! И дать ход мелкой торговле, как раньше было. И дать льготы солдатам. И работу — всем! Главное — работу!
Зепп прекрасно понимал, что сейчас нужно все это обещать, потому что Коричневый вел своих приверженцев прямехонько к избирательным урнам.
И в тот ненастный вечер, когда они с Розенбергом сидели в нижнем зале «Хофброя», Зепп подумал… Он понадеялся, что наконец найдет какую-то твердую землю, на которой среди всеобщего землетрясения не будет вовсе трясти.
И нашел. Она ему открылась, когда Коричневый только вошел. Когда все встали, вытянув руки к нему, словно солнцепоклонники, приветствующие светило. А «светило» вошло, топая сапогами с низкими голенищами, попирая пол «Хофброя», словно это была уже завоеванная земля. У Коричневого под носом были маленькие усики редкой щеточкой. И лицо ассиметричное. Как будто — в конвульсии. Он держался очень прямо. Хорошо держался. Только что-то мерцало в глазах, что-то неожиданно пугливое, подозрительное. И это было странно у такого человека, в такой момент. Когда все кругом в одно мгновение сделались словно безумные. И так кричали, и так подпрыгивали, и так хотели, чтобы он поскорее схватил власть. И свернул бы голову универсальным магазинам и ростовщикам. И Версалю! Вернул бы сладкий пирог колоний! И однажды к рождественским праздникам подарил бы им всем «мировое владычество», обернутое в глянцевитую бумагу с еловой веточкой, привязанной розовой лентой…
Зепп заставлял себя иронизировать, но ирония не получалась. Она и вовсе улетучилась, когда человек в сапогах с низкими голенищами заговорил.
Адвокат и сам был подвержен «наитиям». На него самого «накатывало». И тогда он мог произносить многочасовые речи, тем более прекрасные, чем меньше в них было смысла, и видения, о которых рассказывал Зепп близким друзьям, были не совсем выдуманы им. Зепп имел, имел, ну, если не дар предвидения, то очень живое, пугающе живое воображение…
Но этот оставлял позади самых мистических ораторов, которые гремели с кафедр и трибун Германии когда-либо! Его запал казался неугасимым. Коротко обрезанная прядь прыгала на лбу как угорелая. Рука рубила воздух, словно перед ней вырастали полчища тех самых «мисмахеров», которых надо было снести с лица земли…
В тот вечер адвокат Лангеханс уверовал. И стал слугой одного господина. Но зато какого!
И сразу же началась карьера Зеппа Лангеханса. Невидимые руки убирали перед ним барьеры и расстилали ковры исполненных желаний и сбывшихся надежд.
Его некрасивая дочка получила ангажемент в «Скала» — лучшем варьете Берлина. И никому нет дела до ее писклявого голоса и худой шеи, когда на этой шее болтается на цепочке изящная свастика, усыпанная бриллиантиками. Его жена Лотта, давно уже оставившая сцену, обрела новую жизнь, став дамой-патронессой в «Обществе женщин — хранительниц очага». Теперь эти «хранительницы» ворочают большими деньгами и, естественно, «очагу» не дают затухнуть весьма солидные фирмы. И сам Зепп наконец оценен по достоинствам!
Теперь, когда путем талантливейших фокусов, инсценировок и подтасовок удалось собрать миллионы голосов и в рейхстаг войдет внушительная коричневая колонна, — теперь уже близка цель.
И Зепп видел себя у руля. На самой вершине. Уж никто не осмелится назвать его, Зеппа, «угрем» или «перевертышем», как это сделала когда-то фрау Цеткин.
Как он дал тогда втянуть себя в спор? Столько лет он уходил от столкновений с этой женщиной! Он не то чтобы боялся ее, ее слова, которым она могла пригвоздить человека так, что он всю жизнь ходил с печатью каиновой, или ее взгляда, — в нем иногда проблескивала угрожающая, кипящая синева, и ты вдруг чувствовал себя словно бы на краю котла с нойфиговским алюминием… Нет, он вовсе не боялся ни слова, ни взгляда ее. Что она могла ему сделать? Он давно уже подходил к людям с этой меркой. Были люди, которые могли ему «что-то сделать»: могли его разорить, скомпрометировать, увести его жену — не самое большое несчастье! Могли обесчестить его любимую дочь — впрочем, маловероятная перспектива!
А фрау Цеткин ничего не могла. И все же на том собрании… Он не мог не выступить вовсе, потому что на собрание его послали. Он не нацепил свою свастику, он тогда вообще ее не носил! Нет-нет! — на нем не было никаких знаков! И никто не знал, что он уже, уже имеет хозяина. Но она разглядела. И хотя он выступал так осторожно, словно шел по канату с подносом, полным хрустальных бокалов, — она расслышала в его речи… И указала на него пальцем: вот угорь! Вот перевертыш! «Берегитесь оборотней!» — закричала она своим необыкновенном голосом, которым может наэлектризовать любое собрание, — и пошла, и пошла! Она так говорила о «проклятом национализме», о «ядовитом духе реванша», что Зепп и сам на мгновение усомнился: а не дал ли он маху, предавшись Коричневому из «Хофбройхауза». Это было только одно мгновение, но оно оставило след, подобный легкой трещинке. Да, наверное, оставило, раз даже сейчас это воспоминание еще уязвляет его.
Зепп позвонил и сказал, чтобы ему дали одеться. Он наденет полосатые брюки и коричневую визитку. Свастика в петлице — этого достаточно. В его годы можно не обряжаться в коричневую форму. Хотя фигура позволяет ему и это. Жаль, что его друг Уве Нойфиг не дожил до этих дней. Он, несомненно, был бы с ними! Хотя… Трудно предугадать. Кто мог бы подумать, что старый кабатчик из Лейпцига, Гейнц Кляйнфет, выкинет такой трюк! Выгнал из своего «Павлина» местную группу наци и орал на всю площадь: «Ступайте в свой коричневый дом! А у себя я не позволю разводить эту грязь и душегубство!» Говорят, что под старость Гейнц стал — копия своего покойного дядюшки Корнелиуса — такой же ругатель! Конечно, Гейнцу не сошло это с рук! Ну, что старый «Павлин» загорелся однажды ночью, так это пустяки: ясно, что он застрахован. А вот бойкота «Павлин» не выдержал. Говорят, что Кляйнфет в дым разорился и продал свои заведения за бесценок. Кроме того, оба его красивые и рослые сына надели коричневую форму и предали анафеме своего «реакционного папу».
Посмеиваясь над лейпцигской провинциальной историей, которая все же имела в себе нечто от «духа времени», Лангеханс заканчивал свой туалет.
Прохладная ванна вернула ему бодрость: эта жара… Просто тропики!
Адвокат оглядел себя в зеркале напоследок. Пускай его единомышленники являются в форме. Он выглядит отлично в своей визитке, сшитой у знаменитого Бойма на Курфюрстендам. Замахиваясь на евреев, коричневые пока не имеют в виду подобных весьма полезных боймов. А всех коммунистов — под корень! И, видимо, они правы. Опасные фанатики должны быть отброшены с дороги.
Несмотря на свой пропуск, Лангеханс с трудом пробирался по улицам центра. Движение здесь было остановлено, полицейские кордоны и патрули на машинах, мотоциклах и пешие не пропускали никого за широкий круг оцепления. Адвокату удалось добраться до Бранденбургских ворот, и здесь он вынужден был остановить машину и далее пробиваться уже просто локтями через толпу, бушующую перед зданием рейхстага. На каком-то этапе, после многочисленных проверок, Лангеханс наконец достиг сравнительно свободного пространства и здесь увидел, что он уже у самого входа в рейхстаг.
По ступеням внушительного здания подымались в одиночку, парами, группами. Негромкий разговор, обмен приветствиями, на ходу брошенная фраза, хмыканье, пожатие плеч… Все это так знакомо Лангехансу. Так же, как сдержанная манера — ему она всегда кажется высокомерной — сторонников Пика и Тельмана.
— О, господин адвокат! Сейчас я вас устрою получше!
Детина в зеркально начищенных крагах и накрахмаленной коричневой рубашке сделал знак следовать за ним. Лангехансу было приятно внимание, хотя это всего-навсего один из приближенных Розенберга.
Со своего места Зепп отлично видит зал. Он медленно заполняется. Когда все уже на местах, — эффектно, строевым шагом проходят на свои места коричневые. Они маршируют как на плацу. Их коричневые рубашки и бриджи отлично сидят на них. Еще бы! Их шил тот же Бойм! Он же шьет с равным успехом военное и штатское. Вот капитан Геринг — Толстый Герман. По мнению Зеппа, он — только исполнитель. Зато безотказный. Он слишком земной, слишком плотский. Особенно рядом с доктором Геббельсом — этот вовсе не от мира сего! Он весь состоит лишь из одной идеи и рта до ушей. Лей — ну, этого пьянчугу Зепп не одобряет. Но, вероятно, движению столь глобальному нужны и такие. Зепп жадно разглядывает каждого из коричневой колонны, вступившей в зал и теперь рассаживающейся в порядке, безусловно определенном заранее.
На их торжественных физиономиях написано, какую победу они одержали на этих выборах. Но вместе с тем какая-то озабоченность, даже как бы опасение пробегает по лицам главарей.
Начинается процедура. По положению, заседание рейхстага должен открыть старейший депутат его. Неужели это сделает Клара Цеткин! Конечно, немецкие пролетарии жаждали бы увидеть свою Клару здесь. Лангеханс отлично понимает всю опасность ее появления. О, госпожа Цеткин! Будь она помоложе и поздоровее!
Гулко пробили все часы рейхстага: на всех этажах. Три. Три часа пополудни. Тридцатое августа. И жуткая жара…
В зале воцарилась тишина. Несколько минут она стояла, с каждой секундой становясь все более глубокой.
На ярко освещенной сцене произошло что-то: все взгляды устремились на кулисы. Оттуда медленно, тяжелым шагом выходила Цеткин.
«Наша Клара», — прошелестело по рядам слева так тихо, словно эти слова не произносили, а выдохнули. Все поднялись на левых скамьях. Согнув правую руку в локте и сжав кулак, коммунисты слитно, так громко, словно ими был полон весь зал, возгласили: «Рот фронт!» Еще раскаты голосов не умолкли — снова: «Рот фронт!» и еще: «Рот фронт!» Эти два «ролендес эр» звучат так грозно. Как раскат грома.
И начиная с этого мгновения, Лангеханс следил за Цеткин так пристально, словно каждое ее движение угрожало ему лично. Одновременно он бросал взгляды на коричневорубашечников. Лица некоторых, как ни странно, постепенно теряли самодовольное выражение. В чем дело? Неужели одно появление старой, немощной женщины могло их обеспокоить?
Цеткин подходит к столу и опускается в председательское кресло. Сейчас она произнесет предписанную формулу открытия заседания. И все.
Но Клара поднялась и подошла к трибуне.
Так вот чего опасались коричневые? Ее слова! Ну, сейчас она им воздаст!
Его, собственно, это мало касается: он всегда будет всем нужен, всегда останется Зеппом-Безменянельзя.
Он не слышал ее много лет. За эти годы она стала старухой, так и подумал он, когда она появилась и тяжелыми шагами прошла через сцену. Но сейчас… Сейчас, когда она говорит, что-то прежнее, неистовое, кипит в ней и преображает ее! Нет, отнюдь не молодит. Черты лица обострились, глаза запали, они выцвели. Но кажется, что не старость, а гнев и презрение изменили ее лицо. Гнев и презрение испепелили ее кожу. И сделали ее глаза такими горячими и острыми.
Но что она говорит? Она говорит о мировом пожаре, об ужасах и бедствиях, которые затмят убийства и разрушения последней войны. Словно Кассандра, она пророчит гибель. Гибель капитализма! Возможно ли? Что это? Упрямство или дар прорицания? Она проклинает! Да, с трибуны рейхстага она в лицо правительству бросает страшное обвинение: она говорит о пролитой крови, которая неразрывно связала это правительство с фашистами-убийцами… Она назвала их убийцами!
Зеппу становится не по себе. Он мысленно жмется к ним, к тем, кто занимает правые ряды, к тем, кто — в коричневых рубашках со свастикой на рукаве. Они сидят неподвижно, как неживые, обратив к трибуне лица, желтоватые от курения и пива, а может быть, от этого бокового освещения.
Странная иллюзия!
Ему видится, ясно видится: в креслах — не люди, а раскрашенные куклы из желтоватого воска. Точь-в-точь как в гамбургском паноптикуме с его экспозицией знаменитейших преступлений века. Да, это же и есть паноптикум! Музей восковых фигур! Зепп узнает знакомый, как бы церковный запах воска, нагретого дыханием толпы, и ощущает специфическую духоту зала. И слышит бесстрастный голос гида — его самого не видно, слышен только его голос: «Убийцы-фашисты — в зале рейхстага! Справа Роберт Лей. Посередине — Герман Геринг. Обратите внимание…»
Голос гида какой-то металлический, словно слова произносит не человек, а машина, которую никак нельзя остановить, чеканит беспощадно и веско.
Сейчас он дойдет и до него, Зеппа… Он уже слышит, как металлический неумолимый голос называет его имя и прозвище, которое прозвучит так издевательски! Ведь они все — восковые фигуры из панорамы паноптикума. Выставленные на обозрение толпе… Преступники века! Да что это? Почему? Почему он с ними? Он не имеет ничего общего… Зепп хочет вытащить свастику из петлицы визитки, выбросить ее прочь. Отречься. Но пальцы не слушаются его. Восковые пальцы…
Зепп вытирает платком холодный пот со лба. Может же такое померещиться? Просто он слишком проникся словами этой женщины. Она говорит о гибели всего их мира, мира его, Зеппа. И с какой уверенностью! Если поверить ей, то, конечно, — здесь сидят преступники. Историей уготовано им место разве только в паноптикуме. Немудрено, что ему привиделось…
Клара окинула взглядом зал. Они были здесь, на депутатских местах справа. Они выделялись резким, коричневым пятном. Все депутаты гитлеровской фракции явились в коричневых рубашках. В форме СА — «Штурмабтайлунг» — штурмовых отрядов. Это была демонстрация: деятельность СА была запрещена и совсем недавно это запрещение отменено правительством. Коричневое пятно расплылось почти на все места справа.
Взгляд ее переходит налево, туда, где только что взорвались аплодисменты и возгласы «Рот фронт!». А теперь — напряженная тишина.
Впрочем, во всем зале — глубокое молчание: ни шепота, ни малейшего скрипа стула, ни кашля. В ложе послов — бесстрастные лица и то же напряженное внимание.
Она смотрит налево.
…Вы здесь, мои старые верные друзья. Не будем обманывать себя: это наша последняя встреча. И вы знаете об этом и мысленно прощаетесь со мной. Благодарю вас. Благодарю свою судьбу за то, что она дала мне эту честь и радость идти рядом с вами многие-многие годы. Посмотрим друг другу в глаза. Ваша старая Клара может позволить себе такой взгляд, не правда ли?
И я прощаюсь с вами, мои дорогие, самые близкие… Потому что я слишком стара, вы видите сами. Но я и напутствую вас, потому что вижу тучи над вашей головой. Вижу топор и плаху. И муки, которые предстоят вам! Будьте мужественны, будьте мужественны до конца.
Но здесь сидят и молодые. Молодые депутаты — посланцы немецких пролетариев. И к вам тоже обращаюсь я: на ваши плечи падет тяжелая ноша. Но вы еще увидите победу, которой, наверное, уже не дождемся мы. Когда над рейхстагом подымется наш флаг, вспомните о нас, павших в пути.
А теперь я обращусь к ним, коричневым рубашкам. А вы послушайте…
Так невысказанными словами, мысленно обращалась Клара к друзьям. И они понимали ее безмолвную речь. Но громко, своим молодым и твердым голосом она обратилась ко всем депутатам.
Клара обличала и требовала. Она требовала от рейхстага осознания и выполнения основного его долга: свержения правительства, которое пытается нарушить конституцию, устранить рейхстаг. Рейхстаг должен привлечь к ответственности президента страны и министров за нарушение конституции!
Но жаловаться верховному суду на правительство равносильно тому, чтобы жаловаться на черта его бабушке, сказала Клара под смех в зале. Прежде всего необходимо побороть фашизм, задача которого — железом и кровью подавить всякое классовое движение трудящихся…
Может быть, тени великих и дорогих ей людей, ушедших за тот высокий порог, у которого совсем близко стояла и она, дали ей силу. Она говорила в глубокой тишине этого хорошо знакомого ей зала, с каждым мигом убеждаясь, что сможет, доведет свою речь до конца!
И пока она говорила, что-то менялось в ней. Она ли это, тяжело переступая слабыми ногами, всходила на эту трибуну? Клара чувствовала, как крепко и вместе с тем легко держат ее ноги, как слушаются ее руки, когда жестом она помогает своим словам. Это бывает только в молодости. «И может быть, перед самым концом?..» Мелькнул краешек мысли, но тотчас же исчез. Такой мысли не было места сейчас. Она ведь снова была молода. И стояла на склоне горы. Ольховые заросли скрывали вершину, но почему-то Клара знала, что вершина совсем близко. А вниз уступами спускались лесистые склоны, и дорога вилась по ним. Длинная-длинная дорога ее жизни…
Блистательный мне был обещан день…откуда-то очень издалека пришли слова. Они вспыхнули в ней ощущением полноты жизни. И ее бесконечности. Как один день представала перед ней ее собственная долгая жизнь, которая не обманула ее, которая дала ей так много. Может быть, потому, что она сама так много отдавала!
Блистательный мне был обещан день…Она все еще стояла на склоне, и длинная дорога змеилась между ольховых зарослей, и ветер высоты и молодости овевал седую голову Клары. Она стояла среди блистательного дня и не видела конца ему. И озаренная бесконечностью этого дня, она произнесла последние слова своей речи:
— Я открываю рейхстаг по обязанности, в качестве старейшего депутата. Я надеюсь дожить до того радостного дня, когда я по праву старшинства открою первый съезд Советов в Советской Германии!
Аплодисменты на левых скамьях так оглушительны, что наполняют весь зал.
«Ты выполнила свой долг!» — говорит себе Клара под плеск ладоней.
И в этот миг триумфа запомним ее. Запомним ее такой. В последний раз. Потому что ей осталось менее года жизни. 20 июня 1933 года ее не стало. Траурный кортеж проследовал на Красную площадь. Тысячи людей объединились в скорбном шествии.
И на вечные времена был захоронен в Кремлевской стене прах женщины, прожившей удивительную жизнь, боровшейся так беззаветно и трудно, ставшей легендой и знаменем своего класса.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Маус — мышь (нем.).
(обратно)2
Файнлебервурст — ливерная колбаса высшего качества (нем.).
(обратно)3
Бисмарк носил форму кирасирского полка.
(обратно)4
Блицкруг — кружка-молния (нем.).
(обратно)5
За и против (лат.).
(обратно)6
Пральганс — хвастун, сказочный персонаж (нем.).
(обратно)7
Пральганс — хвастун, сказочный персонаж (нем.).
(обратно)8
Шибер — спекулянт (нем.).
(обратно)9
Кухня, церковь, дети (нем.).
(обратно)10
С листа (франц.).
(обратно)11
Фукс — лиса (нем.).
(обратно)12
Немецкая воинская награда: железный крест с дубовыми листьями.
(обратно)13
Кунктаторы — медлительные (лат.).
(обратно)14
Адлер — орел (нем.).
(обратно)15
Исчислен, взвешен, разделен (лат.).
(обратно)16
К вящей славе божьей (лат.).
(обратно)17
Знаменитый зверинец в Германии.
(обратно)

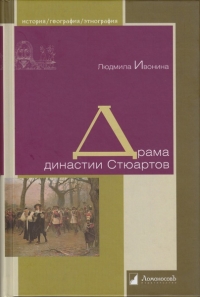

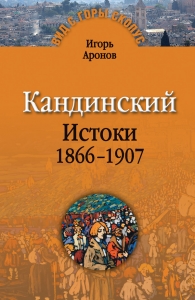
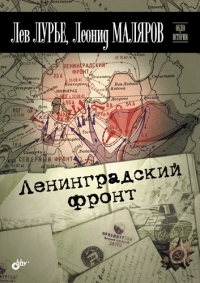


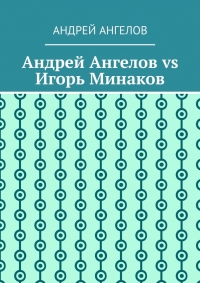
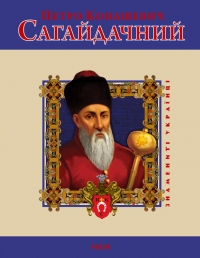
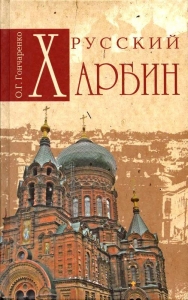
Комментарии к книге «Ольховая аллея. Повесть о Кларе Цеткин», Ирина Романовна Гуро
Всего 0 комментариев