Владимир Купченко Остров Коктебель
Владимир КУПЧЕНКО
Владимир Петрович Купченко родился в 1938 году в Свердловске. Окончил факультет журналистики Уральского университета. Исследователь жизни и творчества М. А. Волошина, автор статей и публикаций о русской и советской литературе первой трети XX века. Заведующий Домом-музеем М. А. Волошина в Коктебеле.
© Издательство «Правда». Библиотека «Огонек». 1981
Коктебель литературный
О притягательной силе волошинского Коктебеля писали в стихах и в прозе: этот уголок восточного Крыма дает приют четвертому или пятому поколению литераторов. Именно в Коктебеле особенно обилен материал для краеведческого литературоведения. На редкость хорошо сохранившийся волошинский архив; обилие воспоминаний, создающихся по сей день; неослабевающее притяжение Дома творчества писателей, поставляющего все новых «коктебельцев», — все это взывает к осмыслению уже ставшего историей и к фиксации настоящего, готовящегося историей стать.
Две эти задачи постоянно стоят перед научными сотрудниками Дома-музея М. А. Волошина в Коктебеле (ныне Планерское). Правда, район наших изысканий несколько шире: и Феодосия, и Судак, и Старый Крым, и Керчь — вся восточная оконечность полуострова, в свое время названная Волошиным Киммерией. (Полулегендарные киммерийцы, впервые упомянутые еще Гомером, населяли именно эту часть древней Таврии.) Однако «остров Коктебель» (употребляя выражение В. Рождественского) был — и остается — своего рода литературной столицей Киммерии. Несколько попыток остановить отдельные мгновения его истории и собраны в этой книжке. Обычно исследователь идет за писателем по вехам созданных им произведений и прожитых лет. Здесь мерилом для отбора материала было соприкосновение писателя с Коктебелем. Учитывались и изучались прежде всего произведения, но также — любые крупицы, разбросанные по письмам и воспоминаниям, надписи на книгах, рисунки и фотографии. Лишь незначительная их часть опубликована, большинство приводится по рукописям, хранящимся в архивах. Больше всего автор почерпнул в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР и в рукописных отделах Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, Института русской литературы (Пушкинский Дом) и Института мировой литературы АН СССР. Пользуюсь случаем принести сотрудникам всех этих учреждений, а также владельцам личных архивов, делившихся со мной своими материалами, искреннюю благодарность.
1
Солнце, весело играющее в небе; яркая синева, влитая в кованую чашу залива; зеленое кружево виноградников по уютным долинам меж холмов; полуразрушенный «готический собор» древнего вулкана Карадаг… Расположившийся на стыке полынных степей, иззубренных лесистых гор и ласкового теплого моря, Коктебель являет редкое разнообразие и сосредоточенность природных форм. Нигде от Керчи до Судака нет столь насыщенного пейзажа. Можно сказать, что Коктебель — пейзажный центр восточного Крыма, сердце суровой и прекрасной Киммерии…
Однако красота его раскрывается не всякому. Приезжий, лелеющий в памяти пышное великолепие Ялты или Сочи, зачастую бывает удручен суровой наготой этой земли. Для понимания этот пейзаж требует незаурядного вкуса и особого настроя души. В то же время он таит в себе некое вдохновляющее и творческое начало. И впервые Коктебель стал источником творческого вдохновения не кого-нибудь, а Пушкина!
Календарь показывал 18 августа 1820 года. Отплыв на парусном бриге из Феодосии, поэт вглядывался в проходившие перед ним пустынные берега. Один за другим выдвигались навстречу кораблю мысы, круглились между ними уютные бухточки, отороченные холмами. И вдруг встала и потянулась над морем обрывистая скальная стена в зазубринах утесов, в золотой ржавчине лишайников, с фантастическими воротами — прямо из воды — посередине… Впечатление было так велико, что и через три года Пушкин отчетливо это помнил. И в черновой тетради «Евгения Онегина», около одной из строф первой главы, появляется рисунок скалы, в которой нельзя не узнать Золотые ворота Карадага…
Это внимание — пусть мимолетное — великого гения стоит у истоков литературной истории Коктебеля. Далее наступает перерыв. И только в середине прошлого века Коктебель снова становится объектом творчества. Пионерами художественного освоения «Страны синих вершин» были знаменитый русский маринист И. К. Айвазовский и писатель К. Н. Леонтьев. Первый запечатлел Коктебель кистью и карандашом, второй сделал его одним из мест действия своей повести «Исповедь мужа». В 1888 году места эти посетил Чехов; в Коктебеле он побывал лишь проездом, но запомнил его надолго.
Следует отметить, что литературная история Коктебеля оказалась прочно связанной с курортным поселком того же названия. Возник он на самом берегу моря, прежде пустынном. Отцом его мы вправе назвать видного русского офтальмолога, профессора Э. А. Юнге (1833—1898). В начале 80-х годов он скупил у обедневших мурзаков значительную часть долины, задумав обводнить ее и превратить в сад. Но средств на полное осуществление проекта не хватило. Решено было распродать землю отдельным дачникам: предполагалось, что новые владельцы, благоустраивая каждый свой участок, постепенно цивилизуют весь Коктебель.
Тут-то и проявилась некая избирательная способность этого необычного уголка полуострова: можно сказать, что он сам «вербовал» себе жителей. В те времена Коктебель был начисто лишен какого бы то ни было комфорта и сулил полнейшую бытовую неустроенность. Недостаток воды; полынь и колючки — в качестве «растительности»; собирание камешков на пляже — как единственное развлечение; двадцать пыльных тряских верст до города, с его магазинами и свежей почтой. Даже на недолгий отдых в Коктебеле требовалась тогда определенная решимость — для того же, чтобы здесь поселиться «насовсем», нужен был энтузиазм почти фанатический. Такие «фанатики» находились. И Коктебель дарил их щедро, как никого из тех, кто пришел позднее: безжалостное солнце, дикий запах полыни, солоноватый ветер над пустынными берегами — все, что чужих, случайных, тяготило и удручало, вливалось в их души радостью. Наконец, в этой первобытности, тишине, дурманящих запахах таилось такое же, как в самом пейзаже, будоражащее и животворящее начало…
Это и определило главное: дачный поселок Коктебель формировался по преимуществу как курорт интеллигенции. Поселялись здесь врачи и отставные священники, артисты и искусствоведы, педагоги и литераторы. Все, что называется, средней руки: более или менее скромного достатка и отнюдь не мировой величины. Среди самых первых следует назвать Екатерину Юнге (1843—1913), жену профессора, автора увлекательных «Воспоминаний», которые заметил и высоко оценил Лев Толстой. Частым гостем Коктебеля был житель соседних Отуз, кадровый военный и профессор Никандр Маркс (1861—1921), любовно собиравший киммерийские предания. А в 1893 году в Коктебель из Москвы переселяется Елена Оттобальдовна Волошина (1850—1923) — человек хорошо образованный и также не чуждый литературы (переводила Гауптмана). Но главная ее заслуга перед Киммерией оказалась в том, что с собой она привезла своего единственного, шестнадцатилетнего сына, Макса…
Именно М. А. Волошину, известному впоследствии поэту, художнику, критику, довелось найти слова, выразившие самую душу восточнокрымского — «киммерийского» — пейзажа. Не сразу он почувствовал эту землю: только после странствий по Средиземноморью, повидав скудные плоскогорья Греции и выжженные испанские холмы, понял поэт «красоту и единственность» Коктебеля. В 1903 году Максимилиан Александрович строит здесь дом, а в 1907-м пишет за короткое время 15 стихотворений, посвященных Коктебелю. Стихи эти вошли в первый поэтический сборник Волошина, вышедший в 1910 году. С этого же года он начал работать над циклом «Киммерийская весна», последнее стихотворение которого помечено уже 1926 годом. Всего же более шестидесяти стихотворений, восемь статей о Киммерии, бесчисленные надписи на акварелях — таков вклад Волошина в «киммерийскую» литературу!
Поток образов и мыслей, рожденных поэтом, открывал читателю совершенно новый, «незнаемый» Крым. Волошин порывал с традицией изображать его «сладостным югом» — традицией, сводившей все многообразие полуострова к одному Южному берегу. Он увидел его глазами древнегреческих мореходов, для которых «киммериян печальная область» была севером, краем света, царством вечной ночи. В складках этой «стертой», глухой земли он почувствовал пласты смутных воспоминаний — и выявил их в чеканном слове.
Благодаря Волошину, бывшему не только глашатаем любимой земли, но и на редкость гостеприимным хозяином, все усиливается паломничество в Коктебель писателей и поэтов. В 1903 году в Коктебеле строят дом институтская подруга Е. О. Волошиной, детская писательница Н. И. Манасеина (1869—1930), и поэтесса П. С. Соловьева (1867—1924), печатавшая свои стихи под псевдонимом «Allegro». Некоторые черты Коктебеля вошли в их творчество: Соловьева, в частности, посвятила Карадагу стихотворение «Погасший вулкан», вошедшее в ее сборник «Плакун-трава» (Спб., 1910). В 1904 году Коктебель посетил драматург А. И. Косоротов (1868—1912), познакомившийся с Волошиным в Париже. С 1907 года возникает дружба Волошина с сестрами Герцык, имевшими собственный дом в Судаке. Аделаида (1870—1925) была поэтессой, переводила с немецкого и французского языков, писала статьи. Евгения (1874—1944) также занималась переводами и критикой, а впоследствии написала интересные воспоминания о Волошине, гостями которого сестры Герцык не раз бывали.
Довольно быстро в Коктебеле создалась своеобразная атмосфера, в которой напряженная духовная жизнь и творческие искания сочетались с неуемным весельем. Большую часть гостей Волошина составляла молодежь, только завоевывавшая «имена» и изливавшая свою энергию в остроумии, литературных спорах, стихотворных состязаниях, шуточных мистификациях. И если где-нибудь в Ялте или Алуште дамы отправлялись на пляж и в горы в модных туфельках и длинных платьях, а мужчины щеголяли в галстуках и наглаженных брюках, то в Коктебеле не было и следа этого. А помимо простоты в манерах и широкого приволья, помимо завораживающей красоты пейзажа и здорового климата, Коктебель долго обладал еще одним немаловажным для своих небогатых патриотов достоинством — дешевизной продуктов питания…
В 1908 году в Коктебеле обосновался Г. С. Петров (1868—1925), известный в то время публицист и писатель. Летом 1909 года в Доме Волошина живет Елизавета Дмитриева (1887—1928), печатавшая свои стихи под псевдонимом Черубина де Габриак, и Николай Гумилев, написавший именно в Коктебеле своих знаменитых «Капитанов». В том же году впервые приезжает С. Я. Елпатьевский, который сначала, увидя Коктебель, «даже не вышел из экипажа и велел извозчику ехать дальше», но затем горячо полюбил это «лысое, неприютное место» и в своих «Крымских очерках» (1913) посвятил ему несколько проникновенных страниц. В это время Коктебель становится так славен, что Игорь Северянин, даже не побывав там, пишет о нем стихотворение!
С 1909 года гостем Коктебеля становится А. Н. Толстой, а с 1911-го — М. И. Цветаева (об их коктебельских днях подробнее рассказывается дальше). В 1912 году Коктебель навестили Михаил Пришвин, В. Тан-Богораз, поэтесса Е. Кузьмина-Караваева и болгарский писатель Константин Величков. В 1915 году заехал из Феодосии белорусский поэт Максим Богданович, тогда же изложивший свои впечатления в очерке «Поездка в Коктебель». С 1912 года начал снимать в Коктебеле дачу симферополец К. А. Тренев. В июле 1913 г. он (из Коктебеля!) писал В. Миролюбову, что «коктебельского, лысого Крыма» не может терпеть, но тем не менее «прозябал» там и в 1916, и в 1917, и в 1919 годах. Черты Коктебеля зарисованы в его рассказах «Мальчики» и «Любовь Бориса Николаевича» (где, в частности, выведены мать и сын Волошины). А «киммерийцы» Волошин и Н. Маркс послужили писателю основой для образа профессора Горностаева в пьесе «Любовь Яровая».
Целый ряд отличных стихов дал Коктебель Осипу Мандельштаму, жившему под кровом Волошина в 1915, 1916, 1920 годах. Это: «Обиженно уходят на холмы…», «С веселым ржанием пасутся табуны…», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Негодованье старческой кифары…», «Не веря воскресенья чуду…», «Еще далеко асфоделей…», «В хрустальном омуте какая крутизна!». По-видимому, в Коктебеле были написаны: «На каменных отрогах Пиэрии…», «Веницейской жизни мрачной и бесплодной…», «Сестры тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы…».
Не раз бывала в Коктебеле Софья Парнок, в 1915 году гостившая у Волошиных, а в 1916—1921 годах жившая по соседству, в Судаке. Киммерия нашла отражение в ее стихотворении «Там родина моя, где восходил мой дух…».
2
В послереволюционные годы литературная жизнь Киммерии становится особенно интенсивной. Феодосия и Коктебель стали перепутьем, на котором сходилось множество известных русских писателей, художников, артистов, музыкантов. С 1918 года в Коктебеле поселится Вересаев (о нем далее). В декабре 1919 года приезжает Илья Эренбург, о своем пребывании здесь написавший в «Книге для взрослых» (1936 г.), а затем в мемуарах «Люди, годы, жизнь» (1960). В 1919—1920 годах жил здесь Андрей Соболь, запечатлевший быт поселка во время гражданской войны в рассказе «Обломки». Более прочно был связан с Киммерией Г. А. Шенгели, уроженец Тамани. В Коктебель он впервые попал летом 1917 года и затем бывал здесь в 1919, 1924, 1925, 1927, 1928 годах. Его дань Киммерии — стихотворения «Босфор Киммерийский» (1916), «Лес темной дремой лег в отеках гор…» (1918), «Планер» (1933), «Максимилиан Волошин» (1936).
В послереволюционные годы происходит сдвиг в творчестве М. Волошина. Среди созерцательных лирических стихов, певучих и раздумчивых, медным голосом набата зазвучали строки страстной гражданской поэзии. «Молитва о городе», «Дикое поле», «Бойня», «Дом поэта» — в этих стихах Киммерия предстает перед поэтом в крови, в страданиях, в беспощадной борьбе. Но в эти же годы возникают и наиболее цельные и глубокие «пейзажные» стихотворения Волошина: «Коктебель», «Карадаг», «Сквозь облак тяжелые свитки…», «Каллиера»…
А с 1923 года волошинский дом широко открывает свои двери для «поэтов, ученых, художников и бродяг (в лучшем смысле этого слова)». Давно уже мечтавший о свободном сообществе людей творческой мысли, Волошин с одобрения Советского правительства создает КОХУНЭКС — «Коктебельскую художественно-научную экспериментальную студию». Чаще известная под названием «Дом поэта», эта «студия» становится духовным центром Коктебеля, мощным магнитом, притягивавшим к себе всех творческих людей, попадавших в его «силовое поле». Если в первый, 1923 год через Дом «прошло» шестьдесят человек, то в 1924-м было уже триста, а в 1925-м — четыреста…
Среди литераторов, «причастившихся» Киммерии в 1923 году, следует назвать К. И. Чуковского, Е. И. Замятина, М. М. Шкапскую. Весной 1924 года, во время поездки в Москву и Ленинград, Волошин восстанавливает старые литературные знакомства, заводит новые — и летом в его доме многолюдно, как никогда. В тот год впервые приезжают в Коктебель Валерий Брюсов, Андрей Белый, Л. П. Гроссман, А. П. Глоба, А. Е. Адалис. В доме устраиваются стихотворные конкурсы; одно из последних своих произведений пишет в Коктебеле Брюсов — посвящено оно Максимилиану Волошину. В мае 1924 года на постоянное жительство в Феодосию приезжает А. С. Грин, который затем не раз бывал гостем Волошина.
В августе 1925 года Дом поэта отметил тридцатилетний литературный юбилей Волошина. (В 1895 году в Феодосии было впервые напечатано его стихотворение.) На торжестве присутствовало 170 человек, и среди них — новые «коктебельцы»: Софья Федорченко, Леонид Леонов, Юрий Слезкин. Последний прямо в Коктебеле писал роман «Разными глазами», где среди других героев изобразил Волошина. Л. Леонов также отразил в своем творчестве впечатления Киммерии: в романе «Дорога на океан» он посвятил несколько страниц Коктебелю.
В 1927 году состоялась поездка М. Волошина «на север» (в Москву и Ленинград): новые встречи, новые контакты с советскими литераторами. Растет слава Коктебеля как приюта для поэтов и прозаиков без всякой табели о рангах. В те годы многие являлись к Волошину еще только начинающими писать, мало кому известными. И он всех принимал одинаково внимательно, каждому старался помочь в его поисках. О его «благоговейной бережности» к стихам молодых писала Марина Цветаева — и такое отношение к поэзии («всякая хорошая строка была ему личным даром») оставалось у Максимилиана Александровича до самой смерти.
В Коктебеле «под крылом» Волошина вырастал Юрий Беклемишев (Крымов) — будущий автор «Танкера „Дербент“». Вероятно влияние историко-философских стихотворений Волошина на творчество Дмитрия Кедрина, в конце двадцатых годов писавшего Волошину из Днепропетровска: «Мы знаем и любим Вас, как поэта…» С 1927 года частым гостем Коктебеля стал Всеволод Рождественский, признававший свои стихи (в одной из дарственных надписей Волошину) отмеченными «влиянием и его поэтического гения»… В 1932 году «хозяину Коктебеля» преподнес свою книгу «Анатолия» молодой Петр Павленко, объявивший себя «новым подданным» поэта…
При жизни Волошина бывали в Коктебеле и посвятили ему стихи: Эрих Голлербах, Сергей Дурылин, Вера Звягинцева, Лев Остроумов, Мария Петровых, Илья Сельвинский, Марк Тарловский. Пока не найдено отражений Киммерии в творчестве других коктебельцев 20-х годов: Всеволода Вишневского, Сергея Заяицкого, Веры Инбер, Ивана Новикова, Александра Малышкина. Другое дело — Константин Паустовский: его повесть «Черное море» (1936) является своего рода художественной энциклопедией Крыма, и Киммерии в частности. Коктебелю посвящены его рассказы «Синева» и «Умолкнувший звук». Величественный образ Карадага встает со страниц романа Всеволода Иванова «Вулкан»; под карадагскими хребтами происходит действие романа И. Саркизова-Серазини «Потомок венецианского дожа». Владимир Лидин вспомнил Коктебель в позднейших воспоминаниях («У художников»).
А вот Маяковский в Коктебеле, по-видимому, не был, хотя местная легенда делает его автором названия Бухты-барахты под Карадагом. В восточном Крыму поэт был один раз и то проездом: в январе 1914 года, когда следовал из Севастополя в Керчь. Остроумным же названием карадагской бухточки мы обязаны Волошину — подлинному хозяину и доброму гению этих мест…
В 30-е годы в Коктебеле побывали Николай Асеев, Елена Благинина, Борис Житков, Николай Заболоцкий, Михаил Зощенко, Михаил Казаков, Борис Корнилов, Борис Лавренев, Анатолий Мариенгоф, Сергей Михалков, Юрий Нагибин, Сергей Наровчатов, Андрей Платонов, Мариэтта Шагинян, Евгений Шварц, Вячеслав Шишков и другие.
В послевоенные годы тяга писателей и поэтов в Киммерию все усиливается. Писательский Дом творчества в Коктебеле, очень выросший по сравнению с довоенным, принимал все больше отдыхающих: назвать всех, бывших и бывающих в нем, очень нелегко. В нашем перечне приведены лишь наиболее известные литераторы, а сколько других, молодых, которые также обращались и обращаются к образам Киммерии! Сколько произведений нам еще неизвестно!.. Литературная история Коктебеля богата и непроста, ее полное написание — дело будущего.
Коктебельские дни Алексея Толстого
1
Летом 1908 года в Париже Алексей Толстой знакомится с Волошиным. Знакомство быстро переходит в дружбу. По совету Волошина Толстой сбривает бородку и усы, причесывает волосы на косой пробор и находит свой внешний облик. «Он посвящает меня в тайны поэзии, строго критикует стихи, совершенно бракует первые прозаические опыты», — писал Толстой о Волошине в «Автобиографии». Вернувшись в Россию, Толстой и Волошин два месяца живут в Петербурге на одной квартире. А в конце мая 1909 года Алексей Николаевич вместе с женой приезжает в Коктебель.
Вспоминая об этом лете, С. И. Дымшиц-Толстая писала: «В Коктебеле, в даче с чудесным видом на море и на длинную цепь синих гор, Алексей Николаевич вернулся к стихам…, работал над фарсом „О еже“, писал „Дьявольский маскарад“; пользуясь библиотекой Волошина, начал впервые пробовать свои силы в историческом жанре… Совершенно неожиданно проявил он себя, как карикатурист…, изображая Волошина и его гостей в самых необыкновенных положениях и вызывая своими дружескими шаржами веселый смех коктебельцев…»
В то лето в Коктебеле гостили также Н. Гумилев, Е. Дмитриева — и все они приняли участие в импровизированном поэтическом конкурсе. Стихотворение Толстого было признано лучшим и стало одним из целого ряда его стихов, написанных в Коктебеле. Семь из них вошли в сборник «За синими реками», другие 11 в печати не появлялись. Четыре из них, без сомнения, навеяны Коктебелем: «Ночь», «Коктебель», «Полдень», «Утро». Последнее передает ощущение безжалостного коктебельского зноя и говорит о достаточно тонком понимании Толстым нового для него места:
Холмы до сердца прожжены; Обугленная ветвь кизила. И трещины, и валуны… Перед мучением застыло И встало солнце за скалой, Полно проклятья и отравы, И каждый луч его иглой Упал на высохшие травы…Однако главным приобретением музы Толстого в Коктебеле было его приобщение к художественной прозе. Два года работая над стихом, он в глубине души все же не чувствовал себя поэтом. Но и проза не получалась. «Я никак не мог понять, какая из форм данной фразы наилучшая», — вспоминал Толстой впоследствии. И вот летом 1909 года происходит сдвиг. Слушая переведенные Волошиным рассказы Анри де Ренье, Толстой был поражен чеканкой образов и «стал учиться видеть, то есть галлюцинировать». Тут же, в три дня, он пишет три небольших новеллы («Соревнователь», «Яшмовая тетрадь», «Злосчастный»), в которых и находит «свой стиль». Можно только добавить, что Волошин подсказал Толстому и темы его первых прозаических произведений. В дальнейшем, воплощая волошинскую же мысль о написании «большого цикла» о старых дворянских гнездах, Толстой создает книгу о «помещиках-последышах» — «Заволжье», с которой и входит в русскую литературу…
В Коктебеле Толстой продолжал также работать над «Сорочьими сказками», начатыми год назад. Когда книга вышла из печати, Волошин немедленно откликнулся на нее самой одобрительной рецензией. Отмечая, что сказки написаны «не от ущерба человеческой души, а от избытка ее», Волошин подчеркивал здоровое реалистическое начало творчества Толстого. Именно в то время, раньше других осознав кризис символизма в литературе, поэт начинает вынашивать идею создания «нового реализма» — «цветущего искусства», включающего в себя все достижения прошлого…
Из Коктебеля Толстые не раз ездили в Феодосию, встречались с композитором В. Ребиковым и художником К. Богаевским. В начале сентября 1909 года и Толстые и Волошин возвращаются в Петербург, где принимают активное участие в создании журнала «Аполлон». Свои книги Толстой дарит другу с самыми нежными надписями, отмечая, например, что в сборнике «За синими реками» «столько же солнца, Парижа и влюбленности, сколько и тебя». В рецензии на эти стихи Волошин увидел в них то «гармоническое соединение стиля литературного с народным складом, которое мы вправе назвать классическим». И, вполне угадывая будущее писателя, заканчивал с сожалением: «Жаль…, если романист и рассказчик похоронит в себе рано умершего поэта…»
2
В романе «Две жизни», появившемся в печати в 1911 году, Толстой вывел поэта-декадента Макса, имевшего немало общего — и во внешнем и во внутреннем облике — с Волошиным. Однако образ этот был сильно шаржирован и упрощен. Такое изображение, очевидно, задело Максимилиана Александровича, но изменить его дружеского чувства к Толстому не могло. И летом 1912 года чета Толстых снова в Коктебеле.
«Мы с ним пишем вместе это лето большую комедию из современной жизни (литературной)», — писал Волошин К. Кандаурову 18 мая. В волошинском архиве сохранились наброски этого произведения, среди персонажей которого значатся: «критик-оккультист», «редактор-купец», «поэт последней формации», «художник-кубист», «ищущая девица», «поэтесса». Однако совместное творчество, очевидно, не наладилось, и в конце концов Толстой уже единолично создает свой «первый драматический опыт» — пьесу «День Ряполовского». По собственной его позднейшей оценке, она оказалась «очень гадкая, невероятно запутанная и скучная».
Причиной неудачи, возможно, были творческий кризис, который в то время переживал Толстой, или новизна драматической формы (в которой впоследствии он создал столько замечательных произведений), а может быть, чересчур бесшабашное настроение, кружившее головы коктебельцев. Вместе с Толстыми в Коктебель приехали художник В. Белкин и его невеста, пианистка В. Попова; кроме того, у Волошина гостил художник К. Кандауров с женой, сестры Вера и Елизавета Эфрон — «обормотская» компания, с которой Толстые постоянно общались в Москве зимой того года. Шутки, маскарады, розыгрыши не прекращались. А тут еще явился художник Аристарх Лентулов, признанный мастер «эпатирования буржуа», большой охотник подурачиться. В то лето в Коктебеле возникла новая кофейня, содержавшаяся греком Синопли: примитивный дощатый балаган с террасой на самом берегу. Лентулов предложил дать новому заведению «столичное» имя: кафе «Бубны»; общими силами все стены и простенки кофейни были украшены росписями. Намалеванные в вывесочном стиле натюрморты сопровождались незамысловатыми виршами: «Нет лучше угощенья Жорж-Бормана печенья!», «Трубите весть во все концы Про монпасье и леденцы!», «Мой друг, чем выше интеллект, Тем слаще кажется конфект» — и так далее. Были и портретные изображения: элегантный господин в панаме и белых брюках, с цветком в руке, был обозначен: «Нормальный дачник, друг природы, — Стыдитесь, голые уроды!» Под изображением миловидной девушки в коротенькой тунике стояло: «Многочисленны и разны Коктебельские соблазны!» Наряду с Волошиным Алексей Николаевич был активным автором этих двустиший — и сам был запечатлен на стенке «Бубен» («Прохожий, стой! Я — Алексей Толстой!»).
В начале июля в чаянии немного заработать Волошин и Толстой устраивают в Феодосии концертное выступление. В дивертисменте согласились участвовать Инна Быстренина (пластические танцы), Вера Попова (аккомпанемент и соло на рояле). «Вечер слова, жеста и гармонии» имел успех; возникает дерзкая мысль о турне по Крыму. И вот уже стихам Волошина, сказкам Толстого, танцам Быстрениной аплодируют евпаторийцы, симферопольцы, севастопольцы. Публика всюду энергично приветствует исполнителей и требует повторений — успех полный!
Правда, в Севастополе получилась накладка. Долго не могли найти свободного зала; наконец договорились с театром «Ренессанс», где чье-то выступление не состоялось. Прочел два стихотворения Волошин — на смену ему выходит Быстренина. Публика аплодирует. Сменивший ее Толстой встречен овацией. При виде Поповой зал неистовствует — гремят стульями, раздается «браво!» и «бис!». Концертанты довольны, но в некотором недоумении: почему аплодируют не после окончания номеров, а перед ними?.. Все разъяснилось на улице: маленькая афишка о «Вечере слова и жеста» была наклеена на большую, объявлявшую о выступлении трансформатора — того, не явившегося! Их всех приняли за одного, быстро менявшего обличье человека…
3
Третий раз Толстые появились в Коктебеле в 1914 году. В первых числах апреля, по сообщению Богаевского, они вместе с профессором международного права Ященко гостили у художника Латри под Феодосией и «на днях» собирались в Коктебель. 20 апреля Волошин подтверждал (в письме к Кандаурову) прибытие Толстых: «У нас Толстые; Ященки уехали. Алехан остается до половины мая. Уже сколотил каркас новой пьесы. Соня через неделю едет в Анапу…» Сам Алексей Николаевич также побывал в Анапе, но в начале июня вернулся в Коктебель и пробыл здесь до начала июля. По воспоминаниям Толстого, по пути из Крыма в Москву он услышал о мобилизации, а она была объявлена 17 июля…
Таким образом, Толстой провел в Коктебеле около трех месяцев — известно же об этом времени очень немного. С С. Дымшиц у Толстого назревал разрыв — и она крайне скупо говорит о последнем их совместном лете.
Тогда, перед началом первой мировой войны, даже в тихом приморском поселке сам воздух словно был напоен предчувствием каких-то неведомых катастроф. Это ощущали почти все обитатели дома Волошина — и в этом плане интересны воспоминания Анастасии Цветаевой, также отдыхавшей вместе с сестрой в Коктебеле. «Однажды Алексей Николаевич, когда мы стояли на берегу, глядя на большой низкий шар багровой луны, стоящей над морем…, сказал: — Представим себе, что мы — последние люди на земле перед концом света, и что это — последний восход луны, наступает мгла…» Впоследствии, в романе «Сестры», Толстой так описал этот предвоенный дачный сезон в Крыму: «Легкомыслие и шаткость среди приезжих превзошли всякие размеры, словно у этих сотен тысяч городских обывателей каким-то гигантским протуберанцем, вылетевшим в одно июньское утро из раскаленного солнца, отшибло память и благоразумие. По всему побережью не было ни одной благополучной дачи. Неожиданно разрывались прочные связи. И казалось, самый воздух был полон любовного шепота, нежного смеха и неописуемой чепухи, которая говорилась на этой горячей земле, усеянной обломками древних городов и костями вымерших народов…»
О творчестве Толстого в Коктебеле в то лето также известно не все. Пьеса, которую упоминает Волошин, по-видимому, трагедия «Опасный путь (Геката)», оставшаяся незаконченной. Возможно, в Коктебеле писался рассказ «Ночные видения» — один из подготовительных этюдов к роману «Болотные огни (Егор Абозов)», в котором изображалась артистическая богема столицы. Затем следует рассказ «Четыре века», в литературном сборнике «Слово» имевший авторскую датировку: «Июнь 1914 года. Коктебель». Действие этого рассказа, повествующего о четырех поколениях семьи Леоновых, происходит «в старом городе над Днепром» — и лишь один момент связывает его с Коктебелем. Гаяна, обращаясь к Авдотье Максимовне, называет ее «Пра» — и автор поясняет: «так сокращенно звала она прабабушку». Между тем, «Пра» было домашним именем Е. О. Волошиной (матери поэта), о смысле которого М. Цветаева писала: «Праматерь, Матерь здешних мест, ее орлиным оком открытых и ее трудовыми боками обжитых, Верховод всей нашей молодости, Прародительница Рода — так и не осуществившегося, Праматерь — Матриах — Пра»…
В 1915 году Толстой приезжает в Коктебель вновь — с новой женой, Натальей Крандиевской. По ее воспоминаниям, «в Коктебеле Толстой работал еще над романом „Егор Абозов“, пока воображением его не завладела всецело новая пьеса „Нечистая сила“». Волошин в то время находился в Париже — и о пребывании Толстых в Коктебеле мы знаем в основном из писем Елены Оттобальдовны к сыну. Она уже раньше подружилась с Алексеем Николаевичем, а за зиму 1914—1915 годов, проведенную в Москве в постоянных встречах с Толстыми, дружба эта еще более окрепла. Свою книгу «На войне» Толстой 22 февраля так надписал Волошиной: «Милой дорогой Пра с присовокуплением всех имеющихся приятных и нежных слов…»
Приезд Толстого, состоявшийся 14 июня, искренне обрадовал Елену Оттобальдовну. «Я очень рада приезду Алехана, — писала она сыну. — Поселились они внизу и занимают одну из комнат пристройки, переднюю и следующую в старом доме. Пишет вместе с Тусей роман, и я позволила им работать в твоей спальне. Он весел и доволен, что опять попал в Коктебель, жалеет, что тебя нет, очень тебе кланяется». В следующем письме, от 26 июня, Елена Оттобальдовна сообщила, что разрешила Толстым заниматься в библиотеке Волошина. «Живем пока весело и дружно». В Коктебеле в то время находились также сестры Цветаевы, поэтессы Софья Парнок и Елизавета Тараховская.
27 июня в Коктебель приехали супруги Богаевские и Александра Петрова — феодосийские друзья Волошина, с которыми Толстой также был знаком. Богаевский уезжал в армию — и ему захотелось попрощаться с Коктебелем, повидать Волошину и Толстых, «посидеть на берегу, покопаться в камешках». Алексей Николаевич преподнес гостям по экземпляру своей новой книги «Приключения Растегина», а 29 июня надписал ее «дорогой Пре».
1 июля Волошина рассказывала: «С Алеханом мы живем хорошо, много говорим, смеемся, вместе ужинаем у Ел(ены) Пав(ловны) в новой столовой; кофе, чай пьем также вместе, а со вчерашнего дня к нам присоединился поселившийся у нас поэт Мандельштам… Тусь-Толстой бегает к Новицким играть в теннис». 12 июля состоялось литературно-музыкальное кабаре в пользу раненых. «Было хорошо и весело», — сообщала сыну Елена Оттобальдовна. «Пелись (очень хорошо) шуточные стихи, где воспевались мои штаны, поэты в лице Алехана, Мандельштама и тебя за границей, поэтессы в лице Марины и Парнок…»
Однако постепенно настроение гостей меняется. 20 июля Волошина сообщает: «Из Коктебеля уже собираются уезжать: Марина с Парнок: им скучно; Алехан с Тусей и Фефой; им тоже скучно». 22 июля М. Цветаева и С. Парнок действительно уезжают, а 28-го Елена Оттобальдовна пишет: «Вчера наша компания последний раз ужинала с Алеханом, много пила и говорила, затем сопровождала их к Кате Манасеиной, где было довольно скучно. Зато 25.V в столовой Ел. Пав. был пир-горой… Сейчас уезжает Алехан…, уже извозчик ждет давно…» И хотя Толстой вносил немало сумятицы в быт Волошиной, с его отъездом у нее, по ее словам, «пропало все радостное и бодрое настроение».
Роман «Егор Абозов», над которым работал писатель в Коктебеле, так и остался незавершенным. В нем Толстой нарисовал литературно-художественную среду Петербурга, с явно сатирическим оттенком изобразив редакционные собрания и участников журнала «Аполлон» (зашифрованного под названием «Дэлос»). В образах почти каждого из героев угадываются реальные прототипы: Сергей Маковский, Вячеслав Иванов, Михаил Кузмин и другие; описана мастерская художника А. Головина в Мариинском театре, где часто бывали «аполлоновцы»; артистический подвал «Бродячая собака» — в романе названный «Подземной клюквой». Под именем критика Полынова выведен Волошин, «похожий на Зевса в велосипедном костюме». А описывая акварели и рисунки пером, которые Салтанова показывает главному герою, Толстой, несомненно, видел перед собой пейзажи Богаевского…
Впечатления эти отражены и в рассказе «Пасынок» (впоследствии — «Человек в пенсне»), написанном в 1916 году. Но там Коктебель лишь обозначен и служит почти нейтральным фоном при описании отношений Стабесова и Катерины Ивановны. И отождествить «поселок, разбросанный по морскому берегу», с Коктебелем нам дает право лишь упоминание «деревянного, с башней дома, который звался в поселке „замком“», — несомненно, списанного с дома Волошина…
Это было последнее творческое прикосновение Толстого к образам юго-восточного Крыма. С «хозяином» же Коктебеля, Волошиным, Алексей Николаевич еще не раз встречался: сначала в Москве, весной 1917 года, затем в Одессе, в 1919 году. 4 апреля, перед вступлением в город григорьевцев, Толстые отплывают в Константинополь — Волошин остается на берегу. Однако и эта разлука не была последней: весной 1924 года Волошин в Ленинграде навещает недавно вернувшегося на родину Толстого. «Он очень богат и славен, потому важен», — записал поэт позднее. Однако именно при этой встрече «важный» Толстой подарил Волошину две своих книги, выпущенных в 1923 году Госиздатом: «Аэлита» и «Детство Никиты», — сопроводив их самыми дружескими и теплыми надписями. В августе 1930 года, по пути из Судака, где он отдыхал с В. Шишковым в санатории КУБУЧ, Алексей Николаевич на несколько часов, но заезжает в Коктебель…
Неизменное упоминание Волошина и коктебельского лета 1909 года во всех автобиографиях А. Н. Толстого также говорит, что он не забыл своего первого литературного наставника и сохранил благодарную память об уголке восточного Крыма, бывшего в какой-то степени его писательской колыбелью. Весной 1941 года, стоя у своего массивного, красного дерева бюро, он однажды с грустью сказал литературоведу В. Мануйлову: «А все же мне нигде так хорошо не писалось, как за той небольшой конторкой, которую сделал для меня в Коктебеле Макс…»
Марина Цветаева в Коктебеле
1
В конце 1910 года в Москве выходит первая книга стихов восемнадцатилетней Цветаевой «Вечерний альбом». Волошин, радовавшийся каждому подлинному поэтическому дару, сам приходит в дом в Трехпрудном переулке знакомиться. 2 декабря он посвящает молодой поэтессе стихотворение («К Вам душа так радостно влекома…»), 11-го в газете «Утро России» появляется его статья, посвященная цветаевскому сборнику. Для обостренно самолюбивой Цветаевой такое ободрение было крайне важно. «М. Волошину я обязана первым самосознанием себя как поэта», — отметит она впоследствии.
За зиму отношения «тогда очень дикой» гимназистки и 33-летнего поэта становятся все более дружескими. И, получив радушное приглашение на лето в Коктебель, Цветаева не упускает случая им воспользоваться. 5 мая 1911 года, после месяца в Гурзуфе, она ступает на коктебельскую землю — «перед самым Максиным домом». Огромными прыжками навстречу ей несся по белой внешней лестнице «совершенно новый неузнаваемый Макс»: в длинной полотняной рубахе и сандалиях, с цветной подпояской и венком из полыни на буйных кудрях — «Макс Коктебеля». Тут же произошло знакомство с Еленой Оттобальдовной, также пленившей — навсегда — Цветаеву.
К этому времени в доме Волошина уже были гости: Вера, Елизавета и Сергей Эфроны, сестры и брат, — и с ними Цветаевой также были суждены близкие и длительные отношения. В 1910 году в семье Эфрон произошла трагедия: самый младший в семье, тринадцатилетний Константин, играя в смертную казнь, случайно повесился. Мать покончила с собой на другой же день; осенью умер от туберкулеза отец. Перед Волошиным, пригласившим сирот к себе, вставал вопрос: как помочь детям его покойных друзей выйти из депрессии?.. В результате лето 1911 года стало первым «обормотским» (словечко Волошина) летом в Коктебеле…
Краеугольным камнем обормотства было стремление внести в будничную жизнь игру. «В игре творческий ночной океан широкими струями вливается в узкую и скупую область дневного сознания», — писал Волошин в одной из статей. Розыгрыши и мистификации, инспирированные им, помогали отомкнуть глубинные родники творчества человека (как было в истории с «Черубиной де Габриак»); служили испытанием, через которое проводились неофиты: были одним из приемов самозащиты от снобизма и ограниченности мещан.
Вторым моментом в «кодексе» обормотов было стремление к свободе и естественности, активное отрицание всяческих условностей. В частности, одежде надлежало быть предельно простой и удобной, в чем мать и сын Волошины издавна подавали пример. Непременным условием обормотства был эпатаж буржуа, средством которого, помимо одежды, было намеренное раздувание всяческих невероятных слухов о самих себе. Одним из элементов игры был своеобразный языковой поиск обормотов: пристрастие их к кличкам и к шуточным неологизмам.
Обормотство и было тем психофизиологическим лечением, которое разрядило и перевело в другую плоскость напряжение, грозившее надломить молодые души Эфронов. («Нас раскрепостил Макс», — вспоминала впоследствии Е. Я. Эфрон.) Такая же терапия нужна была Марине Цветаевой, в которой было «много к себе не подпускающего, замкнутого» и которая сама страдала от этой самоизоляции от мира. Похоже, что она была вовлечена в игру сразу и без предупреждений: в одном «послекоктебельском» письме она вспоминает, как Волошин втолкнул ее «в окно сестрам» Эфрон и что она, несмотря на естественный для нее протест, приняла это «крещение». Когда в Коктебель приехала ее младшая сестра, Марина с жаром приняла участие в ее розыгрыше: незнакомые Асе Эфроны были представлены ей в качестве Игоря Северянина, идиотической поэтессы Марии Папер и не знающей ни слова по-русски испанки Кончиты.
При Цветаевой же состоялась одна из наиболее памятных мистификаций, в результате которой Е. Волошина и получила прозвище «Пра». В Париже на Лилю Эфрон обратил внимание некий негоциант, возымевший желание на ней жениться. «Чтобы отвязаться от него, — пишет в своих воспоминаниях Ольга Ваксель, — она ему сказала, что замужем и имеет детей… Он не поверил и приехал в Коктебель проверить это. Для него была инсценирована грандиозная выдумка, заключавшаяся в том, что все случайные обитатели дачи Волошина превратились в одну семью с „Прой“ во главе. Пять поколений жили в полнейшем мире и подчинении, являя пример матриархального семейства. Вечером на крыше дома перед изумленным гостем… Макс исполнял танец бабочки. Француз думал, что он попал в сумасшедший дом, не выдержал и скоро уехал»…
«Между другими обманными придумками, — добавляет Леонид Фейнберг, — был дельфин, который будто бы приплывал, чтобы его доили, — и его молоком лечили слабогрудого Сережу Эфрона… Макс уверял, что может, вместе с Верой, ходить по воде, как посуху, хотя для удачи такого опыта требуется особое благоговейное настроение зрителей… Весь „вздор на вздоре“ разыгрывался необычайно серьезно и совершенно»…
Все в Коктебеле нравилось Цветаевой: и пятидесятиградусная жара, и непривычные шаровары, и даже обилие собак! «Их было много, когда я приехала, — вспоминала она, — когда я пожила, т. е. обжилась, их стало — слишком много». Помимо упоминаемых ею Лапко, Одноглаза и Шоколада, мы знаем (из волошинских «Сонетов о Коктебеле») еще о двух, имевших имена: Тобике и Гайдане. В стихотворении «Гайдан», написанном от лица пса, Волошин набрасывает портрет Цветаевой в Коктебеле:
…Их было много. Я же шел с одной. Она одна спала в пыли со мной. И я не знал, какое дать ей имя. Она похожа лохмами своими На наших женщин. Ночью под луной Я выл о ней, кусал матрац сенной И чуял след ее в табачном дыме…Вместе с Волошиным Цветаева не раз отправлялась на Карадаг и по окрестным холмам. «Сколько раз — он и я — по звенящим от засухи тропкам, или вовсе без тропок, по хребтам, в самый полдень, с непокрытыми головами, без палок… в непрерывности беседы и ходьбы — часами — летами — все вверх, все вверх», — вспоминала она позднее. Вместе с Волошиным она проходила на лодке под «реймскими и шартрскими соборами» карадагских скал, увидела таинственный «вход в Аид» (Ревущий грот), с жадностью впитывая рассказы своего спутника о Киммерии. По-видимому, к М. Цветаевой обращено волошинское стихотворение «Возьми весло, ладью отчаль…», совпадающее с ее воспоминаниями о дружеских наставлениях ей поэта. Были многолюдные походы (во время одного из которых компания попала под ливень), были поездки в Старый Крым и Феодосию…
В конечном счете волошинская затея увенчалась успехом: Цветаева освободилась от своей замкнутости и неврастении. Благодаря Волошину в ней возникло — уже на всю жизнь — доверие к людям. А среди множества новых знакомств было одно, повернувшее по-иному всю ее дальнейшую жизнь: семнадцатилетний Сергей Эфрон, через год ставший ее мужем.
Так, утомленный и спокойный, Лежите, юная заря, Но взглянете — и вспыхнут войны, И горы двинутся в моря, И новые зажгутся луны, И лягут яростные львы По наклоненью вашей юной Великолепной головы, —таким Цветаева увидела своего жениха в ту, первую их встречу…
В начале июля вместе с Эфроном она покинула Коктебель — но забыть его не могла никогда. «Это лето было лучшее из всех моих взрослых лет, и им я обязана тебе», — писала Марина Ивановна Волошину. «Я тебе страшно благодарна за Коктебель». Через 10 лет, в 1921-м, она резюмировала: «Коктебель 1911 г. — счастливейший год моей жизни…»
2
В мае 1913 года Марина Цветаева вновь приезжает в Коктебель — с мужем и годовалой дочерью. Здесь она пробыла до 14 августа, а известно об этих трех с половиной месяцах немного. Случайно сохранился волошинский пейзаж (датированный 26 апреля 1913 г.) с надписью: «Милой Марине в протянутую руку». 21 мая супруги Эфрон подарили Е. Волошиной книгу Д. Мережковского «Александр Первый». 27 июня Цветаева выступила в Феодосии с чтением своих стихов — в Лазаревском сквере, на вечере окончивших реальное училище. 14 августа, перед отъездом, она читала на «вышке» дома стихи Марии Башкирцевой.
В то лето Волошин работает над книгой «Дух готики», активно занимается живописью. В Коктебеле собирается много художников: К. Вогаевский, Лев Бруни, К. Кандауров, Юлия Оболенская, Магда Нахман, архитектор Владимир Рогозинский. Нахман пишет портрет Цветаевой — одно из первых известных сейчас ее изображений. Впервые приезжает Майя Кювилье — поэтесса, писавшая по-французски (впоследствии — жена Ромен Роллана). На фотографиях того лета она обычно снята вместе с Цветаевой и Эфроном. Часто на фото присутствуют актер Камерного театра Владимир Соколов («Пудель») и молодой художник Леонид Фейнберг.
В этот приезд Цветаева должна была много внимания уделять дочери и мужу. Но если мы ничего не знаем о ее коктебельских стихах 1911 года, то в лето 1913 года их возникает довольно много. В мае были написаны: «Моим стихам, написанным так рано…», «Идешь, на меня похожий…», «Солнцем жилки налиты — не кровью…», «Вы, идущие мимо меня…», «Мальчиком, бегущим резво…». Первым июня датировано «Я сейчас лежу ничком…», обращенное к Михаилу Фельдштейну (также находившемуся в Коктебеле). 11 июля написано стихотворение «Идите же! — Мой голос нем…» и цикл «Асе»; 19 июля — цикл «Сергею Эфрон-Дурново».
Пробыв недолгое время в Москве (где 30 августа скончался отец, И. В. Цветаев), Марина Ивановна с семьей снова едет в Крым. Сначала, на месяц, в Ялту, а затем (с 17 октября) — в Феодосию. Там же решает провести зиму Анастасия Цветаева. По ее воспоминанию, Феодосия оказалась для сестер полна «уютных семейств, дружеских праздничных сборищ, ожидания гостей, наивного восхищения талантом». Раз за разом Марина Ивановна выступает перед феодосийцами с чтением своих стихов — вместе с сестрой, в унисон. 24 ноября они участвуют в вечере «Еврейского общества пособия бедным», 15 декабря — в «Вечере поэзии и музыки», устроенном Обществом приказчиков, 30 декабря — на вечере в пользу общества спасания на водах, 3 января 1914 года — на «студенческом вечере» в мужской гимназии.
Сестры охотно читали стихи и на домашних вечерах — в просторной мастерской Богаевского, в маленькой холостяцкой квартирке судьи П. Лампси. В Феодосии Цветаевой был написан еще ряд стихотворений: «В тяжелой мантии торжественных обрядов…», «В огромном липовом саду», «Над Феодосией угас…», «Уж сколько их упало в эту бездну…», «Быть нежной, бешеной и шумной…», «Але. (Аля! — маленькая тень…)», поэма «Чародей», «Генералам двенадцатого года». Последнее стихотворение посвящено поэтессой мужу, присутствие которого (так же, как и дочери-первенца) наполняло ее дни особым светом. У Сергея Яковлевича был туберкулез — и жена «постоянно дрожала» над ним. Весной 1914-го, увлекшись книгами философа В. В. Розанова, бывшего учеником ее отца, она пишет ему из Феодосии три письма: больше всего в них о «Сереже». «Наша встреча — чудо!» — восклицает она.
Новый, 1914 год Цветаева с мужем и сестрой встречают у Волошина, выехав из Феодосии в жестокую метель. В позднейших воспоминаниях Марина Ивановна рассказывает о начавшемся в волошинской мастерской пожаре, остановленном будто бы хозяином с помощью заклинания. В данном случае перед нами пример цветаевского мифотворчества: из писем Волошина к матери мы узнаем, как в действительности был взломан пол, залито водой и разобрано раскалившееся основание печки…
В марте Марина Ивановна познакомилась с директором феодосийской мужской гимназии С. Бельцманом, «сойдясь на почитании Розанова» (как писал Волошин Петровой). В это время сестры бывают у художника Михаила Латри (внука Айвазовского), у хозяев имения Шах-Мамай Николая и Лидии Лампси; знакомятся с художниками Николаем Хрустачевым и Людвигом Квятковским. А вот дружбы с Алексеем Толстым не получилось: Цветаевы ему активно не нравились, и он карикатурно (под именами «Додя» и «Нодя») изобразил их в рассказе «В гавани».
25 апреля Анастасия Цветаева перебралась в Коктебель. Сергею Эфрону предстояло сдать экстерном гимназический курс на аттестат зрелости: в противном случае его могли осенью взять в солдаты. Экзамены прошли хорошо — и 1 июня Марина Ивановна с семьей также переехала к Волошину. Вскоре здесь были созданы еще два стихотворения, посвященных дочери: «Ты будешь невинной, тонкой…» и «Да, я тебя уже ревную…», — и одно, посвященное мужу («Я с вызовом ношу его кольцо…»). О предвоенном лете в Коктебеле выше уже писалось; по-видимому, «летний вихрь безумия» как-то задел и сестер Цветаевых. 9 июля Ю. Оболенская писала своей подруге Нахман, что Марина с Асей «перессорились со всеми дачниками… и после грандиозного скандала на днях уехали совсем из Коктебеля».
Волошин никогда не идеализировал своих друзей и отдавал себе полный отчет в слабостях и недостатках каждого из них. Еще в марте он писал матери, что Цветаевы обе «очень по-детски страдают» самовозвеличиваньем, мыслью о своей единственности. Однако, поняв человека до конца, Волошин принимал его целиком и ни разочароваться в нем, ни «отречься» от него уже не мог. «Он меня любил и за мои недостатки», — отмечала сама Марина Ивановна…
Лето 1915 года М. Цветаева снова проводила в Коктебеле, но уже без мужа, уехавшего на фронт братом милосердия. Приехала она туда в конце мая с поэтессой Софьей Парнок, с которой познакомилась и подружилась весной. Волошин был в Париже — и о пребывании Цветаевой в Коктебеле почти ничего не известно. 23 июня она пишет стихотворение «Какой-нибудь предок мой был — скрипач…». В июле в Коктебеле появился Осип Мандельштам, и Марина Ивановна, разумеется, познакомилась с ним. «Я шла к морю, он с моря. В калитке волошинского сада — разминулись». В позднейших своих воспоминаниях Цветаева рассказывает, что Мандельштам в Коктебеле был общим баловнем, будучи «окружен ушами — на стихи и сердцами — на слабости». Однако первое их знакомство было недолгим: 22 июля Цветаева и Парнок уехали на Украину…
Весной 1917 года Волошин встречался с М. Цветаевой в Москве, а осенью она приезжала в Коктебель дважды. Первый приезд состоялся, по-видимому, в начале октября: Марина Ивановна еще застала в Феодосии Мандельштама, а он уехал в Петроград 11 октября. В середине октября в Феодосии вспыхнул «винный бунт» — Цветаева запечатлела его в стихах «Ночь. Норд-ост. Рев солдат. Рев волн…» и «Плохо сильным и богатым…». Волошин позднее писал: «Марина как раз в дни московского боя (с 27 октября по 3 ноября.— В. К.) была у нас и, ничего не подозревая, уехала в Москву. И, пробыв там день, вернулась с Сережей».
Вторично в Коктебель Цветаева приехала 10 ноября — «с Сережей и массой рассказов об московских делах», по словам Волошина. Поэт посвятил ей цикл из двух стихотворений «Две ступени». 25 ноября Цветаева вновь уехала в Москву за детьми, с которыми должна была тотчас же вернуться в Коктебель. Однако осуществить это намерение уже не удалось: ноябрьский приезд оказался последним…
В начале дружбы, благодаря Волошина за Коктебель, поэтесса спрашивала: «Чем я тебе отплачу?» Через 21 год, узнав о смерти Волошина, она отозвалась на нее великолепным очерком-эпитафией «Живое о живом», несомненно, лучшим из всего написанного о Волошине. Должное его памяти она воздала также в стихотворном цикле «Ici Haut» («Здесь, на Высоте»), а высокий лад Коктебеля описала в очерке «История одного посвящения». «Одно из лучших мест на земле», — определила она Коктебель в 1913 году. А где-то в конце тридцатых, уже «подводя итоги», поставила Коктебель в ряд с лучшими воспоминаниями жизни: «Таруса… Коктебель да чешские деревни — вот места моей души…»
Михаил Пришвин
В 1912 году весенняя тяга в «новые, неведомые страны», уже уводившая Михаила Михайловича Пришвина в «край золотых гор», Среднюю Азию, повлекла его к Черному морю. Перед путешествием он пытался вообразить себе это место: «Какой Крым? Что-то вкусное, сладкое, похожее на крем, представлялось мне, когда я старался вообразить себе Крым на Невском… Начиналось одно из моих весенних путешествий в новые, неведомые мне страны… В этот раз я хотел где-то на юге найти весну в феврале и привезти ее в Россию, на север…» К этой записи в своем дневнике, словно предчувствуя трудность постижения для себя новой земли, Пришвин добавил: «А в путешествии я понимаю, как и все русские странники, необходимым труд, почти пост, необходима вера в припасенный в кармане кусочек бублика и запас горячей благодарности тому, кто бескорыстно покормит в пути и укажет дорогу. Без веры в священный бублик нельзя понять новую землю и людей, на ней обитающих».
Так и произошло: «просоленная, голая» земля Киммерии, ее «камень, вода» поначалу ничем не очаровали писателя. «Что тут любить?» — откровенно спросил он у своего друга, обосновавшегося в Коктебеле и горячо звавшего его к себе. Поднявшись на знаменитую у окрестных жителей Святую гору, Пришвин увидел среди черных, корявых кустиков едва оформленную груду камней: «самую мертвую из всех могил в мире». Над могилой молился, прося святого об исцелении, паломник, — и неожиданно, без каких-то видимых причин, у писателя открылись глаза: «Я вдруг стал понимать всю красоту этой суровой могилы на верху черного потухшего вулкана, и увидел я море, цветистую линию гор, одну за одной уходящую в лазурную дымку, и возле одной из них сверкали весла триремы, плыл Одиссей…» Мертвая до этого земля преобразилась: «Я понимал, что эти камни у моря можно оживлять и любить больше, чем наши поля, не теплой родственной, а какой-то особенной вселенской любовью, и сердцем, а не головой постигал, чему напрасно… учил меня друг»: «Полюби камень, воду, свет, и сотвори из этого вселенную».
Помимо Коктебеля, М. Пришвин побывал в Бахчисарае, Ялте, на Яйле и описал свои впечатления в книжке очерков Крыма «Славны Бубны» (вышла в 1913 году). Название это дал писателю именно Коктебель с его кофейней «Бубны». О посещении этой кофейни (названной им «Славны Бубны») М. Пришвин упоминает в своем рассказе, а М. Волошина можно видеть в несколько шаржированном образе «господина, похожего на полную женщину». От местного жителя писатель узнал, что «господин — из „индийской партии“, в этой партии и говорят, и одеваются, и живут совсем особенно»: здесь явно подразумевается «обормотская» компания, группировавшаяся вокруг волошинского дома.
А где жил сам Пришвин?.. Кто тот друг, который пригласил его в Коктебель?.. Думается, что это был Григорий Спиридонович Петров, известный публицист и лектор, член Государственной думы, бывший священник, лишенный сана за «своемыслие»: он обосновался в Коктебеле еще в 1908 году.
Подводя итоги, нужно сказать, что Крым все же остался для М. М. Пришвина малопонятным и чужим: «крем, сладкое блюдо». Но зоркий глаз писателя, его поэтическое чутье давали ему возможность и о чужом сказать вполне точно, как, например, сказал он о древнем Карадаге: «Карадаг был вулканом. Теперь он перегорел, потух, почернел. А море по-прежнему осталось живое, то ластится к нему, то начинает хлестать мертвеца и выбивать из него разноцветные камешки — воспоминания прежней пламенной любви вулкана и моря: яшмы, аметисты, бериллы, топазы рассыпаны по берегу моря. Странные, с неподвижными глазами, в летнее время ходят по берегу взрослые люди и собирают эти камешки-воспоминания…»
Таким дорогим воспоминанием остается для Крыма — и для Коктебеля в частности — посещение его большим русским писателем — живописцем и мудрецом.
Максим Горький
О пребывании Горького в Коктебеле подробнее других рассказывает Р. Вуль в своей книге «А. М. Горький в Крыму» (Симферополь, Крымиздат, 1961 г.). По его предположению, на выбор Алексеем Максимовичем «нового места отдыха повлияли К. А. Тренев и другие литераторы, имевшие дачи или отдыхавшие в Коктебеле». Однако Тренев пишет в своих воспоминаниях «Мои встречи с Горьким», что даже не подозревал, что едет с А. М. в одном поезде и что их встреча на вокзале в Феодосии была неожиданной. Более достоверно рассказывает историю приезда Горького в Коктебель художница Валентина Ходасевич: «Весной 1917 года я договорилась с поэтом Максимилианом Александровичем Волошиным о том, что его мать, Елена Оттобальдовна, сдаст мне комнату в коктебельском „Обормотнике“». Писатель А. Н. Тихонов, многолетний сотрудник Горького, близкий ему человек, просил Ходасевич «присмотреть помещение» и для него с женой. По приезде Тихоновым «очень понравились тишина и малолюдье Коктебеля, они письмом сообщили об этом Алексею Максимовичу и советовали ему тоже приехать отдыхать в нашей компании. Он сразу же ответил согласием».
7 августа Горький написал Е. П. Пешковой, что «числа 10-го» отправляется «в Крым, в Коктебель», где ему обещали найти комнату. Из Феодосии до Коктебеля Горький ехал в одной пролетке с К. Треневым — и тот вспоминает: «Время было тревожное — только что вскрылся и еще не был ликвидирован заговор Корнилова. Алексей Максимович рассказывал очень много интересного о положении в Петрограде, но рассказывал скупо, невесело. В Коктебеле он поселился на одной из дач у моря…» Р. Вуль пишет: «14 августа Алексей Максимович поселился на даче детской писательницы Манасеиновой, затем перешел к поэту М. А. Волошину. У М. А. Волошина жили тогда литераторы В. Ходасевич, сестры Цветковы, Майя Кудашева, А. Н. Тихонов (А. Серебров) — сотрудник Горького по издательству „Парус“, ученый А. А. Байков». Помимо неправильно названных фамилий Манасеиной и Цветаевых, здесь допущено еще несколько ошибок. В архиве Волошина сохранились копии его писем за 1917 год (он как раз приобрел пишущую машинку) — они-то и дают дополнительный — и весьма важный — материал к существующим воспоминаниям о пребывании Горького в Коктебеле.
14 августа 1917 года Волошин писал поэту М. О. Цетлину (Амари): «Твоя шляпа, которую ты мне подарил когда-то (соломенная), сделала блестящую карьеру: ее носит Горький, приехавший в Коктебель на днях». «На днях» — значит как минимум позавчера. Если Горький выехал из Петрограда, как намеревался, десятого, то его приезд в Коктебель к вечеру двенадцатого вполне реален. Однако на дачу Волошина Горький не переходил (Р. Вуль повторяет эту ошибку и в более поздней своей статье «Сквозь всю жизнь А. М. Горького»). Вал. Ходасевич рассказывает: «У Волошиных все помещения уже были заселены, и мы нашли для Алексея Максимовича комнату с большим комфортом, чем в „Обормотнике“ — на даче писательницы Манасеиной, — его там будут и кормить». Однако Ходасевич также кое-что путает, называя среди обитателей волошинской дачи О. Мандельштама, А. Цветаеву, своего дядю поэта Владислава Ходасевича и «танцовщицу-пластичку» Юлию Цезаревну. Все эти лица, так же как и названные Р. Вулем, действительно были в Коктебеле, но или до приезда Горького, или после его отъезда!
Анастасия Цветаева уехала в Феодосию еще 20 июля, сразу после смерти своего младшего сына. Об отъезде Вал. Ходасевича Волошин сообщал (Р. М. Гольдовской) 8 августа; об отъезде художницы (увлекавшейся также «пластическими» танцами) Юлии Леонидовны (а не Цезаревны) Оболенской — еще седьмого. Марина Цветаева приехала в Феодосию только в октябре, когда Горького уже не было; О. Мандельштам был там, проездом из Алушты, в это же время; М. П. Кудашева в 1917 году в Крым вообще не приезжала…
Исключительно важным документом является письмо самого Горького из Коктебеля, написанное к Е. П. Пешковой 21 августа 1917 года. Оно опубликовано в девятом томе «Архива Горького» (1966) — и поэтому имеет смысл процитировать здесь только те его места, которые относятся к Коктебелю. Горький писал:
«Даже здесь, где людей очень мало, а живут одни голые и копченые женщины, — и здесь некоторые из них, при встрече с Горьким, нежно вздыхают: хорошо бы его повесить!
Но, в общем, я доволен жизнью и за неделю прибавил весу 2 фунта. Купаюсь в отдалении от всех смертных. Живу на даче Манасеина, — хозяин ее только что умер, а хозяйка, вероятно, умрет сегодня вечером. Питание здесь хорошее. Много блох, петухов, собак и банкиров. Всю ночь поют, лают, кусаются. Кроме того — дизентерия. Но — хорошо!
Билет отсюда я возьму до Москвы. (…) Выеду числа 10-го сентября, а если погода испортится, то и раньше.
Не хочется возвращаться в Петроград. Кроме меня, здесь Тихоновы, они уезжают 25-го, затем — Тренев и больше никаких знакомых. Да, — еще Макс Волошин.
Пишу ежедневно и аккуратно с 9 ч. до 2-х, а затем целый день шляюсь по пустынным местам…»
Комментарий к этому письму требуется небольшой. Доктор М. П. Манасеин умер 13 июля. Его жена, детская писательница, издатель журнала «Тропинка», Н. И. Манасеина действительно одно время была совсем плоха, так что Волошин писал: «Положение Натальи Ивановны признается уже безнадежным…» О систематической работе Горького говорит и Вал. Ходасевич. А Р. Вуль убедительно показывает, что произведение, над которым Горький работал в Коктебеле, была пьеса «Яков Богомолов». (По этой пьесе позднее был снят в окрестностях Коктебеля — в Крымском Приморье — кинофильм «Несвоевременный человек».) Наконец, Волошин подтверждал неприязнь к Горькому части обывателей. «Нормальные дачники, — писал он 30 августа Ю. Оболенской, — возмущаются Горьким: надо, сделать постановление, чтобы всех этих большевиков из Коктебеля изгнать и запретить им здесь жить. Дейша определенно называет трех местных коктебельских главарей: Александр Стамов, Максим Горький и Волошин…»
Валентина Ходасевич пишет о Горьком в Коктебеле: «Приехал он полубольным, усталым, но, как всегда, много работал. До послеобеденных часов мы его не видели. Только после обеда, часа в три, когда мы, разморенные купанием, отдыхали, он тихо появлялся на нашей террасе, затененной крышей (на нее выходили все три занимаемые нами во втором этаже комнаты), садился на табуретку, и я слышала, как он приглушенным баском с кем-то разговаривает. Вскоре в щелку двери я увидела, что на поручне перил террасы сидят разные мелкие птахи, Алексей Максимович кормит их хлебом и что-то говорит им, то вежливо поучая, то советуя, а иногда и пробирая…
После дневного зноя, когда солнце уходило уже за Кара-Даг, мы гуляли по берегу моря, иногда шли в деревню на холме, но это — редко, так как Алексей Максимович задыхался при ходьбе в гору. Ужинали в ресторанчике грека Синопли, который имел на самом пляже однокомнатный домик со ставнями, весь расписанный в предыдущие годы жителями „Обормотника“ смешными картинками и стихами (…). Вечерами светила луна, мерцали звезды, шагах в тридцати от нашей террасы плескалось море. Все мы были немного или много влюблены и собирались на нашей террасе. За неимением достаточного количества табуреток да и для уюта стаскивали с кроватей тюфяки и располагались на них. На спиртовке варили кофе по-турецки, ели фрукты (…), Ракицкий заводил своим теноровым безголосом украинские (…) грустные, но больше смешные песни, тут же сочинялись новые, и мы не очень складно подтягивали, много ерундили, смеялись, но иногда разговоры переходили и в серьезные. Алексею Максимовичу все это очень нравилось. Иногда мы засиживались за полночь, и Тихоновы шли провожать Алексея Максимовича».
К. Тренев вспоминает: «В Коктебеле мне пришлось убедиться в огромной эрудиции Алексея Максимовича. Как-то гуляли мы с ним по берегу моря. В сухих прибрежных травах проскользнула бегущая птица. Алексей Максимович тотчас назвал ее породу и рассказал ее пташечью биографию, попутно развернув целую картину родственного ей пернатого царства; взяв в руки камешек, какими так славится коктебельский пляж, прочел мне целую лекцию по минералогии, рассказал историю потухшего вулкана Карадаг, а в связи с ним и историю Коктебельского залива.
Время было бурное. Стоило сойтись двум-трем человекам, как завязывались страстные споры, быстро перерастающие в летучие митинги. Вокруг Горького дискуссии возникали ежечасно. Он вступал в борьбу с самыми разнообразными противниками, начиная от декадентских поэтов до махровых реакционеров. Речь его была страстна и убеждала».
Говоря о «декадентских поэтах», К. Тренев скорее всего имел в виду именно М. Волошина. Как видно из писем Максимилиана Александровича, он действительно не раз беседовал с Горьким, но беседы эти отнюдь не были дискуссионными. 18 сентября в письме к Ю. Львовой Волошин, например, рассказывал: «Весь конец лета жил в Коктебеле Горький. Я его узнал впервые. Он производит очень хорошее впечатление человека очень усталого, больного, очень внимательно и любовно радующегося всем проявлениям жизни. О политике он почти не говорит, а больше о зверях, о собаках». В письме к Ю. Оболенской Волошин повторял: «О политике не разговаривает, а все больше о зверях: где какие бывают. „Вот в Южной Америке тапиры живут… Осьминога раз мы на Капри с Шаляпиным вином напоили. Охмелел… помер после… В Нижнем старая собака была — Никитич, так она во время солнечного затмения так тосковала… так тосковала… А у нашего хроникера сестра — Сиамской королевой стала. Курсисткой она в Петербурге с принцем Сиамским познакомилась, так в пятнадцатом поколении… а в Сиаме там трон за это время пятнадцать раз перевернулся, он и стал королем, а она тем временем за него замуж вышла… Теперь вон Германии войну объявила…“».
О своей все растущей симпатии к Горькому Волошин повторяет снова и снова, с удовлетворением подчеркивая, что Коктебель пришелся писателю по вкусу. 26 сентября он писал М. В. Сабашниковой: «Ты спрашиваешь о Горьком. Он уже уехал. Видал я его каждый день, и, в конце концов, полюбил. Он „совсем не похож“. В нем бесконечная внимательность и любовность по отношению ко всему окружающему и просветленность очень больного и очень усталого человека. Ехал он в Коктебель неохотно, т. к. у него с этими местами связаны воспоминания об очень тяжелой поре жизни, когда он был чернорабочим при постройке феодосийского порта. А уезжая он говорил, что непременно вернется сюда ранней весною». О том, что Горький «сразу же оценил Коктебель», пишет и Вал. Ходасевич. А Тренев сообщал, что он и Алексей Максимович даже «собирались построить себе в Коктебеле дачи», но события отвлекли их «от этих мирных забот». Он же рассказывает о том, что Горький часто бывал у него в гостях и однажды сфотографировался вместе с его семьей. «У меня до сих пор хранится фотография: на коленях у Алексея Максимовича сидит моя трехлетняя дочь Наташа, в руках у нее и у Горького полно кукол, у обоих на лицах выражение гордости, граничащее с высокомерием».
Уехал Горький из Коктебеля 12 сентября. Сообщая об его отъезде одному из знакомых, Волошин приписал: «Коктебель пустеет, но погода стоит удивительная.(…) Не завидую тому, кому надо быть сейчас в Петрограде…» В этих словах — явное сочувствие к больному писателю, вынужденному прервать так необходимый ему отдых…
В последующие годы до Горького, несомненно, доходили вести о волошинском Доме поэта, широко распахнувшем свои двери для всех писателей, ученых и художников. 10 октября 1924 года поэтесса М. Шкапская писала Алексею Максимовичу: «Я только что вернулась с юга — из Крыма, с литературной дачи Волошина. Когда-то она принадлежала ему, теперь он предоставил ее в пользование литературной братии и у него собирается ежегодно огромное количество народу — литераторов, художников и артистов…»
В 1927 году гостившая у Горького в Италии Анастасия Ивановна Цветаева рассказывала Алексею Максимовичу о своем давнем друге. И в ее письме Волошину из Сорренто от 20 августа 1927 года — с восторженным отзывом о «глубоко волшебном, ни на кого не похожем человеке» — появилась приписка: «Мой сердечный привет Вам, Максимилиан Александрович! А. Пешков».
В самые последние годы жизни Волошина, когда здоровье его сильно пошатнулось, а материальное положение было очень ненадежным, ряд его друзей именно к Горькому обращались с просьбой помощи поэту. В 1930 году ему писал об этом писатель Лев Остроумов, в 1931-м — бывшая политкаторжанка М. Степанюк-Беневская. 22 июня 1931 года с призывом «сделать что-нибудь» для нескольких «старых наших писателей», среди которых первым был назван М. Волошин, обратился к Горькому Леонид Леонов. И вот, в ноябре того же года, по постановлению Совнаркома РСФСР, М. Волошину (вместе с А. Белым и Г. Чулковым) была назначена пожизненная персональная пенсия…
«Коктебель с Волошиным» М. Горький вспоминал в письме к писателю Э. Миндлину от 19 августа 1932 года, уже после смерти Максимилиана Александровича, а в 1935 году, беседуя в Тессели с алупкинским художником Янисом Бирзгалсом, «пожелал более подробно узнать о последних годах жизни» коктебельского поэта…
Михаил Булгаков
Волошин и Булгаков познакомились в 1924 году в Москве, скорее всего в каком-нибудь издательстве или редакции. Волошин тогда же получил возможность ознакомиться с рукописью романа «Белая гвардия». Когда весной 1925 года начало этого романа появилось в журнале «Россия», поэт одним из первых откликнулся на его публикацию. 25 марта он писал издателю Н. Ангарскому: «В печати видишь вещи яснее, чем в рукописи… И во вторичном чтении эта вещь представилась мне очень крупной и оригинальной; как дебют начинающего писателя ее можно сравнить только с дебютами Достоевского и Толстого».
Н. Ангарский передал Булгакову этот отзыв о его произведении — и, не избалованный похвалами, писатель был «весьма польщен». 10 мая он писал Волошину: «Н. С. Ангарский передал мне Ваше приглашение в Коктебель. Крайне признателен Вам…, очень приятно было бы навестить Вас». 12 июня вместе с женой Любовью Евгеньевной Булгаков через Феодосию прибыл в Коктебель. (Далее я использую некоторые данные из воспоминаний Л. Белозерской-Булгаковой «Коктебель», любезно предоставленные мне в машинописи.)
В то лето в Доме поэта отдыхали писатели Л. Леонов, С. Федорченко, поэт Г. Шенгели, художница А. Остроумова-Лебедева и ее муж, химик С. Лебедев, искусствовед Э. Голлербах. Сохранилось фото, запечатлевшее Булгакова, Волошина, Леонова и Федорченко в саду перед волошинским домом. Однажды из Феодосии пришел пешком А. Грин — и Булгаков познакомился с «писателем-колдуном». Остроумова-Лебедева написала акварельный портрет Булгакова (ныне хранится в Русском музее). Булгаков подружился с искусствоведом А. Габричевским, образованнейшим, остроумным человеком, и подолгу беседовал с ним на пляже.
Н. Габричевская рассказывала, что Булгаков заслужил особую любовь кухарки волошинского дома О. Сербиновой. Ежедневно, перед завтраком или обедом, они «закусывали» на кухонной террасе. Надо отметить, что Олимпиада Никитична была не простой кухаркой (в Доме ее величали «дамой-питательницей»): она прекрасно пела, была хорошо образованна — ее рассказы о пережитом привлекали писателя.
Как и многие другие «коктебельцы», Булгаков заболел «каменной болезнью», собирая камешки в карманы, в носовые платки. В студенческие годы Михаил Афанасьевич увлекался коллекционированием бабочек и, получив от М. С. Волошиной сачок, отдал дань этому увлечению в Коктебеле. Побывал он и на Карадаге, но дальние прогулки не очень любил, и супруги «больше ходили по бережку». По рассказу поэтессы Н. Манухиной, Булгаков был режиссером живой картины «Навуходоносор», поставленной силами волошинских гостей. А Л. Аренс вспоминала, как писатель «по вечерам читал свои вещи: „Собачье сердце“, „Роковые яйца“ и другие».
5 июля Волошин подарил Булгакову свою акварель, надписав ее: «Дорогому Михаилу Афанасьевичу, первому, кто запечатлел душу русской усобицы, с глубокой любовью». С левой стороны пейзажа поэт добавил: «Тех не отпустит Коктебель, / Кто раз вкусил тоски полынной»… В тот же день он подарил писателю сборник своих стихотворений «Иверни», в дарительной надписи снова подтвердив высокую оценку булгаковского романа: «Дорогой Михаил Афанасьевич, доведите до конца трилогию „Белой гвардии“!»
2 августа наступил день отъезда из Коктебеля. Приплыв в Ялту морем, Булгаковы остановились здесь на сутки; посетили дом А. П. Чехова. Затем доехали автомобилем до Севастополя — и отбыли в Москву. «Если сказать правду, Коктебель нам не понравился», — пишет Л. Белозерская-Булгакова. Однако в очерках «Путешествие по Крыму», напечатанных в том же 1925 году в «Вечерней Красной газете» (в 1976 году часть их перепечатала «Неделя»), Булгаков создает привлекательный образ курорта, недоступного восприятию нэпманов, но щедро дарящего солнце и море «наиболее смышленым» отдыхающим. «Они понимают, что кожа в Крыму должна дышать, иначе не нужно и ездить. Они пользуются не только морем, они влезают на склоны Кара-Дага…» «И тело отходит, голова немного пьянеет после душных ущелий Москвы…».
15 февраля 1926 года, посылая Булгакову свою акварель, Волошин приглашал его к себе. 3 мая писатель благодарил его: «Мечтаем о юге, но удастся ли этим летом побывать — не знаю». Весной 1927 года супруги Волошины встречались с Булгаковым в Москве; смотрели в театре его пьесы «Зойкина квартира» и «Дни Турбиных». Булгакову же побывать еще раз в Коктебеле не довелось…
В. В. Вересаев
В комментариях к «Невыдуманным рассказам» Вересаева (М., 1968) сообщается, что писатель приобрел дачу в Коктебеле в 1915 году. Между тем в волошинском архиве сохранилось письмо Е. А. Фельдштейн к Е. О. Волошиной от 21 октября 1916 года с просьбой помочь советом Марии Гермогеновне Смидович, едущей в Коктебель «покупать дачу»… (По воспоминанию О. П. Богушевич, дача была приобретена у некоего Покровского.)
Первый приезд Вересаева в Коктебель состоялся только через 2 года. «В сентябре 1918 года, — вспоминал он, — на три месяца поехал в Крым и прожил там три года…» Измотанный городской суматохой, он мечтал об отдыхе и первое время жил замкнуто: в письмах Волошина за сентябрь и октябрь упоминаний о Вересаеве нет. А ведь приезд автора «Записок врача» был событием для маленького Коктебеля! К тому же Волошин знал Вересаева, встречался с ним, в частности весной 1917 года в Москве.
От своей дачи и от Коктебеля писатель был в восторге. Впоследствии он так описал его: «Прелестная морская бухта с отлогим пляжем из мелких разноцветных камушков, обточенных морем. Вокруг бухты горы изумительно благородных, изящных очертаний, которые мне приходилось наблюдать только в Греции…» В январе 1919 года Вересаев писал С. Я. Елпатьевскому в Ялту: «Я тут живу и блаженствую, написал — драму (в первый раз в жизни!..» Драма была названа «В священном лесу» — и писатель пояснял другу: «Действие — в столичной больнице, среди врачей, сестер, фельдшеров, но сюжет — не на врачебную тему, а общечеловеческую». «Вообще, прилив сил чувствую необычайный, в жизнь мою никогда мне так не работалось, — итожил он. — Что-то в вашем крымском воздухе есть животворное…»
Однако вскоре инкогнито писателя и его покою пришел конец. В Коктебеле не было врача — и сначала дачники, а за ними и крестьяне из деревни потянулись к вересаевской двери. «Неожиданно я оказался здесь заваленным врачебною практикою, которую ненавижу», — писал Вересаев Елпатьевскому 2 марта. С каждого обращавшегося к нему писатель брал слово никому не говорить, что он врач, но результаты его деятельности были, по его словам, «такие блестящие», что каждый считал своим долгом сообщить друзьям «о таком великолепном докторе»!
Волошина все это время в Коктебеле не было: еще в ноябре он отправился в лекционное турне по югу России и вернулся только в мае. За это время Вересаев ближе познакомился с коктебельской колонией: Е. О. Волошиной, братьями Юнге, писательницами Н. Манасеиной и П. Соловьевой, историком искусства А. Новицким, публицистом Г. Петровым, певицей М. Дейшей-Сионицкой, археологом Н. Марксом. О последнем Вересаев писал Елпатьевскому: «Очень приятный старик. Дегустировал у него в подвале его вина, — не дошел и до половины, как спасовал…» Позднее писатель вспоминал, как «раннею весною» Маркс заезжал за ним и его женой в Коктебель, чтобы отвезти к себе в Отузы. «Посадил нас в пролетку, а сам сел на козлы за кучера. Встречные с удивлением оглядывали наш экипаж, где за кучера сидел старый генерал в пальто на красной подкладке».
В апреле в Крым вернулась Советская власть. Вересаев был избран членом коллегии Феодосийского отдела народного образования и, согласно «Известиям Военно-революционного комитета г. Феодосии», ведал внешкольной секцией и секцией «театр и искусство». Он также участвовал в работе литературной студии, приходя туда 1—2 раза в неделю. В архиве А. Новицкого сохранился мандат об оставлении его «на несколько дней в Коктебеле для окончания предпринятой им описи реквизированных книг», подписанный 13 мая 1919 года Вересаевым…
При первом же выезде в Феодосию Волошин отправился в Отнарпрос, разместившийся на набережной, в бывшем дворце банкира-караима по фамилии Крым. Познакомившись с работой Вересаева и Маркса (возглавлявшего коллегию), он отозвался о ней с большой похвалой: «Во всем был порядок, субординация и нормальные формы парламентаризма». Волошин «сделал попытку примкнуть к отделу искусства», но на эту же роль претендовал певец В. Касторский. Вересаев пишет, что он пригласил Волошина в репертуарную комиссию Отдела, но неясно, удалось ли Волошину заняться этой работой. Под 8 июня (26 мая) в записной книжке Волошина помечено: «Чтение. Вересаев». В Коктебеле Вересаев пользовался волошинской библиотекой: в Доме поэта сохранилась тетрадь с записями писателя о возвращаемых им книгах.
В конце июня Феодосия была занята белыми. Волошин и Вересаев принимают живейшее участие в судьбе Н. Маркса, арестованного контрразведкой за сотрудничество с большевиками; их подписи стоят под коллективным письмом в защиту арестованных белыми жителей Коктебеля (в том числе двух большевиков — Г. Стамова и А. Васильева). Между тем их собственное положение было далеко не безопасным: Вересаев сам только что сотрудничал с Советской властью; Волошину белогвардейцы не могли простить спасение «красного генерала»… В октябре Вересаев писал Марксу в Тамань: «У начальства нахожусь я „на подозрении“. Хотел устроить платное чтение своей драмы в Коктебеле, — не разрешили, в Феодосии — тоже не разрешили. Начальник уезда заявил мне, что никак позволить мне не может, пот<ому> ч<то> я скомпрометировал себя службою у большевиков»… «Положение небывалое,— подытожил писатель: — интеллигентный труд ценится в грош, он никому не нужен… Тяжкое время!»
Очень много сил уходило у четы Вересаевых на домашнее хозяйство. «Пиление и колка дров, перекопка сада и т. п. работа» далеко выходила, по словам писателя, «за пределы полезного моциона» и к вечеру заставляла «шататься, как пьяного». Мария Гермогеновна завела кур, уток, поросенка. От этого времени сохранился шуточный стих, некогда украшавший коктебельское кафе «Бубны»:
А Вересаев среди сараев Кормит, кормит курочек своих…и похоже, что некоторые черты их быта дали материал для образов мужа и жены из «дачки на шоссе», задыхающихся «в колесе домашнего хозяйства» («В тупике»).
Тем не менее Вересаев находил время для творчества. Еще весной он сообщал Елпатьевскому, что пишет рассказ про хамелеона, «которого наблюдал в Каире в зоологическом саду». В Коктебеле был создан рассказ «Состязание», впервые опубликованный в альманахе феодосийского литературно-артистического кружка «К искусству!», вышедшем в ноябре 1919 года. Постепенно шел сбор материалов для повести «В тупике».
Жизнь между тем становилась все более трудной. Крестьяне платили за визиты яйцами или салом, но одежду достать было нельзя — и Вересаев объезжал на велосипеде своих больных в ночной рубашке, подаренной ему Эренбургом. Потрепанная шляпа, прикрывавшая его сверху, называлась у коктебельцев «здравствуй-прощай». Один раз в апреле удалось прочесть в Феодосии за плату драму «В священном лесу». В мае, когда сыпняком заболела жена Ильи Григорьевича, Вересаев часто ее навещал и подолгу беседовал с молодым поэтом. «Я знал некоторые его книги и думал, что он человек рассудочный, прямолинейный, а он обожал искусство, переводил древнегреческих поэтов, страдал от грубости и примитивизма», — вспоминал Эренбург.
5 мая 1920 года в Коктебеле состоялась подпольная конференция большевиков. В печати укрепилось ошибочное мнение, что она проходила на даче Вересаева, якобы пустовавшей. Зная, что Вересаев был в Коктебеле, мы можем с доверием отнестись к сообщению коктебельских старожилов А. Кустодинчевой и Д. Стамова о том, что подпольщики собрались на даче некоего Шика, находившейся в непосредственном соседстве с вересаевской и действительно пустовавшей. Сторожем этой дачи был А. Васильев — большевик, который, по-видимому, и предложил соратникам это место сбора. Сохранилось фото обеих дач — и просторная, в три этажа (если не считать цокольный) дача Шика гораздо больше подходила для сходки пятнадцати человек, чем маленькая дачка Вересаева. Выданная провокатором, конференция была «накрыта» белой контрразведкой, началась перестрелка — и Вересаев раньше других коктебельцев должен был узнать о ней. Впоследствии он вспомнил, что «подпольный съезд большевиков» был «на одной из дач», что участники съезда «убежали в горы», а одного «спрятал на чердаке» Волошин…
Корреспондент феодосийской газеты «Крымская мысль» писал в заметке о Коктебеле 19 августа 1920 года: «В. В. Вересаев живет замкнуто: он пишет, ведет свое дачное хозяйство, практикует как врач и принимает участие в работах культурно-просветительной комиссии, председателем которой состоит Н. И. Манасеина, а членами — П. С. Соловьева, Е. О. Волошина и др.». Впоследствии в «Автобиографии» Вересаев так вспоминал три года в Коктебеле: «За это время Крым несколько раз переходил из рук в руки, пришлось пережить много тяжелого; шесть раз был обворован; арестовывался белыми; болел цингой…»
С ноября 1920 года в Крыму окончательно установилась Советская власть. 24 декабря инициатор создания Народного университета в Коктебеле А. Новицкий записал, что свое согласие читать лекции «изъявили… т. Волошин и т. Вересаев». В 1921 году Вересаев по-прежнему практиковал: 28 мая им было, в частности, выписано свидетельство о состоянии здоровья Е. О. Волошиной — для определения ее в санаторий. По-видимому, в июне, узнав о смерти Н. А. Маркса (ставшего первым ректором советского Кубанского университета), Вересаев написал очерк, посвященный его памяти. 1 июля Вересаев очередной раз сдал книги из волошинской библиотеки, сделав соответствующую запись в специальной тетради.
О лете 1921 года сам он вспоминал: «Дела были очень плохи. Я недавно перенес цингу. Кур у нас покрали…, уток мы пытались кормить медузами… Голодали. Просвета никакого не было». Далее писатель рассказывает о неожиданном вызове в Симферополь и о предельном внимании к нему председателя Крымревкома М. Полякова. По-видимому, в это время он получил охранную грамоту на свой дом и имущество. В Коктебель писатель вернулся на машине ревкома со множеством продуктов, закупленных на полученные в издательстве авансы… В начале октября Вересаев снова был в Симферополе (откуда третьего написал письмо Волошину) и оттуда наконец выехал в Москву…
В столице Вересаев не забывал крымчан и очень много делал для помощи им. Его многочисленные письма к Волошину за 1922—1923 годы (сохранилось 16 писем!) полны сообщениями о выхлопотанных писателем для друзей санаторных пайках, издательских договорах, авансах. Волошин с удовлетворением писал А. Остроумовой-Лебедевой в ноябре 1924 года: «У меня есть очень мудрый и в издательских делах опытный советчик — В. В. Вересаев. Он был так добр, что взял в свои руки мои литературные дела…» Вересаев, крайне высоко ставивший «по-революционного Волошина», считал его в тот период «лучшим из живущих русских поэтов» (письмо к Волошину от 7 мая 1925 года)…
Именно Волошин способствовал возвращению Вересаева в Коктебель. 15 декабря 1925 года состоялось постановление КрымЦИКа о восстановлении писателя в правах на его коктебельскую дачу. В феврале 1926 года, узнав об этом, Волошин справился у него: «Верно ли — и значит ли это, что мы снова будем соседями?» Вересаев ничего не знал — и, в свою очередь, спрашивал: «А разве от дачи что осталось?» Получив следующее письмо Волошина (не дошедшее до нас), Вересаев благодарил: «Спасибо Вам… за извещение о даче. Без него я и до сих пор пребывал бы в полной неизвестности о возвращении мне ее». Как раз в этот день, 18 апреля, Викентий Викентьевич получил письмо от юрисконсульта КрымЦИКа М. Долгополова — хорошего знакомого Волошина, по его просьбе выславшего Вересаеву документы на дачу.
Викентий Викентьевич тут же просил Волошина найти сторожа для дачи, осмотреть ее и сообщить, что нужно для ее ремонта. 29 апреля, благодаря Долгополова (через его жену) «за все, сделанное для Вересаева», Волошин писал: «Он едет ко мне в мае». И сокрушенно добавлял: «Факт подарка очень хорош, но дом за три года приведен в отчаянное состояние…»
Вскоре он, по-видимому, действительно прибыл в Коктебель и в течение лета ремонт был произведен. В октябре Вересаев сообщал В. Полонскому: «Летом я больше занимался ремонтом возвращенной мне крымской дачи, чем писанием». В июле он уже мог принимать у себя: 15-го его, в частности, навестили И. Н. Розанов с женой и три поэтессы — К. Арсеньева, В. Звягинцева, Е. Тараховская. Писатель регулярно бывал на различных чтениях в доме Волошина; согласно записи А. Остроумовой-Лебедевой, 20 августа он выступил с критикой воспоминаний С. М. Соловьева…
На следующий год Вересаев приехал в Коктебель с начала мая. К этому времени относятся его наблюдения за парой птиц-мухоловок, описанной им в рассказе, который в конце 1927 года появился в журнале «Красная нива». В 1928 году Вересаев, по-видимому, приехал еще раньше: 29 марта Волошин в Коктебеле надписал Викентию Викентиевичу и Марии Гермогеновне по акварели, — по-видимому, в первую встречу с ними. В конце июля писатель уезжал в Новороссийск, но 14 октября писал Полонскому — снова из Коктебеля: «Обстоятельства задержали меня здесь, и в Москве я рассчитываю быть не раньше 20 чис(ел) октября… Летом почти не писал. Пишу сейчас „В студенческие годы (из воспоминаний)“…».
О пребывании Вересаева в Коктебеле в 1929 году рассказывает в воспоминаниях «Записи для себя» И. Басалаев: «Перед заходом солнца играли в лаун-теннис… Полулысый мужчина, ниже среднего роста, в пенсне, с быстротой гимнаста парировал удары, легко бросаясь направо и налево… Партия окончилась. Мужчина надел пиджак и сразу приобрел внешность пожилого спокойного человека, точного в словах, неторопливого, почти без улыбок. Это был 62-летний Вересаев…».
18 июля этого года Вересаев записал в дневнике: «Я еще не чувствую надвигающейся смерти, в душе бодро и крепко. Огромная охота работать. Играю в теннис. Чувствую себя в душе настолько молодым, что иногда мелькает мысль: да не ошибка ли, что у меня в паспорте год рождения показан 1867» …29 августа он еще был в Коктебеле, о чем свидетельствовал в одном из своих писем Е. Замятин.
В Коктебеле он по-прежнему занимался хозяйственными делами: красил перила лестницы, пересаживал цветы, подвязывал виноградные лозы к тычкам. А. Десницкая, отправившаяся вернуть Вересаеву его повесть «В тупике», нашла его в саду, за перекопкой. «Был он в трусиках, в пенсне; вышел мне навстречу. Он меня спросил о моих впечатлениях о книге, я что-то сказала; тогда он мне начал говорить о том, что здесь очень много портретов, в этой книге… „Вот певец этот, актер — выведен точно: это ваш ленинградский певец Касторский. Он себя так некрасиво вел во время гражданской войны, что, когда он вернулся сюда, ему в Коктебеле никто не подал руки. И тогда он продал дачу и уехал…“».
Не вполне ясно, почему Вересаев в последующие годы не приезжал в Коктебель, но память о годах, там проведенных, никогда его не оставляла. В 1938 и 1939 годах в Киеве возникли зарисовки «В Крыму» и «Коктебель». Несколько раз упоминается Коктебель в «Записях для себя». Во время Великой Отечественной войны дача Вересаева в Коктебеле сгорела, но писателя уже не было в живых.
Корней Чуковский
Чуковский знал Волошина еще по Петербургу, с осени 1906 года. Оба они сотрудничали в журналах «Весы» и «Аполлон», в альманахе «Шиповник». Без сомнения, Чуковский хорошо знал творчество Волошина — стихи и статьи об искусстве. В январе 1911 года он обратился к нему с предложением перевести для собрания сочинений «Нивы» две статьи и несколько стихотворений Оскара Уайльда. Волошин, знавший английский язык очень слабо, предложил Чуковскому в качестве переводчика свою знакомую А. В. Гольштейн, и несколько ее переводов впоследствии вошли в редактированное Чуковским издание.
Однако только весной 1916 года Волошин, встретившись с Чуковским в Париже, почувствовал к нему «глубокое дружеское доверие». 23 марта, в кофейне на улице Гренель, он надписал «Корнею Ивановичу на память» свое стихотворение «Любовь твоя жаждет так много…». Осенью того же года, получив предложение редактировать детский альманах, Чуковский сразу вспомнил Волошина. «Первое имя, которое мне пришло в голову, — Ваше», — писал он. Волошин послал свой перевод шведской колыбельной песенки и вновь порекомендовал других сотрудников — Цветаеву, Ходасевича и художницу Оболенскую.
Разумеется, Чуковский слышал о Коктебеле и, вероятно, получал от Волошина приглашения туда. Летом 1923 года он воспользовался этим приглашением, приехав вместе с женой Марией Борисовной. Это был, по сути, первый съезд гостей в волошинский дом после революции — и он оказался крайне удачным. «Это лето было очень хорошо, радостно и содержательно: как лучшие лета довоенного времени, — итожил сам Волошин в декабре. — В известном смысле общий дух дома был даже лучше, т. к. совеем не было жильцов, а только гости». Если прежде Елена Оттобальдовна, державшая хозяйство в своих руках, сдавала комнаты за плату (пусть умеренную), то Волошин предоставлял их безвозмездно. Все были на равных правах, главным было духовное общение — и в совместных прогулках, творческих чтениях, общих беседах возникал своеобразный дружеский коллектив.
О времяпрепровождении Чуковского в Коктебеле известно немного. Вспоминают, что Чуковский «придумывал массу игр и развлечений» для детей волошинского дома «и сам с удовольствием принимал в них участие». Дети обожали Чуковского и не отходили от него. Разумеется, он воздал должное волошинской библиотеке; читал свои сказки на общем сборе; общался с другими гостями Дома поэта. В то лето там отдыхали поэты Г. Шенгели и М. Шкапская, актриса Малого театра Е. Буткова, художник — феодосиец К. Богаевский, политкаторжанин-народоволец И. Зелинский, приходили со своей дачи писательницы Н. Манасеина и П. Соловьева. Чуковский, вне сомнения, вносил в общую жизнь много веселья, которое еще увеличилось с приездом писателя Евгения Замятина. 5 сентября М. С. Волошина писала знакомой: «Сейчас у нас самая яркая пора: Чуковский и Замятин».
Вечерами собирались на плоской крыше — «вышке», слушали «под коктебельскими звездами» чтение стихов хозяина дома. (Через много лет, в 1957-м, Чуковский вспоминал, как Волошин читал «Протопопа Аввакума».) По просьбе Чуковского Волошин сделал запись для его рукописного альманаха «Чуккокала». Как бы полемизируя с брюсовской строкой «Хотел бы я не быть Валерий Брюсов», Волошин написал шуточное:
Вышел незванным, пришел я непрошенным, Мир прохожу я в бреду и во сне… О, как приятно быть Максом Волошиным — Мне!Мария Степановна Волошина пела некоторые стихи мужа и других поэтов на собственные мотивы, и Чуковского пленило исполнение ею «Зари-Заряницы» Сологуба. Он так и звал ее — «Заря-Заряница», в свою очередь, получив ласковое прозвище «Чукоши». По воспоминанию А. Вьюговой, Максимилиан Александрович также завоевал сердце Чуковского. Он как-то сказал, что Волошин мог бы своей внешностью и манерами «завоевать полмира»… Надолго запомнилось Чуковскому прощание: в письме к Волошиным он позднее жалел, что у него нет башни, с которой он мог бы «так же долго и бурно» махать им флагом, как махали ему они…
Домой из Коктебеля Корней Иванович привез виноград, разноцветные камешки, причудливые корни — «габриаки», волошинскую акварель, а главное — хороший запас бодрости. «Мне все кажется, что я недостаточно поблагодарил Вас за Ваше участливое, ласковое, изумительное отношение ко мне», — писал он 17 октября. В осеннем Ленинграде он, переносясь мыслями в Коктебель, снова слышал споры А. Вьюговой (старушки, носившей прозвище «Божий дар») с И. Зелинским, мечтал «посидеть в комнате у Марии Степановны, пойти на „свою могилу“, вспомнить „забвенные тени, гостившие здесь“».
Именно в это лето, по существу, вместо былого «Обормотника» родился «Дом поэта», и Чуковского Волошин считал одним из активнейших его создателей. 12 октября поэт с удовлетворением писал Вересаеву: «Мое лето было очень удачное — не в смысле работы — заниматься успевал только живописью, — а в смысле осуществления моего Дома отдыха. У меня перебывало за лето около 120 человек… В смысле общего духа было очень хорошо и удавалось создать семейную близость и единодушие. Чувствовалось, что каждый уезжал, набравшись тишины и отдохнув…» Именно у Чуковского, Замятина и Шкапской Волошин советовал Мариэтте Шагинян справиться «о строе и стиле коктебельской жизни». Прямо называя Корнея Ивановича «представителем волошинского дома», он просил его «озаботиться об интересном и хорошем составе гостей на будущее лето». «Благодарю судьбу, что она занесла Вас в Коктебель», — писал ему Волошин 20 ноября 1923 года.
Навестить Коктебель Чуковскому больше не довелось, но он о нем не забывал. Предлагал волошинские стихи и переводы в издательства; посылал новые книги и журналы, вышедшие в Москве и Ленинграде. Благодаря ему была осуществлена одна добрая затея Волошина. Знакомая поэта В. Финкельштейн потеряла единственную, пятнадцатилетнюю дочь, писавшую стихи, высокоодаренную девочку. Чтобы спасти мать от охватившего ее отчаяния, Волошин посоветовал ей написать книгу о дочери, включив туда ее стихи, выписки из дневников и писем. Чуковский нашел эту книжку очень нужной и так отозвался о ней: «Она волнует, заставляет бережливо относиться к ребенку, затрагивает множество вопросов, а описание голода и политических событий создает большой общественный интерес». Он взял на себя все хлопоты по изданию, и в ноябре 1924 года книжка «Нерасцветшая» (с предисловием Волошина) вышла в издательстве «Земля и фабрика».
Весной 1924 года писатели встретились, в Ленинграде. Вместе навестили Федора Сологуба, вместе были в издательстве «ACADEMIA», куда Волошин сдал свои переводы из Анри де Ренье. 2 мая ленинградские коктебельцы собрались на квартире Шкапской. Чуковский вспоминал: «Чествуя поэта, занялись сочинением буриме… Нам были предложены Волошиным такие рифмы: Коктебель, берегу (существительное), скорбели, берегу (глагол), Крыма, клякс (или загс), Фрима (жена Антона Шварца), Макс… Когда мы прочитали вслух все написанные нами буриме, первый приз получил Евгений Замятин…» Тогда же Чуковский подарил Марии Степановне — «дорогой Заре-Зарянице» — свою книгу «Приключения Крокодила Крокодиловича».
В эту встречу Волошин ответил на анкету Чуковского о Некрасове, а Чуковский по просьбе Волошина письменно отозвался о его поэме «Россия». Отметив отдельные недостатки, он в то же время так высказывался о других местах: «Ваша сила — вдохновенный каталог», «все мускулисто, завинчено крепкой рукой». «Не сомневаюсь, что эта поэма будет когда-нибудь известна каждому грамотному», — утверждал Чуковский.
Летом 1924 года в Коктебеле отдыхал сын писателя Николай (с женой), и Корней Иванович ему писал: «Это великое счастье — в 20 лет попасть в общество Андрея Белого, М. Волошина, Остроумовой». По-видимому, с ними Волошин переслал Корнею Ивановичу свою акварель, так надписав ее 18 июля: «Дорогой Корней Иванович, спасибо за все: книги, письма, заботу, любовь. Ждем Вас в Коктебель. Сердце, время, мысли разорваны между людьми и акварелями…» Осенью, улучив время для писем, Волошин спрашивал Чуковского: «Как вы нашли Колю и Марину после возвращения? Какое на них влияние имел Коктебель? Здесь они хохотали и визжали целыми днями, совсем очумелые от радости бытия…»
Чуковский настоятельно рекомендовал Волошину завести «коктебельскую „Чуккокалу“ — альбомище для „Коктебелии“». Максимилиан Александрович внял этому совету: летом 1924 года в Доме поэта появилась «Книга разлук» — тетрадь, в которую гости записывали свои впечатления о Коктебеле перед отъездом. Валерий Брюсов, в частности, отметил: «Коктебелю и его радушным хозяевам, Марии Степановне и Максимилиану Александровичу, я навсегда признателен за то, что после Тавриды узнал Киммерию, край суровый и прекрасный…». Мария Степановна записала также такие слова Брюсова: «Вот, раньше ездили в Ясную Поляну, а теперь есть Коктебель. Только в Ясную Поляну ездили исповедываться, а в Коктебель ездят работать…».
На выставке «Мир искусства» в 1924 году Чуковский с радостью увидел несколько портретов Волошина и на одном из них (Кустодиева) фоном — «облачный и гармоничный Коктебель». Весной 1927 года друзья снова встретились в Ленинграде. 13 мая 1928 года в ответ на приглашение Волошиных Чуковский высказывал намерение — «если хватит сил» — приехать «во второй половине лета». В 1930 году он обращался в Коктебель за советом по поводу болезни дочери (у нее был костный туберкулез), и горячий отклик Волошиных глубоко его тронул. «Для Вас обоих помогать человеку в беде — ежедневное, заурядное дело, — писал он,— но меня всякий раз Ваша творческая доброта удивляет, как чудо…». И через много лет Корней Иванович не мог забыть «мудрой сердечности (вернее, осердеченной мудрости)» Марии Степановны. В последнем своем письме к ней (от 2 сентября 1958 года) он писал: «Максимилиана Александровича чту и люблю. Стихи его знаю и помню. Никогда не забуду его доброго расположения ко мне…».
Александр Грин
Поэт Всеволод Рождественский, однажды встретивший А. Грина в доме М. Волошина в Коктебеле, вспоминает: «У Волошина всегда бывало много летних гостей — писателей, художников, музыкантов. Александр Степанович не прижился в их среде. И здесь он казался грубоватым, а порою и излишне резким. Я видел, как он один бродил по берегу залива, изредка подбирал тот или иной заинтересовавший его камешек и тотчас же бросал его в море. Так он ни с кем и не завязал разговора и к вечеру собрался домой». Очевидно, у Грина был даже определенный протест против всего стиля Дома поэта, что он подчеркивал, в частности, своей одеждой. Н. Грин пишет: «Летом Александр Степанович всегда ходил в суровом или белом полотняном костюме, или в темно-сером люстриновом, который он очень любил. Когда мы ездили в Коктебель, где раздетость мужчин и женщин доходила до крайности, Александр Степанович особенно подтягивался и меня просил надевать самое строгое платье. Мы с ним почти всегда были единственными одетыми людьми, кроме разве художника Богаевского, также весьма щепетильно относившегося к беспорядку в одежде».
Тем не менее Грин снова и снова появлялся в Коктебеле. Что тянуло его туда? Море, которого не было в Старом Крыму? Романтически мрачные утесы Карадага? А может, все-таки и полуодетая, смешливая ватага волошинских гостей, которая подсознательно будоражила его?..
Художница Н. Сорокина, бывшая в то время подростком, вспоминая 1930 год, отмечает, что Грин охотнее всего общался с детьми. «Он имел особенность внезапно появляться и так же внезапно исчезать, — рассказывает она. — И в наши игры вступал так, как будто всегда играл; мы его совершенно не стеснялись. Когда он шел в Лягушачью бухту, в Сердоликовую, к Воротам, — мы за ним увязывались, — и в его рассказах все вокруг преображалось: отвесные скалы над нами, заросли у их подножья, таинственный подводный мир… Как он знал рыб…, зверей!.. Только нельзя было болтать, он не любил разговоров».
Притяжение Карадага также, несомненно, было. В опубликованных в 1973 году И. Сукиасовой «Материалах из творческой лаборатории А. С. Грина» приведены отрывки незавершенной повести Грина о Крыме. Действие этой повести должно было происходить в Коктебеле (получившем название Гель-Анея), и в сохранившихся отрывках не только упоминаются «скалы Хар-Датага», в котором нетрудно узнать Карадаг, но и подробно описан подъем на одну из его вершин (Кок-Кая).
То же, что Грин вступал иногда в дружественное общение с обитателями Дома поэта, подтверждают воспоминания Е. Белявской «В стране синих гор», напечатанные в феодосийской газете «Победа» 1 декабря 1973 года. «Конкурс баллад», который там описан, происходил в августе 1928 года, и тема его действительно была задана М. Волошиным — строчкой «Не остывал аэролит…». Победительницей была признана Н. Манухина, жена поэта Г. Шенгели; в «девушке в очках» нетрудно узнать Р. Гинцбург (сборник стихов которой вышел в 1973 году в Москве). Максимилиан Александрович никогда не забывал о блестящем таланте своего гостя и не раз защищал его нелегкий характер перед вспыльчивой Марией Степановной: «Маруся, он воссоздает мечту…» В произведениях Грина он находил «совсем неожиданную тонкость и деликатность образа» (письмо к К. Добраницкому от 27.4.1931). По словам М. С. Волошиной, Максимилиан Александрович «любил разговаривать с Грином, делал с ним большие прогулки», а бывая в Феодосии, как правило, заходил к нему. 3 марта 1926 года Волошин, например, писал жене: «Вчера был у Гринов»; 11 марта: «День просидел с Грином…».
Между прочим, не без участия Волошина состоялся сам переезд Гринов в Крым. Свидетельства об этом, правда, совершенно противоположны. Мария Степановна говорит: «Мы вытащили Гринов из Петербурга», Нина же Николаевна утверждает, что в ответ на расспросы о Феодосии Волошин рассказывал о ней «ужасы»… Последнее вполне вероятно, ибо обожавший всякие розыгрыши Волошин мог начать «отпугивать» Грина. Однако верно и то, что человек часто склонен поступать вопреки даваемым ему советам, — и Волошин как раз это мог почувствовать в настороженном и противоречивом Грине…
Именно в Коктебеле у Грина родился замысел «Бегущей по волнам». В Доме поэта среди разнообразных, со всего света вещиц до сих пор хранится небольшой, причудливой формы корешок, похожий на какое-то живое существо на растопыренных ногах. Однажды эта вытянутая, устремленная вперед деревяшка лежала в мастерской на некрашеном, в расплывах и бороздках годичных колец столе, и Максимилиан Александрович, указывая на нее, сказал: «Смотрите, она совсем бежит по волнам!» Этот случайный разговор и эта неказистая «безделушка» дали толчок сложному и изящному роману о власти Несбывшегося над человеком… (Кстати, «Бегущую» Волошин особенно ценил и Е. Павловой, например, сам дал эту книгу Грина, сказав: «Ты полюби эту книжку и его (Грина) полюби…»).
О добрососедских, дружеских отношениях двух писателей говорят и 3 письма Грина к Волошину, сохранившиеся в архиве Дома поэта и переданные сейчас в Институт русской литературы в Ленинграде. Первое, от 30 апреля 1926 года, отправлено в Коктебель из Москвы:
«Дорогой Максимилиан Александрович! Я очень прошу Вас, прошу очень, не сможете ли Вы предоставить нынче, сроком на 1 месяц, угол у себя на даче писателю Дмитрию Ивановичу Шепеленко. Его знают с лучшей стороны Пимен Карпов, В. Инбер, Д. Д. Благой и целый ряд лиц, которых даже трудно вспомнить по имени. Встречал его у меня м(ежду) п(рочим) В. В. Вересаев. Он одинок, 30 лет, не курит, не пьет, вегетарианец, хорошо воспитан и деликатен. Он не здоров, у него сердце не в порядке, и он очень беден, т(ак) ч(то) Вы совершили бы истинное благодеяние. Деньгами на 1 месяц и проездом взад-вперед он обеспечен. Я могу поручиться за него во всех отношениях.
Вы крайне обяжете меня, если ответите лаконичной телеграммой в одно слово: „Да — нет“. Мы в Ц.К.Б.У. (Пречистенская наб. д. 5) (дом отдыха Центральной комиссии по улучшению быта ученых.— В. К.) и приедем домой к концу Пасхальной недели. Москва сплошной ремингтон, и так надоела, что взоры наши всегда обращены к Югу, и только туда.
Сердечный привет Вам и Марии Степановне.
Вересаев работает над Пушкиным; некоторые места поразительны.
Ваш А. С. Грин…»Еще две записки адресованы в Коктебель из Феодосии:
«8 ноября.
Дорогой Максимилиан Александрович!
Будьте добры, сообщите московский адрес проф(ессора) Розанова Матвея Никаноровича. Я его потерял, а ему надо послать книги.
Когда будете в городе, милости прошу, зайдите, мы недавно приехали.
Привет Марии Степановне.
Ваш А. С. Грин».«Дорогой Максимилиан Александрович!
Как Вы знаете, я плохой советчик по части стихов. Тов. Денисов обратился ко мне, как к опытному лицу, а я не знаю. Может быть, Вы поговорите с ним? Я же беру на себя смелость посоветовать ему побывать у Вас. Когда к нам заглянете?
Привет Марье Степановне! Привет Вам!
Ваш А. С. Грин. 19 апреля 1930 г.»В последний раз Грин и Волошин встретились 22 апреля 1932 года. Александр Степанович подарил Максимилиану Александровичу камешек с пляжа, и Волошин, чувствовавший, что эта встреча последняя, отметил его, написав: «Дар Грина 22.IV.1932 г.». Через два месяца с небольшим (8 июля) А. Грин умер. А еще через месяц (11 августа) не стало и Волошина…
Всеволод Рождественский
Поэт собирался в Коктебель еще в 1924 году, но поездка не состоялась. В мае 1925-го, в тридцатую годовщину литературной деятельности Волошина, Рождественский писал ему: «С первых же строчек о Дэлосе в „Аполлоне“ началась моя дружба с Вашим прекрасным стихом… Ваше имя — в числе немногих моих учителей и, если я умею немного точить слово, то это в большой степени и Ваша вина».
В апреле 1927 года в Ленинграде знакомство состоялось. Приветствуя Волошина от имени поэтов Ленинграда, Рождественский заявил: «Город Петра, Пушкина, Ленина по-прежнему остается чутким к точному слову и, как встарь, любит архитектурную соразмерность Вашей строфы»… Поэты не раз встречались на различных вечерах и выступлениях. «Несколько бесед на поэтические темы, обмен стихами, совместные прогулки по городу положили начало более тесному знакомству», — вспоминал позднее Всеволод Александрович.
11 сентября Рождественский впервые ступил на землю Коктебеля. «Дом М. А. Волошина можно было узнать сразу, — писал он впоследствии. — Он стоял одиноко, у самой морской черты, и бросался в глаза причудливостью своих архитектурных очертаний. Приземистая четырехугольная „вышка“ венчала его обычную для крымских жилищ черепичную крышу. Легкие деревянные галерейки и внешние лестницы опоясывали это строение со всех сторон»… Радушно встреченный, Рождественский быстро освоился и вступил в общую беседу сошедшихся ужинать хозяев и гостей дома. А ночью все обитатели были разбужены сильными подземными толчками… (Кстати, именно землетрясение дает возможность исправить ошибку Рождественского, — в своих воспоминаниях отнесшего свой первый приезд в Коктебель к 1926 году.)
Землетрясение продолжалось — постепенно ослабевая и с перерывами — все время, что Рождественский был в Коктебеле, но к нему привыкли, жизнь пошла заведенным порядком. Утреннее купание, работа над стихами, прогулки на Карадаг, чтение, беседы с хозяином и его гостями… Коктебель входил в молодого поэта вместе с крепким морским воздухом, с загаром, с «ровными ритмическими вздохами моря». Вернувшись в Ленинград, он писал Волошину 21 октября: «Вспоминаю наши прогулки, беседы о стихах, неповторимые тревоги и волнения полубессонных ночей, всеуспокаивающее море и Карадаг — удивительный, неповторимый. Отныне для меня Коктебель — особое место на земле»…
Летом 1928 года Рождественский сначала приехал в Гаспру — и там особенно почувствовал нехватку коктебельской «свободы движений и чувства доброжелательного соседства». 9 августа он был в Коктебеле, где провел всего десять, но весьма плодотворных дней. 17 августа, к именинам хозяина, поэт написал стихотворение «На океане жизни есть остров — Коктебель…»; позднее (по-видимому, уже в Ленинграде) возникла «Коктебельская элегия (Я камешком лежу в ладонях Коктебеля…)» Вспоминая 26 ноября, в письме к А. Остроумовой-Лебедевой об «очень интересных и страстных беседах и диспутах» в своем доме, Волошин назвал среди участников их и Рождественского. «Я очень полюбил вас и вы оба уже неотделимы для меня от вечной моей тоски о Коктебеле, как месте умиротворения», — писал Всеволод Александрович Волошину из Ленинграда.
По предложению Волошина, поэты перешли на «ты». «Часто возвращаюсь мысленно к белому дому в ограде тамарисков, к пенной линии залива, к синему профилю Карадага — ко всей твоей земле, ставшей для меня отныне милой Итакой», — писал Рождественский Волошину 24 апреля 1929 года. А летом — через Гагры, Севастополь, Алушту — он снова прибыл в Коктебель. 22 августа, в день приезда, он преподнес свою книгу «Гранитный сад» «дорогому Максу — мудрому и ясному, как его Коктебель». На этот раз поэт пробыл здесь до 14 сентября; жил на чердаке дома, в одном углу с писателем И. Басалаевым — и тот оставил о нем несколько упоминаний в своих «Записях для себя». Рождественский ежедневно, по нескольку часов работал над стихами: если утром он занимался в библиотеке, то днем или вечером все же обращался к творчеству. (В частности, на волошинском чердаке возникло стихотворение о Грузии «Вино».)
В сентябре 1930 года Рождественский в Коктебеле встретил Андрея Белого, поразившего его «огненной молодостью своего духа». «Рассказывал о своем пребывании на Кавказе, спорил с Максимилианом Александровичем о своей книге „Ритм и диалектика“, делился отрывками воспоминаний», — писал поэт о Белом. В ту осень в Коктебеле были написаны стихи «Terra antiqua» («В синеве кремнистых складок…») и «Восточный Крым. Очарованье…». «Я был счастлив здесь простым счастьем солнца, земли, моря, звездной беседы, одиноких прогулок, хороших книг», — писал он 17 сентября Архипову. Зимой в Ленинграде Рождественский часто «сквозь повседневную суету» слышал «голос Коктебеля», видел «его лазурный залив и горы».
В 1931 году Рождественский был в Коктебеле всего 5—6 дней, во время сильнейшего шторма. «Мы сидели вечерами в столовой, вокруг мирной деревенской лампы. Максимилиан Александрович охотно и, как всегда, мастерски вел беседу; мы читали вслух… Гулять из-за ветреной, холодной погоды пришлось мало, но все же каждое утро мы выходили на феодосийскую дорогу, а иногда и просто к холмам», — рассказывал Всеволод Александрович в письме к Архипову от 22 ноября.
В 1932 году Рождественский, обычно приезжавший осенью, «заглянул» в Коктебель в конце мая и пробыл весь июнь. Волошин уже чувствовал себя неважно, но еще не было никаких признаков, что это его лето — последнее. «Утренние прогулки с ним уже не так часты, как прежде… Часто всю ночь томит его трудное дыхание», — писал Рождественский 29 июня. Но Коктебель по-прежнему был прекрасен для поэта. «Мне кажется, что отсюда, с этих гор, виднее для того, кто хочет видеть, конечная гармония мира, — писал он. — Она придет… иначе для чего бы существовали такие кругозоры, такое небо…»
30 июня Рождественский срочно выехал в Ленинград. А в конце августа, на геологоразведочной базе в Алма-Ате, узнал о кончине Волошина («Дня за два, за три до получения известия я видел во сне Коктебель и разговаривал с Максом», — писал он позднее М. С. Волошиной).
И на крутом холме, где мак роняет пламя. Где свищут ласточки и рушится прибой, Мудрец, поэт, дитя, закрыв лицо кудрями, Свой посох положил для вечности земной… —кто еще так проникновенно и с такой любовью сказал о Волошине?..
Отказаться от Коктебеля совсем Рождественский не мог. Весной 1933 года он посылает в Дом поэта «с чувством благодарности и любви» свою новую книгу «Земное сердце» с двумя коктебельскими стихотворениями. «Здесь всегда черпал я те душевные и телесные силы, которые помогали переживать трудную зиму», — пишет он 29 мая Марии Степановне. В начале июля поэт снова в Коктебеле, на этот раз в доме отдыха ленинградских писателей. Затем он приезжал в Коктебель в 1934 и 1937 годах.
Помня «лучшего человека, которого… только встречал на земле», Рождественский делает все возможное, чтобы увековечить его память. В 1934 году он пытается издать дневник итальянского путешествия Волошина (1900 г.) и его монографию о В. Сурикове. (Смена руководства издательства помешала выпуску этих книг.) В 1940 году вместе с А. Г. Островским Рождественский готовит для малой серии «Библиотеки поэта» томик избранных стихов Волошина. «Книга утверждена в плане 1941 г., для нее есть бумага», — сообщал он Марии Степановне 26 января 1941 года, предполагая увидеть книгу «готовой» в конце лета — начале осени. Начавшаяся война помешала и этим планам, а уже готовая к печати рукопись погибла в издательстве при одной из бомбежек…
За годы войны Рождественский написал книгу воспоминаний — с отдельной главой «о Коктебеле и о Максе». (Вышла в свет в 1962 году, в 1974-ом появилось второе издание.) К Коктебелю Рождественский возвращался в стихах: «В закатный век любви, в земле уже туманной…», «Камешки Коктебеля (Осколки обточенной лавы…)» (1965), «Фаянсовых небес неуловимый скат…» (1929 г.), «Карадаг (Огромно это море и пустынно…)», «Там, где море катится лениво…» (1951). В 1972 году был создан цикл рассказов «Коктебельские камешки», опубликованный затем в журнале «Аврора».
Всю жизнь поэт хранил благодарную память об «ослепленном солнцем, овеянном солеными ветрами» побережье. И воздал ему в своем творчестве, пожалуй, больше, чем кто-либо другой из гостей Волошина…
Об издании
Владимир Петрович Купченко
ОСТРОВ КОКТЕБЕЛЬ
Редактор В. П. Енишерлов
Технический редактор Е. Н. Щукина
Сдано в набор 30.07.81. Подписано к печати 23.10.81. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,03.
Тираж 100 000. Изд. № 2329. Зак. № 1050. Цена 20 коп.
Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, ГСП, Москва, А-137, ул «Правды», 24.
ISSN 0132-2095





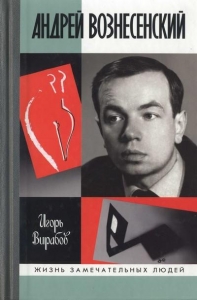

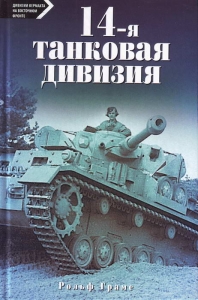


Комментарии к книге «Остров Коктебель», Владимир Петрович Купченко
Всего 0 комментариев