Бегельдинов Т. Я.
"Илы" атакуют
Аннотация издательства: Мальчишки, мальчишки, // вы первыми ринулись в бой, // мальчишки, мальчишки // страну заслонили собой. - Так поется в песне. Так было на самом деле. Горячие сердца, полные любви к Родине, вели юных на бой с фашизмом. И автор этой книги был очень молодым, когда впервые взлетел в небо, а стал дважды Героем Советского Союза, едва переступив за двадцать лет. Это вам, юные, рассказывает он о том, как рос, как жил, как защищал свою страну. А те, кто был молод двадцать лет назад, вместе с автором вспомнят суровую и героическую юность, вспомнят своих боевых друзей.
Содержание
Лечу!
Трудные годы
Фронт
Сбит
Один за всех и все за одного
Пять "лапотников" над Шляхово
18 - против 30
Разведка
Бывало и так
Корсунь-Шевченковская операция
Сандомирский плацдарм
Лицо врага
Наземный бой
Одной атакой
Под крылом - Берлин!
Злата Прага
Парад Победы
Мирное небо
Лечу!
У каждого из нас есть любимая книга, которую мы готовы перечитывать, с героями ее давно породнились. Сколько раз читал я роман Каверина "Два капитана"? Боюсь сказать. Но твердо знаю, что буду читать еще и еще. Особенно волнует меня четвертая часть, в которой Саня Григорьев становится учлетом.
Какое-то особое чувство овладевает мною, когда перечитываю эти страницы. Память невольно уносит в прошлое. Как много общего в судьбе моей и моего любимого героя!
... 1938 год. В самом центре города Фрунзе стоит небольшой одноэтажный дом. От ворот внутрь двора ведет посыпанная желтым песком дорожка. Мы с Петькой Расторгуевым и Таней Хлыновой стоим у калитки. Друзья тщетно пытаются утешить меня.
- Не горюй, Талгат, - сочувственно говорит Петька. - Может быть, еще все устроится. Чего раньше времени нюни распускать!
- Конечно, устроится, - оживленно говорит Таня. - Ты не думай, я не просто так, у меня уверенность есть.
А я стою, опустив голову, носком ботинка ковыряю песок и молчу. Хорошо им рассуждать, а каково мне? Вчера на комиссии чуть до слез не довели вопросами.
- Сколько лет? Шестнадцать?! А не врешь? Уж больно маленький. Лет четырнадцать на вид, не больше.
- Почему летчиком хочешь стать?
Так ничего и не сказали, велели явиться завтра.
Петька и Таня уже курсанты аэроклуба, а мне - явиться завтра. И все этот Цуранов. Никогда не видел еще такого злого человека. Молчит, а глаза насквозь пронзают - большие, черные, под густыми широкими бровями.
- Пойдем, Талгат, - прерывает мои думы Петька.
Утром, чуть свет, я был уже в аэроклубе. Часа два ждал, пока начали собираться пилоты, инструкторы. Вот и Цуранов. Увидел меня, обжег взглядом, прогудел:
- Зайди.
Прошли в комнату, на двери которой табличка "Начлет".
- Комиссия решила... - Цуранов исподлобья взглянул на меня, а у меня оборвалось сердце. - Комиссия решила, - повторил он, - зачислить тебя в аэроклуб.
Не помню, как я вышел, как дошел до дома. Я курсант! Я буду летчиком!
В этот день я был сам не свой и на уроках в школе получил несколько замечаний.
Мой сосед по парте Петька Расторгуев радовался вместе со мной, и кончилось тем, что учительница выставила нас обоих за дверь.
Зима прошла в трудах и хлопотах. Школа - аэроклуб, аэроклуб - школа... И так изо дня в день. Близилась весна, а вместе с ней - первые полеты, близились и экзамены в школе - я заканчивал девятый класс.
Тяжело жилось нашей семье. Зарплата отца давала возможность более или менее сносно питаться. Посещение кино было для меня настоящим праздником. Одет же я был более чем скромно: разбитые башмаки уже не поддавались ремонту, а многочисленные заплаты украшали мои единственные штаны. Надо работать, решил я, и поделился своими мыслями с отцом. Куда там, он и слушать не хотел.
- Учись, пока я жив.
Что же делать? Посоветовался в школьном комитете комсомола. Оттуда позвонили в районный отдел народного образования. Через несколько дней у меня в руках было направление на работу. "Массовик Дома пионеров" значилось в моем первом в жизни рабочем документе. Сто пятьдесят рублей в месяц казались суммой просто-таки сказочной.
Отец не знал, что я ослушался и начал работать. Мать же, когда я принес первую зарплату, даже всплакнула.
- Сынок мой, - шептала она, - что ты сделал? Отец узнает - беда будет, ругать будет. Что делать станем?
- А ты, мама, не говори ему. Он не узнает. Мне так хочется купить костюм и ботинки...
- Ладно, сынок, - сдалась мать. - Будем молчать. Копи себе на костюм.
Начались полевые занятия в аэроклубе. Чуть свет собирались мы и ехали на аэродром. Как мы пели, проезжая по пустынным улицам города! Сердца наши были переполнены счастьем!
Первый полет. Когда самолет оторвался от земли, я закричал от радости. Инструктор обернулся, что-то произнес одними губами. Я присмирел. Приземлились.
- Что видели? - строго обратился ко мне инструктор.
- Ничего! - вырвалось у меня.
- Болван! - Инструктор круто повернулся и зашагал по полю.
А я стоял в полнейшей растерянности. За что? Неужели он не понимает? Неужели забыл свой первый полет?
С того дня начались сплошные неприятности. Инструктор без конца ругал меня, ругал грубо, как бы нарочно подбирая самые оскорбительные слова. Это убивало. В семье у нас никто никогда не бранился, а тут...
Полеты превратились в пытку. С трепетом ждал я момента, когда начинал вращаться винт и машина выруливала на взлетную полосу. Едва колеса отрывались от земли, в наушниках слышался резкий, визгливый голос:
- Не лови ворон, чурка. Где аэродром? Ты что, заснул?
Я действительно ничего не видел. Слезы обиды, горькой и незаслуженной, застилали глаза. А инструктор продолжал изощряться. Он наслаждался своей безнаказанностью.
- Что с тобой? - поинтересовался как-то мой верный друг Петька Расторгуев. - Похудел, мрачный какой-то. Болен, что ли?
- Да нет, ничего.
- Может, дома что? - не отставал Петька. - Ты скажи, самому легче будет.
- Да чего ты пристал!
- Чумной, - обиделся друг. - К нему с добром, а он...
После очередного полета, едва мы приземлились, к самолету подошел Цуранов.
- Товарищ начлет, - обратился к нему инструктор, - считаю Бегельдинова неспособным к полетам. Предлагаю отчислить.
Стою рядом, мну в руках шлем и чувствую, как комок слез предательски подкатывается к горлу. Только бы удержаться, думаю я, только бы удержаться...
- Отчислить, говорите? - пробасил Цуранов.
Через полчаса начлет поднялся в воздух вместе со мной. Он сам взлетел, сам посадил самолет. Я хотел было уже вылезать из кабины, но вдруг услышал:
- Куда? Взлетай. Полет по кругу. Вновь взревел мотор. Вырулил на старт, получил разрешение на взлет. Вот уже под крылом аэродром. Делаю первый разворот - в наушниках тишина. Второй, третий... Молчит Цуранов. Наконец, захожу на посадку. До земли семь метров. Плавно беру ручку на себя и сажаю машину на три точки.
Полет окончен. Цуранов молча вылезает из кабины и, не сказав ни слова, уходит. Что ждет меня? Уже перед самым отъездом домой начлет вызвал меня и сказал, что переводит в группу инструктора Карповича. Ура! Значит, я не исключен! Значит, буду летать!
Карпович невозмутим. Кажется, ничто на свете не может вывести из равновесия этого человека. Сделали с ним пять полетов, и в один прекрасный день он передал меня командиру звена Бухарбаеву. Еще три полета, и Бухарбаев заявил:
- Хорошо. Лети самостоятельно.
- Как?!
- Лети, малыш. Ты же хорошо летаешь!
Смотрю, самолет уже готовят - на переднее сиденье кладут мешок с грузом, равным весу инструктора. Это для того, чтобы не нарушить центровку.
Взлетел, сделал круг, сел. Еще раз то же самое и, наконец, третий раз. Подбежали ребята, не спеша подошел Цуранов. Все поздравляют, а я стою и слова не могу сказать. Начлет строго посмотрел на меня, потом вдруг улыбнулся и произнес всего одно слово:
- Молодец!
А вскоре был праздничный первомайский вечер. Вечер в аэроклубе. Пришел я на него в новом костюме. Помню, боялся сесть - брюки помнутся! - боялся прислониться к стене, боялся подойти к буфету.
Казалось, что непременно испачкаю костюм, посажу пятно.
Рядом стоял Петька - веселый, раскрасневшийся. Я ему как раз по плечо. Вдруг слышу:
- Вот так малыш! Смотрите, девочки, какой сегодня Талгат красивый.
Это Таня Хлынова с подругами.
- Пойдем танцевать, - тормошит Таня.
- Не умею, - покраснел я.
- Не может быть, - искренне изумилась она. - Как же так?
Не знает Таня, что сегодня - первый праздничный вечер в моей жизни.
Не знает она и того, что пришлось мне претерпеть, прежде чем нарядиться в новый костюм.
Ежемесячно я приносил домой тайком от отца заработанные деньги. Каждую получку мать давала мне двадцать пять рублей, и я прятал их в свой чемодан. Уже скопилось двести рублей. И тут произошла беда.
Вечером возле дома меня встретила мать. По ее лицу я понял, что стряслось нечто страшное.
- Сынок, - быстро заговорила она, - отец про деньги узнал.
- Как?
- Приходила тетя Зайнап, полезла в твой чемодан.
- Зачем?
- Я ей говорила. Но ты же знаешь, какая она. Посмотрю, говорит, что у него там лежит. Увидела, стала спрашивать, откуда. Я молчу. Она к отцу. Прошу не говорить - она рассказала. Что будем делать, сынок?
Что делать? Если бы я знал, что можно и нужно делать.
Вошли в дом. Отец мрачнее тучи.
- Садись, - кивнул он.
Я присел на краешек стула, готовый к неприятному разговору.
- Где ты взял деньги, Талгат? - строго спросил отец. - Я не могу думать, что мой сын вор. Но он не зарабатывает их. Где же он взял двести рублей?
- Отец...
- Подожди, Талгат. Я хочу рассказать тебе то, чего ты не знаешь. После ты мне скажешь все. У нас в роду не было нечестных людей.
И отец рассказал. Я привожу рассказ таким, каким он запомнился мне на всю жизнь.
* * *
Было это давно. В те годы у подножья Кара-Тау паслись байские стада. Возле одного из стад день и ночь неотлучно находился Бегельда и с ним его красавица жена и сын Якупбек. Не раз молил Бегельда аллаха о лучшей доле, но глух был всевышний к стонам бедняка. Не раз хотел Бегельда расстаться с жизнью, но стоило ему посмотреть в глаза жены, стоило Якупбеку забраться к отцу на колени, как тяжелые мысли уходили прочь.
Давно уже чабаны не видели по утрам росы - зной иссушил землю. Быть джуту, говорили старики. Метался бай, лютовали его сыновья. Давно уже забыли они о своих людях, давно не давали им ни фунта мяса, ни пуда муки.
Похудел, высох тридцатилетний Бегельда. Грусть наполнила прекрасные глаза его жены. Болезнь свалила маленького Якупбека, и он лежал, шевеля сухими губами.
И решился Бегельда. Он пришел к баю, попросил помощи. Тот в гневе закричал, плетью ударил своего чабана. Гордо ответил Бегельда. Оскорбился бай, кликнул трех своих сыновей. И четыре камчи заходили по телу несчастного.
В крови лежал Бегельда, но когда бай наклонился над ним, он плюнул ему в лицо. С ревом кинулись к распростертому телу три байских сына. Труп Бегельды бросили в степь.
- Пусть его жрут шакалы, - прохрипел бай.
Ночью трое разыскали труп. Это был маленький больной мальчик, его мать и брат матери. Родниковой водой они обмыли тело и похоронили его в степи, а утром были уже далеко от проклятого места. С тех пор прошли долгие годы. Умерла мать. Мальчик стал взрослым, воевал с баями за новую жизнь - мстил им за отца.
* * *
- Ты у меня один сын, - закончил отец. - В память деда ты носишь его фамилию. Твой дед был честным человеком, его память священна.
Отец замолчал. Молчал и я, потрясенный рассказом.
- Где ты взял деньги, Талгат? - нарушил тишину отец. - Отвечай, я жду.
И я рассказал отцу о том, что тайком от него работаю и получаю зарплату. Я показал ему документы, просил извинить меня и поклялся никогда больше не обманывать его. Мать подтвердила, что я говорю правду.
- Сколько стоит костюм, который ты хочешь купить? - тихо спросил отец.
- Триста рублей.
- Маймуна, Талгату нужно купить костюм за триста рублей.
- Отец, - горячо заговорил я, - мы купим его. Еще через два месяца у меня будут эти деньги.
- Нет. Мы завтра купим костюм. Ты не должен работать, Талгат. Ты должен учиться, должен стать врачом и нести людям добро.
Я прикусил губу. Как быть? Ведь отец ничего не знает и о моих занятиях в аэроклубе, он убежден, что я с утра до вечера в школе. Как сказать ему об этом? Он мечтает видеть меня врачом, а я хочу быть летчиком. Вот и мать смотрит на меня, и в ее глазах я вижу страдание. Она-то знает все.
- Отец, - набрался я решимости, - я не буду врачом. Я буду летчиком.
- Нет, Талгат, ты будешь врачом. Это самое большое счастье - нести людям добро, исцелять их недуги. Тебя будут уважать люди.
- Но, отец, я хочу быть летчиком, я уже летаю...
- Что ты сказал?
- Да, я летаю, летаю каждый день!
Отец опустил голову. Он сидел так очень долго, и я, пораженный его горем, не мог двинуться с места. Зачем я так обидел его? Зачем?
- Не ошибся ли ты, Талгат? - заговорил отец. - Не будешь ли жалеть потом? Это ведь так опасно. Ты один у нас. Мы с матерью не переживем, если с тобой случится беда. Подумай о нас, Талгат.
- Отец, дорогой, не будет беды. Поверь мне, я так мечтал летать, и я летаю. Неужели ты не понимаешь меня?
Мать почему-то заплакала и вышла. Опять долго молчал отец.
- Что ж, - произнес он, - ты сам избрал свой путь. Пусть он будет прямым и честным. Но могу ли я посмотреть, как ты летаешь?
- Конечно, конечно! - обрадовался я. И тут же осекся. В эти дни предстояли первые прыжки с парашютом. Признаться, я сам не мог без волнения думать о них.
- Завтра я поеду с тобой и буду смотреть, - сказал он.
- Я хочу сначала спросить у начальника...
- Зачем? Если нужно, я спрошу сам.
- Но...
- Ты не хочешь? Скажи честно.
- Хочу, отец, очень хочу.
Он устало улыбнулся, притянул меня к себе и поцеловал. Отец никогда не баловал меня лаской.
Утром мы вместе ехали на аэродром. Цуранов, которому я рассказал обо всем, подошел к отцу, познакомился.
- Может быть, сегодня мне не прыгать? - заикнулся было я, но начлет ответил таким взглядом, что я опрометью кинулся за парашютом.
В воздух мы поднялись с Бухарбаевым. Он набрал высоту и подал команду. Я выбрался на плоскость, посмотрел вниз и невольно закрыл глаза. Страх, самый настоящий страх сковал меня. Казалось, нет силы, которая способна заставить меня сделать шаг. Бухарбаев убрал газ, погасил скорость самолета. "Пошел!" - раздался его голос. Я медлил. "Ну!" Я разжал руки, сделал шаг в сторону и камнем полетел вниз. Сколько продолжалось падение, я не помню. Вдруг что-то с силой рвануло меня под мышками, стих свист ветра.
Я посмотрел вверх и на фоне чистого неба увидел огромный белый купол парашюта. Посмотрел вниз. Вот аэродром. Стоят наши самолеты, около них копошатся маленькие фигурки.
Приземлился благополучно. Погасил парашют.
Подъехала машина. Из нее поспешно вышел Цуранов. Отец подбежал ко мне, схватил за плечи, заглянул в глаза, как бы желая удостовериться, что это именно я, потом вдруг засмеялся и трижды расцеловал.
Подбежали ребята. Все поздравляли меня с первым прыжком, знакомились с отцом, а он стоял гордый, счастливый. Потом он о чем-то долго говорил с начлетом.
- Хороший человек твой начальник, - сказал отец, когда мы возвращались домой. - Любит тебя, хвалит.
Тем временем занятия продолжались. Мы закончили полеты по кругу, начали летать в зону, разучивать фигуры высшего пилотажа. Все шло хорошо, но вот беда: никак не получался у меня боевой разворот. Мучился, доходил до отчаяния, а результатов никаких.
Поделился своими горестями с Петькой. Тот помотал головой: дескать, словами тут не поможешь. И предложил полететь вместе.
- У меня разворот здорово выходит, - заявил Петька. - Посмотришь сам. Тут главное - момент поймать. Объяснить я не смогу, а вот показать - другое дело.
Испросив разрешения у инструктора, мы с другом вдвоем вылетели в зону. Я сижу впереди, он - сзади.
Сделал Петька один разворот, другой.
- Пробуй ты! - кричит он и передает управление.
Захожу один раз - неудачно. Второй - то же самое.
- Не то! - кричит Петька. - Лови момент, когда машину разворачиваешь. Смотри!
Он еще дважды лихо делает эту злосчастную для меня фигуру. Ага! Кажется, я начинаю понимать, в чем дело. Пробую сам, чувствую, что дело идет на лад. Еще раз - лучше. Еще, еще...
- Хорош! - слышу я голос в наушниках. - А ну, еще раз давай!
Последний боевой разворот получился у меня просто-таки здорово. Пошли на посадку.
- Кто выполнял последний боевой разворот? - спросил инструктор, когда мы подошли к группе.
- Я.
- Хорошо! Я думал, что это Расторгуев. Надо еще и еще тренироваться. Фигура очень нужная.
Как часто я вспоминал эти слова через несколько лет на фронте! Как часто выручал меня боевой разворот, эта "очень нужная фигура"!
Осенью комиссия принимала у нас экзамены. Опять лечу с Цурановым, опять молча. Три полета по кругу и один в зону. Оценка - отлично. На отлично сдал и теоретическую часть.
Учеба в аэроклубе окончилась. Что же дальше?
- Курсант Бегельдинов! К начальнику! Бегу, недоумевая, зачем меня вызывают.
Оказалось, что из окончивших аэроклуб пятерых оставляют для работы инструкторами-общественниками, в том числе и меня. Радости нет предела.
Начались занятия по теоретической подготовке. Теперь мы сидим рядом со своими недавними учителями, сами готовимся стать инструкторами. Занятия идут вечерами, иногда до глубокой ночи. А с утра - в школу. Ведь я заканчиваю десятый класс.
Как-то незаметно пришла весна - волнующая пора выпускных экзаменов в школе и инструкторских тренировочных полетов в аэроклубе.
В один из дней, обычных аэродромных дней, всех нас взволновала весть о том, что приехала специальная комиссия ВВС. Будут отбирать курсантов в военно-авиационные школы.
- Счастливый ты, - грустно произнес Петька. - Тебя могут взять, а меня нет.
Что я мог ответить другу, чем утешить его? Он хорошо сдал экзамены, стал пилотом, но на инструкторской работе его не оставили.
- А ты сам пойди, - предложил я. - Возьмут.
- Да, возьмут. Как бы не так. Ладно. Вот закончу школу, тогда еще посмотрим.
Комиссия между тем знакомилась с личными делами. Бухарбаев доверительно сказал, что мое личное дело отложено. Меня пригласят на беседу.
День, когда я предстал перед комиссией военно-воздушных сил, на всю жизнь врезался в память.
Робко вхожу в комнату, вижу большой стол, за ним - военных с голубыми петлицами. Не успеваю раскрыть рот, чтобы отрапортовать о том, что явился по вызову, как слышу вопрос:
- Тебе что, паренек? Оборачиваюсь, думая, что кто-то стоит за спиной. Никого.
- Мы тебя спрашиваем.
Стараясь придать голосу солидность, рапортую:
- Инструктор-общественник Бегельдинов явился по вашему приказанию.
Все смотрят на меня с изумлением. Авиатор с тремя "шпалами" на петлицах выходит из-за стола, подходит почти вплотную. На лице его написано искреннее удивление - я много ниже его плеча.
- Инструктор, говоришь? - с украинским акцентом произносит он. - Ай да хлопчик! Молодец! Ладно, иди. У нас времени для шуток нет.
- Дяденька... - невольно вырывается у меня.
Все смеются. Я окончательно растерян. Цуранов что-то шепчет военным. Те рассматривают меня уже без смеха.
- Мал уж больно, - слышу я. - Ноги до педалей не достанут.
- Достают же!.. - вмешиваюсь я.
Опять хохот. Теперь смеюсь и я. Вдруг тот же авиатор с тремя "шпалами" делает свирепое лицо и, в упор глядя на меня, спрашивает:
- Сколько скота имел раньше твой отец?
Я растерянно молчу.
- Что замолк? Наверно, байский сын?
Я растерялся вовсе. Стою, хлопаю глазами и не знаю, что сказать.
- Могу справку показать, могу доказать, могу принести, - бессвязно бормочу я.
- Неси! Посмотрим на твою справку.
Опрометью бросаюсь вон из кабинета. Лечу домой. Мать пугается моего вида. Никак не могу толком объяснить ей, какой документ нужен. Вместе роемся в бумагах отца. Нашел! Вот она, справка, подписанная самим Михаилом Васильевичем Фрунзе. Стремглав кидаюсь в аэроклуб. Поздно. Никого уже нет.
Едва дождался утра. Во дворе жду прихода членов комиссии. Наконец они пришли, вошли в кабинет. Вхожу следом и протягиваю справку. Тот самый авиатор, что строго смотрел на меня, вначале никак не может понять, какой документ я принес и зачем. Потом вспоминает, смеется.
- Вы прочитайте, - с обидой говорю я, - прочитайте.
- Хорошо, малыш, - сквозь смех говорит он. - Давай сюда свою документину.
Он берет справку в руки, лицо его становится серьезным.
- Что ж, партизанский сын, - произносит он. - Ты зачислен в Саратовскую военную школу пилотов. Это было решено еще вчера. Поздравляю, - и он протянул мне большую сильную руку.
* * *
... Лето 1940 года. Я стою на перроне фрунзенского вокзала. Еду в военную школу. Начинается посадка.
- Береги себя, сынок, - утирая слезы, говорит мать.
- Мама, не беспокойся за меня.
- Смотри, Талгат, пиши нам, не забывай.
- Конечно, отец. У меня, кроме вас, никого нет.
Гудок. Медленно плывет назад здание вокзала. Я высовываюсь из окна, вижу отца, который бережно обнимает мать, уткнувшуюся ему в плечо. Прощайте, родные! В этот момент я был далек от мысли, что увижу отца и мать лишь через пять с лишним лет, пройдя через горнило войны, самой жестокой из всех, которые знало человечество.
Трудные годы
Апрель. В горах еще лежит снег. И вечерами легкий весенний ветер приносит в город его запах. Степь после зимней спячки начинает дышать все глубже и глубже. Красные и желтые тюльпаны, а между ними - нежные подснежники. Красиво...
Я думал об этом, стоя у окна вагона. Поезд все шел и шел на север. Давно уже нет гор, а куда ни кинешь взгляд - безбрежная степь. Там, впереди, ждет летная школа, ждут новые друзья. Поэтому неприветливые приаральские пески казались близкими и родными...
Саратов. По величественной волжской глади деловито снуют катера, лодки. У причалов стоят пароходы. Я впервые попал за пределы Киргизии, впервые вижу реку шире Чу, и пароходы кажутся мне гигантскими, чуть ли не сказочными. Смотрю во все глаза, впитываю новые впечатления. До чего же ты велика, моя Родина!
Настроение самое праздничное, хочется петь, с кем-то говорить. Рядом со мной Сергей Чехов - товарищ по аэроклубу. Заговариваю с ним, толкаю его локтем в бок, но Сергей почему-то угрюм и не хочет разделить моих восторгов.
Идем строем через город. Он намного больше нашего Фрунзе и, как мне кажется, красивее. Опять заговариваю с Сергеем.
- Зелени маловато, - угрюмо бурчит он в ответ.
- Зато Волга! - не сдаюсь я.
- Наш Иссык-Куль куда шире.
Нет. Сергей просто несносный человек.
Приходим на территорию школы. Для начала всех нас стригут под нулевку. Признаться, до слез жалко было расставаться с чубом. Но ничего не попишешь, дисциплина есть дисциплина.
Начинаются трудовые будни. Осваиваем самолет "Р-5". Это сложнее "У-2", с которым приходилось иметь дело до сих пор. Не без гордости узнаем, что на машинах этой марки Герои Советского Союза Водопьянов, Молоков и Каманин спасали челюскинцев.
Первые полеты - и сразу же неприятность. Невольно вспоминаю авиатора с тремя "шпалами", который с сомнением смотрел на мой рост. Действительно, сантиметров пятнадцать не были бы лишними. Это я понимаю, едва сажусь в самолет: из кабины едва торчит нос. Как быть? Инструктор Титов не то в шутку, не то всерьез предлагает брать с собой подушку. Я принимаю это всерьез и в первый же полет отправляюсь, восседая на кожаной подушечке, изготовленной с помощью Сергея Чехова. Инструктор покачал головой, но не сказал ни слова. Совершили полет по кругу, еще и еще. Подруливаю к месту стоянки, выключаю мотор и вопрошающе смотрю на инструктора. Титов не спеша отстегивает ремни, поворачивается ко мне:
- Чувствуется твердая рука. Летчиком будете.
Довольный похвалой, выпрыгиваю из кабины и, держа под мышкой подушечку, иду с аэродрома.
В неделю - четыре дня полетов и один день - изучение материальной части. Мы уже настоящие курсанты - одеты по форме, подтянуты, стараемся держаться солидно и лихо козыряем при встрече старшим по званию.
Все хорошо, если бы не командир взвода лейтенант Андреев. Этот немолодой уже человек все время служил в пехоте и буквально влюблен в строевую подготовку. Помню, стоит взвод по стойке "смирно". Андреев не спеша прохаживается, придирчиво осматривает каждого. Неожиданно дает команду: "Кру-гом!" На какое-то мгновение я замешкался и, как любил говорить командир взвода, "нарушил усю симхвонию".
Тут же опять:
- Кру-гом! Бегельдинов, два шага вперед!
Чеканю два шага и застываю, впиваясь глазами в лейтенанта.
- Службу не знаете! - резко выкрикивает он. - До учебного корпуса бегом туда и обратно - шагом марш!
Я еще не успеваю сообразить, что следует делать, как исполнить эту непонятную команду, как за спиной слышу смех. Смеется весь взвод.
- Отставить! - кричит Андреев. - Кто смеется в строю?
Строй молчит. Стою впереди всех и вижу только разъяренного лейтенанта.
- Кто смеялся? Два шага вперед!
Слышится дружный дробот сапог, и я вновь оказываюсь в строю. Командир взвода ошалелыми глазами смотрит на строй, резко поворачивается и идет к корпусу. Буквально через минуту он возвращается с подполковником начальником школы. Тот строго смотрит на нас, в тишине раздается его глуховатый голос:
- Разойдись!
В тот же день взвод собрал политрук. Долго выяснял, что произошло, отчитал нас. Вскоре взводом уже командовал новый офицер. Андреева перевели в хозчасть.
А мне с ним довелось еще раз столкнуться.
Как-то днем ребята решили полакомиться кислым молоком. Летная школа была на летних лагерях, километрах в двух от небольшой деревни. Собрали деньги, раздобыли десятилитровую флягу. Но кто пойдет за молоком?
- Тебе, Талгат, придется сходить, - решили друзья. - Ты самый маленький, незаметно прошмыгнешь.
Дело в том, что мы решили не спрашивать разрешения у командира взвода, и поход за молоком превращался, таким образом, в "самоволку".
Взял я флягу, зажал в кулаке деньги и отправился в деревню.
Купил молоко, без приключений вернулся обратно. Сидим, пьем. Все уже управились, а я еще лакомлюсь. Вспомнил почему-то домашний айран и загрустил. Вдруг слышу:
- Ребята, морской закон!
Все засмеялись и отскочили в сторону. Смотрю на них и ничего не могу понять.
- Какой это морской закон?
А такой, объясняют мне, что последнему за столом и со стола убирать. Дескать, стола у нас нет, а есть пустая фляга, стало быть, тебе ее мыть и отнести на место.
Делать нечего, закон есть закон. Взял флягу, спустился в овраг к ручейку. Гляжу, пробирается по кустам лейтенант Андреев с ружьем, видно, возвращается с охоты. До сих пор не знаю, чего я вдруг испугался. Бросил флягу и кинулся бежать.
- Стой! - кричит сзади Андреев. Я бегу быстрее.
- Стой, стрелять буду!
Куда там, только свист в ушах. Добежал до огорода и пополз по-пластунски по картошке. А лейтенант бежит, кричит. Дополз я до кустов, вскочил на ноги, думаю: "Куда же дальше бежать?" Андреев уже совсем близко. Кинулся я в самую гущу кустов, а там несколько свиней, собственность лейтенанта Андреева. Он их помоями с кухни откармливал. Свиньи кинулись в разные стороны, ломятся сквозь кусты, трещат ветки. Я забился, залег. Слышу, Андреев бежит уже в другую сторону. Это он по шуму за свиньями ринулся. Кричит, ругается.
Когда все стихло, незаметно пробрался я в овраг к ручейку, вымыл флягу, отнес ее и вернулся на территорию школы. Уже к вечеру начались разговоры о том, что лейтенант Андреев принял свинью за курсанта в "самоволке" и целый час гонялся за ней с ружьем. Кто начал эти разговоры, не знаю. Но смеялся я вместе со всеми.
День сменялся днем. Мы хорошо освоили "Р-5". Вскоре начали летать на специальные задания. Вечерами, утомленные, собирались в красном уголке и мечтали о дне, когда получим звания и разъедемся по частям, получим самолеты.
Так же прошел и очередной вечер двадцать первого июня. А рано утром узнали о том, что гитлеровская Германия вероломно напала на нашу Родину. Фашистские стервятники уже бомбили Минск, Львов, Одессу. Десятки, сотни заявлений легли на стол начальника школы подполковника Уткина. Мы не просили, нет, мы требовали, чтобы нас немедленно отправили в действующую армию. Именно немедленно, на любой участок, если нужно, то в пехоту.
Подполковник собрал всех курсантов.
- Я понимаю ваш благородный порыв, - сказал он, - и сам я всеми своими мыслями сейчас там. Но армии нужны хорошие летчики. Это ясно? Нужно учиться, учиться, с тем чтобы вскоре принести Родине максимальную пользу.
Начались занятия по уплотненной программе. До поздней ночи возились мы с самолетами, изучали материальную часть. Затаив дыхание, слушали сводки Совинформбюро. А они становились все тревожнее и тревожнее. Враг кованым сапогом топтал нашу землю, превращал в руины цветущие города и села. Его самолеты господствовали в воздухе, его танки вспарывали нашу оборону.
На фронт, на фронт! Эта мысль не давала всем нам покоя.
Подошел день выпуска. Но что это? Мне не дают направления! Оставляют в школе инструктором.
- Нет! - твердо заявил я подполковнику Уткину. - Ни за что.
Тот вначале пытался говорить мягко, убеждал, что не всем же быть на фронте, что нужно думать и о завтрашнем дне.
- Нет, нет и нет, - упрямо твердил я.
- Отставить разговоры! - вспылил подполковник. - Вы находитесь в армии в военное время. Ясно?
Да, все было ясно. Друзья едут на фронт, будут бить врага, а я... Горю моему не было предела. Но времени для печалей оставалось не так уж много. В школу непрерывно поступало пополнение, и приходилось долгие часы проводить в воздухе. Так прошло около полутора месяцев.
Неожиданно в школу пришло распоряжение - откомандировать несколько человек в бомбардировочное авиационное училище.
Через несколько дней я уже был курсантом Оренбургского училища. Тяжелые дни переживала страна. Это чувствовали и мы, курсанты. И голодно, и холодно. Тем сильнее было у нас желание скорее попасть на фронт. Начались полеты на "СБ" - скоростном двухмоторном бомбардировщике. Видно, подготовка у меня была достаточно основательной, потому что вскоре мне присвоили звание ефрейтора и назначили старшиной группы.
В группу вошли курсанты, уже имевшие звания пилотов, и мы в рекордный срок - за полтора месяца - освоили технику пилотирования, сдав экзамены на отлично. "Ну, уж теперь-то наверняка пошлют на фронт", - радостно думал я. Ликовали и мои друзья. Но...
Опять это злосчастное "но". Другие группы еще учились, и нас задержали. Ребята работали на огороде, помогали колхозникам убирать хлеб. Я же получил "назначение" на кухню. Закрепили за мной лохматую лошаденку, подводу с бочкой. Изо дня в день с утра до вечера возил я воду.
Однажды, восседая на обледеневшей бочке, я увидел, как на территорию училища входит группа новых курсантов. Что это?.. Знакомое лицо! Да это же Коля Павличенко, мой школьный товарищ!
Кубарем скатился с бочки, бросил вожжи и подбежал к другу. Оказалось, что он недавно из Фрунзе, видел моих стариков, говорил с ними. Эта группа вовсе не курсанты. Их привезли всего на несколько дней.
Обмундируют - и на фронт, в пехоту. "Счастливый Николай", - думал я, с ненавистью глядя на апатичного конька, неуклюжую телегу с бочкой.
Мы распрощались, пожелали друг другу счастья. Встретиться пришлось через семнадцать лет в Алма-Ате. Николай Павличенко прошел через фронты Отечественной войны, закончил авиационное училище и сейчас водит воздушные корабли по трассам Казахстана.
Настал, наконец, день выпуска. Стоим в строю, и один за другим курсанты получают назначения в части. Я, уже сержант, жду не дождусь своей очереди. Нет, не дождался...
С группой сержантов меня откомандировали в истребительное училище. "Ничего не попишешь, - думал я, - такова уж служба: все люди воюют, а я так до дня победы и проучусь".
Вновь полеты, полеты, полеты и теоретические занятия.
Случилось так, что я захворал и несколько дней провел в комнате. Ребята принесли интересную новость: на летном поле стоит новый самолет "Ильюшин-2". "Красота, картинка, - восхищались они, - такого еще не видели".
Да, такого самолета не знала история авиации. Помню, как я осматривал его бронированную кабину, пушки и пулеметы, как ощупывал каждую заклепку в корпусе.
Еще в годы гражданской войны Владимир Ильич Ленин высказал идею применения штурмовой авиации против наземных войск противника. И вот в годы Отечественной войны по заданию партии и правительства конструктор Сергей Владимирович Ильюшин построил штурмовик - уникальную машину, равной которой по боевым качествам не было ни в одной армии мира.
В декабре 1941 года, когда страна узнала о разгроме немцев под Москвой, в газетах замелькали сообщения о советских штурмовиках, прозванных гитлеровцами "черной смертью".
Полжизни можно отдать, лишь бы сесть за штурвал этого дивного самолета. И настал счастливый день: мы начали изучать "илы". Да, это действительно замечательная машина! Быстрая, послушная, грозная. Теоретическую подготовку прошли основательно.
И вот уже Ижевск, запасной авиационный полк, где мы должны специализироваться на штурмовике. Несколько сот пилотов ждут назначений. Нет самолетов и инструкторов. Не сидеть же сложа руки! Создаем бригады и принимаемся огородничать. Сажаем картошку, морковь, свеклу. Проходит лето. Созрели овощи, пожухла картофельная ботва, а назначения все нет. Между собой поругиваем начальство, обвиняем его во всех смертных грехах.
Подошла осень, а вместе с ней и пора уборки урожая. Бригада, которой я руковожу, заняла первое место. В качестве премий замполит полка вручает нам по пачке махорки.
Дождались! В полк прибыли машины, так полюбившиеся мне "ИЛ-2". Начинается проверка техники пилотирования. Давно уже не чувствовал в руках штурвала, лечу с наслаждением.
Скоро в личной летной книжке появилась краткая характеристика: "Техника пилотирования на самолете "ИЛ-2" отличная. Летать любит. В полетах не устает. Трудолюбив. Летных происшествий не имеет. В воздухе спокоен, летает уверенно".
Через день издается приказ, в котором фигурируют одиннадцать фамилий, в их числе и моя. Нас, как наиболее подготовленных, оставляют в полку инструкторами.
"Ну, уж этому не бывать, - решаем мы. - Ни за что!" Вначале никто нас и слушать не хотел, но нежданно-негаданно в полк прибыла группа инструкторов из аэроклубов - люди в годах, с большим опытом. Мы возликовали.
Восемнадцатого декабря 1942 года мы уже были в дороге. Через несколько дней вышли из поезда на Казанском вокзале Москвы.
Москва тех трудных лет... Пустынные улицы, витрины магазинов, заставленные щитами, затемнение по ночам. Суровые лица людей, женщины в ватниках и кирзовых сапогах. Такой мне запомнилась столица на долгие военные годы.
Недолго пробыл я в Москве. Вместе со старшим сержантом Чепелюком получили назначение в одну часть. На Ленинградском вокзале уселись в поезд, который в те годы называли "пятьсот-веселым" - товарные вагоны, даже без нар, и полнейшая неизвестность, когда и куда приедем. Помнится, что поезд часами стоял на разъездах, зато лихо мчал мимо станций.
Едем на северо-запад, за Калинин. В пульмановском вагоне темнота. Стоит холодная "буржуйка".
- Сергей, - обращаюсь к Чепелюку, - надо бы дровец раздобыть, а то замерзнем.
- С ума спятил, - отвечает он. - Ночь, затемнение, а ты хочешь огонь разводить. Увидят немцы сверху - разбомбят.
Все же на первой остановке я выпрыгиваю из вагона и без труда разыскиваю какой-то поломанный штакетник. Растапливаем печурку. Из углов к нам начинают подходить люди. А мы-то думали, что вагон пустой!
Смотрю, сидит в сторонке девушка. Шинелька на ней, ушанка, сапоги. Смотрит на тех, кто ближе к печке примостился, с какой-то грустью. Видно, замерзла, а протиснуться вперед стесняется. Раздвинул людей, поместил девушку ближе к огоньку. Ба, да это же авиатор: на шинели голубые петлички с крылышками! Разговорились. Достали мы с Сергеем хлеб, консервы. Зина - так звали девушку - вызвалась быть хозяйкой. Ловко нарезала хлеб, разложила его на вещмешке, сахар достала, кружки.
Все расспрашивала меня, кто я и откуда. О себе сказала, что служит в авиации радисткой сама с Украины, из-под Полтавы. Там, в оккупации, остались мать с отцом, маленький братишка. Всплакнула. Мы ее успокоили как могли.
А поезд идет и идет. Проносятся контуры полуразрушенных зданий. Здесь прошла война. Это она оставила глубокие раны, разбросала братские могилы, опалила огнем жилища и сады.
Состав остановился у развалин какого-то строения. Припорошенные снегом воронки, исковерканные рельсы, обломки вагонов и - точно надгробные памятники - печи и трубы сожженных домов.
Распрощались с Зиной, пожелали друг другу счастья. Она дала свой адрес. Дальше пошли фронтовые дороги, разбитые проселки, непролазная грязь, схваченная лютым в тот год морозом.
Фронт
Село Андриаполь. Здесь расположен штаб штурмовой авиационной дивизии, которой командует Герой Советского Союза полковник Каманин. Тот самый легендарный летчик, который вел звено "Р-5" на спасение челюскинцев. Он уже был лейтенантом, когда я в трусишках бегал по пишпекским улицам. Сердце замирает от сознания, что буду воевать вместе с таким знаменитым авиатором.
Слезли с машины, идем улицей села. Холодно. Натянули пилотки на уши. Ботинки и обмотки - плохая защита от декабрьской стужи. Наконец добрались до штаба, доложили. Офицер посмотрел на нас, прочитал документы.
- Замерзли? - почему-то очень строго спросил он.
- Никак нет! - в один голос рявкнули мы с Сергеем.
- Ладно. Отогрейтесь, а потом идите в Обруб. Это недалеко, через аэродром. Спросите командира полка Митрофанова. Ясно?
- Ясно!
- Исполняйте.
Что же исполнять? Греться или идти? Мы решили, что лучше всего скорее добираться до полка. Тронулись в путь. Едва дошли до аэродрома, как раздался грохот выстрелов.
- Ложись! - крикнул Чепелюк.
Лежим в канаве носами в снег. Проходит несколько минут, грохот не прекращается. Поднимаем головы. Ничего нельзя понять. Вдруг видим направляется к нам человек. Лежим, ждем.
- Что, соколики, отдыхаем? - обращается человек.
Молчим.
- Вы с какой целью здесь? Куда путь держите?
Объясняем.
- Угу, все понятно. Вставайте, братки, вставайте. Ничего страшного нет. Зенитки ведут заградогонь. Идите, а то носы отморозите.
Красные не столько от холода, сколько от смущения, поднимаемся, отряхиваем снег и идем в Обруб. Собственно говоря, смущались мы зря. Ведь ни разу в жизни не слышали орудийного выстрела, а тут сразу десятки. Любой, пожалуй, струхнет.
Входим в дом, где разместился командир полка. В просторной комнате полумрак, на столе чадит коптилка.
- Старший сержант Чепелюк прибыл в ваше распоряжение для прохождения службы! - четко произносит Сергей.
- Добро, - Митрофанов выходит из-за стола. - А кто это там еще?
Выбираюсь из-за широкой спины товарища и докладываю.
- Ишь ты, - поражается моему звонкому голосу командир полка. - Силен! Сколько имеете налета на самолете "ИЛ-2"?
- Одиннадцать часов.
- Не густо. А годов тебе сколько?
- Девятнадцать.
- Так, значит, уже совершеннолетний. И то слава богу. Идите оба к командиру третьей эскадрильи. Скажите, что я вас к нему послал.
Вышли на улицу, а куда идти - не знаем. Уже совсем стемнело. На счастье, встретили группу летчиков, спросили. Пилоты с интересом посмотрели на наши куцые шинеленки, ботинки, обмотки. Рассказали, как найти командира третьей эскадрильи старшего лейтенанта Шубина.
Нашли, вошли в дом, и едва доложили, как из угла комнаты послышался голос:
- Чепелюк! Ну, конечно, он. Серега, здорово!
Оказалось, что Сергей встретил своего друга еще по довоенным временам. И Чепелюк остался в эскадрилье, а меня ждало разочарование.
- Иди в первую эскадрилью к капитану Малову, - напутствовал меня Шубин, - у него летчиков не хватает.
Пошел дальше по деревне. Нашел. Доложил.
- Кто прислал? - спрашивает Малов.
- Командир третьей эскадрильи.
- Иди во вторую, там летчиков маловато, а у нас полный штат.
Вышел на улицу и едва не заплакал от обиды. Что же это такое? Так рвался на фронт, а оказывается, что никому здесь не нужен. Может быть, пойти к командиру полка? Нет, схожу все-таки во вторую эскадрилью, а уж потом...
С трудом отыскал нужный дом. Обмел веником снег с ботинок и обмоток. Открыл дверь и остановился в нерешительности: к кому обращаться? Сидят в темноте люди вокруг печурки и едят картошку. Ни к кому не обращаясь, доложил.
Поднялся один из летчиков.
- Я командир. Моя фамилия Пошевальников. Прибыл, говоришь? Вот и хорошо. Садись есть картошку. Садись, садись. Да разуйся, ноги погрей.
Уселся к огню, взял картофелину, а очистить не могу - пальцы от холода одеревенели. Пошевальников помог, а тем временем расспросил, кто я и откуда. Все рассказал ему. И о том, как сегодня гоняли, тоже.
- Вот чудаки, - помотал головой командир эскадрильи. - От такого парня отказались! Останешься у нас.
Поели, стали укладываться спать. Заметив свободную кровать, я направился к ней.
- Подожди, - на плечо легла рука Пошевальникова, - сюда нельзя. Сегодня поспишь на печи с ребятами, а завтра устроим как следует.
Потом я узнал, что в тот день хозяин кровати не вернулся с боевого задания на базу, На его месте не полагалось спать сутки. Кто установил такое правило? Неизвестно. Но оно всегда соблюдалось свято.
Утром командир приказал переодеть меня. Я облачился в меховой комбинезон, унты, получил планшет и карту. Пошевальников снабдил литературой.
- Сдашь зачеты и будешь летать, - сказал он.
Все ушли на аэродром, на полеты. Сижу в избе один, читаю, изучаю карту. Так прошел и следующий день. Наконец я заявил, что готов сдать зачет по изучению района боевых действий.
- Штурман, прими!
Я на память быстро начертил район боевых действий, рассказал, что к чему.
- Ого! - изумился штурман эскадрильи. - Молодцом. Завтра выйдешь на полеты.
К вечеру собрались летчики. Я к ним с расспросами о войне, о полетах. Молчат пилоты - опять в полку потеря. Потом Пошевальников усадил меня рядом и подробно рассказал о сегодняшнем дне, о том, как под Торопцом погиб товарищ.
Утром вышел на полеты. Командир полка приказал тренироваться на "ПО-2" и "ЯК-12" несколько дней. Затем инспектор дивизии по технике пилотирования принял зачеты.
- Можно пускать на тренировочные полеты на боевом самолете, - заключил он.
- Полетишь? - спросил Митрофанов.
- Хоть сейчас, товарищ майор.
- Без инструктора?
- Да.
- А самолет не разобьешь?
- Никак нет, не разобью.
- Ну, добро. Видишь, вон там стоит самолет? Иди, прими его у механика и прирули к старту.
Подошел к "ильюшину". Весь-то он изрешеченный, весь в заплатках и латках. На стабилизаторе цифра тринадцать. Между прочим, забегая вперед, я должен отметить интересное совпадение. На тринадцатом я первый раз летал на боевое задание. На самолете с таким же номером я закончил войну, летал на Берлин и в Прагу. Чего после этого стоят разговоры о том, что "чертова дюжина" приносит несчастье?
Итак, подошел к самолету. Из кабины вылезает механик. Передаю ему приказ майора. Механик смеется.
- На нем никто не летает.
- Ничего, я полечу.
- А в бога веришь? Номер видал?
- Не верю ни в бога, ни в черта.
- Смотри, сержант, его зенитки любят. Кто летит - тот новые дыры привозит.
- Ладно. От винта!
Мотор работает чисто. Молодец, механик! Значит, он не только подтрунивать умеет.
Подрулил. Командир полка приказал произвести разбег, но не взлетать. Исполнил.
- Один полет по кругу, - говорит Митрофанов и приказывает выложить "Т".
Взлетел, набрал высоту. Сердце поет. Еще бы, лечу на боевом самолете! Лечу на фронте! Лечу один! Точно рассчитал и сел на три точки у "Т". Даже сам удивился, как это здорово получилось. Смотрю, командир показывает: еще, мол, один полет. Повторил. Потом еще раз.
- Хватит на сегодня, - сказал Митрофанов, когда я в третий раз лихо произвел посадку.
Зарулил машину на место. Механик улыбается. А у меня чувство такое, что хочется кричать от радости. Вылез из кабины. Иду по аэродрому в комбинезоне, шлеме, унтах, планшет сбоку висит. Сам себе кажусь героем. Митрофанов выстроил всех, кто был в это время на аэродроме, и скомандовал:
- Сержант Бегельдинов, два шага вперед!
Я сделал два шага и застыл.
- За отличный полет по кругу объявляю вам благодарность.
- Служу Советскому Союзу! - А у самого в душе все ликует.
Вновь полеты по кругу, потом на фотобомбометание. О нем следует рассказать подробнее. Наш полк стоял в деревне на опушке леса. "Ильюшины" взлетали с замерзшего болота. Бойцы аэродромного обслуживания маскировали их еловыми ветками. Неподалеку на лужайке, окруженной кустарником, был расположен полигон. Танк с белым крестом на развороченной башне и пушка с изуродованным стволом, брошенные здесь немцами еще в прошлогоднем зимнем отступлении, служили мишенями для тренировочных атак молодых летчиков.
Нас с Чепелюком еще не пускали в бой. По утрам мы с завистью провожали в воздух бывалых летчиков. Днем, набрав положенную высоту, вводили свои штурмовики в крутое пике и яростно атаковали полузанесенные снегом танк и пушку. Атаковали, но не стреляли. Роль пушек и пулеметов выполняли фотокамеры. Рассматривая проявленную пленку, командиры судили о результатах наших полетов.
Через несколько дней нас начали тренировать строем в составе пары и звена. Это очень важно - уметь строго держаться в строю.
Настал, наконец, день, когда командир полка сказал:
- Ну, Бегельдинов, теперь вы готовы к выполнению боевой задачи. Завтра обязательно полетите.
Произошло это семнадцатого февраля 1943 года. Нужно ли говорить о том, что всю ночь я не мог сомкнуть глаз. Какие только мысли не лезли в голову! Я видел себя над немецкими позициями в грозном штурмовике. Кругом огонь, а я лечу и беспощадно поражаю врага. И все удивляются моему геройству.
Утром штурман полка Степанов должен вести девятку на штурмовку железнодорожной станции. Перед вылетом Степанов проинструктировал меня, предупредил, что самое главное - строго держаться в строю и делать то, что делает ведущий.
Полетели. День ясный, морозный. Стараюсь держаться в строю, все внимание сосредоточиваю на ведущем и даже не замечаю, как минуем линию фронта. Самолет Степанова впереди качнул крыльями, по радио передал команду: "Приготовиться к атаке". За стеклами кабины запрыгали вспышки зенитных снарядов. Неотступно слежу за ведущим, повторяю его маневры, меняю высоту и направление полета.
Степанов ввел самолет в пикирование. Я двинул ручку от себя. В прицеле мелькнул длинный состав железнодорожных вагонов. На перекрестки лег черный паровоз с белыми клубами пара. Пальцы жмут на гашетки. Вдруг паровоз исчезает из прицела. Наверное, я отвернулся от него. Подворачиваю машину. Так, теперь не уйдешь. Атакую из пушек и пулеметов. Нажимаю кнопку бомбосбрасывателя. Вижу, как паровоз окутался клубами дыма и пара, как бегут в разные стороны гитлеровцы.
Беру ручку на себя. Самолет выходит в горизонтальное положение. Но где же ведущий? Он с группой уже развернулся и уходит. Даю полный газ, догоняю и пристраиваюсь на свое место. Вижу, как Степанов из кабины грозит мне кулаком.
Вернулись домой. Степанов отругал за то, что я отстал, увлекшись атакой.
- Так быстро голову сложите, товарищ Бегельдинов, - сказал он. - На первый раз ограничусь замечанием.
Подошел командир полка. Доложили ему о полете, о моем поведении.
- Лихачество и нарушение порядка к добру не приводят, - строго произнес Митрофанов. - Смотрите, заставлю еще недели две утюжить танк на полигоне. Не устали с непривычки в полете? Нет? Хорошо. Через пятнадцать минут - снова в воздух.
Взлетели уже с Пошевальниковым. Идем на ту же станцию. Держусь в строю, как приклеенный к ведущему. Еще издали видна густая пелена дыма. Сквозь нее то и дело прорываются багровые языки пламени. Стреляем из пушек и пулеметов, сбрасываем бомбы. Там, где утром стояли готовые к отправке эшелоны, теперь крошево из кусков металла, дерева и изуродованных трупов гитлеровцев.
Возвратились на аэродром.
- Как Бегельдинов? - спрашивает командир полка у Пошевальникова.
- Хорошо. Держится уверенно.
- Что ж, добро. Полетите еще раз. Не устали?
Я чуть не подпрыгнул от радости. В первый день три боевых вылета! Нет, я положительно родился под счастливой звездой!
Летим. Атакуем, завершая полный разгром станции. При выходе из атаки чувствую, как самолет вздрогнул, будто от удара снизу. Смотрю на плоскость и вижу в ней огромную дыру. Ясно: прямое попадание снаряда. К счастью, снаряд оказался бронебойным и не разорвался, а то разнесло бы машину вдребезги.
В тот же миг закричал мой стрелок. "Ранен", - мелькнуло в голове. На какое-то мгновение растерялся, но голос стрелка вновь вернул к действительности. Радио у нас в то время было односторонним. Я мог лишь слушать ведущего. Подлетаю к Пошевальникову, рукой показываю ему на хвост своего самолета. Он по радио говорит: "Не понимаю". Я вновь показываю на хвост, а потом себе на голову: ранен, мол, стрелок. Что делать?
Пошевальников, так ничего и не поняв, говорит по радио: "Иди вперед на аэродром".
Даю полный газ и направляюсь к своему аэродрому. Захожу на посадку, приземляюсь, и вдруг самолет валится на правую сторону. Выключаю мотор. В чем дело? Оказалось, что пулеметная очередь пробила колесо, и спустила камера.
Подъехала санитарная машина. Стрелка вытащили из задней кабины. У него ранение в ногу.
Вечером Пошевальников доверительно сказал мне, что он сомневался, найду ли я аэродром. У меня на душе мрачно - жаль стрелка.
- Не горюй, - успокаивали товарищи. - Война есть война. Жертв не миновать.
А я винил себя. Считал, что плохо маневрировал и подставил самолет под удар. В конце концов поздно вечером пошел в лазарет и до утра просидел у постели стрелка. Ему стало лучше. Пуля пробила мякоть, кость не задела.
Начались боевые будни. Ежедневно летаю на штурмовку врага. Помня историю с паровозом, стараюсь делать только то, что делает ведущий.
Шли бои под Старой Руссой. Девятка штурмовиков под прикрытием восьми истребителей "Яковлевых" вылетела на деревню Глухая Горушка, превращенную немцами в мощный узел сопротивления. Задание было несложное: атаковать артиллерийские позиции противника и левым разворотом через болото выйти за реку Ловать, на территорию, уже занятую нашими войсками.
Взлетели, построились и, набрав высоту полторы тысячи метров, легли на курс. Я летел во втором звене правым ведомым. Вскоре к нам пристроились "Яковлевы", прикрывая нас сверху и снизу.
На подходе к Глухой Горушке ведущему майору Русакову по радио доложили с КП, что над целью до шестидесяти истребителей противника на трех ярусах: первый ярус патрулирует на высоте трех тысяч метров, второй ярус - на высоте полутора тысяч метров и третий ярус на бреющем полете в районе болота, куда мы должны направиться после атаки цели. Истребители противника верхнего яруса сразу же вступили в бой с нашими истребителями прикрытия.
Вижу, что два самолета из переднего звена, охваченные пламенем, ринулись вниз, тут же сбили и третий самолет первого звена. Крайнее левое звено "ильюшиных", сделав хитрый маневр, атаковало цель и, петляя по перелескам, ушло. Наша тройка осталась одна. Ведущий старший сержант Петько подал команду приготовиться к атаке. В момент атаки он был сбит, запылал самолет и левого ведомого сержанта Шишкина. Я остался один. Именно один, ибо полетел на задание без стрелка. Передо мной оказалась цель. Атаковал злосчастную Горушку, над которой только что потерял пятерых друзей, и, сделав левый разворот, вышел на бреющем полете к болоту. Теперь предстояло идти домой. Но не успел я опомниться, как впереди справа прошла пулеметная трасса. Пока соображал, что к чему, как еще одна трасса прошла прямо над фонарем.
Быстро повернул голову и увидел: меня атакует истребитель.
"Мессершмитт" вел себя предельно нагло. Вовсе не заботясь о защите, он атаковал меня с разных сторон, но безрезультатно. "Может убить", - подумал я. Начал выполнять виражи, стараясь уйти на свою территорию. Высота небольшая, и снизу я защищен. Спереди немец подходить боится - знает силу лобового огня штурмовика.
Скорость у меня меньше, значит, и радиус виража мал. "Мессершмитт" норовит пристроиться сзади.
Внезапно мне пришла в голову мысль - а почему, собственно, я только о спасении думаю? Почему сам не атакую фашиста? Правда, случая воздушного боя штурмовика с истребителем противника еще не бывало. При встрече нам предписывалось уходить на бреющем полете, бой не принимать.
Немец совершенно обнаглел. Высокая скорость сейчас была для него помехой, и он выпустил шасси, чтобы уменьшить ее. Это почему-то взбесило меня. Ну, думаю, гад, я тебе не котенок!
Резко развернул машину в сторону самолета противника, взял ручку на себя. "Мессер" в этот момент оказался прямо передо мной в прицеле. Я нажал на все гашетки. Вижу, как пули вонзаются в истребитель. Кажется, проходит целая вечность.
Истребитель задымил, свалился на крыло и пошел к земле! Летчик оказался опытный: перед самой землей он сумел выровнять горящий самолет и плюхнулся в сугроб.
И мой самолет от потери скорости оказался в штопорном положении. Кое-как выровнял машину, набрал скорость, снизился.
Делаю разворот и вижу, как к истребителю с автоматами бегут наши солдаты. Теперь можно идти домой. И тут чувствую вдруг, что силы мои иссякли. Все тело покрыто липким потом. И самолет ведет себя ненормально. Повреждены руль поворота и глубины, пробиты пулей водомаслорадиаторы.
С трудом дотянул до аэродрома. Сел. Откинул фонарь и буквально упал на руки летчиков, плотным кольцом окруживших мою машину.
Подошел командир полка. Я взял под козырек и начал рапорт.
- Отставить, - как-то устало махнул рукой Митрофанов. - Расскажи, Талгат, что произошло.
Я рассказал о бое, о пяти сбитых немцами штурмовиках. Не знаю почему, но о схватке с "мессершмиттом" умолчал. Опустив головы, слушали летчики мои рассказ. Да, нелегко терять боевых друзей.
Мы направились с аэродрома. Рядом со мной шел Пошевальников.
- При таких повреждениях самолетом управлять очень трудно, - заметил он. - Удивляюсь, как ты дотянул.
Повреждения? Я и забыл о них сгоряча.
- У тебя же перебит трос управления рулем поворота, повреждена правая часть руля глубины!
Вернулись вдвоем к израненной машине, осмотрели ее, и только тут я понял, что чудом остался в живых.
Рано утром меня разбудил посыльный из штаба. Быстро оделся и через несколько минут уже стоял перед Митрофановым.
- Звонили из дивизии. Приказали немедленно явиться.
- А в чем дело?
- Понятия не имею. О вчерашнем дне я доложил. Наверное, подробностями интересуются. Иди, расскажешь начальству. Можешь не торопиться: вылетов наверняка сегодня не будет.
По заснеженному полю, затем лесом, через болото пошел в Андриаполь. Видно, в штабе дивизии меня уже ждали. Возле адъютанта сидело несколько штатских. Когда я доложил о прибытии, они с интересом посмотрели на меня. Адъютант тут же предложил пройти в кабинет комдива.
Вхожу, вижу Каманина.
- Сержант Бегельдинов явился по вашему вызову.
- Хорошо. Садитесь, - командир указал на стул. - Садитесь, садитесь.
Сел, снял шапку-ушанку. С опаской смотрю на унты: от них текут ручейки по полу.
- Расскажите о вчерашнем бое.
Начинаю по порядку с момента взлета, стараюсь не упустить даже мелочи.
- Это мне известно, - перебил Каманин. - Я спрашиваю о бое с истребителем. Кстати, почему не доложили командиру полка?
Я растерянно замолчал.
- Ваш бой с истребителем видели артиллеристы. Летчика они задержали. Мне звонили из артполка.
Сбивчиво рассказываю о бое. Каманин подходит к двери, приглашает штатских. Оказалось, что это корреспонденты газет. Меня буквально засыпали вопросами. Командир дивизии разъяснил, что это был первый в истории авиации бой штурмовика с истребителем с таким исходом.
Он рассказал, что сбил я матерого волка. Немец в звании майора имел на счету сто восемь сбитых самолетов. Он пиратствовал еще в Бельгии и во Франции, летал на Балканах. Фашист ни за что не хотел верить, что его сбил сержант, имеющий всего восемь боевых вылетов.
Каманин шутя сказал, что должен извиниться передо мной: немец просил познакомить его с русским ассом, но свидание это не состоялось.
- Эту птицу мы отправили в штаб армии. Думаю, что вы не будете горевать.
Все рассмеялись. Командир дивизии поднялся из-за стола. Я встал по стойке "смирно".
- За отличное ведение боя и сбитый истребитель, - медленно произнес Каманин, - командующий воздушной армией от имени Президиума Верховного Совета СССР награждает вас орденом Отечественной войны второй степени.
- Служу Советскому Союзу!
После этого корреспонденты еще долго не отпускали меня, расспрашивали о службе, о том, как стал летчиком.
Поздно вечером вернулся я в полк. Здесь уже узнали обо всем и подготовили маленький сюрприз: в нашей комнате был накрыт стол, и я оказался виновником торжества. Правда, полушутя, полусерьезно Пошевальников сказал, что "не простит" мне этого сбитого самолета. Ведь получилось, что они после всех узнали о нем. Я дал слово, что если собью еще, то сразу доложу.
Через несколько дней в полк пришли газеты с описанием боя. Все в них было правильно, но я смущался. Казалось, что сделали меня уж слишком героическим авиатором. Тем не менее одну газету отправил домой отцу, а другую Зине - той самой девушке, с которой мы в холодном вагоне ехали из Москвы на фронт.
* * *
Тем временем продолжались жестокие бои за Глухую Горушку. По нескольку раз в день летали мы штурмовать живую силу и технику врага.
Рано утром командир эскадрильи Пошевальников повел группу в составе двенадцати самолетов на уничтожение артиллерийских позиций противника. Подлетаем к линии фронта и попадаем под жестокий зенитный огонь: бьет по крайней мере полдюжины батарей. Начинаем маневрировать.
Ведущий дает команду: "Приготовиться к атаке!"
Включаю механизм бомбосбрасывателя, убираю колпачки от кнопок сбрасывания бомб, реактивных снарядов и от гашеток пушек и пулеметов. Проверяю приборы. Внимательно слежу за действиями ведущего.
Разворачиваемся для атаки, и в этот момент мой самолет сильно подбрасывает, будто кто-то ударил его снизу. Мотор начинает работать с перебоями. Ясно: попадание...
Тем не менее вхожу в атаку.
Мотор работает все хуже и хуже. Выхожу из строя и всеми силами пытаюсь дотянуть до линии фронта, благо, она недалеко. Чувствую, что машина окончательно отказывается слушаться, и тут вижу внизу довольно большую поляну. Снижаюсь и, не выпуская шасси, сажаю самолет.
Кругом густой сосновый лес. Тишина. Что же теперь делать? Куда идти? С воздуха я ориентировался прекрасно, а сейчас, убей, не знаю, где свои, а где немцы.
Откидываю фонарь. Но едва пытаюсь вылезти из кабины, как начинается обстрел. Стреляют с двух сторон. Мы со стрелком засели в кабинах под прикрытием брони. А бой идет, стрельба все интенсивнее. Есть уже несколько попаданий в самолет.
Попадут в бензобаки - не миновать взрыва. Одно утешает: стреляют автоматы и винтовки, баки же защищены броней, которую можно пробить лишь из крупнокалиберного пулемета.
Постепенно бой стихает, выстрелы все реже и реже.
- Пойдем в лес, - говорит стрелок. - Пересидим.
- Кого пересидим? - не понимаю я.
- Посмотрим, кто подойдет к самолету. Если немцы, то тронемся в другую сторону, а если свои...
Ясно. Мысль правильная.
Осторожно выбираемся из самолета, ползем по глубокому снегу в лес. Добрались до деревьев, залегли. Проходит не больше получаса, видим, как из-за деревьев появляются четыре пехотинца. Один с миноискателем идет впереди, за ним цепочкой тянутся остальные.
Свои или немцы? Похожи на своих - в валенках, ушанках. А может, немцы? Лежим не шевелясь.
Пехотинцы подходят все ближе и ближе к самолету. Теперь ясно видим, что это наши солдаты. Вскакиваем и бежим к ним.
- Стой! - раздается вдруг голос солдата с миноискателем. - Стой, летун! Куда тебя черт несет! Здесь минное поле. Что кишки хочешь по деревьям развесить?
Останавливаемся как вкопанные. Солдаты подходят к нам, и мы вместе направляемся к самолету.
- Везучий ты, друг, - говорит пожилой солдат. - Смотри.
Чувствую, как волосы становятся дыбом. Впереди самолета, метрах в пяти, лежит противотанковая мина. Стоило при посадке еще чуть-чуть продвинуться вперед, и мы со стрелком наверняка отдали бы богу души.
- Чуешь? - спрашивает тот же солдат. - Так-то вот. Ладно, идем к командиру полка. Там разберутся и в часть вас отправят. Айда!
Выбираемся с заминированного поля, входим в лес. Тут уже можно идти спокойно. Солдаты рассказывают, что приземлились мы прямо перед позициями стрелкового полка на "ничейной" земле. Пехотинцы открыли огонь, чтобы не подпустить к самолету немцев. Но, видно, те не очень-то и стремились добраться до "ильюшина". Это нас и спасло.
Идем уже около получаса, выходим на укатанную машинами дорогу. Неожиданно из-за поворота появляется колонна офицеров. Мы отходим к обочине, пропускаем строй. Вдруг из колонны раздается громкий голос:
- Талгат!
Смотрю и глазам своим не верю: в колонне идет Бухарбаев. Да, да, командир звена Фрунзенского аэроклуба, который пускал меня в первый самостоятельный полет.
Я кинулся к строю, обнял земляка. А колонна идет и идет. Как быть?
- Спросим разрешения у командира, - быстро говорит Бухарбаев, позволит нам побыть вместе.
Майор, ведущий колонну, выслушал нас и, действительно, не возражал, чтобы Бухарбаев остался со мной.
- Только не очень задерживайтесь, - сказал он на прощание.
Мы вместе отправились к командиру полка. Показали документы, рассказали о бое, о подбитой машине.
- Знаю, знаю, - густым басом заговорил подполковник. - Я уже связался с вашей частью, сообщил, что живы и здоровы. Пока отдыхайте. Будет попутная машина - отправим. А это кто? Земляк? Приятная встреча.
Добрый подполковник разрешил нам остаться в его блиндаже. Вскоре на столе появились консервы, хлеб, фляжка с водкой.
Многие, конечно, знают, что значит встретить старого знакомого после долгой разлуки. Но далеко не все представляют себе, что означает эта встреча в тяжелой фронтовой обстановке. Шел час за часом, а мы сидели говорили, говорили, говорили...
Перед самой войной здоровье у Бухарбаева стало сдавать, и медицинская комиссия отстранила его от полетов. Началась война, он тщетно пытался попасть в авиацию. И тогда мой первый командир, имевший офицерское звание, пошел в пехоту и попал на курсы переподготовки. Окончил их, получил назначение на фронт.
Сейчас он на командирской учебе.
- Как я завидую тебе, малыш, - с грустью говорил Бухарбаев. - Так хочется подняться в воздух! Ну, не беда. Мы и на земле повоюем.
Настало время расставаться. Мы расцеловались, пожелали друг другу фронтового счастья. Подошла машина. Мы со стрелком забрались в кузов, уселись на пустые снарядные ящики и тронулись в путь. Долго стоял на дороге и смотрел нам вслед Бухарбаев.
Больше нам с ним не суждено было увидеться. В одном из жестоких боев под Старой Руссой командир батальона Бухарбаев погиб. Пуля попала ему в сердце. Об этом я узнал уже после войны, когда приехал во Фрунзе.
Прошла неделя. Обычная фронтовая неделя с ежедневными вылетами. Как-то утром после завтрака командир полка вызвал меня и дал задание - слетать на разведку.
- Боюсь не справиться, - ответил я.
- Почему?
- Никогда без ведущего не летал. Я объект, да и свой аэродром не найду.
- Ерунда. Я уверен, что все будет хорошо. Раненого стрелка один доставил, после боя один прилетел. Найдешь.
Вылетел, разведал продвижение вражеских войск и без происшествий вернулся. Едва доложил, как приземлился еще один самолет, и его летчик слово в слово повторил мой рапорт. В чем дело? Оказалось, что Митрофанов для страховки пустил по моим следам опытного разведчика.
После этого меня назначили ведущим, а вскоре и командиром звена. Стал сам водить тройку "ильюшиных" на штурмовку вражеских объектов.
В эти же дни в моей жизни произошло большое событие: на партийном собрании в одной из землянок меня приняли в кандидаты Коммунистической партии.
Сбит
Сталинградская битва закончилась. Наши войска, развивая наступление, вступили на землю истекающей кровью Украины. С утра до глубокой ночи летчики штурмовали противника, стремившегося любой ценой задержать наступление Советской Армии. Четыре, пять, шесть вылетов в день!
Как-то офицеров полка собрал генерал Рязанов.
- Слушайте боевое задание, - сказал он. - Харьковский аэродромный узел немцы считают неприступной крепостью. Должен сказать, что они весьма недалеки от истины. В этот район противник стянул массу зенитной артиллерии, насытил его истребительной авиацией. Несколько попыток бомбардировки оказались безуспешными. Командование решило бросить на узел штурмовую авиацию. Вашей части приказываю завтра с рассветом нанести сосредоточенный удар по аэродрому противника.
Разговор этот состоялся поздно вечером.
Всю ночь механики и оружейники готовили самолеты. Едва начал розоветь восток, мы поднялись в воздух. Прикрываемые полком истребителей, удачно миновали линию фронта и вышли прямо на цель.
Видимо, немцы только что проснулись, и наш визит был для них как гром среди ясного неба. Горят, словно факелы, двенадцать бомбардировщиков, рушатся ангары, уничтожены склады авиабомб.
Без потерь вернулись на аэродром. Тут нас ждала радость. От имени командования генерал объявил полку благодарность и зачитал приказ, в котором говорилось, что летчики представлены к награждению орденами Красного Знамени, а воздушные стрелки - орденами Отечественной войны.
Командир полка подполковник Митрофанов отдал приказ: "Отдыхать!"
Ясно, что сегодня вылетов уже не будет, решили мы, и стали планировать время. Не так уж часто выдавалось несколько свободных часов, и настроение у всех было приподнятым. Побрились, начистили сапоги, одним словом, подготовились к вечеру.
А в два часа дня нас срочно вызвали на КП. Генерал сказал, что немцы пришли в себя после налета, и отдал приказ еще раз навестить Харьков, но теперь уже меньшими силами.
Значит, отдых не состоится. Мы поднялись шестеркой и взяли курс на запад. Высота две тысячи метров. На небе ни облачка. Летим. Время от времени нетерпеливо посматриваем по сторонам. Где же истребители прикрытия? Уже прошли линию фронта, а их все нет и нет.
Недалеко цель. Почему же немцы не ведут зенитный огонь? И только подумал об этом, как началась в воздухе кутерьма - заговорило одновременно батарей десять, не меньше. Ну, тут уж не до размышлений, успевай только поворачиваться.
С зенитками нужно хитрить, иначе непременно окажешься в дураках. Лучше всего вовсе не связываться с ними, а уж если бить, то ту, которая стоит "поперек дороги", загораживая цель. Коль есть возможность обойти - обойди. Мы стали резко менять высоту, скорость.
Проскочили первый пояс противовоздушной обороны, затем второй.
Тут далеко слева мы увидели группу бомбардировщиков противника под прикрытием истребителей, возвращавшихся с боевого задания на тот аэродром, который мы летели штурмовать.
"Мессершмитты" резко развернулись и ринулись наперерез нашей шестерке. Две пары, три, четыре... двенадцать истребителей против шести штурмовиков! Вот когда я по-настоящему пожалел, что нет у нас прикрытия.
"Мессеры" норовят клюнуть то сверху, то в живот. В лоб не заходят! Жаль! Тут бы мы показали, почем фунт лиха.
В воздухе полнейшая неразбериха. Издали, наверное, кажется, что стая галок кружится на одном месте. Вдруг один из немцев, атаковав меня снизу, на какое-то мгновение выскочил вперед. Нажимаю гашетку пушек и тут же вижу: истребитель накренился и провалился вниз. Рядом вторая вражеская машина, задымив, камнем полетела к земле. Хорошо!
Это поубавило пыл у гитлеровцев, они отстали. И тут я почувствовал, что с моим самолетом творится что-то неладное. Попадание во время боя. Как быть? Повернуть назад? Нет, ни в коем случае. Цель близка, а "ильюшин" живуч.
Вот и аэродром. Больше сотни бомбардировщиков стоит на поле, тут же и истребители. Творится что-то невообразимое: "мессеры" и "фоккеры", не выруливая, взлетают прямо с мест стоянок, с задних точек бомбардировщиков строчат пулеметы, "лают" десятки зениток.
Наша шестерка атаковала самолеты, стоящие на старте. Два "фоккера" один за другим опрокинулись и мигом превратились в груду обломков. Вторая пара столкнулась на взлете и, пылая, врезалась в строй бомбардировщиков. Вспыхнуло несколько "хейнкелей". Удачно сброшенные бомбы подорвали боеприпасы. Вражеский аэродром охватило море огня.
Вдруг чувствую, что самолет мой теряет мощность, повышается температура воды и масла. Мотор дает перебои.
Отваливаем от аэродрома и ложимся на обратный курс. Мой самолет заметно отстает, но все же тянет. Отказывает мотор, держаться в строю становится невозможным. Выхожу из строя, отлетаю в сторону от группы, продолжаю полет. Осмотрелся, самолетов противника вокруг не видно.
- Живем? - обращаюсь к своему стрелку Яковенко.
- Живем! - отвечает он.
До линии фронта остается километров сорок. И тут как на грех появились два истребителя противника типа "фокке-вульф". Эх, думаю, была бы машина исправна, можно было потягаться с ними, а сейчас остается одно: спасаться от прямого попадания маневром в момент атаки.
Вражеские истребители загнали меня в клещи. Их ведущий дает понять, что сопротивляться бесполезно, что следует идти его курсом. Хотят увести на свой аэродром. Ну, уж этому не бывать!
Истребители, поняв, что живым меня не возьмешь, спокойно разворачиваются и методично, как бы с издевкой, начинают расстреливать мой штурмовик. В момент атаки бросаю "ИЛ" вниз, вверх, в стороны, снаряд все же попадает в фюзеляж. Еще одно попадание - задымил мотор.
Пулеметная очередь еще раз прошивает мотор и кабину. Сорван фонарь, пламя обжигает лицо. Чувствую резкие удары в ключицу и ногу. Бросаю взгляд на приборы: высота триста метров.
- Прыгай! - кричу стрелку.
- Талгат, а как...
- Прыгай, черт тебя дери! Приказываю!
Яковенко выбрасывается с парашютом. С силой бью ногой по рычагу управления и тут же выпрыгиваю из горящей машины.
... Жидкий перелесок. Тишина. Хочется лечь, закрыть глаза и собраться с мыслями. Подбегает Яковенко.
- Бежим, - почему-то шепчет он. - Скорее, Талгат, скорее.
Сбрасываю парашют, пытаюсь бежать, но, сделав несколько шагов, со стоном опускаюсь на землю. Стрелок наклоняется, мгновение смотрит на меня, потом сбрасывает гимнастерку, разрывает на себе нижнюю рубаху и перевязывает мне ногу и плечо.
В эскадрилье никто не пытался даже соперничать с Яковенко в силе. Вот и сейчас он легко, как перышко, подхватил меня и понес в гущу леса.
Осмотрелись. Вблизи - никого. Тихо. На ветвях начинает пробиваться молодая листва. Весна! Никогда не боялся я смерти, а тут вдруг так захотелось жить! Плохо умирать весной. Весной жизнь вдвое дороже.
Отлежались в сухой листве до ночи. Едва зажглись звезды, тронулись в путь. Да, это не Казахстан, где можно идти сутки и не встретить живой души. Едва обошли стороной одно село, как увидели другое. И лес кончился. Как быть?
До утра решили все же двигаться на восток. Перед рассветом увидали небольшой хутор. Белые хатки, сады в цвету. Ни звука. Надо же было нам подойти вплотную к одной из хат!
- Хальт! - послышалось из-за невысокого плетня.
Мы затихли.
- Хальт! - раздалось совсем рядом, и в нескольких шагах выросли фигуры двух солдат.
Два выстрела раздались почти одновременно. Оба немца рухнули на землю. Ни до, ни после этого я даже со здоровыми ногами никогда не бегал с такой скоростью. Яковенко едва успевал за мной. А сзади гремели выстрелы, слышались крики и лай собак.
Уже почти совсем рассвело, когда мы добрались до болота.
- Быстрее! - крикнул я стрелку. - В воду!
Раздвигая камыш, по пояс в воде, двинулись в глубь болота.
А стрельба все продолжалась. Видно, немцы добежали до болота, потеряли след и теперь палили наугад. Хочется уйти подальше от берега, но страшно: вдруг затянет. Стоим в воде час, другой... Боимся шевельнуться. Нога и плечо ноют все сильнее.
Горло пересохло, смертельно хочется пить. Кругом вода, но не могу заставить себя взять ее в рот. Видно, как в ней плавают головастики, со дна поднимаются пузырьки. Гнилая вода. Пересилив брезгливость, пью. Становится легче.
Едва дождались наступления темноты. И тут обрушилась на нас новая беда - Яковенко ничего не видит. Началась у него куриная слепота. Кое-как за руку вывел его из болота. Разделись, выжали гимнастерки, брюки. Тронулись дальше. Я впереди, а сзади, держась за мою руку, стрелок.
Добрели до глубокого оврага. Сели в кустах. Есть хочется до смерти, кажется, быка бы сейчас съели. Отдохнули с полчаса - и снова в путь. Идем по дну оврага. Смотрю, что-то чернеется впереди.
- Подожди, - говорю товарищу, - я сейчас разведаю. Там что-то есть, а что именно - не разберу никак.
Яковенко стоит, а я осторожно иду, раздвигая кусты. Ба, да это землянка! Неожиданно открывается дверь, и в ее освещенном квадрате появляется немец. Он в сапогах и в нижнем белье. Стою как вкопанный, боюсь дышать, а рука сама тянется к пистолету.
- Талгат, где ты? - раздается вдруг голос Яковенко. Он подобен орудийному залпу.
Немец пригибается, бросается в сторону. Из землянки на шум выскакивает еще одна фигура. Стреляю по ней и кидаюсь к товарищу. Вдвоем бросаемся к кустам. Ветки больно хлещут по лицу, царапают руки, рвут гимнастерку. Отбежали метров пятьсот. Погони нет.
- Брось меня, - говорит стрелок. - Зачем двоим пропадать? Иди сам, я как-нибудь.
- С ума спятил? - зло отвечаю ему. - А ну, вставай, пошли!
- Не пойду, пусти! - вырывает он руку.
- Приказываю молчать! И опять идем вдвоем.
К утру мы оказались в небольшом лесу. Яковенко прозрел. Собрали сухие листья, траву, легли. А фронт совсем близко. Он слышен. Может быть, это кажется? Нет.
Дождались ночи. Снял я ремень, один конец держу сам, другой - Яковенко. Так удобнее. Стали выходить из леса, вижу - небольшой домик.
- Тикать надо, - шепчет стрелок. - А ну, как там немцы?!
- Черт с ними. Что их там - рота? Если есть человека три-четыре перестреляю. Дай сюда твой пистолет.
Яковенко остался в кустах, а я пополз к дому. Добрался до окна. Ни звука. Тихонько постучал. Тихо. Стучу сильнее. Никто не отвечает. И вдруг слышу шорох в небольшом сарайчике. Осторожно подхожу. Кто-то возится, кряхтит.
- Кто тут есть?
- А ты кто? - слышится старушечий голос.
- Свой, бабуся. Открой.
Дверь сарайчика приоткрылась, в узкую щель высунулась голова в платке.
- Что за люди?
- Бабушка, летчики мы. Двое нас. Немцы есть?
- Нет. Днем были, ушли.
- Бабушка, хоть корочку хлеба не найдете? Голодные.
- Нет хлеба, родненький, нет. Картошки найду. Где твой второй-то?
Через несколько минут мы с Яковенко сидели на сене и жадно ели. Готов поклясться, что никогда в жизни не приходилось мне есть более вкусного блюда, чем вареная картошка. Старушка молча сидела рядом и беззвучно плакала.
Мы расцеловали ее и тронулись дальше.
- Правей держитесь, правей, - напутствовала она нас. - Там лес. А то остались бы? Я в подполе схороню. Наши придут - живые будете.
- Спасибо, мамо, - мы еще раз поцеловали старую женщину. - Спасибо, родная.
Фронт был рядом. Он уже не только слышен, но и виден. Взлетают ракеты, гремит артиллерийская перестрелка.
Идти стало опасно. Ползем. Яковенко держится за ремень, привязанный к моей ноге. Лес все реже и реже. Видно, не один артиллерийский обстрел выдержал он, а может быть, это и следы работы авиации.
Метр за метром ползем вперед. Темно так, как может быть темно безлунной весенней ночью. Внезапно чувствую, что земля подо мной исчезает. Кубарем лечу куда-то вниз, за мной Яковенко. Лежим на дне воронки в воде. Руки и лицо в грязи.
Падая, мы подняли шум. В воздух взлетели осветительные ракеты, раздался сухой треск автоматов. Что делать? Лежать и ждать нельзя - обнаружат и перебьют, как цыплят. Выбираемся из воронки. В этот момент вспыхивает ракета, освещая все вокруг мертвым белым светом. Кидаюсь в сторону. Грохот близкого взрыва опрокидывает на землю.
Не знаю, сколько прошло времени. Открываю глаза, шевелю руками и ногами. Целы! Но где мой стрелок? В нескольких шагах вижу его тело, подползаю. Хочу повернуть голову и чувствую, как руки утопают в чем-то липком и горячем. Прощай, друг!
Совсем немного не дошел ты до своих. Прощай, мой верный товарищ.
Близится рассвет. Нужно спешить. Ползу. Десять, двадцать, тридцать метров... Впереди блестит лента воды. Это Северный Донец. Там, за ним наши.
Как бревно, качусь с обрывистого берега и падаю в воду. Она холодная, обжигает тело. Немцы открывают бешеную стрельбу, пули свистят над головой, вспарывают воду буквально в нескольких сантиметрах.
Что-то резко бьет по левой руке. Попали, гады! Намокшая одежда тянет ко дну, плетью висит рука. Нет, не дотяну... А свои рядом, до них считанные метры. Ноги - будто свинцовые, немеет правая рука, уже хлебнул воды. В глазах желтые круги. Все, конец.
Невероятным усилием заставляю себя рвануться вперед. И тут силы окончательно иссякают.
Иду ко дну. Но что это? Ноги стоят на чем-то твердом. Делаю шаг, другой и, теряя сознание, падаю вниз лицом на камни.
Очнулся оттого, что кто-то больно потянул за раненую руку. Открыл глаза. Землянка, надо мной склонились несколько человек. Санитар делает перевязку.
- Пить, - шепчу я и снова теряю сознание.
Утром меня отвезли в санбат стрелкового полка, а потом погрузили в санитарный вагон и отправили в тыл.
Медленно идет эшелон, как-то лениво постукивают колеса. Лежу на верхней полке лицом к стене. И вдруг слышу шум авиационных моторов. Поворачиваюсь. Эшелон подходит к станции Новый Оскол. Так ведь здесь же наш полк, наш аэродром! Поезд остановился. Смотрю - и глазам своим не верю: идут на посадку два штурмовика. До боли напрягаю зрение, различаю номера на стабилизаторах. Это же Махотин и Пошевальников! Родные мои, друзья!..
Не помню, как я вскочил, пробежал по вагону, как выпрыгнул и оказался на земле. Сзади слышались чьи-то голоса. Наверное, кричали медики. Я шел и шел вперед..Возле разрушенного склада отыскал палку и, опираясь на нее, доковылял до аэродрома.
Нужно ли говорить о том, какой была встреча. Ведь уже пятнадцать дней наш экипаж считали погибшим. Вечером, когда закончились боевые вылеты, я рассказал друзьям обо всем, что случилось, что пришлось пережить. Мы поклялись отомстить за смерть Яковенко.
Через три недели раны зажили. Я получил новый самолет и вновь поднялся в воздух, ведя за собой штурмовики. "Черная смерть" настигала врага повсюду.
Один за всех и все за одного
Сражение в районе Белгорода было в самом разгаре. Наземные силы Советской Армии наносили жестокие удары по упорно сопротивлявшимся немецко-фашистским дивизиям. Авиация всеми силами помогала наступающим войскам.
Гитлеровцы, стремясь любой ценой задержать наступательный порыв наших войск, ввели в действие огромное количество танков. Тут уже слово было за нами - штурмовиками.
В один из дней группа в двенадцать самолетов получила приказ вылететь на штурмовку немецких танков, которые вели бой с нашей моторизованной пехотой. По предварительным данным, в этом районе противник сосредоточил до тридцати танков.
Ведущим у нас был Пошевальников, его заместителем - Александр Грединский.
Без всяких происшествий миновали линию фронта, вышли к цели. И тут убедились в том, что данные наземной разведки были, мягко говоря, не совсем точными. По крайней мере, пятьдесят машин с крестами на башнях вели бой с нашими войсками. Им противостояли несколько орудий и не более дюжины танков "Т-34". Что и говорить, силы неравные. Наши артиллеристы и танкисты из последних сил сдерживали напор врага. Помощь с воздуха оказалась весьма кстати.
Должен заметить, что штурмовка танков - дело очень хитрое, связанное с большим риском. Ни в коем случае нельзя опускаться ниже четырехсот метров, ибо танковое орудие обладает завидной точностью попадания, и не раз опрометчивые летчики платились жизнью за просчет.
Мы пошли в атаку, сбросили бомбы и вновь атаковали танки. Тут-то наш ведущий и допустил непоправимую ошибку: он забыл в горячке боя о высоте. Один из танков задрал вверх хобот орудия и открыл бешеную стрельбу по самолету нашего ведущего Пошевальникова.
Мы увидели, как машина ведущего неуклюже отвалила в сторону. Мотор ее не работал. Невдалеке было обширное пшеничное поле. Туда и решил планировать Пошевальников.
- Беру командование на себя, - услышали мы в шлемофонах твердый голос Грединского.
Самолет Пошевальникова тем временем дотянул до поля и, не выпуская шасси, пошел на посадку. Машина коснулась земли, подпрыгнула, подняв клубы пыли, и застыла.
Сверху нам было видно, что летчик не откидывает фонарь. "Неужели ранен?" - пронеслась тревожная мысль. И тут все мы увидели, как несколько немецких танков направились к безжизненно стоящему среди поля "ильюшину". Как быть? Как помочь товарищу? Эти мысли владели каждым. Резкий голос Грединского заставил всех нас вздрогнуть:
- Передаю команду группой Потехину. С круга прикройте. Иду на посадку.
Нет, это было немыслимо - садиться на каком-то поле в расположении вражеских войск. Он что, с ума сошел? Ведь достаточно небольшой канавы - и повреждение шасси неизбежно. Это значит, что будет потерян второй самолет. Черт с ним, с самолетом, но ведь летчик и стрелок окажутся в смертельной опасности - одни среди врагов.
Тем временем Грединский вышел из строя и пошел, снижаясь, к полю. Мы встали в круг и пушечным огнем преградили путь танкам, которые упорно пробирались к самолету нашего ведущего.
Грединский зашел на посадку и приземлился в нескольких метрах от Пошевальникова. Что происходило на земле - мы не видели. Не до того было. Все внимание сосредоточили на немецких танках.
Через несколько минут Грединский взлетел. Он занял место в строю, и мы пошли домой.
Едва самолеты приземлились, мы выключили моторы и кинулись к машине Грединского. Первый, кого мы увидели, был Пошевальников. Он вылез из задней кабины и тяжело опустился на землю. Подошла санитарная машина. Из кабины мы извлекли труп стрелка.
Что же произошло на пшеничном поле?
Пошевальников, видя, что до линии фронта не дотянуть, решил приземляться. Кое-как посадил он израненную машину. И тут убедился в том, что его стрелок убит. Он попытался было вылезти из самолета, но тотчас по нему открыли огонь.
Наш командир попал в тяжелую обстановку. Выпрыгнуть из самолета? Наверняка убьют. Сидеть и ждать? Чего ждать? Могут подползти и еще, чего доброго, взять в плен. При этой мысли мурашки пробежали по телу. Рука сжала пистолет. Все пули врагу, кроме последней. Ее он решил приберечь для себя.
И тут случилось то, чего Пошевальников не ожидал. На посадку, на спасение пошел Грединский.
Ошарашенные немцы не успели ничего сообразить, как отважный летчик и его стрелок выпрыгнули из кабины и кинулись к самолету командира. Втроем они вытащили из задней кабины мертвого стрелка, быстро забрались в самолет. "ИЛ" взревел и, оставляя хвост пыли, ушел, в воздух.
Так был вырван из рук смерти боевой товарищ.
Это событие горячо обсуждалось в полку. Молодые летчики спрашивали, имел ли право Грединский рисковать, не будучи уверенным в благополучном исходе задуманного им дела? Ведь шансов на то, что он успешно приземлится и, забрав Пошевальникова со стрелком, взлетит, почти не было.
Каждый из нас спрашивал самого себя: а как ты поступил бы на его месте? Ответ был один: точно так же. Разве можно иначе, когда друг в беде?
Один за всех и все за одного. Этого железного правила мы придерживались всегда, в любой обстановке.
Пять "лапотников" над Шляхово
Шли напряженные жестокие бои на Орловско-Курской дуге. Немцы ввели в дело огромное количество танков. В эти дни на штурмовую авиацию легла двойная задача: мы непрерывно совершали налеты на танковые колонны врага, а кроме того, вели разведку и непосредственно с воздуха докладывали командованию о передвижении гитлеровцев, не давали им возможности скрытно сосредоточиться для контратаки.
Однажды утром я получил задание вылететь на разведку в район Белгорода. В прикрытие мне был дан истребитель, который вел Герой Советского Союза Николай Шут из эскадрильи Сергея Луганского.
Интересным, очень своеобразным человеком был Николай. И на земле и в воздухе он ни единой секунды не оставался спокойным. Но если на земле его шутки веселили ребят и делали его общим любимцем, то в воздухе "беспокойство" Шута доставляло массу неприятностей гитлеровцам.
Он первым в эскадрилье такого аса, как Сергей, был удостоен звания Героя и имел на счету сбитых самолетов, пожалуй, не меньше, чем прославленный летчик Александр Покрышкин. Была у Николая одна странность, но о ней я расскажу немного позже.
Итак, мы вылетели на разведку парой. Без всяких приключений миновали линию фронта, вышли к объектам. Выполнили задание на разведку, сфотографировали объекты по заданию.
И мы полетели домой.
- Окончен день забав, - угрюмо сказал по радио Шут.
- Похоже на то, - ответил я.
На свою территорию мы вышли неподалеку от поселка Шляхово. Шли над облачностью на высоте около полутора тысяч метров. В редкие окна хорошо была видна земля.
Вдруг я услышал взволнованный голос Николая.
- Талгат, смотри: "лапотники!" Ишь, гады, что творят.
И я увидел несколько бомбардировщиков "Ю-87", прозванных на фронте "лапотниками" за то, что они летали с выпущенными шасси, издали похожими на обутые в лапти ноги. Гитлеровцы в боевом порядке "круг" один за другим пикировали на наши войска возле села Шляхово. Отбомбившись, они уходили под облачностью.
- Иди домой, - резко сказал Шут, - я ими сейчас подзаймусь.
- Смотри, Николай...
- Порядок, - крикнул он...
Николай набрал высоту, выпустил шасси и нырнул в облака. Едва "Ю-87" вывалился из облаков в пике, он пристроился к нему сзади и короткой очередью сбил фашистский самолет. Тут же вновь ушел в облака. Повторил такой же маневр и вогнал в землю второй фашистский самолет, затем третий, четвертый... Пять "лапотников" сбил Шут в течение нескольких минут.
Я не успел приблизиться к своему аэродрому, а Николай уже догнал меня. На земле он скромно доложил, что, выполняя задание по прикрытию разведчиков, попутно сбил пять самолетов.
А теперь относительно странности, которая была у него.
В годы войны газеты часто писали, что немецкие летчики любили размалевывать свои самолеты разными бубновыми тузами, пиковыми дамами и т. д., брали с собой в полеты всяческую чертовщину в качестве амулетов. Мы тоже украшали фюзеляжи своих самолетов. Украшали их звездами, каждая из которых означала сбитый самолет врага. Что же касается амулетов, то дело прошлое, были они и у нас. В эскадрилье Луганского летчики поочередно брали с собой в воздух небольшую собачонку - общую любимицу, а у нас в полку один летчик-штурмовик все время летал с котенком.
Некоторые летчики ни за что не брились перед боевым вылетом, некоторые обязательно садились на землю, прежде чем сесть в кабину самолета.
А вот Николай Шут перед вылетом непременно ломал тарелку. Да, да, самую обыкновенную тарелку. Не сломает - не полетит. Официантки в столовой вначале сердились, а потом привыкли. Да и каждый из нас старался припасти для друга одну-две тарелочки.
Ломал он их очень ловко. Возьмет в руки, трах - и пополам, потом еще и еще. Смотришь, одни осколки. Пытались было интенданты воздействовать на Николая рублем. За каждую тарелку взыскивали в двенадцатикратном размере. Если учесть, что боевых вылетов бывало до пяти-шести в день, то станет ясным: от оклада у Николая ничего не оставалось.
Уже в Германии незадолго до окончания войны Шут обнаружил неподалеку от аэродрома склад посуды. Он отыскал лошадь с телегой, нагрузил полный воз тарелок и торжественно подъехал к столовой. Получайте, мол, авансом. Смеялись мы, конечно, от души.
А вот случай, когда "амулет" спас жизнь летчика и стрелка.
В нашем соединении был летчик-штурмовик Николай Опрышко. На земле он не расставался с гитарой и обязательно брал ее с собой в полеты. Однажды самолет Опрышко получил повреждение и совершил вынужденную посадку на территории врага. Летчик и стрелок начали пробираться к своим. К ночи они подошли к берегу реки, за которой находились наши войска. Гитару Николай нес с собой.
Едва экипаж хотел спуститься к берегу, как стрелок в темноте разглядел немецкий патруль. Два солдата с автоматами двигались прямо на них. Что делать? Стрелять? Нельзя. Кругом враги, и выстрелы взбудоражат их. И лежать нельзя - сейчас наскочат и убьют.
Когда немцы подошли совсем близко, были уже в нескольких шагах, Опрышко вдруг всеми пятью пальцами ударил по струнам. В абсолютной тишине этот аккорд был подобен артиллерийскому залпу. Немцы кинулись в разные стороны. А летчик и стрелок кубарем скатились к реке и поплыли. Когда враги опомнились, пришли в себя, было уже поздно - попробуй попади из автоматов по двум плывущим в темноте.
Гитару все же пришлось бросить. Об этом страшно горевал Опрышко. Но вскоре обзавелся новой и не расставался с ней.
Или еще одно увлечение - усы. Были вначале и бороды, но их органически не переваривал наш начальник штаба полка Евгений Иванов, приказывал сбривать. С усами же он ничего поделать не мог. И мне припоминается забавный случай, связанный с усами.
Один наш работник штаба, имея преклонный возраст, носил солидные усы. Гордился он ими чрезмерно. И действительно, усы у него были на зависть всему полку - густые, черные, всегда немного закрученные вверх.
Однажды он в чем-то проштрафился перед начальником штаба. То ли карты он не подготовил, то ли донесение переврал - не знаю. Я случайно оказался в штабе, когда там уже бушевал ураган.
- За такие вещи в военное время знаешь что положено? - шумел Иванов.
- Так точно, - отвечал перепуганный владелец усов.
- Расстрелять тебя мало!
- Так точно.
- Что зарядил свои "так точно", как попугай?
- Прошу извинения... виноват.
- Я тебе покажу кузькину мать!..
Он выскочил в другую комнату и через секунду вернулся с ножницами. Чик! От усов осталась ровно одна половина.
- Кругом марш! - скомандовал Иванов.
Горю штабиста не было предела. Экая красота пропала!
- Ничего, - утешали мы его, - до конца войны отрастут.
Он лишь досадливо махал рукой.
18 - против 30
Наступление наших войск в районе Белгорода вынудило противника поспешно отойти на заранее подготовленный рубеж, проходивший по южному берегу Днепра. Части Советской Армии после небольшой оперативной паузы предприняли стремительный бросок с форсированием Днепра в районе Успенское - Мишурин Рог.
Все свои огневые средства обрушили немцы на наступающие войска. Одновременно на небольшом плацдарме за рекой вражеские танки и пехота непрерывно контратаковали и не давали нам возможности развить успех. Большие группы бомбардировщиков "Ю-87" и "Ха-111" наносили удары по боевым порядкам, пытаясь приостановить наступление частей Первого Украинского фронта.
В этих условиях на штурмовую авиацию ложилась очень ответственная задача. Наш гвардейский ордена Александра Невского полк вел разведку, наносил штурмовые удары по врагу.
Вот лишь один из вылетов, а их приходилось делать по пять-шесть в день. Его описание сохранилось в скупых словах боевых донесений, которые непрерывно поступали по эфиру с борта моего самолета.
"11.07. В окрестностях пункта 117 группа пехоты противника около трехсот человек. Отходят на юго-запад по полю. Пехота штурмована на бреющем полете. Бегельдинов продолжает полет. 11.10. На железнодорожной станции 249 два эшелона под парами. Паровозы головой на юг. Сброшены бомбы с замедленными взрывателями. Сильный зенитный огонь. Бегельдинов продолжает полет.
11.14. На дороге из 601 и 409 двустороннее движение сорока автомашин, двенадцати бронетранспортеров, семи танков. Колонны атакованы в два захода. Бегельдинов продолжает полет.
11.15. Атакован четырьмя "Фокке-вульфами-190". Уклонился от боя. Продолжаю полет.
11.21. На восточной окраине 312 две зеленые, одна белая ракеты. Наши танкисты обозначили себя. На водном рубеже 805 сильный артиллерийский огонь. Бегельдинов продолжает полет. Курс 165".
Нелегко приходилось в те дни нашим наземным войскам. Немцы стояли насмерть. Нужно ли говорить о том, что мы, авиаторы, помогали пехотинцам и танкистам всем, на что только были способны. Восьмого сентября нашему полку была поставлена задача уничтожить живую силу и танки противника на юго-западной окраине Мишурина Рога.
До вылета оставалось двадцать минут. Нашей группе в составе двенадцати самолетов предстояло уничтожить танки, которые прямой наводкой били по саперам, наводившим понтонную переправу.
- Вас будет прикрывать группа Луганского в составе шестерки, - сказал подполковник Шишкин.
На душе спокойно: если в воздухе Сергей Луганский, значит, можно быть уверенным, что фашистские стервятники и близко не подойдут к "ильюшиным".
С Сергеем нас связывала старая фронтовая дружба. Собственно говоря, ему я был обязан жизнью. Еще в июне на наш аэродром перебазировался истребительный полк. Он только что прибыл, и с его летчиками мы, штурмовики, не успели еще познакомиться.
В эти дни шли кровавые бои под Белгородом, и мы летали бомбить объекты, где немцы сконцентрировали много техники и живой силы.
Подлетая к линии фронта, мы заметили группу "мессершмиттов", шедшую сбоку. Завязался бой. Мой стрелок был тяжело ранен, и, таким образом, самолет оказался беззащитным сзади. Это, видимо, поняли немцы: пулемет-то хвостовой молчит! Два истребителя атаковали мой уже порядком пострадавший в этом бою "ИЛ".
Слышу вдруг в шлемофоне тревожный голос:
- Горбатый (так величали штурмовиков)! Сзади "мессер"!
Поворачиваю голову и вижу быстро приближающийся самолет. Бросаю машину резко в сторону, немец стремительно проносится мимо, а на хвосте у него наш "ЯК-1" с цифрой 47 на стабилизаторе. Буквально через секунду "мессершмитт" запылал и рухнул на землю. А "ЯК-1" развернулся и снова ринулся в самую гущу боя.
Вернулись на аэродром. Кто же спас мне жизнь? Кто летел на сорок седьмом? Во время ужина решил выяснить это. Раньше не мог, ибо до вечера эскадрилья еще раз слетала "в гости" к немцам.
Захожу в столовую. Летчики ужинают. Громко спрашиваю:
- Кто сегодня летал на сорок седьмом?
Все молчат. Я повторяю вопрос. Смотрю, из-за стола выходит лейтенант. Невысокий, стройный, с открытым лицом. Красавец.
- Я летал. А в чем дело?
- Ну, друг, давай знакомиться. Ты сегодня из могилы меня вынул.
Лейтенант засмущался. Мы крепко пожали друг другу руки, и он вполголоса произнес:
- Луганский Сергей.
Истребители пригласили меня за свой столик. Разговорились. Оказалось, что Сергей - казахстанец. Ну, тут уж сам бог велел нам выпить за дружбу, за земляков.
С тех пор фронтовая дружба наша окрепла. Много раз летал я на задания под прикрытием Луганского, и не было случая, чтобы возвращался с потерями.
Вот и на этот раз мы должны лететь вместе. Это очень, очень хорошо. Можно будет совершенно спокойно работать, Сергей в обиду не даст.
А ведь бывали случаи, когда истребители прикрытия, мягко говоря, не выполняли свои функции. Еще на Степном фронте весной 1943 года вылетели на задание двенадцать штурмовиков нашего полка. В прикрытие им была выделена шестерка истребителей из подразделения, стоявшего на нашем же аэродроме.
В тот тяжелый день четыре "ильюшина" не вернулись на базу. Мы не находили себе места - что может быть страшнее смерти друзей? Вечером в столовой начались разговоры о причинах потери четырех самолетов.
Все принимавшие участие в операции в один голос заявили, что в гибели наших друзей виноваты истребители. Во время штурмовки на группу навалились "мессершмитты", а наши из прикрытия отказались от боя, ушли, оставив товарищей в беде.
Недобрыми глазами посматривали мы на истребителей. Кто знает, может быть, этот инцидент и не привел бы к неприятной стычке, но тут один из истребителей не нашел ничего лучшего, как недовольно пробурчать:
- Герои нашлись! Вас бы в нашу шкуру. Немцев в воздухе чуть не в два раза больше было.
- Встань! - выкрикнул лейтенант Коптев. - Встань, говорю, шкура, чтобы все тебя видели!
В столовой поднялся невероятный шум. Мы пытались успокоить своего товарища, но Коптев вырвался и, уставившись побелевшими глазами на истребителя, двинулся в его сторону.
- Мы сегодня четырех друзей потеряли, - с каким-то клекотом заговорил он, - а ты под их смерть базу подводишь. Трус! Вон отсюда! Слышишь, вон!
Побледневший летчик не трогался с места. Я заметил, что рука Коптева тянется к пистолету. С трудом мы обезоружили лейтенанта. И тут наступила реакция. Коптев сел, опустил голову на руки и, весь содрогаясь, заплакал.
- Уйдите, ребята, - обратился я к истребителям. - Душой прошу.
Об инциденте стало известно командованию дивизии. Началось разбирательство. Правда, никого строго не наказали. Но с тех пор к каждой группе штурмовиков прикрепили определенную группу истребителей. Мы вместе летали, вместе жили, знали мысли и чувства друг друга.
Теперь у нас была уверенность, что в любой обстановке ты почувствуешь локоть товарища.
Парами взлетаем, строимся и берем заданный курс. По пути к нам присоединяется шестерка Луганского.
Цель уже совсем недалеко. Вижу внизу реку, наши войска, переправляющиеся на плацдарм. Переправа идет по понтонным мостам и на подручных средствах - попросту говоря, кто на чем может. Впечатление такое, что пехотинцы плывут плечо к плечу, сплошной массой.
Готовимся к атаке. И в это время слышу голос генерала Рязанова. Он с КП приказывает отставить атаку наземной цели, идти навстречу немецким бомбардировщикам и не допускать их к переправе.
Мурашки пробегают по телу, когда представляю себе, что "Ю-87" могут сбросить бомбы на переправу. Нет, этого допустить нельзя!
Повторяю полученное приказание.
- Я вас понял, - слышу ответ генерала.
Где-то недалеко летят немецкие бомбардировщики - летит смерть не одной тысяче наших людей.
Проходит несколько минут, и мы видим тридцать "юнкерсов" под прикрытием шести истребителей. Нужно сказать, что прикрытие у немцев оказалось липовым. Едва мы атаковали строй бомбардировщиков, как "мессершмитты" пустились наутек. Шестерка Луганского преследовала их, а мы в это время завязали бой.
Первоначальной нашей целью было дезорганизовать противника, расстроить его боевой порядок. Расстояние между нами быстро сокращалось. Тысяча, восемьсот, семьсот, шестьсот метров... Сосредоточиваем огонь по ведущему. Видимо, прицел оказался точным - "юнкерс" задымил, начал резко снижаться. Вижу, как немец сбрасывает бомбы на свои же войска. Что ж, спасибо за помощь!
В это время к месту боя возвращается шестерка Луганского. Общими силами мы разметали вражеские самолеты, и они, освободившись от бомб над своими войсками, думали теперь только о спасении.
Мы отбомбились, на бреющем полете прочесали немецкие позиции из пушек и пулеметов, сбросили реактивные снаряды. Потом взяли курс на переправу, где наши наземные войска ждали помощи с воздуха.
По дороге домой узнали радостную весть. Оказывается, в полк звонили из штабов двух дивизий и благодарили штурмовиков за отличную работу.
Приземлились, отрулили к местам стоянки. Смотрю, к моему самолету быстро идет начальник штаба полка.
- Бегельдинов!
- Слушаю вас.
- Ты что сегодня натворил?
У меня похолодела спина. Неужели атаковал своих? В нашей части подобного не случалось. Неужели? Но почему же тогда нас благодарили? А начальник штаба смотрит на меня в упор и грозно приказывает:
- Доложите о том, что натворили. Стою и не могу произнести ни одного слова.
- Ладно, - веселые морщинки побежали к вискам начальника штаба, - не буду тебя терзать, а то, смотрю, и так уж душа в пятки ушла. Командование представило тебя к званию Героя Советского Союза. Мне приказано оформить материал. Понятно? Ну, что же ты остолбенел?
- За что, товарищ майор? Я ведь...
- За дело, дорогой мой.
На следующий день я узнал, что мой друг Сергей Луганский тоже представлен к званию Героя.
Прошло несколько месяцев, мы уже находились на территории Польши, в местечке Ранижув около города Жешева, когда произошло событие, о котором я до сих пор не могу вспоминать без душевной боли. Как это ни странно, но связано око с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды.
Буквально с первых дней пребывания в действующей армии я крепко сдружился с летчиком Степаном Демьяновичем Пошевальниковьш. Он был моим командиром эскадрильи, затем я принял звено.
Со временем меня назначили заместителем Пошевалышкова. А вскоре Степан Демьянович рекомендовал меня командованию на должность командира эскадрильи. Именно Степану Демьяновичу я обязан всеми своими успехами в ведении штурмового боя, в умении маневрировать под зенитным огнем. Он был моим терпеливым и настойчивым учителем, близким другом.
Эскадрилья Пошевальникова находилась в первой готовности, когда на аэродром прибыл генерал для вручения правительственных наград. Весь состав полка выстроился прямо на поле. Генерал зачитал Указ Президиума Верховного Совета и приколол к груди Степана Демьяновича орден Ленина и Золотую Звезду.
"Какая досада, - подумал я. - У человека праздник, а он в первой готовности и не может отлучиться от командного пункта". Подошел к другу.
- Давай я за тебя полечу, а ты иди и подготовь все к вечеру. Ведь после полетов, хочешь, не хочешь, банкет будет.
- Надо бы, конечно, - сказал Степан Демьянович, - да только есть два маленьких "но".
- Какие еще могут быть "но"?
- Прежде всего, нужно разрешение командира полка. Во-вторых, что на это твои ребята скажут?
- Мои? "Ура" скажут мои ребята. С ними уже все обговорено. Айда к Шишкину.
- Нет, придется отставить твое предложение.
Я не сдался и один направился на КП. Рассказал командиру полка все.
- Что ж, добро, - говорит Шишкин. - Не возражаю.
Часа через два моя группа поднялась в воздух. Провели разведку, "поласкали" отступающую танковую колонну и вернулись домой.
Вечером в столовой был банкет. Пришли в гости истребители. Мы от души поздравляли виновника торжества. Кажется, от рукопожатий у него заболела рука, а от дружеских похлопываний ныло плечо. Очень не хотелось расходиться, но ничего не попишешь - война.
А приблизительно через месяц тот же самый генерал вновь прибыл в полк. Теперь мне предстояло принимать поздравления.
И надо же случиться, что именно в этот день и час я был в первой готовности.
Командир полка подошел к самолету, окинул меня критическим оком, помотал головой и предложил немедленно отправиться сменить гимнастерку, а заодно не забыть надеть все правительственные награды. Я было заартачился, но Шишкин сдвинул брови и не то в шутку, не то всерьез процедил сквозь зубы:
- Разговорчики. Бегом марш!
Пришлось надевать новую гимнастерку, привинчивать к ней ордена Отечественной войны первой и второй степеней, Александра Невского, два Красного Знамени, Славы, медали и гвардейский значок.
В таком виде я и предстал перед строем полка. Генерал зачитал Указ, в котором говорилось, что "за героический подвиг, проявленный при выполнении боевого задания командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, Президиум Верховного Совета СССР своим Указом от 26 октября 1944 года" присвоил мне звание Героя Советского Союза, и прикрепил к гимнастерке орден Ленина и Золотую Звезду.
- Служу Советскому Союзу! - произнес я дрожащим от волнения голосом.
Когда строй разошелся, генерал обратился ко мне:
- Скажите, Бегельдинов, сколько вам лег?
- Двадцать два.
- Совсем мальчик, - задумчиво произнес генерал. - У меня сын был старше. Погиб на Днепре.
И генерал, как-то ссутулившись, в сопровождении офицеров штаба медленно пошел к машине.
Тут-то и подошел Пошевальников.
- Ну, друже, - улыбнулся он, - теперь моя очередь тебя выручать.
- Не нужно. Может быть, и вылета не будет, а в случае чего сам слетаю. Настроение такое, что хочется в воздух подняться и петь во весь голос.
- Понимаю, брат, все понимаю. Думаешь, у меня тогда другое настроение было?
Не знаю почему, но мне очень не хотелось уступать право на боевой вылет. Степан Демьянович добился своего. Пришлось сдаться. Едва было получено разрешение командира полка, как раздался звонок, и через несколько минут группа Пошевальникова ушла на запад.
Аэродром опустел. Мне следовало заняться подготовкой к вечеру, но какое-то тревожное чувство мешало уйти с поля. Я сел на траву и решил ждать возвращения самолетов.
Прошло полчаса. Чувство тревоги, ожидания беды все усиливалось. Еще полчаса. Я уже не находил себе места. Минуты казались часами. Наконец вдали показались самолеты. Я облегченно вздохнул. Идут на посадку. Один, второй, третий... Одиннадцать. Где же двенадцатый? Где Пошевальников? Бегу к самолету, который отруливает к месту стоянки. Стараясь перекричать шум мотора, буквально ору летчику, показываю пальцами: где, мол, ваш ведущий? Где двенадцатый? И вдруг вижу, что пилот, сидя в кабине, плачет.
Будто кто ударил меня под колени. Я упал на траву и зарыдал. Погиб друг и учитель! Погиб Степан Демьянович, который ушел в полет, подменив меня!
К самолетам сбежался весь состав полка. Плотным кольцом окружили летчиков, только что вернувшихся с задания. Я оставался лежать в стороне. Дикие мысли лезли в голову. Хотелось выхватить пистолет и застрелиться. Как жить, если погиб друг? Зачем жить? Смогу ли я сам себе простить то, что произошло?
Кто-то опустился на землю рядом со мной. На плечо легла дружеская рука.
- Талгат, не нужно. Талгат, пойми...
В этот день я дал себе клятву жестоко отомстить за Степана Демьяновича. Бить, бить, бить! Я не мог тогда слушать рассказа о том, как погиб командир эскадрильи. Лишь через несколько дней мой стрелок рассказал мне об этом.
Самолеты Пошевальникова разметали колонну бронетранспортеров и уже возвращались на аэродром, как вдруг на машине ведущего вспыхнул мотор, и она, скользя на крыло, врезалась в землю. Видно, пилот был убит, ибо даже с горящим мотором такой мастер, как Степан Демьянович, сумел бы выровнять машину и посадить ее.
Всем полком мы проводили жену Пошевальникова Машу в тыл, домой. Тяжело было расставаться с ней, ведь Маша больше года делила с нами все большие трудности и маленькие радости войны, была отличной оружейницей.
* * *
...А жизнь полка шла своим чередом. С ревом поднимались в воздух штурмовики. Один за другим меняли мы аэродромы, продвигаясь на запад. Огонь "илов" нес смерть врагу уже на его земле.
Разведка
Рассказывая о вручении награды, я несколько забежал вперед. Вернусь к событиям, развернувшимся на земле Украины.
Поздняя осень 1943 года. Позади форсирование Днепра. Войска Первого Украинского фронта собирают силы для нового стремительного броска. Такое положение штабисты обычно называют стабильным. В сводках Советского Информбюро изо дня в день одни и те же слова: "Бои местного значения, поиски разведчиков".
Уже несколько раз выпадал снег, но тут же таял. Нудные дожди превратили в кашу проселочные дороги. Неподвижные свинцовые тучи день и ночь висят над аэродромом. Туман лишь изредка поднимается метров на десять-пятнадцать над землей.
В полной готовности стоят самолеты, но летчики и стрелки изнывают без работы. В такую погоду и думать нечего о полетах.
Наш полк расположен неподалеку от разрушенного села Александрия, за ним - Знаменка, а дальше - Кировоград, превращенный немцами в мощный оборонительный узел. Именно здесь они - в который уже раз! - грозятся дать решительный бой советским войскам.
Сидим в землянке. Обшитые тесом стены, вдоль них нары, за расхлябанной дверью - маленькое помещение, в котором находится командир полка подполковник Шишкин. Здесь же наш КП. Уже рассказаны все интересные истории, надоело стучать по колченогому столу костями домино, а дождь все идет. На чем свет стоит клянем погоду, но туман от этого не рассеивается, тучи не становятся светлее.
Однажды утром возле землянки остановился залепленный грязью штабной "газик". Распахнулась дверь, и в землянку, пригнувшись, вошел генерал-майор. Мы вскочили и довольно нестройно приветствовали высокого гостя. Генерал прошел к командиру полка. Говорили они вполголоса, но нам был слышен почти весь их разговор. Генерал приехал из штаба крупного соединения и вел речь о разведке.
- В такую погоду нечего думать о полете, - возражал Шишкин.
- Нужно, товарищ подполковник, нужно.
- Поймите, товарищ генерал-майор, самолет от земли не оторвется. Ведь по оси в грязи машины стоят.
- Тем не менее разведка нужна. Есть данные, что противник накапливает силы для контрудара. Особенно тревожит положение вот здесь, - генерал наклонился над картой.
- Я все понимаю, - тихо произнес наш командир. - Приказ есть приказ. Но ведь посылаем человека почти на верную смерть.
Мы переглянулись. У каждого, конечно, пронеслась мысль о том, кому придется сегодня лететь. Кому же? И тут мы услышали приглушенный голос генерала:
- Может быть, мы пожертвуем одним человеком, но сохраним тысячи.
Воцарилось молчание. Его нарушил громкий голос подполковника.:
- Товарищ Бегельдинов!
Вхожу. Ловлю на себе изучающий и, как мне показалось, недоумевающий взгляд генерала. Действительно, было чему удивляться, взглянув на мою нескладную фигуру. Кожаные брюки, кожаная куртка, сапоги.
- Почему не в форме? - спросил генерал. - Где ваши погоны?
Я объяснил, что это необычное обмундирование очень удобно в полете. Известно, что кожа не горит, а это важно. Кому-кому, а мне после Харьковского аэродромного узла это хорошо известно.
Генерал засмеялся:
- Ладно, убедили. Но как прикажете к вам обращаться?
- Младший лейтенант Бегельдинов!
Подошли к карте. В десяти километрах за линией фронта тянется глубокий овраг. Неподалеку есть две гравийные дороги. В такую погоду, когда проселки непроезжи, эти дороги, безусловно, интенсивно используются немцами. Языки, взятые наземными войсками, ничего связного объяснить не могут. Нужна разведка с фотографированием.
- Задание ясно?
- Ясно! - а сам думаю о дожде и тумане.
С одной стороны, они сейчас союзники, ибо я застрахован от нападения истребителей и прицельного зенитного огня, но, с другой... Нет, лучше не думать об этом перед полетом.
Механики быстро подготовили самолет. Провожать меня вместе с генералом и командиром полка пришли летчики, стрелки, даже солдаты и офицеры батальона обслуживания. Сел в кабину, закрыл фонарь. Завел мотор, даю газ, но... машина не трогается с места. Что за чертовщина? Даю полный газ. Самолет нервно вздрагивает, но продолжает стоять, как привязанный. Выключаю мотор, откидываю фонарь. Ясно! Колеса засосала грязь. Вижу трех механиков, бегущих с лопатами. Да, это всем полетам полет. Наконец колеса освобождены, мотор работает. Проходит несколько минут - "ИЛ" в воздухе.
Лечу, как с завязанными глазами. До линии фронта около пятнадцати километров. Набираю высоту и вхожу в облачность, прохожу линию фронта в облаках без приключений. Ясно, немцы далеки от мысли, что в такую погоду к ним летит гость.
Еще на земле я решил, что, пройдя линию фронта, углублюсь километров на пятьдесят на оккупированную территорию, а потом развернусь и пойду в заданный квадрат. Это собьет с толку немцев.
Проходит минут десять полета. Можно снижаться. Плавно отдаю ручку от себя. До земли пятьсот метров... четыреста... триста, двести... И вдруг самолет выходит из облачности. Ясно вижу внизу дороги, дома, повозки, машины. Опускаюсь еще ниже. На высоте сорока метров иду в квадрат, указанный генералом.
Глубокий овраг. Пусто. Ну, этой мнимой пустотой и кажущейся тишиной меня не проведешь. На высоте не более двадцати метров включаю фотокамеры, пролетаю над оврагом. Разворачиваюсь, набираю высоту и атакую овраг: сбрасываю бомбы, выпускаю реактивные снаряды и снова включаю фотокамеры. Ага! Раздается несколько сильных взрывов, видны мечущиеся человеческие фигурки. Повылезали, гады! С трудом удерживаюсь от желания прочесать их из пулеметов. Нельзя. Ведь нужно еще побывать над дорогами.
Иду к ним на бреющем полете. Облачность поднялась метров на двести над землей, дождь стих. Видимость приличная. Вот и дороги. В два ряда идут по ним танки с мотопехотой. Ну, уж тут меня ничто не удержит. Атакую колонну и бью из пушек и пулеметов. Пехотинцы горохом рассыпаются в разные стороны. Вспыхивают два танка и несколько машин.
Вхожу в облака, разворачиваюсь и вновь атакую колонну уже с другой стороны. Фотокамеры все время включены. Можно лететь домой. Набираю высоту и беру курс на Александрию.
Видно, я не очень точно рассчитал и начал пробивать облачность раньше времени. Вынырнул из тумана, километра три не долетая линии фронта. Внизу поле, на нем копны. Ох, уж эти копны в прифронтовой полосе! Чего только не скрывают в них, чем только они не грозят пехоте!
Решаю на всякий случай атаковать одну из копен. Уж очень они подозрительны. Пикирую и бью из пушек. Вот так штука! Копна вдруг взрывается. Атакую следующую и вижу, как отлетают в сторону клочья сена и несколько человек очертя голову бегут от копны, а из нее предательски выглядывает ствол орудия. Танк! Значит предчувствие не обмануло.
Летаю над полем и бью по копнам из пушек, пулеметов. Видно, не выдержали нервы у немцев. Танки, разворотив сено, удирают куда попало. Фотографирую поле и теперь уже окончательно решаю идти домой.
Вот и линия фронта. Ну как тут удержаться и не послать гитлеровцам "привет"! Лечу вдоль немецких окопов и поливаю их свинцовым дождем, отвожу душу за дни вынужденного безделья. Лишь когда кончился боезапас, повернул к аэродрому.
Облачность опять опускается, прижимает к земле. Наконец вижу свой аэродром и захожу на посадку. Раскидывая в стороны жидкую грязь, "ИЛ" бежит по земле, резко снижает скорость пробега и останавливается.
Прямо по лужам, распахнув шинель, идет к самолету генерал. Его обгоняют летчики. Они буквально вытаскивают меня из кабины, обнимают.
Докладываю генералу и командиру полка о полете. Из фотокамер вытаскивают пленку и немедленно несут ее проявлять.
Генерал просит возможно подробнее рассказать о том, что видел, не упустить даже кажущейся мелочи. Говорю о взрывах в овраге.
- Ясно, склады боеприпасов, - кивает генерал. - А вот танковую колонну зря атаковали. Риск ничем не оправдан. Что, и линию фронта тоже атаковали? Подполковник, где же дисциплина? - поворачивается он к Шишкину, а у самого веселые огоньки в глазах. - Может быть, накажем Бегельдинова?
Приносят пленку. Генерал рассматривает ее, затем аккуратно сворачивает, прячет в планшет.
- Поздравляю вас, лейтенант...
- Младший лейтенант, - робко поправляю я.
- Я не оговорился. Поздравляю вас, лейтенант, с орденом Славы.
Генерал уехал. Через несколько дней пришел приказ о присвоении мне очередного звания. Погода как будто радовалась вместе со мной - ушли тучи, брызнуло солнце. Вновь начались боевые вылеты. Война шла все дальше на запад. Фронт был накануне Корсунь-Шевченковской операции.
Бывало и так
Поздняя осень 1944 года. Второй Украинский фронт. Моя отдельная разведывательная эскадрилья стоит на полевом аэродроме в районе небольшого польского городка Кросно.
Однажды вечером, когда закончились боевые полеты и мы, наконец, могли вздохнуть, раздался звонок из штаба полка.
- Бегельдинов!
- Слушаю Вас.
- Направляем в вашу эскадрилью летчика. Пока на задания его не отправляйте. Присмотритесь. Дайте тренировочные полеты строем на боевое применение, облет района боевых действий, когда будет готов к выполнению боевых заданий - доложите мне.
- Ясно, - ответил я.
Утром передо мной предстал лейтенант. Одет с иголочки, подтянут. Четко доложил, что прибыл для прохождения дальнейшей службы.
Знакомлюсь с личным делом. Ого! Новичок -то, оказывается, бывалый имеет более сорока часов налета на штурмовике. Невольно вспомнилось, как мы с Чепелюком прибыли в часть, имея всего по одиннадцать часов.
Новичок быстро освоился, перезнакомился со всеми летчиками, стрелками, механиками.
А тем временем эскадрилья несла нелегкую службу. По три-четыре раза в день поднимали мы в воздух машины - вели разведку, бомбили вражеские войска. Когда же все отправлялись на отдых, я летал -с новичком.
Прошло более месяца тренировочных полетов.
- Считаю, что готовы к боевому полету, - сказал я новому товарищу.
- Если можно, то я еще полетал бы с вами, - честно признался он.
Что ж, без уверенности в полетах человека в бой не пошлешь. Еще несколько дней прошло в тренировочных полетах.
- Ну, как чувствуете, готовы?
- Еще бы...
И вновь мы ежедневно летаем с ним.
Тем временем отношение в эскадрилье к новичку резко изменилось. Уже не раз летчики обращались ко мне с вопросами, дескать, в чем дело, почему летчик целые дни изнывает от безделья, почему его не пускают в бой? Кое-кто стал с неприязнью посматривать на него.
Новичок, конечно, понял это и в один прекрасный день наконец заявил, что он чувствует себя готовым к выполнению боевого задания.
Рано утром мы с ним вылетели парой под прикрытием четырех истребителей под командованием Михаила Сайкова на разведку.
Подлетаем к линии фронта. Немцы открывают заградительный огонь. Новичок держится строго. Проходим огонь. Но буквально через несколько минут попадаем под огонь минимум трех вражеских батарей. Тут уж не зевай. Нужно маневрировать, иначе неизбежно будешь сбит. Даю команду ведомому маневрировать от зенитного огня так, как маневрирую я.
И тут происходит невероятное - мой напарник дает полный газ, вырывается вперед и летит по прямой без всякого маневра, уходит все дальше и дальше. Он летит в сплошных разрывах зенитных снарядов.
Связь у нас с ним была налажена прекрасно. Еще на земле договорились, что в случае беды он должен резко, развернуться на девяносто градусов, выйти на свою территорию, а там настроиться на наземную радиостанцию, которая приведет его на свой аэродром.
Кричу в микрофон: "Девяносто градусов!"
Ни слова в ответ. Летит по прямой, даже не пытаясь произвести маневр. Даю полный газ, пытаюсь догнать его, но тщетно. В любую секунду может стать жертвой зенитчиков.
Что делать?
- Михаил, - обращаюсь к командиру звена прикрытия, - парой прикройте меня, а пару пошли за моим ведомым. Пусть немедленно вернут его обратно.
- Понял! - ответил Сайков. Тотчас два истребителя кинулись вдогонку за "илом".
Времени, чтобы наблюдать за исходом этой не совсем обычной операции, у меня не было. В сопровождении двух истребителей полетел выполнять задание.
Выполнив задание и подлетая к своему аэродрому, я начал думать о том, как следует поступить с летчиком, нарушившим самое святое правило.
Приземлился. Но что это? Мой ведомый на аэродром не вернулся. Сбит? Погиб?
Истребители, посланные за ним вдогонку, рассказали, что все их попытки повернуть "ИЛ" остались безуспешными. Более ста километров в глубь территории врага шли они, но горючее было уже на исходе, и истребители повернули обратно.
Все мы молча слушали рассказ летчиков.
Признаться, мысль о том, что новичок умышленно ушел за линию фронта, не приходила мне в голову.
В штаб полка мы доложили о том, что один штурмовик не вернулся с задания. Я подробно рассказал обо всем. В полку пожали плечами, дескать, и такое бывает. Долго переживать случившееся не пришлось - началось мощное наступление, и мы чуть ли не ежедневно меняли полевые аэродромы.
Лишь через несколько месяцев мы узнали, что произошло в тот злосчастный день.
Рассказал об этом стрелок, находившийся на самолете новичка.
"... Я никак не мог сообразить, что произошло, когда летчик, дав полный газ, стал уходить все дальше и дальше. Я ему кричал, но он ни на что не реагировал. Каким-то чудом проскочили зенитный огонь. Тут подлетели два наших истребителя. Они проходили буквально под самым носом "ила". И тут ничто не помогло. Мы продолжали лететь на территорию, занятую немцами. Истребители оставили нас, когда мы уже углубились километров на 150 в тыл врага. И тут будто просветление нашло на летчика. Он вдруг полетел обратно. Но, увы, попасть домой нам было не суждено. Километров восемь не долетели до линии фронта, и кончилось горючее. Он, не выпуская шасси, посадил машину на поле. Страшно было смотреть на летчика. Видно, он понял, что случилось непоправимое. Пот крупными каплями выступил на его лице, мокрые волосы выбились из-под шлема.
- Что будем делать? - глухим голосом спросил он. Ответить я не успел. Со всех сторон к самолету бежали немцы. Я открыл огонь из пулемета. Летчик выхватил пистолет. А немцы все ближе и ближе. Меня дважды ранило. Когда немцы были рядом с машиной, летчик пустил себе пулю в висок. Я попытался сделать еще несколько выстрелов, но потерял сознание...
- Ну, а дальше что было?
- А дальше - лагерь для военнопленных. И голод, побои. Несколько дней назад наши танкисты освободили лагерь и я ушел. Вот, нашел свою часть"...
Мы молча слушали рассказ товарища. И у каждого в голове был один вопрос: так кто же он, тот самый летчик? Трус? Нет, трусом его назвать нельзя. И уж, конечно, не предатель. Кто же? Честно говоря, я до сих пор не могу дать себе ответа на этот вопрос. И с тех пор я непременно рассказываю об этом эпизоде всем новичкам. Пусть знают, что и такое бывало на фронте, пусть знают, что война не прощает даже минутной слабости, даже мгновенной растерянности.
На память невольно приходит гибель еще одного нашего летчика Владимира Потехина. Было это в районе города Кривой Рог. Наш полк беспрерывно летал на бомбежку гитлеровских танковых колонн.
В тот день мы вылетели двумя группами на село Недайвода. Одну группу вел Пошевальников, другую - Потехин.
При подходе к цели попали под сильнейший зенитный огонь и были атакованы истребителями. Группа Пошевальникова, в которой летел и я, сумела быстро отбомбиться и уйти. А у Потехина оказался поврежденным самолет.
Я ясно видел, как его "ИЛ" быстро снижается, оставляя шлейф черного дыма. Стрелок непрерывно вел огонь по истребителям. Последним усилием Владимир направил горящую машину в танковую колонну. И пока он не врезался в самую гущу танков, стрелок вел огонь. Взрыв! Прощай, Володя Потехин, прощай боевой друг!
Так же погиб на территории Польши летчик нашего полка Виктор Чернышев.
Да, и воевали, и погибали люди по-разному. И если имена героев на всю жизнь врезались в мою память, если они до сих пор часто снятся мне, хотя после войны прошло больше двадцати лет, то фамилии того новичка я не помню. Фронтовая память хранит лишь то, что дорого и свято.
Корсунь-Шевченковская операция
Операция под Корсунь-Шевченковским золотыми буквами внесена в историю Великой Отечественной войны. Признаться, в то время я не представлял себе величины и значения боев, развернувшихся в районе этого небольшого украинского города. Лишь спустя несколько лет, будучи слушателем военной академии, слушая лекции и изучая материалы архивов, я понял, что участвовал в очень важной операции.
Корсунь-Шевченковская операция осуществлялась войсками Первого и Второго Украинских фронтов. Их части одновременно наносили сходящиеся удары по вражеской группировке. Первый Украинский фронт действовал юго-восточнее Белой Церкви, Второй Украинский фронт - севернее Кировограда.
Окружение немецко-фашистских войск началось в конце января 1944 года. Необычной была эта зима на Украине. От дождей почва превратилась в непролазную грязь.
Гитлеровское командование не ожидало удара наших войск в такую распутицу. Несмотря на бездорожье, войска Советской Армии в ходе ожесточенных боев сломили сопротивление противника и двадцать восьмого января завершили окружение неприятельской группировки в районе Звенигородка. В "котле" оказались девять пехотных дивизий, танковая эсэсовская дивизия "Викинг", эсэсовская моторизованная бригада и другие части и подразделения.
Сняв с соседних участков фронта воинские части, в том числе и танковые, немецко-фашистское командование предпринимало отчаянные попытки прорвать кольцо окружения. Большую надежду гитлеровское командование возлагало на транспортную авиацию. С ее помощью оно рассчитывало снабжать окруженные войска боеприпасами и продовольствием. Однако все попытки противника вызволить свои войска из "котла" оказались безуспешными. Семнадцатого февраля вражеская группировка была уничтожена.
В этих условиях на штурмовую авиацию ложилась большая нагрузка. Мы вели разведку, наносили штурмовые удары по танковым соединениям, пытавшимся прорваться на помощь окруженным войскам.
...Пасмурным утром наша эскадрилья вылетела на штурмовку танковой колонны. Оказалось, что немцы сделали за ночь стремительный бросок, и в момент, когда мы прилетели в заданный квадрат, они уже вступили в бой с нашими танкистами.
Сверху картина танкового боя была отчетливо видна. Около полутора сотен машин с белыми крестами на башнях двигались по полю, текли по оврагам и балкам. На их пути встали несколько десятков наших танков.
Мы развернули самолеты и пошли в атаку. Немцы настолько увлеклись, что заметили "черную смерть", когда она уже обрушилась на их головы. Как тараканы, поползли в разные стороны вражеские танки. Но разве можно уйти, скрыться от "Ильюшина-2"?
Атакуем еще и еще раз. Уже не меньше дюжины машин пылает. Наши танкисты довершают разгром.
Возвращаемся на свой аэродром, чтобы пополнить запас бомб и тут же вновь подняться в воздух. Но что это? Вижу внизу большой овраг, буквально до краев наполненный вражеской пехотой. Докладываю об этом на КП.
- Разрешите атаковать?
- Атакуйте.
Бреющим полетом идем над оврагом и поливаем гитлеровцев из пушек и пулеметов. Оставив сотни трупов, солдаты кидаются в поле. Мы разворачиваемся, заходим со стороны поля и, как цыплят, вновь загоняем немцев в овраг. В овраге творится что-то невообразимое. "Утюжим" пехоту до тех пор, пока у нас не иссякают боеприпасы.
Тут следует оговориться. Еще несколько месяцев назад штурмовики ни за что не осмелились бы атаковать наземные цели до последнего снаряда, до последнего патрона. Сделать это - означало остаться беззащитными в случае встречи с истребителями противника.
Но в районе Корсунь-Шевченковского наша авиация безраздельно господствовала в воздухе. Бывали не дни, а целые недели, когда фашистские самолеты не смели подняться со своих аэродромов. А если поднимались, то немедленно становились добычей наших летчиков. Воздух, как мы говорили, был чист.
Все дни, пока наземные войска все туже и туже затягивали узел вокруг Корсунь-Шевченковского, мы с воздуха разили врага. Близилась развязка. Немцы предпринимали бешеные попытки разорвать кольцо. Тщетно. Тогда с помощью транспортных самолетов они начали вывозить из "котла" высший офицерский состав и документы.
Как-то под вечер наша эскадрилья возвращалась домой после штурмовки танков. Летим над Корсунь-Шевченковским. И вдруг на аэродроме замечаю пятерку "Юнкерсов-52". Самолеты стоят около взлетной полосы, людей возле них не видно. Ясно, что они готовятся ночью вылетать в свои тылы.
- На аэродроме вижу пять "Ю-52". Разрешите атаковать? - докладываю на КП.
Тут же с КП поступила команда уничтожить самолеты.
Мне не верилось, что в самолетах нет людей. Где-то в глубине души была мысль о том, что они забрались в машины, едва "ильюшины" появились над аэродромом. Правда, закон войны и простая логика подсказывают, что в случае налета авиации нужно немедленно бежать возможно дальше от предмета атаки, но какая уж тут логика, если бьют со всех сторон, не дают дышать.
Мы вошли в пике. С первого же захода подожгли два "юнкерса". Из самолетов стали выпрыгивать немецкие офицеры: бросая портфели, чемоданы, они кидались в разные стороны. Значит, не обмануло меня предчувствие!
Делаем второй заход, поджигаем три оставшиеся самолета и "гладим" аэродром, по которому рассыпались немцы. Довершая разгром, мы всей огневой мощью эскадрильи обрушились на склады и сооружения, уцелевшие после предыдущих налетов нашей авиации.
О панике, царившей в окруженных войсках, свидетельствует такой факт. Однажды после выполнения задания наша эскадрилья возвращалась домой. По дороге от Городища к Корсунь-Шевченковскому я увидел, что на шоссе стоят два ряда грузовиков. В колонне не меньше двухсот машин. Удивило то, что автомашины с грузом стоят среди поля и не видно ни шоферов, ни охраны.
Запросил по радио разрешения атаковать колонну. С КП предложили от атаки воздержаться. Мы набрали высоту, построились в круг с тем, чтобы сразу после получения приказа обрушиться на колонну.
Через несколько минут слышу в шлемофоне взволнованный голос генерала Рязанова: "Отставить атаку! Отставить атаку!"
Что ж, приказ есть приказ. Пошли на аэродром. Лишь через несколько дней узнали, что колонна эта была брошена шоферами. За ней следили разведчики наземных частей. Атакуй я грузовики, погибла бы масса боеприпасов и обмундирования, которые в конце концов целехонькими попали в наши руки.
С операцией в районе Корсунь-Шевченковского связано у меня еще одно интересное воспоминание. Собственно, интересным оно кажется сейчас, а в те дни причинило немало забот и волнений.
Еще в дни разгрома под Москвой зимой 1941 года немцы изобрели приспособление, с помощью которого уничтожали железнодорожные пути. Не берусь точно описать его, но представляло оно собой нечто вроде двух огромных лемехов плуга. Их цепляли к паровозу. Плуг ломал шпалы пополам, а рельсы, упираясь в покатые щеки, изгибались и лопались. Паровоз за час уничтожал двенадцать-пятнадцать километров полотна.
Именно такой паровоз и орудовал между Первомайском и Малыми Висками. Зная о том, что участь окруженной группировки предрешена, что предстоит откатываться дальше на запад, гитлеровцы с помощью своего приспособления разрушали железные дороги.
Уничтожить паровоз командование приказало мне. Началась охота. Должен сказать, что противник попался на редкость хитрый, опытный и осторожный.
Еще вчера, пролетая над этими местами, я видел стальные нити рельсов. Сегодня их нет. Но нет и паровоза. Тщетны все попытки обнаружить врага.
На помощь пришла наземная разведка.
Нахожусь на КП аэродрома в первой готовности. Получаем сведения, что паровоз орудует около Малых Висок. Лечу туда, вижу следы его варварской работы, а самого паровоза и след простыл.
И так день за днем. Начинаю терять терпение. А командование не дает покоя, требует немедленного уничтожения проклятого паровоза. Ведь за день он причиняет столько вреда, что нужна неделя для восстановления, нужны материалы, затраты труда сотен солдат и офицеров инженерных войск. Мало того, пока восстанавливается путь, задерживается доставка грузов наступающим войскам.
В один из дней, когда о паровозе не было никаких сведений, я вылетел на разведку. Собрал данные о позициях немцев, сфотографировал расположение артиллерии и закопанные в землю танки. Лечу на свой аэродром.
Неожиданно вижу внизу тень паровоза. Именно тень. В лучах заходящего солнца она кажется неправдоподобно большой, уродливой. Тень движется, но дыма нет, не видно и самого паровоза. Резко снижаюсь и тут только понимаю, почему бесплодной была охота. Сверху на паровозе смонтирована площадка, на которой уложены снег, комья земли, кусты.
Я даже вскрикнул от радости. Ну, теперь ты от меня не уйдешь! Захожу сбоку, беру паровоз в прицел, атакую. Впустую. Машинист резко дает ход - и мои снаряды идут мимо цели. Атакую вновь, и вновь безрезультатно. Чувствую, что в будке паровоза сидит опытный человек, следящий за каждым моим движением.
Необычный поединок самолета с паровозом длился около пятнадцати минут. Наконец снаряд попал в котел. Облако пара поднялось метров на двадцать, паровоз остановился. Я зашел сбоку, прошил его очередями из пушек и пулеметов. Развернулся и, зайдя с другой стороны, в упор выпустил реактивные снаряды. Паровоз превратился в груду металла. Делаю круг, убеждаюсь, что сработал чисто, фотографирую и лечу домой.
После разгрома Корсунь-Шевченковской группировки наш корпус участвовал в Яссо-Кишиневской операции, а потом был переброшен на Первый Украинский фронт.
Сандомирский плацдарм
Деревушка неподалеку от Львова. С ней у меня связано тягостное воспоминание о коварстве и подлости врага.
Еще в дни, когда война полыхала на нашей земле, мы слышали, что орудует на Украине некий Бандера. Под видом борьбы за "самостийну Украину" бандеровцы грабили местное население, выдавали гестаповцам патриотов, не склонивших головы в оккупации. По существу банды эти являлись холуями немецко-фашистских захватчиков.
При подходе наших войск большая часть "борцов за свободу Украины" удирала на запад вместе со своими хозяевами, но некоторые оставались и вымещали звериную злобу на мирном населении.
Около полумесяца наш полк размещался в деревушке. Мы с адъютантом эскадрильи квартировали у двух пожилых людей. Старик и его жена относились к нам, как к своим детям, старались вкуснее накормить, сделать что-нибудь приятное.
Настало время улетать в другое место. Мы тепло простились с гостеприимными хозяевами. Случилось так, что один из самолетов эскадрильи не мог подняться в воздух - необходим был незначительный ремонт мотора. Возле него мы оставили механика с условием, что на следующий день я вместе с другим летчиком вернусь - и мы парой перелетим на новый аэродром.
На следующий день в послеобеденный час мы вернулись за самолетом и узнали о трагедии, случившейся ночью.
Едва стемнело, как в дом, где до этого жили мы с адъютантом, ворвались бандиты. Они зверски истязали, а затем ножами убили старика. Его жену мерзавцы повесили на крыльце дома, приколов на грудь старой женщине клочок бумаги с надписью о том, что такая участь ожидает каждого, кто посмеет помогать Советской Армии.
Бандеровцы подожгли еще два дома и устремились за околицу села к самолету. Но тут их ждал отпор. Механик, предупрежденный о налете банды, сел к пулемету в кабине стрелка. Едва бандиты приблизились к "ильюшину", как их встретила очередь крупнокалиберного пулемета. Пыл с них немедленно слетел, и они кинулись наутек.
До утра механик не покидал самолета, опасаясь вторичного нападения.
Мы связались с войсками МВД и рассказали о случившемся. Вскоре в деревню на нескольких машинах прибыли автоматчики. К вечеру банда перестала существовать. Мы с почестями похоронили погибших от рук предателей крестьян и дали слово жестоко отомстить за смерть ни в чем не повинных людей.
Война шла все дальше и дальше на запад. На пути наступающих советских войск встали Карпаты. Наша эскадрилья располагалась в районе городов Кросно и Яслы.
Нелегко воевать в горах, нам же приходилось вдвое тяжелее. Позиции немцев проходили в Карпатах, а наши войска располагались в предгорьях. Гитлеровцы имели возможность незаметно перебрасывать войска с участка на участок, создавать временами численный перевес.
В этих условиях воздушная разведка приобретала исключительное значение. По нескольку раз в день летал я в горы, фотографировал вражеские позиции, наблюдал за передвижением живой силы и техники.
...Узкая лощина. С обеих сторон стоят высокие горы. День довольно ясный, но вершины затянуты облаками. Эта картина хорошо знакома жителям Алма-Аты, Фрунзе и других городов, расположенных у подножья гор.
В мою задачу входило пролететь этой лощиной, развернуться и по ущелью, находящемуся неподалеку, вернуться домой.
Лечу. По мере того, как углубляюсь в горы, погода начинает портиться. Нахожусь в воздухе уже двадцать минут. Неожиданно вижу впереди четыре точки. Противник!
Что за самолеты? Как быть? Развернуться и уходить нельзя - слишком узка лощина. Нельзя и перевалить через горы - они высоки, а самолет тяжел. А воздушного боя необходимо избежать. "Ильюшин" буквально начинен противопехотными зажигательными снарядами. Это страшно. Достаточно одного попадания - и машина превратится в факел.
Точки все ближе и ближе. Теперь уже ясно вижу, что навстречу летят четыре истребителя противника "Ф-190". Они идут двумя парами - одна чуть выше, а другая на той же высоте, что и я.
Может быть, все же попытаться уйти через горы? Нет, исключено. Даже если машина вытянет, то я подставлю немцам живот - и они шутя расстреляют самолет.
Выход один - идти в лобовую атаку и как можно дороже взять за свою жизнь, идти на таран.
Эти мысли мгновенно пролетели в голове. Ведь в воздухе бой длится иной раз даже не минуты, а секунды.
Пускаю два реактивных снаряда. Оставляя за собой шлейф из огня и дыма, они идут в сторону немецких самолетов. Тут же стреляю из пушек, даю несколько пулеметных очередей. Затем вновь пускаю пару реактивных снарядов.
И фашисты пугаются. Вижу, как они освобождаются от бомб и, круто взяв в сторону и вверх, исчезают в облаках. Мне даже не верится, что четыре быстрых машины ушли от боя с одним штурмовиком, но факт остается фактом. Да, не те нынче гитлеровцы, какими были в начале войны. У них сейчас летает зеленая молодежь, предпочитающая бежать при встречах с нашими самолетами. Что ж, так и должно было случиться. Прошли времена, когда они господствовали в воздухе. Теперь на нашей улице праздник.
Лощина становится все шире. Здесь у врага есть зенитные установки, и я перехожу на бреющий полет. Лечу около самых гор километров двадцать, делаю круг и на бреющем полете вхожу в другое ущелье. Проходят минуты две-три полета - вижу колонну пехоты. Тысячи три солдат движутся в сторону фронта.
Цель для атаки идеальная. Дорога шириной не больше пятнадцати метров идет вдоль отвесных скал, а с другой стороны - пропасть.
Стреляю из пулеметов. Колонна залегла. Тогда сбрасываю снаряды с зажигающим веществом.
Вылетаю из ущелья, закладываю глубокий вираж, едва не касаясь крыльями деревьев, разворачиваюсь и вновь вхожу в ущелье уже с другой стороны. Страшная картина открывается взору: гитлеровцы пытаются лезть по отвесным скалам, срываются в пропасть. Бью по колонне из пушек и пулеметов, сбрасываю остатки зажигательных снарядов. Колонна перестает существовать.
...Сандомирская операция. Наземные войска, преследуя отступающего противника, с ходу форсировали реку Вислу и заняли небольшой плацдарм. На кусочке земли закрепились пехота и несколько десятков артиллерийских батарей. Шли изнурительные бои. Моя эскадрилья, выделенная в то время для ведения авиаразведки, от зари до темна находилась в воздухе. Мы следили за тем, чтобы противник незаметно не подбросил свежие силы, докладывали о самых незначительных передвижениях немцев.
За каждым летчиком был закреплен определенный участок, на котором все было изучено до мелочи. Казалось, исчезни куст или дерево - и это немедленно бросится в глаза. Такой порядок гарантировал точнейшие сведения разведки.
В один из полетов - было это рано утром - в своем квадрате я заметил движение танков и пехоты противника. По двум дорогам, по самым скромным подсчетам, к линии фронта двигалось около ста пятидесяти танков и до двух полков пехоты.
Немедленно докладываю на КП:
- По двум дорогам к линии фронта идут танки и пехота.
- Проверьте, - слышу голос в шлемофоне. - Проверьте еще раз.
Разворачиваюсь, захожу с противоположной стороны и тут попадаю под бешеный огонь зениток. Начинаю маневрировать, резко меняю скорость и высоту. Прорываюсь сквозь огонь и вновь ясно вижу колонны.
Повторяю донесение на командный пункт. Для ускорения удара прошу по радио до прилета на аэродром подготовить мне группу для штурмовки. На КП минутное молчание. Я повторяю просьбу. Тишина. И тут слышу голос генерала Рязанова.
- Идите на аэродром. К вашему прилету группа будет готова.
Выжимаю из "ильюшина" все, что он может дать, и вскоре приземляюсь на своем аэродроме. Полк в полной готовности. Оружейники быстро подвешивают бомбы к моей машине. Занимает свое место стрелок.
Взлетаем. Веду группу на цель. Появляемся над скоплением танков и пехоты, когда те уже следуют в боевом порядке для атаки.
Пикируем, сбрасываем бомбы, бьем из пушек и пулеметов. Вновь набираем высоту и накрываем пехоту пулеметным огнем.
Танки останавливаются, пехота залегает. Еще заход, еще и еще. Вижу, как горит уже по крайней мере до десяти танков. На земле паника. Бежит пехота, танки ползут в разные стороны и давят своих же солдат.
Боеприпасы у нас на исходе. Нужно идти домой. И тут вижу новую группу штурмовиков. Это идет нам смена.
Летим домой. Оружейники уже наготове. Летчики и стрелки помогают им. Механики тоже снаряжают самолеты. Дело идет хорошо, но мне кажется, что все непростительно медлят! Хочется кричать, подгонять. Ведь там, в нескольких десятках километров, идет бой, там нужна наша помощь.
Наконец взлетаем, идем к цели. Бьем, бьем, бьем... От колонны остается одно воспоминание. Видны дымящиеся танки. До сих пор я бережно храню кадры фотоснимков, сделанные во время того памятного боя. В ходе атак я включал камеру, и теперь на всю жизнь есть у меня память о Сандомирском плацдарме.
Закончив разгром колонны, мы всей группой на бреющем полете прошли над расположением наших войск, находящихся на западном берегу Вислы. Из кабины самолета я видел, как наши пехотинцы кидали в воздух пилотки, махали руками. Это ли не высшая награда летчикам за помощь!
Вскоре войска Первого Украинского фронта перешли в решительное наступление. Мы поддерживали его с воздуха. Вели разведку, штурмовали пехоту и танки гитлеровцев, которые стремились любой ценой приостановить порыв наступления.
В дни стремительного марша на запад, когда река Висла была уже далеко позади, я узнал, что за Сандомирскую операцию представлен ко второй Золотой Звезде Героя Советского Союза.
Друзья горячо поздравляли меня, а я в это время думал о том, что нужно, непременно нужно найти в себе новые силы, чтобы оправдать высокую награду Родины.
Войска фронта перешли границу Германии. Мы летали уже над той самой землей, с которой пришел враг на священную землю наших отцов. Гитлеровская армия агонизировала.
Лицо врага
Случай, о котором я хочу рассказать, произошел незадолго до окончания войны.
Наш полк стоял на аэродроме в районе города Бауцен. Сюда мы перебазировались после Сандомирской операции, в результате которой гитлеровцы все стремительнее и стремительнее катились на запад.
Однажды, возвращаясь с боевого задания, по радио получил приказ приземлиться на аэродроме в районе города Ельс. Этот небольшой городок был недавно освобожден нашей мотопехотой и являлся очень удобной базой для штурмовиков - он находился сравнительно недалеко от линии фронта.
Мы изменили курс и вскоре сели на новом аэродроме. Осмотрелись. Картина давно знакомая. На летном поле валяются обломки немецких самолетов, кое-где торчат тонкие стволы зенитных орудий. Тишина и покой. Лишь откуда-то издалека доносится артиллерийская канонада. Это наши наземные войска продолжают наступление на противника. Ничего, завтра с утра мы поможем.
А сейчас нужно отыскать помещение поприличнее, чтобы разместить летный состав.
На аэродроме уже наводят порядок пехотинцы. Они деловито сваливают в кучи обломки, складывают в штабеля ящики с патронами и снарядами. Командует ими пожилой капитан интендантской службы. Он, к сожалению, не может подсказать, где нам разместиться, ибо сам лишь несколько часов назад прибыл в город.
Так нередко бывало в дни наступления - передовые части ушли, а тылы чуть отстали.
Как быть?
- Возьмите двух солдат и посмотрите ближайшие дома, - предложил капитан. - По-моему, они пустые. Выбирайте на свой вкус. Там и постели пуховые найдутся.
Прекрасно, подумал я, и вскоре шагал с аэродрома в сопровождении двух бравых солдат. Оба они были вооружены карабинами с примкнутыми штыками. Если к этому добавить мой пистолет, то наша тройка являла собой грозную силу в пустом городке.
Мы заглянули в несколько домов, но они не понравились. Хотелось, чтобы летчики устроились на ночь возможно удобнее и в то же время неподалеку друг от друга. А эти домики, правда утопающие в садах, не отвечали последнему требованию.
Миновали одну улочку, свернули на другую и неожиданно уперлись в солидное четырехэтажное здание. Вот это то, что нам нужно, решил я, и мы вошли в подъезд. По всей вероятности, в доме раньше жили крупные чиновники. Об этом свидетельствовали медные дощечки с фамилиями на дверях квартир.
Осмотрели одну квартиру - хороша. Другую, третью - то же самое. Но дверь четвертой оказалась закрытой.
Это еще что за чертовщина! На территории врага мы не привыкли к закрытым дверям.
Вдруг мне послышался звон стекла. Мы замерли. Да, в запертой квартире кто-то орудовал не то стаканами, не то тарелками. Постучали в дверь. Нет ответа. Еще раз постучали. Молчок.
- Ломайте! - дал я команду солдатам. Они без особого труда прикладами выбили дверь.
Мы вошли в квартиру и в первое мгновение остолбенели. В большой комнате за столом, заставленным бутылками, сидел эсэсовский офицер. Перед ним на залитой вином скатерти лежал пистолет.
В мгновение я оказался возле стола и схватил пистолет. Офицер не шелохнулся.
- Встать! - крикнул я.
Офицер медленно поднял голову и в упор посмотрел на меня. Мурашки невольно пробежали по телу. На меня смотрели абсолютно белые бешеные глаза, глаза маньяка и убийцы.
- Встать! - резко повторил я приказ. Офицер продолжал смотреть на меня, поднял вдруг руку и брезгливо махнул ею. Его жест, казалось, говорил: "Убирайтесь вон".
Один из солдат поднял карабин и поднес штык к самому лицу гитлеровца. И тут случилось такое, что я никогда ни до, ни после не видел, даже в кино. Офицер схватил стальной штык зубами и начал грызть его.
Сталь скрежетала на его зубах, из глотки неслось звериное рычание.
Солдат отдернул штык, прикладом смахнул со стола бутылки.
- Взять его, - бросил я солдатам.
Они выволокли эсэсовца из-за стола, повели к лестнице. В это время в квартиру вошел комендантский патруль во главе со старшим сержантом.
Мы передали им свой "трофей".
Всю обратную дорогу до аэродрома шли молча. Вот оно, лицо врага, думалось мне. Ведь впервые я вижу его так близко. Там, в воздухе, видна лишь машина, которую ведет фашист, видны лишь разрывы снарядов, посылаемых ими. Насколько же нужно утратить человеческий облик, ненавидеть все живое, чтобы стать таким.
- Пристрелить бы его, пса, - проговорил один из солдат.
Мы промолчали. Возмездие никуда не уйдет.
Во фронтовых газетах того времени немало писалось о зверствах врага. Я и сам немало видел этих зверств. Но не мог себе представить облика людей, способных творить такое. Теперь представил наглядно.
В одной из деревушек на территории Польши я видел труп солдата, попавшего в плен к немцам. На спине живого человека звери вырезали ремни, на груди - пятиконечные звезды. Делалось это не наспех, а с немецкой педантичностью - аккуратные разрезы шли по телу. И в этой аккуратности было самое зловещее, самое страшное.
Да, такие люди не остановятся ни перед чем. Где-то в глубине души заныло: зачем отпустил гада, почему не пристрелил своими руками. Ну, ничего, скоро рассчитаемся за все. Рассчитаемся в бою.
Наземный бой
Танковые части Первого Украинского фронта вспороли оборону противника и стремительно продвигались вперед, оставив далеко позади наступающую пехоту. Танки шли и шли вперед, врывались в города и населенные пункты, уничтожали технику и живую силу противника.
По пять-шесть раз в день летали мы на разведку, помогая танкистам ориентироваться в незнакомой обстановке. С воздуха мне была видна картина огромной операции, которая в конце концов привела к капитуляции гитлеровской Германии. Шли первые дни апреля 1945 года.
Наш аэродром находился далеко от мест, где развернулись бои, и это снижало эффективность разведки, ибо запас горючего не позволял долго находиться в воздухе. Долетишь до места, немного поработаешь, глядь - уже нужно возвращаться.
Необходимо было подтянуть аэродром возможно ближе к месту работы. Поделился своими мыслями с командиром полка майором Степановым, тот одобрил и доложил генералу Рязанову.
На следующий день получил приказ подыскать место для аэродрома.
Еще несколько дней назад, наводя танковое соединение на цель, я обратил внимание, что среди густого соснового леса расположен немецкий полевой аэродром. Самолеты, как видно, покинули его, и лишь на краю поля стоял разбитый "фокке-вульф". Решаю слетать туда и еще раз посмотреть.
Вот он. И "фоккер" на месте. Снижаюсь, внимательно осматриваю местность. Людей не видно. Может быть, замаскировались? Нет. Пусто. Делаю несколько снимков, затем пикирую, даю очередь. Тишина. Ясно, что аэродром покинут немцами.
Возвращаюсь и докладываю об этом.
- Весь полк с места снимать не будем, - говорит генерал, - а эскадрилью капитана Бегельдинова перебазируем на этот аэродром.
- Пехота противника отступает, - нерешительно произношу я, - как бы нам не попасть в ловушку.
- Не отступает, а бежит. На всякий случай дадим роту автоматчиков. На сборы даю два часа.
В тот же день эскадрилья перелетела на заброшенный немцами аэродром. Мы оказались в довольно странном положении. На запад стремительно продвигались наши танки, а с востока катилась волна немецкой пехоты.
Осмотрелись. Кругом вековой лес, в котором при желании можно укрыть добрый корпус. Великолепно оборудованный КП, рядом бетонированные блиндажи. Видно, намеревались немцы прожить здесь долго, а удирали поспешно, даже разрушить ничего не успели.
Нас вместе с автоматчиками около пятидесяти человек. Близится вечер. На душе неспокойно - ни на минуту не покидает мысль о немецкой пехоте. А ну, как наскочит на нас ночью?
Самолеты расставили на аэродроме так, чтобы огонь их сдвоенных крупнокалиберных пулеметов создавал круговую оборону. Летчики и стрелки остались в блиндаже - им нужен отдых перед предстоящими полетами. В задних кабинах возле пулеметов дежурят механики.
Стемнело. Я вместе с адъютантом эскадрильи расположился в небольшой комнатке. Рядом, за стеной - остальные.
Вместе с нами прилетела оружейница Надя - любимица всей эскадрильи, девушка боевая, серьезная. Сразу же после прибытия в часть она очень тактично, но решительно пресекла все попытки ухаживания и стала нашим боевым другом. Признаться, не хотелось брать ее на такое рискованное дело, но Надя обладала завидной настойчивостью. Одним словом, она прилетела с эскадрильей.
С наступлением ночи девушка села за стол посередине блиндажа, собрала ворох гимнастерок и принялась менять подворотнички.
- Спать нужно, - сказал я ей.
- Я подежурю, а заодно поухаживаю за ребятами, - улыбнулась в ответ Надя. - Им завтра летать, а я днем высплюсь.
Тишина. Все спят. Слышу, как тикают часы на руке адъютанта. Потом вдруг скрипнула дверь, послышался какой-то шорох. Неожиданно грохнул пистолетный выстрел. Поднялся переполох. Кидаюсь к двери и никак не могу открыть ее. Впопыхах забыл, что она открывается внутрь, и всем телом наваливаюсь, пытаюсь выломать. А кругом крики, выстрелы. Слышатся очереди пулеметов. "Налет!" - проносится в сознании. Подскакивает адъютант, вдвоем вышибаем открытую дверь (и так, оказывается, бывает!), выбегаем из блиндажа.
Что же произошло? Надя шила и тихонько напевала какую-то песенку. Наверняка, так полюбившуюся нам "Землянку". Скрип двери заставил ее поднять голову. Она буквально окаменела - в дверях, освещенные неясным пламенем керосиновой лампы, стояли три немецких солдата с автоматами в руках, они широко раскрытыми глазами смотрели на нее.
На счастье, проснулся флагманский стрелок. Он молниеносно выхватил пистолет и выстрелил. Немцы кинулись из блиндажа.
Обо всем этом я узнал позднее. Едва мы выбрались наружу, как поняли, что оправдались наши опасения, - на аэродром наскочила отступающая немецкая часть. Перекрывая треск автоматов, строчат наши крупнокалиберные. Механики ведут сумасшедший огонь. Не отстают от них и автоматчики. Идет самый настоящий наземный бой.
Одна мысль в голове: пробиться к самолетам, там можно отсидеться до рассвета. Действительно, около блиндажа всех нас, вооруженных только пистолетами, немцы перестреляют без особого труда. Но как пробиться туда при такой плотности огня?
И тут замечаю фигуру, которая, пригибаясь, бежит к самолетам. Это же Надя!
- Стой! - кричу ей что есть силы.
Не слышит, бежит.
- Стой, убьют!
Но она скрывается в темноте. Мы залегли. Через несколько минут с одного из самолетов взлетает осветительная ракета. Молодчина, Надя!
Немцев на поле не видно. Они спрятались в лесу и оттуда ведут беспорядочный огонь. Бросаемся к самолетам. Огнем крупнокалиберных пулеметов отвечаем гитлеровцам. Они замолкают.
- Так-то умнее, - вытирая пот, говорит мой стрелок. - Ишь, гады, что задумали.
Наступает тишина, тревожная, заставляющая до предела напрягать слух и зрение. Опасаюсь, что в темноте немцы могут пробраться к самолетам. Может быть, тревожить их пулеметным огнем? Нельзя попусту тратить боезапас - ведь утром полеты. Пускаем ракеты.
Медленно, чертовски медленно наступает рассвет. Немцев и след простыл. Надо полагать, они уже далеко от аэродрома. Обхожу самолеты. К счастью, потерь у нас нет, и машины совершенно целы, если не считать нескольких дыр в фюзеляжах от автоматных пуль. Ну, это для "ильюшина" пустяки.
Ничего не скажешь, дешево отделались, могло быть хуже.
Строго отчитываю автоматчиков, которые прозевали немцев. Не растеряйся те трое, дай они очереди в блиндаже - и эскадрилья перестала бы существовать. Хлопцы стоят, опустив головы, оправдываться им нечем.
А утро такое чистое, светлое. Жаворонки поют. Одним словом, весна ликует. Так хочется забраться сейчас в этот лес, раскинуться на траве, забыть обо всем на свете. Но попробуй забыть, если из этого самого леса только что звучали выстрелы, если враг отступает, но еще зло огрызается, если каждый день уносит тысячи и тысячи жизней.
Эти мысли прерывает испуганный голос одного из механиков.
- Товарищ командир, там немцы, - и он указывает рукой в сторону небольшой будки, стоящей метрах в трехстах от самолетов.
- Какие немцы?
- Я туда пошел, за будку пошел...
- Плетешь ты что-то. Поди, с перепугу почудилось.
- Честное слово.
Отрядил к будке двух автоматчиков. И что же, буквально через несколько минут они привели пятерых немцев. Грязные, обросшие, в изодранных мундирах, они вызывали чувство омерзения. Рука тянется к пистолету. Сейчас расстреляю их к чертовой матери. Пусть гниют на своей же земле. Каждому по пуле за смерть друзей, за кровь и ужас затеянной ими войны.
В глазах у немцев читаю животный страх, они, видимо, поняли мой порыв. Будьте вы прокляты! Прячу пистолет в кобуру.
Стоящие рядом летчики облегченно вздыхают. Друзья боялись, что я не сдержусь и убью безоружных людей.
Подходит лейтенант Коптев. Он немного знает немецкий язык. Кое-как лопочет по-русски и рыжий верзила в эсэсовском мундире. Начинается разговор, в котором чаще всего слышится: "Гитлер капут". Что ж, не спорим, действительно очень скоро - капут.
Солдаты эти из разных частей, разбитых нашими войсками. На аэродром попали случайно. В будку залезли от страха, боялись попасть под огонь наших пулеметов. Очень довольны, что остались целы.
Даем им папиросы. Жадно затягиваются. Но все еще с опаской посматривают на мой пистолет.
Неожиданно тщедушный солдат лезет во внутренний карман, достает помятый бумажник, извлекает из него фотокарточку и протягивает мне. На фото он сам, только в гражданской одежде, женщина и два мальчугана.
- Матка, киндер.
- Жена, значит, его и детишки, - гудит над ухом усатый автоматчик. Хорошие пацаны.
Немец что-то говорит, указывая рукой в сторону. Коптев переводит, что этот солдат живет здесь, недалеко, что дома у него семья, а сам он - шофер и ничего плохого русским не сделал.
- Не успел сделать, - уточняет Коптев, - так как всего три месяца назад попал в армию и с места в карьер стал драпать на запад.
Как поступить с пленными? Надо бы доставить их в штаб для допроса. Но сделать это невозможно. А что если отпустить? Пусть идут и расскажут своим. Страшно. А ну, приведут на аэродром и устроят нам мясорубку? Что-то подсказывает: не приведут, не до этого им теперь. Мечтают в живых остаться.
- Скажи им, - обращаюсь к Коптеву, - что мы с пленными не воюем, пусть не боятся, не тронем.
С трудом подбирая слова, он переводит. Немцы кивают головами, наперебой твердят:
- Яволь, яволь.
- Яволь, так яволь, дело ваше. Вдруг слышу робкий голос Нади:
- Товарищ командир, накормить бы их. Смотрите, животы к спинам приросли. Люди ведь... Жалко...
Ах ты, Надя, Надюша, добрейшая душа. Ты даже врагов готова пожалеть, тех самых немцев, которые сожгли твой дом в Белоруссии, которые несколько часов назад легко могли застрелить тебя. Вот каков он, русский характер! Даже лютого недруга не бьют, если он лежит, если он поднял руки.
- Ладно, - отвечаю девушке, - накормить дело нехитрое, были бы харчи. Где ты их возьмешь? Может быть, летный паек отдашь?
- Отдам, - говорит Надя.
- И я...
- Я тоже...
- Шут с ним, с пайком! Берите и мой. В сопровождении Нади и двух автоматчиков немцы направляются в блиндаж.
Разворачиваем самолеты. Становится совсем светло. Вместе с Коптевым идем в блиндаж. Пленные уже насытились и дымят самокрутками, которые дали им автоматчики. Что же все-таки делать с ними?
Все вместе выходим из блиндажа. Коптев объясняет, что войне скоро конец и нужно бросать оружие. Немцы усиленно кивают головами. Рыжий верзила говорит, что их оружие осталось в будке. А мы, грешным делом, даже не поинтересовались им.
- Идите к своим, - говорит Коптев, - к своим. Понятно? Пусть оружие бросают. В плен, в плен! Ясно вам?
Немцы что-то горячо говорят, показывают в сторону леса.
- О чем это они? - спрашиваю Коптева.
- Говорят, что в лесу много солдат. Но они боятся русских. Дескать, русские расстреляют или сошлют в Сибирь и там сгноят в тайге.
"Надо бы, - думаю я, - поделом вору и мука". А наш переводчик что-то с жаром доказывает солдатам.
- Пусть идут и расскажут, как русские расстреливают, - бросаю Коптеву. - Надо кончать эту историю.
Объясняем солдатам, что они свободны и могут идти на все четыре стороны. Те недоверчиво смотрят. Машу рукой в сторону леса. Идите, мол, скорее идите. Боятся. Не верят такому счастью. Ну и запуганы же бреднями о зверствах большевиков!
- Марш! - кричу им. - Бегом! Шнель! Быстро!
Резкая команда подействовала. Поминутно озираясь, как бы ожидая выстрела в спину, немцы бегут к лесу. Быстрее, быстрее... И вот уже скрылись между деревьями.
- Может быть, зря их отпустили? - раздумывает вслух Махотин. - Что у них на уме?
- А что с ними делать?
- Ладно, - соглашается летчик. - Душа из них вон.
Связываемся по радио со своей частью. Командир полка встревожен нашим долгим молчанием. Рассказываю о ночном бое, о пленных.
- Молодцы, - слышу голос командира полка. - Правильно сделали. Заданий пока не даю. К вечеру на ваш аэродром перебазируется весь полк. КП, говоришь, хороший? Приятно слышать. Ну, добро.
Оживленно обсуждаем все перипетии сегодняшней ночи. Голодные немцы нанесли солидный урон нашим продуктам, и мы подтруниваем над Надей, грозимся оставить ее голодной на неделю. Она смеется. Так проходит около часа.
Неожиданно в блиндаж влетает автоматчик.
- Товарищ капитан, немцы!
Будто ветром выдуло нас из блиндажа. Да, сомнений нет, с дальнего края аэродрома к самолетам движется группа немецких солдат. Но идут они как-то странно: в полный рост, и ни у кого не видно оружия.
- Да с ними Воронцов! - кричит кто-то.
Что за наваждение! И впрямь впереди немцев вышагивает механик Воронцов. Вот он обернулся, сказал что-то, немцы остановились. Механик, не прибавляя шага, направился к нам. Подошел, лихо взял под козырек.
- Разрешите доложить. Привел группу пленных. Оружие все цело и сложено в овраге.
- Да ты толком объясни...
- Понимаете, какое дело, товарищ капитан. С полчаса назад я пошел к краю аэродрома. Есть там овражек такой. Думаю, дай посмотрю, что там доброго есть. Иду себе спокойно. Только подошел к краю, выскочили человек десять с автоматами, навалились, стащили вниз. Я уже с жизнью распрощался, а потом смотрю, что-то у них не то происходит, - механик перевел дыхание и продолжал:
- Один из солдат, в очках, подошел и по-русски говорит, что они хотят сдаться в плен, что их солдат утром был уже у нас и все рассказал. Гляжу, тот самый солдат, что утром был, рядом стоит, на меня глаза пялит. Ладно, говорю им, кладите оружие и за мной шагом марш. Вот и привел.
Да, загадал нам загадку механик. Что делать с такой группой? Распорядился принести трофейное оружие, выставил охрану и тут же связался по радио с полком. На КП полка, к счастью, оказался генерал. Выслушал он меня и говорит:
- Местечко Калау знаешь? Да, да, то самое, что около шоссе. Это от вас километров семь. Строй их в колонну и направляй в Калау. Там примут.
Подошел к немцам. Они с интересом смотрят на мой планшет, на Золотую Звезду. Вперед выходит солдат в очках. Он служил в штабе дивизии переводчиком и русский язык знает прилично. Ну, думаю, эту птицу надо задержать до приезда генерала.
Построили колонну. В сопровождающие дали Воронцова (он уже имел опыт обращения с ними), а для убедительности - трех автоматчиков. Раздалась команда - и колонна тронулась.
К вечеру Воронцов вернулся и рассказал, что по пути их колонна обрастала, как снежный ком, и в городе Калау он сдал всех под расписку.
Тем временем к нам перебазировался весь полк. Расспросам не было конца.
Утром вновь начались боевые вылеты, вновь "ильюшины" громили отступающие войска врага, наводили на цель наши танковые колонны.
Одной атакой
Гитлеровская Германия доживала буквально последние дни. Наши войска готовились к последней битве - битве за Берлин.
В один из дней командование собрало нас, чтобы уточнить взаимодействие между родами войск. Это очень важно - близко познакомить командиров, с тем чтобы они в бою понимали друг друга с полуслова. Больше того, они должны узнавать друг друга по голосу.
В связи с этим мне вспоминается такой эпизод. Еще в дни боев, когда наши войска очищали территорию Украины, мне довелось вести на бомбежку большую группу штурмовиков. Миновали линию фронта. Я по радио докладываю, что все в порядке, скоро выходим на цель. С КП сообщают, что меня поняли, и дают команду атаковать.
И тут неожиданно в шлемофоне раздается голос: "Бегельдинов, отставить атаку. Всей группой возвращайтесь на свой аэродром". Признаться, я даже растерялся на мгновение. Легко сказать "возвращайтесь".
Ведь в группе тридцать самолетов и каждый до отказа нагружен бомбами. Попросил повторить приказ и назвал пароль. По существующему порядку, мне, в свою очередь, должны были назвать свой пароль. Однако приказ повторили, а пароль - молчок. Ничего не понимаю, и голос какой-то чужой. В чем дело? Тем временем группа продолжает лететь к цели.
И тут раздается знакомый голос с нашего КП: "Не слушай их, Бегельдинов, выполняй задание". И знакомый голос назвал пароль.
Вот на какие уловки шел порой враг. И, чем черт не шутит, могли ведь сбить с толку, вернуть на базу и сорвать выполнение задания.
Помню, в тот день мы как никогда зло атаковали вражеские танки отплатили сполна за коварство гитлеровцев.
Этот эпизод наглядно свидетельствует о том, что даже голос имеет большое значение в бою.
Мы познакомились с танкистами, договорились обо всем. Затем отправились на рекогносцировку переднего края. По траншеям дошли до самой передовой и тут оказались свидетелями совершенно непонятной картины.
Со стороны немцев доносилась веселая музыка. Мощные динамики разносили ее на много километров.
- Веселятся смертники, - зло проговорил офицер-пехотинец. - То ли перепились, гады, то ли праздник какой отмечают...
Вон, полюбуйтесь, и тряпку свою вывесили, - он указал рукой чуть вправо.
Мы посмотрели в ту сторону и увидели на бугре высокое дерево, а на нем большой красный флаг с черной свастикой посредине.
- Хотели мы его сбить ружейным огнем, - продолжал офицер, - ничего не получается.
В это время меня к себе позвал командир нашего корпуса генерал Рязанов.
- Слушаю, товарищ генерал.
- Флаг нужно снять. Ясно?
- Так точно.
- Сейчас же отправляйтесь на аэродром и действуйте. Учтите, - генерал заговорил вполголоса, чтобы никто, кроме нас, не слышал, - сбить нужно одной атакой. Это очень важно. Кроме всего прочего, пусть танкисты лишний раз убедятся в силе штурмовика. Им спокойнее под нашим прикрытием воевать будет. Ясно? Исполняйте.
Генерал тут же позвонил в полк и приказал немедленно готовить самолет. А я по траншеям быстро выбрался с передовой и в генеральской машине за каких-нибудь двадцать минут добрался до своего аэродрома.
Вскоре я был уже в воздухе. Да, необычное задание дал генерал. Сбить одной атакой... Но рассуждать долго не пришлось - я уже подлетал к передовой. Твердо решил, что если не попаду снарядами, то собью фашистский флаг винтом.
Вышел на цель очень удачно. Пустил реактивные снаряды, открыл огонь из пушек. На месте, где только что стоял флаг, взметнулись клубы дыма, поднялась вверх земля. Задание выполнено.
Но не возвращаться же на аэродром, если самолет имеет полный запас боеприпасов. Я пролетел за передний край немцев, увидел две полевых артиллерийских батареи и скопление пехоты. По радио доложил об этом и тут же получил разрешение атаковать. Отбомбился по артиллерии, "поласкал" из пулеметов, а затем развернулся и пошел домой.
Сразу же после приземления вернулся на передний край.
- Молодец, - похвалил генерал и крепко пожал руку.
- Да, чистая работа, - с восхищением сказал подполковник-танкист. - С таким хлопцем воевать легко. Как, летун, повоюем? - обратился он ко мне.
- Конечно.
- И еще как повоюем, брат, - улыбнулся танкист.
А через несколько дней началось наше наступление. Танки прорвали вражескую оборону, за нами в прорыв хлынула мотопехота. Вот тут-то и довелось мне выручить из беды того самого танкиста, с которым познакомились мы на переднем крае.
Группа танков, которой он командовал, оторвалась от основных сил и попала в окружение. В это время моя группа находилась в воздухе. Танкист попросил помощь. Мы подлетели к месту боя, но ничего не смогли увидеть. Горел лес, и дым поднимался больше чем на тысячу метров.
Начали отыскивать окна, с тем чтобы пробиться к земле. Наконец, это удалось, и мы увидели наши танки в кольце врага.
- Бегельдинов, бей! - раздался в шлемофоне голос танкиста.
Сверху нам было видно, что с южной стороны сил у немцев маловато. Именно там мы их и атаковали. По радио я дал танкистам команду пробиваться в том же направлении. Через несколько минут кольцо было разорвано и танки вышли на соединение с основными силами.
После, при встрече, подполковник рассказывал, что когда он услышал по радио знакомый голос, он показался ему приятнее самой любимой музыки.
Вот что значит знакомство командиров перед наступлением.
Под крылом - Берлин!
Войска Первого Украинского фронта, в состав которого входила и наша дивизия, ломая сопротивление противника, стремительно продвигались к Берлину.
В ходе боев в районе Рагов - Тейпиц была окружена значительная группировка немецко-фашистских войск. В "котле" оказались несколько пехотных и танковых дивизий.
Ночью, собрав все силы в один бронированный кулак, гитлеровцы прорвали кольцо окружения и лесными дорогами пошли на соединение со своими основными силами.
Рано утром меня вызвали на КП и приказали вылететь на разведку. Предстояло выяснить, куда двигаются немцы. За ночь их группировка сумела оторваться от преследования и буквально растворилась в лесных массивах. Это грозило серьезными неприятностями: в тылах у наших наступающих оказались довольно значительные силы противника.
Лечу. Высота около пятисот метров. Внимательно осматриваю местность, но как ни напрягаю зрение, не вижу ничего подозрительного. Докладываю об этом по радио.
- Проверь еще раз лесные массивы. Вновь летаю над лесом. Нет, ничего не видно внизу. Сплошной стеной стоят вековые деревья. Тишина и покой. Куда же девались немцы? Не могли же они исчезнуть - чудес-то не бывает!
Едва подумал об этом, как с земли раздался орудийный выстрел и снаряд прошел буквально в нескольких метрах от самолета. Ага, значит не выдержали нервы у врага! Перехожу на бреющий полет, едва не касаюсь макушек деревьев; и тут вижу, что лес битком набит танками и автомашинами. Мысленно благодарю того немца, который выстрелом демаскировал колонну. Не будь выстрела, ни за что бы не увидел ее.
Что ж, за выстрел следует отплатить. С бреющего полета бросаю бомбы, пускаю несколько реактивных снарядов. Внизу раздаются взрывы, видны дым и пламя. Теперь уже не одно орудие бьет по мне. Бьют впустую - разве можно попасть по цели, которая с огромной скоростью проносится прямо над головой?!
- Обнаружил танки и автомашины в районе Тейпиц, - докладываю на КП.
Получаю приказ немедленно возвращаться на аэродром, брать группу и идти на штурмовку. Уже через сорок минут восемнадцать "ильюшиных" были над лесом. Атаковали врага до тех пор, пока не кончились боеприпасы. На смену нам пришла другая группа.
Так штурмовики работали весь день. Группировка была уничтожена.
Вскоре нам пришлось побывать в том лесу и увидеть дело своих рук. Признаться, мурашки пробегали по телу, когда я увидел, что сделала с колонной авиация. Сплошное месиво. Несколько десятков уцелевших гитлеровцев не могли без ужаса вспоминать о штурмовке колонны.
* * *
Линия фронта проходила в ста шестидесяти километрах от Берлина. Наш полк располагался около небольшого городка, названия которого я, признаться, сейчас уже не помню. Ежедневно мы летали на штурмовку, помогая наземным войскам ломать оборону гитлеровцев.
Как-то утром в полк приехал генерал Рязанов. Меня вызвали к нему. Вхожу, докладываю. Командир корпуса здоровается, предлагает сесть.
- Покажите планшет, - говорит генерал.
Разворачиваю, показываю карту. Рязанов рассматривает ее, а потом говорит:
- О, у вас не хватит карты.
- Почему? Пятьдесят километров за линией фронта. Достаточно.
- Не совсем.
Генерал пристально посмотрел на меня, а потом обратился к начальнику штаба полка подполковнику Иванову:
- Возьмите планшет капитана Бегельдинова и подклейте еще лист.
Пока начальник штаба выполнял распоряжение, командир корпуса расспросил меня о состоянии самолета, поинтересовался самочувствием. Я никак не мог понять, чем вызван этот разговор. Тут принесли планшет, и я увидел, что на нем появилась карта Берлина.
- Пойдете на Берлин со стороны Луккенвальде, - медленно, как бы подбирая слова, заговорил генерал. - Западнее города есть мост. Проверьте его. Далее - на Потсдам. Посмотрите, что там делается. Затем - домой. Высота полета пятьдесят-восемьдесят метров. Ясна задача?
Задача ясна. Лишь одно вызывало недоумение: заданная высота полета. Не один десяток раз приходилось летать на разведку, но никогда о высоте не шла речь. Обычно, исходя из обстановки, сам выбирал ее. А тут...
- Вас, конечно, смущает указание о высоте, - угадал мои мысли генерал. - Не удивляйтесь. Полет предстоит очень сложный, и эта высота самая безопасная.
Да, полет предстоял необычный. Одному нужно было углубиться на сто шестьдесят километров на территорию врага, лететь прямо в логово зверя. И все это днем. Я прекрасно знал, что Берлин усиленно охраняется зенитной артиллерией. Даже ночные полеты бомбардировщиков, осуществляемые на огромной высоте, редко обходились без потерь.
- Разрешите обратиться с просьбой? - сложив карты, повернулся я к генералу.
- Пожалуйста.
- Разрешите лететь одному, без стрелка.
- Почему?
- Полет опасный. Мне... - я запнулся, - мне не хотелось бы ставить под угрозу жизнь товарища.
- Зачем такие мрачные мысли? - Рязанов подошел, положил руку на плечо. - Все будет хорошо. Командование ждет результатов разведки. Что касается стрелка, то решайте сами. Ну, в добрый путь, капитан.
И вот "ильюшин" уже в воздухе. Непрерывно держу связь с землей, докладываю обо всем, что вижу внизу. Позади Луккенвальде, до Берлина не больше двадцати километров.
Неожиданно прямо перед собой вижу аэродром, на нем истребители. Вот это сюрприз!
Закладываю вираж и, форсируя газ, начинаю уходить от опасного места. Лечу, почти касаясь земли, петляю между перелесками. Одна мысль: уйти подальше от аэродрома. Что стоит немцам поднять в воздух хотя бы пару истребителей и без труда уничтожить меня.
К счастью, все обошлось благополучно. Правда, я сравнительно долго не отвечал КП, и там начали волноваться. В шлемофоне звучит тревожный голос:
- Тринадцатый, почему молчите? Тринадцатый, почему молчите?
Отлетев от аэродрома, я возобновил связь, сообщил об истребителях. Через полтора часа аэродром перестал существовать - его атаковали две эскадрильи нашего полка и на земле сожгли самолеты.
Появляются берлинские пригороды. Проходит несколько минут, и я лечу уже над центральными улицами. Внизу люди, машины. В скверах, на площадках и на крышах домов сотни зенитных установок. Да, прав был генерал, когда говорил о высоте. Поднимись я на пятьсот-шестьсот метров - непременно стал бы добычей зенитчиков. А так они не успевают голов повернуть, как "ильюшина" и след простыл.
Вот и мост. По нему в четыре ряда идут танки, бронетранспортеры, автомашины с пехотой. Сообщаю об этом на КП и прошу разрешения атаковать.
- Отставить атаку! Отставить! - слышу резкий голос.
Действительно, атака могла окончиться для меня печально. Стоило пехоте не растеряться - и самолет мог быть сбит ружейным огнем.
Разворачиваюсь и иду на Потсдам. Видно, мой визит не на шутку встревожил немцев, и на подступах к Потсдаму я попал под сильнейший зенитный огонь. Пришлось развернуться и заходить с другой стороны. Вновь огонь зениток. Так что же, с пустыми руками возвращаться домой? Нет, не зря я летел сюда.
Чуть набираю высоту и бросаю машину в пике на артиллерийские позиции, сбрасываю бомбы, бью из пушек и пулеметов. Батарея замолкает. В образовавшееся окно лечу, делаю круг над Потсдамом, фотографирую артиллерийские позиции и, вновь атакуя зенитные батареи, вырываюсь из пригородов столицы.
Теперь можно лететь домой. Возвращаюсь тем же маршрутом, которым летел к Берлину. Далеко стороной обхожу аэродром. Я не знал, что он уже уничтожен.
Миную линию фронта. Теперь можно облегченно вздохнуть. Невольно откидываюсь на спинку сиденья, на секунду закрываю глаза. Затем смотрю на часы и сам себе не верю: нахожусь в полете два часа. А мне казалось, что разведка длилась двадцать-двадцать пять минут. Вот что значит предельное нервное напряжение!
Захожу на посадку, приземляюсь, и меня буквально вытаскивают из кабины десятки дружеских рук. Летчики, механики, стрелки подбрасывают в воздух. Ну и переволновались же за меня друзья!
Иду на КП. Здесь генерал Рязанов. Все время полета он просидел возле радиста. Докладываю. Генерал обнимает, целует.
- Благодарю тебя, Бегельдинов, - впер вые переходя на ты, говорит он. Благодарю от имени командования. Можешь гордиться - твой самолет первым из авиации союзников появился днем над Берлином.
Вскоре начался штурм уже полуразрушенной, но отчаянно сопротивлявшейся столицы гитлеровского райха. В районе Трейенбритцен шел жестокий танковый бой. В одной из машин находился генерал, который с земли руководил действиями нашей эскадрильи.
Вдруг слышу его голос:
- Бейте по моей машине!
Я не мог поверить такой команде и переспросил.
- Бей, черт тебе в душу! Бей! Приказываю!
Мы быстро построились в круг и один за другим начали, пикируя, бить танки. С воздуха было видно, как машины с крестами на башнях окружили несколько "тридцатьчетверок". Генерал вызывал огонь на себя, жертвовал жизнью ради уничтожения вражеских танков.
Никогда еще не работали мы с таким предельным напряжением. Каждый летчик старался быть идеально точным. "Ильюшины" клевали и клевали фашистов, пока те не поползли в разные стороны. Мы сделали двенадцать заходов, и после каждого на поле оставался пылающий костер.
- Молодцы, летчики! - кричит в микрофон танковый командир. - Спасибо за выручку! Идите домой!
Вернулись на аэродром. А вечером в полк приехали несколько танкистов во главе с генералом.
- Ну, показывай своих орлов, - обратился генерал к нашему командиру.
- Они в столовой, ужинают.
- Прекрасно. Пошли, товарищи, в столовую. Я слышал, что штурмовики народ хлебосольный.
Мы сдвинули столы, усадили гостей, и генерал предложил тост за боевую дружбу.
- Скоро вместе выпьем за победу, - говорил он, когда танкисты усаживались в машины. - Милости просим в гости. После сегодняшнего боя мы у вас в долгу.
Тем временем бои шли уже в пригородах Берлина. С утра до вечера наш полк летал на штурмовку артиллерийских позиций. Это были последние вылеты. Все реже и реже поднимались мы в воздух - бои подошли к центру города.
Через несколько дней пал рейхстаг. Германия капитулировала. У себя на аэродроме в Фюнстервальде мы торжественно отметили победу.
Злата Прага
Поверженная в прах, лежит у наших ног гитлеровская Германия. Ни выстрела, ни сигнала тревоги. Тишина. На рейхстаге, поднятое ценой крови наших солдат и офицеров, реет знамя Победы.
Победа! К ней мы шли через болота, леса, поля, через руины наших городов и сел. По пути к ней мы хоронили боевых друзей. Сколько безвестных могил было на нашем пути вперед, на запад? Много. Не одна семья, получив похоронную, проклинала врагов, принесших огонь и стоны на нашу священную землю.
...Аэродром неподалеку от Берлина. Наш полк обосновался здесь прочно. Стоят на бетонированной стоянке самолеты. Механики - вечные труженики боевой службы - могут сейчас отдохнуть. Чехлами затянуты моторы "ильюшиных", но каждый из них готов к полету, каждый снабжен полным боекомплектом.
Как и в дни суровых испытаний, несут дежурства пилоты и стрелки. Знамя победы реет над обуглившимся рейхстагом, но враг еще огрызается, он еще сеет смерть. Рано, рано праздновать окончательную гибель фашизма!
Тихо в Берлине, прошли встречи на Эльбе, но еще не все кончено.
Рано утром восьмого мая меня вызвал командир корпуса генерал Рязанов. Его штаб стоял неподалеку от Фюнстервальде, и вскоре я уже вошел в уцелевший двухэтажный особняк.
Несмотря на прекращение огня по всему фронту, здесь, в штабе, кипела работа. Прохожу по комнатам, здороваюсь с офицерами и останавливаюсь перед массивной дубовой дверью.
- По вызову? - спрашивает дежурный.
- Да.
- Сейчас доложу.
Через несколько минут вхожу в кабинет, вижу своего генерала, рядом с ним еще несколько крупных военачальников. Доложив о прибытии, отхожу в сторону.
- Предстоит полет, - говорит генерал Рязанов. - Тяжелый, но необходимый. Подойдите к карте.
Подхожу.
- Смотрите, - командир корпуса отдернул шторы на карте, взял карандаш. - Сюда, к Праге, идут наши танковые армии. С Чехословакией у нас заключен договор о дружбе и взаимопомощи. В районе Праги еще живы немецкие войска, а в самой столице восстал народ. Нужно слетать в Прагу, разведать обстановку. Воздух чист, но на всякий случай даю прикрытие.
Через полчаса мой "ИЛ" с номером тринадцать на стабилизаторе поднялся в воздух. Все летчики, механики и стрелки провожали меня в этот полет. На земле остался и стрелок моего самолета.
Помахав по традиции крыльями", я взял курс на Прагу.
Прошло не больше пятнадцати минут, и с соседнего аэродрома поднялась восьмерка "Яковлевых" во главе со старшим лейтенантом Михаилом Токаренко. Истребители, разделившись на группу непосредственного прикрытия и ударную группу, пошли со мной одним курсом. По радио я все время поддерживаю связь с их ведущим.
Нужно сказать, что Михаил Токаренко выручил меня однажды из большой беды, еще во время Яссо-Кишиневской операции.
Дело было так.
Я вел эскадрилью на штурмовку под прикрытием шестерки истребителей Токаренко. Атаковали, сбросили бомбы, реактивные снаряды и начали разворот для второго захода. В это время зенитный снаряд разорвался в нескольких метрах от моего самолета. Удар воздушной волны был так силен, что машину подбросило вверх метров на сорок. Видно, пробило баки, и масло снизу струей ударило мне в лицо. Как на грех, я летел без очков, и глаза залепило.
Кричу в микрофон:
- Ничего не вижу, передаю командование левому ведомому.
В эфире тишина. В эскадрилье было много молодых летчиков. Они пошли в атаку за новым ведущим, и никто не ответил мне.
Лечу вслепую, выполняю команду воздушного стрелка, стараюсь держать самолет горизонтально и в это время слышу вдруг в шлемофоне незнакомый голос:
- Ручку на себя. Тринадцатый, ручку на себя.
Исполнил команду. И вновь тот же голос:
- Тринадцатый, держи так. Проходит несколько минут, лечу, исполняя команду неведомого летчика.
- Вышли на свою территорию, - слышу его голос. Только тут вынул платок, кое-как протер глаза, осмотрелся.
Оказалось, что командир эскадрильи прикрытия старший лейтенант Токаренко понял, что я попал в беду. Он передал командование истребителями (благо, воздух был чист) и пошел мне на выручку. Он встал рядом с моим самолетом и, командуя по радио, вел меня, как слепца.
В тот день вся моя эскадрилья без потерь вернулась на аэродром. Молодые штурмовики даже растерялись, когда узнали, что их командиру грозила опасность врезаться в землю. А действительно, много ли нужно, чтобы машина, управляемая слепым пилотом, вошла в штопор!..
Лечу на Прагу. Сверху восьмерка Михаила Токаренко. Все время держу связь с КП, докладываю генералу об обстановке.
Пока ничего страшного нет. Вижу внизу наши войска, вижу населенные пункты, дороги между ними. По дорогам идут автомашины, танки.
Под крылом появляются горы, набираю высоту. Эти горы - граница двух государств. За ними Чехословакия.
Вновь опускаю самолет. Истребители кружат где-то вверху. Иду на Прагу. Непрерывно докладываю на командный пункт о состоянии дорог, обо всем, что вижу.
Наконец в серой дымке показался город. Прага! Делаем широкий вираж над пригородами. Внизу кажущееся спокойствие. Под крылом аэродром - центральный аэропорт столицы Чехословакии. Слышу голос Токаренко: "Все ясно. Пошли домой".
Нет, думаю, ясно далеко еще не все. Снижаюсь, выпускаю шасси и захожу на посадку. Вдруг навстречу поднимаются белые ракеты. Вижу людей, которые бегут к взлетно-посадочной полосе и машут руками.
- Сумасшедший, что ты делаешь? - кричит Токаренко. - Смерти ищешь?
И тут раздался залп. Это еще что за сюрприз? Даю газ. Ухожу на второй круг.
- Пошли домой, - настойчиво твердит Токаренко. - На аэродроме немцы.
Нет, думаю, что-то здесь не так. Не похожи на гитлеровцев люди, бегущие к самолету. Вторично захожу на посадку. Колеса уже касаются полосы, скорость машины все ниже и ниже. Наконец "ИЛ" останавливается. Откидываю фонарь, но мотор не выключаю. Мало ли что может случиться!
Сверху, построившись в круг, ходит восьмерка истребителей. Они не дадут в обиду.
К самолету бегут люди. Они в штатском, но все вооружены. Высовываюсь из кабины и показываю пальцами, чтобы подошел только один человек. Держу наготове пистолет. Люди бегут и что-то кричат, но рев мотора заглушает их голоса. Стреляю в воздух. Бегущие останавливаются. Они, наконец, поняли меня, и от толпы отделяется один человек. Вот это хорошо. Один на один я беседовать согласен.
Высокий худощавый мужчина подходит к самолету и, улыбаясь, показывает на мотор: дескать, выключай, а то ничего не слышно. Нет, этого делать я не собираюсь.
Знакомимся. Он оказывается командиром соединения национального сопротивления. Его отряд своими силами разбил гитлеровцев и очистил аэродром. Это он дал две ракеты, а стреляли по самолету остатки немецкой охраны - несколько солдат спрятались в развалинах ангара и оттуда вели огонь.
- Их уже нет, - уверяет командир. Что же, теперь все ясно. Нужно лететь обратно. Командир не хочет отпускать: девять советских самолетов - это сила. Обещаю ему, что скоро здесь будет не девять, а больше.
Снова в воздухе. Вижу, как по нескольким шоссе на предельной скорости идут к Праге наши танки.
По прибытии докладываю обстановку.
- Хочется к партизанам? - спрашивает генерал.
- Очень!
- Что ж, добро. В двенадцать часов нынче перебазируйтесь всей эскадрильей.
В два часа дня эскадрилья приземляется на уже знакомом аэродроме. Нас встречают, как самых дорогих гостей.
- Немедленно обедать и отдыхать! - распоряжается командир отряда.
У самолетов он устанавливает охрану.
Появляется повар - розовощекий, высокий, в белом колпаке. Черноволосая девушка, которая должна развести нас по квартирам, рядом с ним кажется ребенком.
Повар оказался мастером. При виде обилия блюд у наших ребят загорелись глаза. Я тоже невольно проглотил слюну - ведь утром выпил лишь стакан чаю, а уж вечер. Обед оказался вкусным.
И девушка была внимательной и нежной. Нам трудно было говорить - мешало незнание языка. Но я понял, что родом она из Братиславы, что в сопротивлении участвует с первого дня, что все они очень ждали прихода советских войск, а теперь она мечтает побывать в России.
С тех пор прошло больше двадцати лет. Я не помню, как звали девушку. Может быть, Влада, а может быть, Божена. Но я знаю: тогда майским вечером она говорила о любви к советским людям, которые принесли освобождение ее стране.
Недавно по делам службы мне пришлось быть в одном из наших авиаотрядов. Вечером в красном уголке демонстрировался чешско-советский фильм "Майские звезды". Нельзя сказать, чтобы этот фильм был шедевром киноискусства, но ради него я на несколько часов отсрочил вылет в Алма-Ату. Хотелось еще взглянуть на красавицу Прагу, услышать полюбившуюся песню. "Майские звезды" напомнили мне о днях, проведенных на чешской земле, о последнем дне войны и первом дне мира. А Злата Прага показалась мне именно такой, какой она была в то время и навсегда осталась в моей памяти. Где ты сейчас, милая Влада-Божена? Мы верим, что ты помнишь летчиков, первыми прибывших в осажденный город.
Ночь на девятое прошла спокойно, если не считать небольшой перестрелки неподалеку от аэродрома. Мы хотели было бежать к самолетам, но командир повстанческого отряда сказал, что в этом нет надобности.
Мы досыпали спокойно. А тем временем Третья и Четвертая гвардейские танковые армии, пройдя за ночь больше ста километров, на рассвете вступили в столицу Чехословакии. Утром мы все отправились в город. Хотелось взглянуть на его прекрасные улицы и площади, к которым вновь пришла весна и свобода.
Прага ликовала. Люди принарядились и вышли на улицы. И мы от души радовались за них и гордились тем, что имеем прямое отношение к их счастью. Незнакомые люди, видя на наших пилотках алые звездочки, бросались нас обнимать и целовать. Каждый считал за честь пригласить к себе в гости, уговаривал выпить хотя бы стакан вина.
На площадях шли концерты, гремела музыка. Но, к сожалению, пора было возвращаться на аэродром. Здесь нас ждал сюрприз: командир повстанческого отряда устроил банкет. На него пришло множество людей. До позднего вечера мы сидели в тесном кругу друзей, поднимали тосты за братство советского и чешского народов.
Утром пришел приказ вылетать. На аэродром одно за другим приземлялись другие подразделения. Наши самолеты набрали высоту, и каждый из летчиков посчитал своим долгом на прощание приветливо качнуть крылом красавице Праге.
Вновь мы в Фюнстервальде.
Непривычно после непрерывных полетов все время находиться на земле. Чего-то не хватает, хочется подняться в воздух.
Моя эскадрилья находилась в первой готовности. В этот день к нам в гости приехали истребители. Обидно, конечно, сидеть в кабине, когда друзья сидят за столами.
Уже вечерело, до захода солнца оставалось совсем немного. "Скоро домой, - подумал я. - И сегодня полета не будет". В это время к самолету подошел мой механик.
- Товарищ командир, - обратился он, - все равно никуда не полетите. У меня есть бутылка рома, давно ее с собой вожу, да никак случай не представится выпить. Давайте за победу? Ведь сколько вместе продали.
- Нельзя. После отбоя - пожалуйста.
- Да все равно полета не будет. Я подумал, подумал и сдался:
- Черт с ним, давай.
Механик вытащил из кармана бутылку и стакан. Налил, протянул мне. Я выпил.
Выпил и он. Вновь налили, но едва я поднес стакан к губам, как увидел, что с КП бежит посыльный. Тревога!
Через пятнадцать минут эскадрилья летела в район Мельники, где танковая дивизия немцев не сложила оружия, несмотря на то, что акт капитуляции был подписан и огонь прекратился по всему фронту.
Одновременно с нами к Мельникам вылетело еще несколько подразделений, туда же двинулись танки. Общими усилиями мы раздавили врага и повернули домой. В пылу боя я чувствовал себя вполне нормально, но на обратном пути ром дал о себе знать. Мучительно захотелось спать.
С трудом посадил машину на аэродроме, но сил, чтобы выбраться из кабины, уже не было. Я заснул. Подбежали летчики, откинули фонарь и стали вытаскивать меня из самолета. Подошла санитарная машина. В ней приехал и командир полка. Он подошел ко мне и немедленно понял все.
- Уведите его, - резко бросил подполковник. - Завтра разберемся.
Назавтра мне влетело по первое число.
- Твое счастье, что кончилась война, - отчитывал командир. - Иначе всыпали бы тебе не так.
Этим неприятным эпизодом, который я запомнил на всю жизнь, закончилась для меня война. Полет в район Мельники был последним. Служба шла своим чередом, но наступили уже мирные дни. Одного за другим мы провожали домой боевых друзей.
Парад Победы
Полк готовился к перелету. В полном составе мы должны были перебазироваться в Австрию. Как-то жаль было покидать Фюнстервальде. В годы войны, особенно в наступлении, привыкли почти каждую неделю менять аэродромы. А тут стоим уже больше месяца, обжились, обзавелись друзьями в соседних частях.
Буквально накануне отлета меня неожиданно вызвали в штаб корпуса. Вновь прохожу знакомыми коридорами к кабинету генерала Рязанова. В приемной у него много офицеров из разных частей. Невольно в сердце закрадывается тревога: что случилось, за какой надобностью собрали нас?
Адъютант приглашает всех в кабинет. Командир корпуса сегодня выглядит необычно. Он при орденах, в парадном мундире. И настроение у него, как видно, отличное.
- Я собрал вас, товарищи офицеры, - заговорил генерал, - чтобы сообщить приятную новость. В конце месяца в Москве состоится Парад Победы. На нем вы будете представлять наше соединение. Есть вопросы - пожалуйста. Если нет можете быть свободны. Дополнительные указания получите в своих частях. Капитана Бегельдинова попрошу остаться.
Все разошлись, мы остались вдвоем в кабинете.
- Садись, - Рязанов указал на кресло. Я продолжал стоять перед столом.
- Садись, садись. Разговор предстоит долгий и не совсем приятный.
- Мне доложили о полете в район Мельники, - генерал пристально посмотрел на меня, и я почувствовал, как краска заливает мое лицо. - Изволь объяснить свое поведение.
Что я мог сказать командиру корпуса - человеку, которого глубоко уважал, больше того - любил, как родного отца. С первого и до последнего дня войны он был моим высшим начальником, требовательным, порой безжалостно строгим, но всегда внимательным и справедливым.
- Ну, я жду, - Рязанов встал, закурил, прошелся по кабинету.
И я, не скрывая ничего, рассказал о злосчастной бутылке рома, просил простить меня и дал слово, что впредь никогда не случится ничего подобного. От стыда я готов был провалиться сквозь землю.
Генерал сел в кресло напротив.
- Война сделала тебя офицером, Родина, отметила твой путь многими боевыми наградами. Тебе ли заниматься ухарством, быть мальчишкой? - упрекал генерал. - Но мы решили не наказывать тебя, а строго предупредить.
Я встал и еще раз дал слово быть впредь образцом дисциплины. Уже прощаясь, генерал сказал:
- Жаль, что ростом ты невелик.
- Почему?
- Да вот на параде левофланговым пойдешь, далеко от Мавзолея.
На душе у меня сразу потеплело. Я понял, что инцидент со злополучным ромом исчерпан.
В самом лучшем настроении вернулся в полк. Здесь уже знали, что я еду в Москву. Товарищи от души поздравляли меня. Но, признаться, меня волновало одно обстоятельство: кто поведет в Австрию мой самолет? Этот вопрос разрешился неожиданно просто.
- Оставим тринадцатый в Фюнстервальде, - решил командир полка. - С ним будет и твой механик. Вернешься из Москвы - вместе прилетите. Только сначала проверь, нет ли где-нибудь в заначке еще одной бутылки рома.
Все присутствующие при этом разговоре расхохотались. Смеялся и я.
...Поезд медленно идет через Польшу. В составе офицеры - участники Парада Победы. Проезжаем места недавних боев, видим раны, нанесенные войной. С утра до вечера в вагонах не прекращаются воспоминания. И что странно: теперь, когда смолкли бои, у каждого вдруг появилась масса забавных историй. Мы иронизируем над своими неудачами, подтруниваем друг над другом.
Вот и граница. Все прильнули к окнам. Разговоры умолкли. В торжественной тишине состав перешел границу. О чем думал каждый из нас в этот момент? Трудно сказать. Я мысленно окинул путь от Старой Руссы до Берлина и Праги, вспомнил друзей, которые не дожили до счастливого Дня Победы.
Поезд идет и идет. Вновь разговоры в вагоне. Но теперь все делятся своими планами на будущее, мечтают скорее попасть домой, к семьям.
Наступает вечер. Лежу на полке с открытыми глазами и под перестук колес вспоминаю декабрь 1942 года, холодный товарный вагон, негреющую "буржуйку". Вижу Сергея Чепелюка и радистку Зину. Где-то она сейчас, наша милая попутчица? Уцелела ли на грозных дорогах войны, встретилась ли с отцом, матерью и братишкой? Хочется верить, что это произошло.
Перед глазами возникает Фрунзе. Вижу отца, мать. Родные мои, я ведь так виноват перед нами, так редко писал, заставляя волноваться и плакать. Но теперь уже недалек день встречи. Я прижму вас к груди, и мы долго-долго будем сидеть молча.
Москва. Ликующая столица нашей великой Родины. Как она изменилась, как похорошела! На улице, весна, дышится легко и свободно. Мы ловим на себе благодарные взгляды людей.
День 24 июня будут вспоминать наши потомки. В этот день по Красной площади прошли сводные полки фронтов и части Московского гарнизона. К подножью Мавзолея легли вражеские знамена.
Во главе полка Первого Украинского фронта шел маршал Конев. За ним в первой шеренге шли мы, фронтовые друзья: Иван Кожедуб, Сергей Луганский, Юрий Балабин и - самым крайним слева - я. С трибуны Мавзолея на нас смотрели руководители партии и правительства. Я был безмерно счастлив от сознания своей принадлежности к тем, кто ратным трудом и кровью освободил народы Европы, счастлив тем, что мне выпала честь сражаться и побеждать под великим знаменем нашей Отчизны.
Участники парада стали разъезжаться по своим частям. А у меня забота: что привезти друзьям из Москвы? И вот, проходя по улице Калинина, я обратил внимание на огромные витрины универмага военторга. В них, сверкая лаком козырьков, красовались фуражки с голубыми околышами и крылышками на тульях. Ясно! Вот он, лучший подарок!
Продавец ахнул, когда я попросил упаковать мне сразу тридцать фуражек.
- Зачем так много, товарищ капитан?
- На всю эскадрилью.
Продавец замялся и, смущаясь, признался, что в отделе у него сейчас столько не наберется. Посоветовал обратиться к администратору.
Администратор, видимо, в прошлом офицер, понял меня с полуслова. Он усадил меня в своем кабинете, а сам отправился на склад. Вскоре он явился в сопровождении двух рабочих, неся коробки. Вот так штука! Как же я довезу все это до вокзала? Администратор и тут выручил: дал машину.
Поездом, затем попутным грузовиком я добрался до Фюнстервальде. Уложили фуражки в хвост самолета, механик уселся на место стрелка, и вскоре "ильюшин" уже летел к Вене.
Нужно ли говорить о том, какой была встреча в полку? Уже через час после прилета летчики, механики и стрелки моей эскадрильи щеголяли в новых фуражках. Не беда, что кое-кому они не пришлись впору. Главное - подарок из Москвы, с Парада Победы!
Мирное небо
Самолеты стоят в двадцати километрах от Вены. Мы несколько раз побывали уже в городе и не устаем восхищаться дивной красотой австрийской столицы. Посетили мы и знаменитый лес, знакомый всем по кинофильму "Большой вальс". И все-таки очень хочется скорее вернуться на Родину.
У меня все чаще и чаще появлялась мысль об учебе. Поделился ею с командиром полка, но он со мной не согласился:
- Сколько можно учиться? Слава богу, окончил авиаклуб, три авиационных училища. А разве война - это не школа? Нет, брат, мы все сейчас академики, кого угодно поучить можем.
Какая-то доля правды в этих рассуждениях была. Действительно, война явилась великой школой. За два года я сделал около трехсот двадцати боевых вылетов, проведя в них в общей сложности без малого пятьсот часов, уничтожил много вражеской техники, сбил семь самолетов. Но ведь это - сугубая практика. Кто я? Летчик, но не больше. Нет, нужны основательные теоретические знания.
Признаться, волновало и другое: сумею ли попасть в академию? Сдам ли экзамены?
Наконец я получил отпуск и поехал домой. Всю дорогу от Вены до Москвы мечтал о том, как приеду во Фрунзе, встречусь с родными и друзьями. Но этому не суждено было сбыться. В Москве я твердо решил стать слушателем академии.
Явился на прием к главному маршалу авиации и рассказал о своей мечте. Мое стремление одобрили, позвонили начальнику академии. В этот же день я был уже на комиссии. Да, подзабыл все основательно за годы войны. Меня успокоили: есть курсы подготовки.
Через три месяца курсы были окончены, я сдал вступительные экзамены и стал слушателем Краснознаменной Военно-Воздушной академии. После этого вернулся в свою часть, сдал эскадрилью другому офицеру. Боевые друзья тепло проводили меня на учебу.
До начала занятий оставалось еще немало времени, и я поехал во Фрунзе. До сих пор бережно храню в памяти теплоту встречи с отцом, матерью, с друзьями и знакомыми.
К сожалению, погостить пришлось недолго. Начались занятия. Вместе со мной сели за столы Иван Кожедуб, Сергей Луганский и многие другие летчики, решившие получить высшее образование. Здесь, в стенах академии, мы совершенно другими глазами посмотрели на операций, в которых совсем недавно принимали непосредственное участие.
После года учебы, когда я готовился ехать в отпуск, из Акмолинска пришла телеграмма. Коллектив Макинского паровозного депо выдвинул меня кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. Я поехал к своим избирателям.
Побывал в ауле Май-Балык, откуда много лет назад из-за безземелья, беспросветной нужды ушел искать счастья мой отец. Как самого почетного и дорогого гостя встретили меня односельчане отца.
Теплая встреча ожидала и в областном центре. Я стоял на трибуне, видел тысячи лиц, и одна мысль владела мною: как отблагодарить этих незнакомых, но близких и родных людей за высокое доверие? Как передать им чувства, волнующие меня в эти минуты? Я рассказал о том, как выполнял свой воинский долг, защищая родной народ от врага, обещал, что так же старательно и честно, не жалея сил и времени, буду выполнять и новые свои обязанности обязанности народного избранника.
Вновь занятия в академии. От избирателей приходят десятки писем. Много сложных, порой запутанных дел пришлось разрешать по долгу депутата Верховного Совета.
Наконец учеба закончена. Командование академии предложило остаться на кафедре, но я всей душой стремился в часть и получил назначение заместителем командира полка по летной подготовке. Вместе с летчиками, прошедшими суровую школу войны, мы учили молодежь, передавали ей свой богатый опыт.
Но, видно, не прошли бесследно годы войны. Медицинская комиссия отстранила меня от полетов, и командование перевело на высшие курсы усовершенствования офицеров-штурманов в качестве начальника штаба.
Прошло три года, и здоровье ухудшилось. В 1957 году по состоянию здоровья я был демобилизован из рядов Советской Армии.
Я знаю немало офицеров, которые, уйдя в запас, обзаводятся домиком, садом и сидят целые дни, изнывая от безделья. Эти люди оправдываются тем, что заслужили отдых годами тяжелой службы. Нет, нет и еще раз нет! Отставка или запас вовсе не должны быть связаны с бездельем.
Через два месяца после увольнения в запас я стал работать заместителем начальника Казахского территориального управления Гражданского воздушного флота. Дел много, дел интересных, сложных.
По воздушным трассам Казахстана день и ночь идут самолеты. Они везут пассажиров, важные народнохозяйственные грузы. Линии перевозок становятся все длиннее, достигают самых отдаленных уголков республики. И я счастлив, что в этом есть доля моего труда.
Мы много строим. Порой я чувствую, что мне не хватает знаний для руководства строительными работами. Значит, нужно учиться. Сейчас я заканчиваю Московский заочный инженерно-строительный институт.
Часто я встречаюсь с молодежью, бываю в институтах, на предприятиях, в школах. Юноши и девушки внимательно слушают рассказы о боевых делах летчиков в годы Великой Отечественной войны.
Смотрю я на лица наших замечательных парней и девчат, а в памяти встает грозное время войны, огонь и пепелища, слезы и стоны людей. Да, память хранит все это. Как часто я вспоминаю те годы, наши полевые аэродромы, боевых друзей, которых давно нет в живых. Говорят, что время залечивает раны, стирает в памяти людей горечь потерь. Нет, мы все помним, мы не забыли кровь и слезы. И не забудем.
Мы мирные люди, мы хотим счастья на земле. Но вновь появились любители бряцать оружием. Опасная игра! Уроки истории никому и никогда не следует забывать. Пусть знают все, что порох в наших пороховницах сух, и любовь к Родине беспредельна.

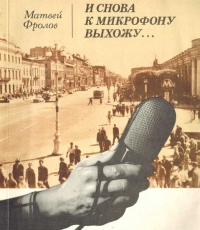

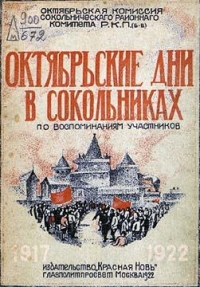
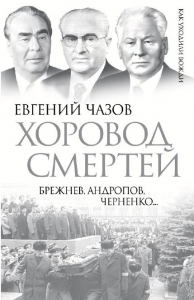

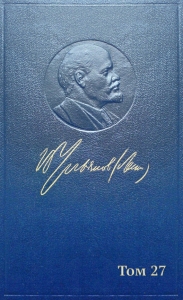
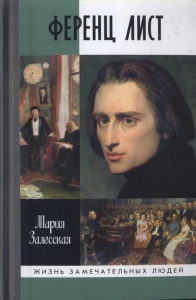

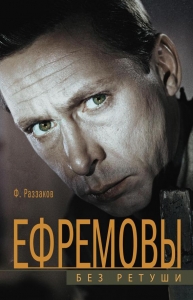

Комментарии к книге «'Илы' атакуют», Талгат Якубекович Бегельдинов
Всего 0 комментариев