М. Яновская КАРЛ ЛИБКНЕХТ
*
М., «Молодая гвардия», 1965
Памяти Софьи Борисовны ЛИБКНЕХТ посвящает автор
Судебный водевиль
— Подсудимый Рунге!
Солдат Рунге вскочил. Быстрым взглядом окинул зал, приосанился. Польщенный вниманием публики, самодовольно ухмыльнулся. И вытянулся по стойке «смирно».
Председательствующий, военно-судебный советник Эргардт, прочел биографию рядового Рунге и его характеристику; перечислил заслуги подсудимого перед отечеством, его высокие моральные качества.
Судебный процесс над убийцами Карла Либкнехта и Розы Люксембург начался в 9 часов утра 8 мая 1919 года. Через сто двенадцать дней после зверской расправы над вождями германского рабочего класса; через сто два дня после похорон Карла Либкнехта и тридцати двух жертв январских боев и за двадцать три дня до того, как был найден труп Розы Люксембург, четыре с половиной месяца пролежавший в водах Ландверского канала.
Умелый подбор судебных заседателей должен был продемонстрировать демократичность военного судопроизводства: из четырех заседателей только двое были офицерами; двое других — унтер-офицер и солдат. Поскольку все участники убийства и почти все свидетели служили в гвардейской кавалерийской дивизии, расследование и слушание дела были поручены военному суду… этой же дивизии.
Большой зал Уголовного суда в Моабите не был заполнен — галереи пустовали. Места в «партере» занимала избранная публика. Специальные пропуска на право присутствия в судебном заседании не гарантировали беспрепятственного прохода в зал: солдаты гвардейской стрелковой кавалерийской дивизии, патрулировавшие все входы и выходы, обыскивали гостей и свидетелей. Никто, будь то военный или штатский, не мог проникнуть в здание суда, если при нем находили оружие.
Исключение, правда, составляли… некоторые подсудимые.
Весь район был оцеплен вооруженными всадниками, здание окружено проволочными заграждениями. Войска заполнили восточное крыло, выстроились у входа и на лестнице. А за вооруженным кордоном гудела, возмущалась, кричала густая пестрая толпа.
Тщетно пытались люди проникнуть в зал. Устроители судебного водевиля, исполнители его, начиная от главы социал-демократического правительства Германии Эберта, от председателя военного суда и кончая последним обвиняемым, испытывали необоримое чувство страха перед широкой гласностью.
И все-таки кое-кто из «нежелательных» проник в помещение суда. И один такой «нежелательный», сидевший где-то слева у стенки, в самой глубине зала, не сводил сейчас яростного взгляда со спины обвиняемого Рунге.
Председательствующий, военно-судебный советник Эргардт, вел допрос с подчеркнутым беспристрастием. Допрашиваемый, солдат Рунге, отвечал нагло и развязно.
Да, он не отрицает, он действительно ударил прикладом по голове этих, которые потом были убиты. Он даже по два раза ударил каждого. При каких обстоятельствах? В тот вечер, 15 января, он как раз дежурил в карауле в штабе дивизии, что помещается в гостинице «Эден». Сюда привезли арестованных, говорили, что их отправят дальше — в Моабитскую тюрьму. Так вот, когда их по очереди выводили из «Эдена», у самого выхода на улицу он сделал это. Нет, никто его не уговаривал — он сам хотел покончить со спартаковскими вождями. У него были с ними личные счеты. Он давно поклялся отомстить Либкнехту и Люксембург за те несколько минут унижения, которые он, будучи рабочим завода «Сименс», претерпел от них.
Солдат Рунге был отлично «натаскан» и не скупился на подробности. На вопрос председательствующего, какое отношение имели убитые спартаковцы к заводу «Сименс», находчиво ответил: они имели отношение ко всем заводам и фабрикам, на которых происходили беспорядки. Вернее, они-то и были организаторами этих беспорядков.
Да, так вот, желание отомстить зародилось в нем с того памятного для него дня, когда на «Сименсе» началась забастовка. Он, Рунге, разумеется, и не собирался присоединяться к бунтовщикам. Он продолжал работать. Вот тогда-то и подбежали к нему Люксембург и Либкнехт, и кто-то из них, он не помнит, кто именно, приставил к его голове револьвер и потребовал немедленного прекращения работы.
Есть ли у него свидетели, которые могут подтвердить его рассказ? — в обычной своей беспристрастной манере спросил председательствующий.
Господи, сколько угодно! Все рабочие, которые в этот день работали по соседству с ним.
— Ложь! — раздался громовой голос. — Все ложь! Пусть назовет свидетелей! Вызовите их сюда…
Что такое? Кто это посмел нарушить так гладко разыгранную комедию?
Председательствующий, военно-судебный советник Эргардт, вперил возмущенный взгляд в глубину зала. Обвинитель Иорнс привстал со своего места. Офицеры, сидевшие на скамье подсудимых и до этого перешептывавшиеся друг с другом, сразу замолкли. По рядам напряженно слушавшей публики прошел гул.
Подсудимый Рунге, вздрогнув, обернулся с такой быстротой, будто его кто-то хлестнул нагайкой по спине. Нагловатая, самодовольная ухмылка мигом слетела с его лица. Внутренне он содрогнулся, услышав хорошо знакомый, яростный голос. Сразу же нашел глазами человека, осмелившегося так бесстрашно вмешаться. Вон там, у стенки слева, в самой глубине зала, сидит этот человек… Знакомый взгляд — глаза его брата, его врага. Брата, который связался со спартаковцами. Брата, которого он ненавидел и… смертельно боялся.
Сделав усилие, солдат Рунге медленно перевел свой разом потускневший взгляд на представителя обвинения Иорнса.
Председательствующий Эргардт принял тем временем решение: не реагировать, не концентрировать внимания на этой хулиганской выходке — полиция сама справится. Несколько мгновений в зале висела давящая тишина. Потом кто-то громко и глубоко вздохнул. Публика зашепталась. На скамье подсудимых презрительно улыбались офицеры. Обвинитель Иорнс спокойно опустился на свое место и ободряюще кивнул Рунге.
Подсудимый Рунге подобрался весь, сделал еще одно усилие. Заставил себя мысленно, слово в слово повторить сказанное ему Иорнсом на одном из допросов во время следствия: «Возьмите всю вину на себя, отсидите каких-нибудь четыре месяца, а затем перед вами самые широкие возможности. Очень советую вам воспользоваться случаем…» Вспомнив одно, мгновенно восстановил в памяти и другое: все, что говорили ему офицеры дивизии, частенько заходившие к нему в камеру: «Либо принимайте вину на себя, либо ждите смерти…»
Вспомнив все это, Рунге ощутил уверенность, что дело его спасения в его собственных руках и что для своего брата-врага он сейчас менее достижим, чем когда бы то ни было в жизни.
Представитель обвинения Иорнс снова почувствовал полный контакт с залом и задал вопрос, который придерживал к концу и на который должен был последовать весьма эффектный ответ: не раскроет ли, наконец, подсудимый Рунге тайну своего исчезновения из гвардейской дивизии? Тайну, которая так и не прояснилась на следствии?
Да, теперь он может рассказать, ухмыльнулся Рунге, теперь, перед судом, он раскроет карты: он бежал из дивизии и из Берлина и поступил в другой, добровольческий, отряд по фальшивым документам. Документы он купил после убийства вождей «Спартака» у двух неизвестных ему… спартаковцев.
По залу пронесся шелест, как будто ветер погнал сухие листья по асфальту. Это мужчины вытаскивали из карманов туго накрахмаленные платки, чтобы прикрыть ими смеющиеся рты. Кто-то, не выдержав, неприлично громко хихикнул. Кто-то воскликнул: «Ловко!» И невольно все головы повернулись налево, в ту сторону, где незадолго до этого раздался возмущенный, требовательный крик человека, сидевшего у самой стенки, в глубине зала.
Но того, «нежелательного», на месте уже не было — полиция знала, как поступают в подобных случаях.
С этой минуты основное внимание суда сосредоточилось на состоянии здоровья солдата Рунге. Не болел ли обвиняемый в детстве мозговыми заболеваниями? Часто ли в своей жизни обращался к врачам и по каким поводам? Какие болезни перенес в зрелом возрасте?
Суд явно заинтересовался психическим состоянием и умственным развитием подсудимого Рунге. Было задано множество быстрых и хитроумных вопросов, на которые несколько растерявшийся солдат едва успевал отвечать односложными «да» и «нет», и желаемое впечатление было легко достигнуто: невменяемым Рунге нельзя считать, но он, безусловно, является недоразвитым в умственном отношении субъектом, с легкоранимой, неустойчивой психикой.
Рассказал ли солдат Рунге суду об инструкциях, носивших характер приказа, которые он получил от капитана Петри, капитан-лейтенанта Горста Пфлуг-Гартунга и других офицеров, имен которых он, как новичок, еще не знал? «Люксембург и Либкнехт не должны попасть в Моабит живыми», — сказал Петри. «Помните, что вам приказано покончить с ними при выходе из гостиницы», — сказал адъютант начальника штаба Пабста — Пфлуг-Гартунг. «Оберлейтенант Фогель подведет их прямо к вам, и вам остается только действовать прикладом», — инструктировали другие офицеры. И все в один голос многократно и настойчиво внушали: Либкнехта убить прикладом на месте, как только он выйдет на порог гостиницы.
Рассказал ли солдат Рунге о хвастливых словах, которые он услышал, когда офицеры вернулись после того, как увезли Либкнехта: «С Либкнехтом покончено! Лопнула, видите ли, нелопнувшая шина, и совершена попытка к бегству»?
Рассказал ли солдат Рунге об этом суду?
Нет. Позже, обиженный «строгим» приговором, он заявит об этом письменно.
Заявление останется без последствий.
На скамье подсудимых, не считая солдата Рунге, сидело восемь преступников. Все — офицеры гвардейской кавалерийской дивизии. Той самой дивизии, которая стала оплотом контрреволюционных сил в Берлине.
Восемь офицеров и один солдат. Десятый преступник отсутствовал. Об этом узнали позже.
Отсутствовали и главные убийцы. И это было известно заранее.
После перерыва, во время которого обвиняемые шумно покинули свои места и перешли в зал, чтобы поболтать со своими приятелями, начался допрос обер-лейтенанта Фогеля. И если председательствующий Эргардт с подчеркнутым беспристрастием допрашивал солдата Рунге, то с Фогелем он просто вел дружескую беседу.
Весело и непринужденно рассказывал обер-лейтенант Фогель, как он, сопровождая Розу Люксембург в автомобиле, не мог сразу понять, жива она еще или приклад Рунге убил ее; как был удивлен, когда неизвестный ему человек в штатском вскочил на ходу в открытую машину и нанес еще один удар недвижимо лежавшей женщине; как потом труп Розы Люксембург был отбит у транспортной команды группой спартаковцев.
В том же дружеском тоне были допрошены все обвиняемые и большая часть свидетелей в последующие дни. Судебное разбирательство шло по заранее разработанному плану. И вдруг…
— Свидетель Грантке! Где вы находились во время убийства?
Солдат Грантке находился в том же автомобиле, что и обер-лейтенант Фогель. Они должны были отвезти Розу Люксембург в Моабитскую тюрьму. В машину, показывал Грантке, женщину втащили, волоча по земле; после ударов, нанесенных Рунге прикладом по голове, Роза Люксембург находилась в глубоком обмороке. Она так и не пришла в себя, обстоятельно показывал дальше Грантке, потому что, во-первых, на ходу в машину вскочил какой-то офицер и со страшной силой ударил лежащую в беспамятстве женщину рукояткой револьвера по голове; а во-вторых, выстрелом в упор ее застрелил обер-лейтенант Фогель. Он, Грантке, хорошо и давно знает обер-лейтенанта, и ошибки тут с его стороны быть не может.
Обвинитель Иорнс был неприятно задет неожиданными показаниями свидетеля и обменялся выразительным взглядом с советником Эргардтом. Фогель замер на скамье подсудимых и прошипел что-то угрожающее.
Солдат Грантке стоял на своем, и никакие вопросы председательствующего и обвинителя не могли его сбить.
Масла в огонь подлил следующий свидетель — солдат Вебер. Он не только подтвердил показания Грантке, но и очень подробно рассказал, как он по приказу Фогеля и вместе с ним сбросил тело убитой женщины, — потом он узнал, что это была знаменитая спартаковка Роза Люксембург, прозванная в народе Красной Розой, — в Ландверский канал.
Дальнейший допрос свидетелей все больше прояснял картину зверского убийства пролетарских вождей. Были названы имена тех, кто стрелял в Либкнехта в Тиргартене, где автомобиль остановился специально с целью заставить арестованного выйти и инсценировать попытку к бегству, — имена лейтенанта Липмана и Горста Пфлуг-Гартунга. Было установлено, что потерявшую сознание, полумертвую Люксембург пристрелил Фогель, после того как тот «неизвестный», которого Фогель отказался назвать, изо всей силы ударил ее чем-то тяжелым по голове. Достаточно отчетливо обрисовывалась роль остальных преступников — офицеров Гейнца Пфлуг-Гартунга, Штиге, Ритгена, Веллера и Шульца.
Приговор военного суда гвардейской кавалерийской дивизии огласили 14 мая. Из трех сидевших на скамье подсудимых непосредственных убийц один — Горст Пфлуг-Гартунг — был оправдан; второй — Липман — приговорен к шести неделям домашнего ареста; третий — Фогель — к двум годам и четырем месяцам тюрьмы. Остальных офицеров оправдали, «за отсутствием состава преступления».
Суд мотивировал свой приговор тем, что вина Фогеля в убийстве не может считаться доказанной, но что он, однако, отвечал за благополучную доставку арестованной Люксембург в тюрьму, чего не смог обеспечить; стало быть, он нарушил устав караульной службы и приказ вышестоящего начальства, за что и несет ответственность. Суд счел доказанным отсутствие предварительного сговора между подсудимыми об убийстве арестованных Либкнехта и Люксембург и установил, что расстрел Либкнехта при «попытке к бегству» является вполне законным.
Что касается солдата Рунге, суд посчитал доказанным, что обвиняемый Рунге действовал по мотивам мести и по собственному усмотрению, без сообщников и подстрекателей. А посему и приговорил его, Рунге, к двум годам и двум неделям заключения.
Через три дня обер-лейтенант Фогель бежал из тюрьмы и скрылся в Голландии. Документы для него добыли командование дивизии и полицейское управление в паспортном бюро министерства иностранных дел.
И тогда солдат Рунге обиделся. Почему он один должен отвечать за всех? Почему только он должен нести наказание? Почему он обязан выполнять обещание, данное Иорнсу, — принять всю вину на себя, — если сам Иорнс подло обманул его?
И Рунге написал заявление. Описал гнусный кровавый заговор и его исполнение в той мере, в какой сам знал о нем. И даже назвал имя вскочившего в машину на ходу «неизвестного», ударившего Люксембург по голове чем-то тяжелым, — имя лейтенанта Круля.
Три года заявление Рунге оставалось без внимания. Через три года Круля судили и осудили на шесть месяцев лишения свободы за… «кражу у покойной Люксембург ее личных вещей».
По отношению к остальным приговор военного суда от 14 мая 1919 года остался в силе.
Глава 1 Отец и сын
Впервые он увидел «крестного» 22 сентября 1874 года. Ему как раз недавно минуло три года. Но о своих «крестных отцах» он слышал от родителей с тех пор, как начал сознательно воспринимать мир.
Он знал, что живут они далеко от его родного Лейпцига, в городе, который называется Лондон; видел, как светились лица отца и матери, когда назывались их имена; и в его детском восприятии эти два далеких человека представлялись совсем особенными, не похожими на других людей.
В выписке из церковной книги Томаскирхе (этого он, разумеется, не знал) в графе «Восприемники» значилось: «Д-р Карл Маркс из Лондона…Фридрих Энгельс, рантье в Лондоне…»
Карл Маркс приехал в Лейпциг, на Брауштрассе, И, вместе со своей младшей дочерью Элеонорой по пути из Карлсбада, куда ездил лечить больную печень. Приехал к своему другу Вильгельму Либкнехту, которого ценил как деятеля рабочего движения и любил как человека.
В эти дни, проведенные на Брауштрассе, Маркс был очень нежен с маленьким Карлом и, на удивление ему, оказался совсем простым и добрым, почти как отец. Только маленький Карл находил, что у Карла Большого слишком много волос на голове и на лице и в этих волосах «можно заблудиться».
Трое суток провел Маркс в доме Либкнехтов, и дни эти полны были тихих бесед и горячих споров с отцом и матерью Карла, веселого смеха и шумных игр с детьми.
И долго еще свет этих дней заполнял дом на Брауштрассе. Долго еще родители вспоминали дорогого гостя, которого отец почему-то называл Мавром.
Только много позже узнал Карл, кем был Мавр для отца и друга отца — Августа Бебеля. И еще позже понял, кем был Карл Маркс для человечества…
Так он познакомился с Марксом. Тогда ему было чуть больше трех лет. Двумя годами раньше он впервые познакомился с тюрьмой.
…Впереди чинно, в строгом молчании шли девочки — Алиса и Гертруда, его сводные сестры. Сам он «подошел» к крепостным воротам, сидя на руках у матери. А за воротами с нетерпением ждал первого свидания с семьей осужденный Вильгельм Либкнехт.
За десять дней до рождения Карла — 3 августа 1871 года — Вильгельм Либкнехт и Август Бебель, только недавно выпущенные из окружной лейпцигской тюрьмы, где они просидели сто один день в предварительном заключении, получили извещение: прокуратура доводила до их сведения, что против них возбуждено судебное дело по обвинению в «подготовке государственной измены»; причем Либкнехт дополнительно обвинялся в «оскорблении величества».
«Дело» началось еще летом 1870 года в связи с позицией Либкнехта и Бебеля по отношению к франко-прусской войне. При первом голосовании в рейхстаге военных кредитов оба от голосования воздержались, заявив, что «…как социалисты-республиканцы и члены Международного товарищества рабочих» они являются принципиальными противниками династических войн.
Два воздержавшихся от голосования депутата не могли повлиять на ход событий: рейхстаг утвердил кредиты в сумме 120 миллионов талеров.
Со времени этой сессии на Вильгельма Либкнехта и Августа Бебеля в правительстве стали посматривать косо; при каждом удобном случае поминали их бранными словами и в некоторых социал-демократических организациях, между которыми как раз в это время резко усилились разногласия.
Но пока еще никто не обвинял двух «крамольных» депутатов в «измене родине».
Свой приговор они сами подписали несколько позднее — 24 ноября того же года, когда была созвана чрезвычайная сессия северогерманского рейхстага, чтобы утвердить новые кредиты в 100 миллионов талеров на продолжение войны.
Выступил Август Бебель — один из самых молодых парламентских деятелей и первый представитель рабочего класса в парламенте.
Он, Август Бебель, хочет слегка проанализировать события. Он хочет напомнить, что с той минуты, когда Луи Бонапарт был взят в плен, единственная причина войны сама собой отпала. Он хочет напомнить, что германское правительство уверяло народ, что затеянная война является оборонительной, развязал ее французский император, а немцы вовсе не собирались воевать. Так вот, теперь-то уж война стала явно завоевательной, а вовсе не оборонительной, стала войной против французского народа.
«Не слишком ли много берет на себя этот пролетарий? Не собирается ли он вершить политику страны? — возмутились депутаты. — Не думает ли он, что его «анализ событий» может хоть как-то притупить патриотические чувства лучших представителей общества, собравшихся здесь?..»
Будто не слыша всех этих возгласов, Бебель ядовито напомнил (к вопросу о «патриотизме лучших представителей общества»), что французская буржуазия оказалась куда более щедрой «патриоткой», чем немецкая: первый военный заем в Германии разошелся только на 60 процентов, а во Франции все облигации были раскуплены в два счета.
При этих словах разразилась буря. Толпа депутатов, уязвленных в своих лучших чувствах, бросилась на оратора с кулаками, криками и угрозами заставила его замолчать, не дав закончить речь.
Место Бебеля занял Вильгельм Либкнехт. Воцарилась тишина Но ненадолго? потому что речь Либкнехта по сути своей ничем не отличалась от предыдущей речи, а по форме была, пожалуй, еще «крамольней».
— Правительство, объявившее в июле войну, устранено, — сказал Либкнехт, — а его глава — Луп Бонапарт — сидит в Вильгельмсхее как милый браг короля Пруссии; он ведет роскошную жизнь императора, в то время как немецкие воины проливают кровь на фронте и должны терпеть лишения в борьбе с французским народом, являющимся, несмотря ни на что, братским нам народом и желающим мира с нами. Поистине почетнее быть братом французских рабочих, чем милым братом негодяя на Вильгельмсхее…
Чей-то старческий голос совсем невпопад внятно просипел: «Браво!» Со всех сторон на него зашикали. Депутаты готовы уже были вскочить с мест и повторить предыдущую сцену. Но Либкнехт не стал дожидаться новой бури и быстро договорил:
— Ассигнования, которых от нас требуют, предназначены для проведения аннексий… Но аннексия принесет не мир, а войну. Создавая постоянную опасность войны, она укрепит военную диктатуру в Германии… На основании всего этого я, само собой разумеется, против ассигнований и внес вместе с моим другом Бебелем предложение об их отклонении.
Предложенная резолюция, по мнению депутатов, была вызывающе наглой. Ибо она обязывала рейхстаг отклонить требование об ассигнованиях на дальнейшее ведение войны и — мало того — предложить «союзному канцлеру содействовать скорейшему заключению мира с французской республикой без аннексий какой-либо части французской территории».
Резолюция, разумеется, была освистана. Разумеется, она вызвала гнев и ярость канцлера Бисмарка, который, в сущности, и спровоцировал эту войну. И, разумеется, Либкнехт и Бебель были объявлены «лицами, готовящими государственную измену».
Недолгая, но дружная травля «изменников родины» почти во всей германской прессе, и 17 декабря, за день до провозглашения прусского короля германским императором, Либкнехт и Бебель арестованы и посажены в лейпцигскую окружную тюрьму.
Сто один день длилось следствие. Сто один день находились в заключении два депутата рейхстага. На сто второй их выпустили, взяв честное слово, что они не предпримут попытки к бегству и не покинут пределов Лейпцигского округа.
И вот 3 августа 1871 года, ровно через пять месяцев после подписания мира с Францией, пришло уведомление из прокуратуры. Либкнехт и Бебель подают кассационную жалобу. Жалоба отклонена. В понедельник, 11 марта 1872 года оба предстают перед лейпцигским судом присяжных.
Отличные ораторы, Либкнехт и Бебель дали на процессе хороший бой. Речи их вызвали шум не только в Лейпциге, но и во всей Германии. Докатились и до Лондона. И в разгар суда Либкнехт получил дорогую весточку: письмо от Женни Маркс. Жена Мавра поздравляла обоих «изменников» с их великолепными боевыми выступлениями. Когда был вынесен приговор — два года заключения в крепости, дома Наталия Либкнехт несколько раз подряд перечитала это письмо, словно черпая в нем силы.
Наталия Либкнехт, дочь адвоката Ре, известного прогрессивного деятеля, стойко переносила все невзгоды, вызванные общественно-политической деятельностью мужа, которую она поддерживала и одобряла. Она хорошо помнила своего отца и глубоко уважала его не только как отца, но и как депутата, а затем и президента первого немецкого парламента, заседавшего в 1848 году во Франкфурте-на-Майне; она была умным и мужественным человеком и не пыталась закрывать глаза на те беды, которые могут в любую минуту обрушиться — и уже не раз обрушивались — на ее семью.
…Маленький Карл сидел на руках у матери. Впереди, понимая значение происходящего, тихо и чинно шли сестры. Ворота Губертусбургской крепости закрылись за ними. И впервые маленький Карл очутился на тюремной территории, где уже несколько недель томился его отец.
Ему суждено было много раз ступать на нее. Ему суждено было много сотен дней провести за тюремной решеткой. Ему суждено было предстать перед судом по обвинению в государственной измене.
Случится это тридцать пять лет спустя, в том же городе Лейпциге. На том же месте, где судили его отца. В новом великолепном здании, с большим двухсветным залом с превосходной акустикой. И голос Карла Либкнехта заполнит этот зал, это здание и вырвется далеко за его пределы.
И так же, как отец, будет Карл голосовать против военных кредитов в германском рейхстаге; он один из всех депутатов скажет «Нет!» первой мировой войне. Он пойдет по пути отца, ни на полшага не свернув в сторону. Он пойдет гораздо дальше отца.
Из пяти сыновей Вильгельма Либкнехта только один Карл станет революционером. Он один уже в ранней юности поймет, кем был Мавр для его отца и для друга его отца — Августа Бебеля.
И кем был Карл Маркс для человечества.
Отец, мать, две дочери и пять сыновей — Теодор, Карл, Отто, Вилли и Курт — жили дружно и бедно. В то время когда Карл начал сознательно смотреть на окружающий мир, Вильгельм Либкнехт был редактором партийной газеты «Фольксштаат». Газета выходила три раза в неделю. Редактор подучал 65 талеров в месяц. Семья в девять человек с трудом могла прожить на такое мизерное жалование. И все же вопрос о том — работать или учиться мальчикам? — не стоял: все пятеро получили университетское образование. Теодор, Карл, Вилли стали юристами; Отто — химиком; Курт — врачом.
Карлу не было и семи лет, когда развернулись события, на многие годы определившие положение рабочего движения и социалистической рабочей партии Германии. И определившие положение семьи Вильгельма Либкнехта.
11 мая 1878 года в 3 часа дня некто Хёдель — мошенник и проходимец, исключенный из партии, — совершил покушение на жизнь императора Вильгельма I. Старый император остался невредим — покушение не удалось. Но канцлер Бисмарк, живший в те дни в Фридрихсруэ, едва получив известие о покушении, срочно протелеграфировал в Берлин: «Исключительный закон против социалистов».
Как было не воспользоваться таким случаем для осуществления давно вынашиваемой мечты? Бисмарк отлично понимал, что теперь немецкая социал-демократия, объединившаяся в 1875 году в единую социалистическую рабочую партию, представляет немалую угрозу его, Бисмарка, далеко идущим планам.
23 мая на очередной сессии рейхстага обсуждался проект Исключительного закона против социалистов.
Не дав никому опередить его в прениях, Вильгельм Либкнехт вырвался на трибуну и своим зычным, хорошо поставленным голосом профессионального оратора быстро заговорил:
— Попытка использовать покушение безумца, еще раньше, чем закончено следствие, для того, чтобы провести в жизнь давно подготовленное мероприятие и свалить «моральную ответственность» за недоказанное еще покушение на германского императора на партию, которая осуждает убийство во всех его формах и находит, что экономическое и политическое развитие страны происходит совершенно независимо от отдельных личностей, встречает такое осуждение со стороны всех беспристрастных людей, что мы, представители социал-демократических избирателей Германии, вынуждены заявить: «Мы считаем ниже своего достоинства принимать участие в обсуждении внесенного сегодня в рейхстаг законопроекта, и никакая провокация… не заставит нас изменить это решение. Но мы примем участие в голосовании, потому что считаем своим долгом сделать со своей стороны все, что в наших силах, чтобы не допускать этого беспримерного покушения на народную свободу Каково бы ни было решение рейхстага, немецкая социал-демократия, привыкшая к борьбе и преследованиям, пойдет навстречу новой борьбе и новым преследованиям с уверенностью и спокойствием, которые даются сознанием правоты и непобедимости нашего дела».
На сей раз Исключительный закон провалился. А через несколько дней грянула новая беда. И Либкнехт и Бебель понимали, к чему она приведет.
2 июня из окна дома на Унтер-ден-Линден, в Берлине, доктор Нобилинг, душевнобольной, стрелял в императора и тяжело ранил его. К социалистической рабочей партии этот сумасшедший имел такое же отношение, как сам император. Это, однако, не помешало канцлеру Бисмарку, радостно потирая руки, воскликнуть:
— Ну, теперь-то эти парни у меня в руках! Теперь-то я так их прижму к стенке, что они у меня взвоют!
В Лейпциге, в редакции партийной газеты, собрались социал-демократы. Кто-то заметил, что по городу расклеены телеграммы о покушении, в которых ни слова не сказано, что Нобилинг принадлежит к социалистической рабочей партии.
— Да, уж этого они не смогут нам навязать, — облегченно вздохнул Бебель, — никто из нас даже не знает этого идиота-доктора в лицо, никто не слышал его фамилии и не знает, как его зовут…
Но успокоение было недолгим: едва Бебель договорил, как в комнату вошел Вильгельм Либкнехт. По нахмуренным мохнатым бровям, по взволнованному взгляду все поняли: с дурными вестями.
— Опубликована вторая телеграмма, — глухо выговорил Либкнехт, — Нобилинг заявил на допросе, что он социал-демократ и что у него были сообщники.
Позже оказалось, что сообщение было фальшивкой, выпущенной телеграфным агентством Вольфа. Весьма вероятно — не по своей инициативе. Когда Нобилинг умер в тюрьме, следствие не располагало никакими доказательствами, что кто-либо из социал-демократов имел хоть какое-нибудь отношение к нему или к его покушению.
Но для Бисмарка все это не имело значения.
Травля, как всегда, началась в прессе. Буржуазия, особенно крупная, крайне заинтересованная в пора-Женин социал-демократии, мечтала использовать оба покушения, чтобы задушить рабочее движение. Ненависть к социал-демократии разжигалась и через прессу, и через соглашательские профессиональные союзы, и путем слухов и сплетен, пускаемых неведомо кем среди обывателей.
Задача была — уничтожить социалистическую рабочую партию по возможности так, чтобы она не воскресла. Десятки тысяч рабочих, принадлежащих к социалистической партии, увольнялись с работы без объяснения причин и выбрасывались на улицу домовладельцами У редакторов и сотрудников социалистических газет камнями выбивали окна. К осени травля, террор и бойкот достигли достаточно высокого накала. Правительство сочло, что почва для наступления хорошо подготовлена. Посеянный на такой почве проект Исключительного закона неизбежно должен дать бурные всходы.
И 19 октября сессия рейхстага 221 голосом против 149 приняла Исключительный закон против социалистов.
Утром, на первом заседании, незадолго до того, как законопроект был поставлен на голосование, Вильгельм Либкнехт, в последний раз на многие годы вперед, выступил как представитель фракции социал-демократии. Взволнованное, страстное выступление он закончил пророческими словами:
— Наступит день, когда немецкий народ потребует к ответу за это покушение на его благосостояние, свободу и честь.
Как только закон вступил в силу, град ударов посыпался на партию, на профессиональные союзы, на все, что хоть отдаленно напоминало свободу. В течение нескольких дней была запрещена вся партийная и профсоюзная печать, разогнаны все партийные и союзные организации, запрещены собрания. С запрещением газет и журналов редакторы и весь персонал редакций лишились куска хлеба. В том числе Вильгельм Либкнехт. Все попытки организовать новые газеты неизбежно кончались неудачей: газеты, под какой бы вывеской они ни выходили, неизбежно закрывались, как только число их подписчиков переваливало за сотню. В конце концов партийная организация Лейпцига отказалась от тщетных попыток выпускать свою газету.
Вскоре в Берлине было объявлено «малое осадное положение», и множество партийных деятелей вместе с семьями в течение суток должны были покинуть столицу. Большинство из них направилось в Лейпциг, и партийная — организация города должна была раздобыть им хоть какие-нибудь заработки.
Правительственные «мероприятия» сопровождались массовыми арестами, преследованием социал-демократов во всех видах и формах. И, наконец, 29 июня 1881 года «малое осадное положение», объявленное вслед за Берлином в Гамбурге и других городах, докатилось до Лейпцига.
Теперь уж и Бисмарк, и все правительство, и буржуазия могли быть уверены, что социал-демократическое движение на многие годы умерло.
В самом деле, партия старалась не подавать признаков жизни. Но она была жива. Хотя и не вполне здорова: тактические разногласия в период Исключительного закона вспыхивали в организациях, перешедших на нелегальное положение, все чаще и чаще. Кое-кто, рассчитывая на близкую отмену закона, полагал необходимым на все это время полностью замолкнуть. Другие, в том числе Либкнехт и Бебель, напротив, настаивали на создании партийных газет за границей, чтобы через них общаться с народом, вести пропаганду. Важно было показать, что рабочее движение нельзя остановить, что партия жива и продолжает действовать.
Такая газета была основана в Цюрихе. Называлась она «Социал-демократ». И, к великой досаде всех врагов социалистического рабочего движения в Германии, в ближайших номерах «Социал-демократа» появился отчет о деятельности партии.
«Мы остались тем, чем мы были, и будем впредь такими, каковы мы сейчас», — писалось в отчете. «В эти дни испытаний и проверки каждому надлежит в полной мере выполнять свой долг, отдать все свои силы и способности на служение партии, — было написано дальше. — Мы знаем, что закон против социалистов возлагает на нас еще более серьезные обязанности, и мы проникнуты решимостью выполнить их. Да здравствует социал-демократия!»
Отчет подписали Вильгельм Либкнехт, Август Бебель и другие руководители партии.
Политическая деятельность продолжалась. Но жить становилось все труднее. Заработков не было, а Вильгельму Либкнехту нужно было кормить большую семью, дать возможность детям продолжать образование. Бебель, бесконечно заботливый друг и самый близкий Либкнехту человек, тайком от него написал в Лондон, Энгельсу:
«Не можете ли вы устроить Либкнехту сколько-нибудь сносно оплачиваемое место корреспондента в английской газете, где он бы мог писать, не компрометируя себя…»
Еще труднее стало после 29 июня: как только в Лейпциге объявили «малое осадное положение», Либкнехт и Бебель немедленно были высланы за пределы Лейпцигского округа.
Неунывающие, привыкшие к превратностям судьбы революционеров, они не сомневались в том, что не станет немецкий народ терпеть до бесконечности все те издевательства, которым за последние годы подвергали его Бисмарк и компания. Ни один из них не мог сказать, когда будет отменен Исключительный закон, но они знали — он должен быть отменен: их собственная борьба, борьба их соратников тому залогом.
Ранним июльским утром оба друга отправились пешком вдоль железнодорожной линии Лейпциг — Дрезден в поисках временного пристанища. Они шли довольно долго, пока не добрались до станции Борсдорф. За станцией лежал поселок, зеленый, привлекательный и — нищий. Не сговариваясь, решили остановиться в нем. И довольно быстро убедились, что первое ощущение не обмануло: дома, в которые они заходили, не были домами — это были лачуги, жалкие, не слишком чистые, в которых ютились ремесленники и крестьяне. Наконец им повезло: дом местного портного оказался более приличным, чем другие, и портной сразу же согласился сдать друзьям две небольшие комнатки.
Повезло, да ненадолго: на следующий день, когда хозяин неведомо откуда узнал, кого приютил, он потребовал немедленно освободить помещение.
Лишь спустя некоторое время, в течение которого Либкнехт ютился в крохотной комнатушке полуразвалившегося домика на окраине поселка, а тяжело больной Бебель жил в Лейпциге, удалось, наконец, прочно обосноваться в Борсдорфе, в довольно сносных условиях. Бебель снял небольшой домик, где у него были две комнаты, у Либкнехта — три. Обе семьи оставались в Лейпциге, но все воскресные дни, праздники и каникулы проводили в Борсдорфе.
Карлу к тому времени исполнилось десять лет. Круглолицый, смуглый мальчуган, с копной круто завивавшихся волос и умными красивыми глазами; живой, добрый и общительный, он все больше льнул к отцу, все внимательней прислушивался к его разговорам с друзьями, все пристальней присматривался к его жизни. Отец стал предметом сознательного преклонения, все сильнее одолевало Карла стремление быть всегда и во всем похожим на него. Он видел, как с улыбкой на губах отец отправился в суд, где должны были судить его и Бебеля за сочинение и распространение предвыборной прокламации. Видел, как спокойно, почти весело ушел он отбывать наказание — два месяца тюрьмы, словно уезжал в очередную деловую поездку. Он знал, что в Борсдорфе, находящемся на самой границе осадной области, учрежден постоянный жандармский пост, специально для наблюдения за отцом и Бебелем Знал, что за их домом установлена неусыпная слежка, и восторгался смелостью людей — товарищей отца, приезжавших к ним вопреки очевидной опасности.
Он был тогда уже учеником гимназии Николае в Лейпциге. И тут впервые пришлось ему на практике убедиться в правильности и полезности отцовского лозунга: «На каждый выпад врага надо отвечать двумя». Его, сына Вильгельма Либкнехта, пытались бойкотировать и некоторые учителя и кое-кто из гимназистов; пытались при нем непочтительно, с издевкой говорить об отце, этом «государственном изменнике», этом «социал-демократишке»; к нему непомерно придирались наставники, его задирали соученики. Он принимал любой вызов, пресекал любую дерзость в адрес отца, лез в драку, где нельзя было обойтись ядовитыми речами, изо всех сил старался отлично учиться, чтобы идти первым в классе и вызвать к себе — к сыну Вильгельма Либкнехта — почтительное уважение.
Отцу было к тому времени далеко за пятьдесят, но живость двадцатилетнего юноши, пылкость и горячий темперамент все еще не покинули его. Несокрушимый оптимизм отца, его непримиримость к любой несправедливости, и в большом и в малом, его страстность в борьбе за дело партии передавались сыну. Отец никогда не терялся, ни при каких, даже, казалось бы, самых безнадежных обстоятельствах; никакие удары, направленные против него или против партии, не могли смутить его. «На каждый выпад врага надо отвечать двумя» — этот лозунг он сам претворял в жизнь. При всей своей занятости, при всей серьезности и опасности работы он не утратил с годами способности восторгаться природой, приходить в умиление от лунной дорожки на крохотном озерце, заслушиваться трелями певчей птицы, восхищаться трудолюбием муравьев.
Как и многое другое, Карл воспринял от него любовь к природе (впоследствии он серьезно занялся изучением естественных наук). Эта любовь, это знание природы скрасили ему немало одиноких часов за тюремной решеткой, не однажды отвлекали от горестных мыслей.
Позже. В его будущей большой жизни.
А пока, в ранней юности, его одаренная натура, пожалуй, больше всего проявила себя в музыке. Он любил музыку и сам прекрасно играл на рояле. Сильнее и глубже всего он чувствовал Баха и Бетховена. Их он исполнял особенно увлеченно, горячо.
Музыка и книги, книги и музыка. Без них мир казался бы ему пустыней. Гёте, Клейст, Фонтане, Виргилий и Гораций, Шиллер и Шекспир, один из самых любимых; монологи шекспировских героев он мгновенно запоминал и много лет спустя мог по памяти безошибочно цитировать их.
Восемнадцатилетие Карла было отмечено двумя событиями. Одно — государственное, общенародной значимости; другое — его, личное.
В феврале 1890 года при выборах в рейхстаг преследуемая, гонимая, придушенная социал-демократия получила небывалое число голосов: около полутора миллионов. Это обеспечивало тридцать пять депутатских мандатов. Первым результатом выборов было падение Бисмарка: «Железный канцлер» вынужден был выйти в отставку. Вторым — отмена Исключительного закона против социалистов: 1 октября 1890 года германский рейхстаг отказался продлить его.
Партия вышла из подполья. В доме Либкнехта, чья роль в борьбе за народные права была немаловажной, праздновали победу.
Праздновали и другое, семейное событие: Карл сдал экзамены на аттестат зрелости и поступил в Лейпцигский университет на факультет права и экономики.
Был он жаден до знаний, обладал отцовской волей и энергией и день загрузил до отказа: кроме лекций на своем факультете, умудрялся посещать лекции по естествознанию и философии. Он пытался вникнуть в суть каждого предмета, определить свое собственное отношение к нему.
Атмосфера борьбы за интересы рабочего класса, в которой он вырос, придала его юности определенную окраску. Но до сих пор он знал только одну — практическую — сторону борьбы. Теперь он считал себя достаточно созревшим, чтобы познать теорию этой борьбы и разобраться в ней. Его недолгий путь — от свидетеля партийных бесед и споров в доме отца до первого студенческого кружка, где изучали труды Маркса, — был закономерен. Для него — не для всех — кружок этот оказался первой ступенью высокой лестницы, ведущей к овладению марксизмом.
В том же году он сделал и следующий шаг — шаг к непосредственному участию в борьбе пролетариата: впервые посетил многолюдное собрание берлинских рабочих. Вильгельм Либкнехт выступил на этом собрании с речью «о борьбе идейным оружием».
После отмены Исключительного закона шестидесятичетырехлетний Вильгельм Либкнехт переживал третью молодость. Победа, увенчавшая более чем десятилетнюю, неимоверно трудную борьбу, влила в него новые силы. Товарищи называли его Стариком, но он еще мог потягаться с любым молодым. С радостью взялся он за новое дело: с января 1891 года он был назначен главным редактором газеты «Форвертс» — центрального органа немецкой социал-демократической партии.
Семья Либкнехтов переехала в Берлин.
Длинные прямые улицы, серые фасады домов, выстроившихся строгими рядами, как шеренги солдат, омнибусы и конка, слабое освещение по вечерам — уныло выглядел Берлин после шумного, красочного Лейпцига. Бывшая резиденция прусских королей, маленький город только начинал становиться городом, достойным быть столицей Германской империи. Роскошное, тяжеловесной архитектуры здание рейхстага еще не было закончено, и только Бранденбургские ворота, построенные в стиле классицизма, резко выделялись на тусклом фоне города.
Неуютность нового местожительства, которую остро ощутили Либкнехты, несколько сглаживалась встречами с давнишними друзьями отца, знакомством с новыми лицами. На эти встречи Старик являлся со всеми пятью сыновьями. Он нежно любил семью и получал истинное удовольствие, когда мог во главе всей «гвардии» показаться на людях. На одной такой встрече, на ужине, устроенном в честь Либкнехта его приятелем и товарищем по партии доктором Борхардтом, Карл впервые познакомился с русскими студентами. Знакомство это, приведшее его затем в русскую колонию в Берлине, имело свое продолжение во все последующие годы жизни Карла Либкнехта.
Как только Карл попал на многотысячный митинг столичных рабочих, Берлин сразу же_ перестал казаться ему мрачным и унылым. Эти митинги и собрания проводились в разных концах города чуть ли не ежедневно и поражали своей организованностью и сплоченностью. Постоянное общение с революционерами дома, на митингах, на рабочих собраниях; изучение философии, права и естествознания; чтение произведений Маркса окончательно определили мировоззрение Карла. Уже в двадцать лет он отличался самостоятельностью взглядов и суждений и поражал своих старших товарищей необычной для юноши зрелостью этих взглядов. Он ничего не принимал на веру, его аналитический ум требовал детального разбора того или иного утверждения, он старался до всего докопаться сам, но уж если во что-то начинал веровать, этой вере он не изменял ни при каких обстоятельствах.
В двадцать два года Карл Либкнехт окончил университет, получив степень кандидата юридических наук. И сразу же был призван в армию.
Казарменная муштра, варварское отношение к солдатам — не как к людям, как к скоту, — насаждение безудержного шовинизма — все это открылось глазам молодого рекрута.
Воинская часть гвардейских саперов стояла в Потсдаме. Здесь рекруты должны были принять присягу на верную службу кайзеру Вильгельму II. И сам кайзер держал перед ними речь:
— Для вас существует только один враг — мой враг. При теперешних социалистических интригах может случиться, что я вам прикажу расстреливать ваших собственных родственников, братьев и даже родителей… Но даже тогда вы должны выполнить мой приказ без малейшего ропота…
Так встретила армия убежденного социалиста Карла Либкнехта. Можно легко представить, какое омерзительное впечатление произвела на него кайзеровская речь, какую бурю внутреннего протеста вызвала она. Но даже из этой гнусной речи он сумел почерпнуть полезное для себя — он понял: кайзер, могучий всегерманский император, боялся революции.
Два года, два страшных года находился Карл Либкнехт в армии. Два года наблюдал он нечеловечески жестокое обращение с солдатами и раз навсегда понял: дело не в том, хорош или плох данный ефрейтор, майор, генерал; дело в том, что жестокость — основа прусской армии, основа всякого милитаризма. Милитаризм без жестокости немыслим, потому что существует неустранимое противоречие между самим «материалом» и тем, для чего его готовят. «Материал» — это молодые рабочие и крестьяне, чьи интересы находятся в резком противоречии с задачами милитаризма; они приходят в армию, не понимая, зачем и от кого нужно им защищать кайзера, капитализм и реакцию. Вся их предыдущая жизнь, воспитание, которое они получают в пролетарской или крестьянской семье и на производстве или на учебе, враждебны милитаризму, его намерению сделать их бездушными автоматами для стрельбы по указанной цели или, наоборот, превратить в не менее бездушное пушечное мясо. И многие юноши в силу своего невежества или слабости характера выходили из армии прекрасно подготовленными для тех задач, которые военщина перед собой и перед ними ставила.
Как из тюрьмы, вернулся Карл с военной службы. А потом…
Но тут начинается тот период жизни Карла Либкнехта, о котором почти ничего не известно. Достоверно известно только, что после неоднократных и тщетных попыток найти работу — фамилия Либкнехт была для работодателей плохой рекомендацией — в каком-либо суде или адвокатской конторе он осел, наконец, в Вестфалии, сначала в Арнсберге, затем в Падеборне, и в течение нескольких лет проходил там стажерство; известно, что в 1897 году защитил в Вюрцбургском университете докторскую диссертацию и получил диплом доктора юридических и политических наук и что в 1899 году, вернувшись в Берлин, начал самостоятельную деятельность в адвокатской конторе старшего брата Теодора.
Пролить свет на эти годы могли бы письма и фотографии. Но ни писем, ни фотографий нет. И все биографы вынуждены очень скупо и немногословно освещать эту полосу жизни молодого Либкнехта.
Немногим больше знала и вдова Карла Либкнехта — Софья Борисовна Либкнехт.
Софья Борисовна жила в Москве, и в январе 1964 года отметила свой восьмидесятилетний юбилей. Как-то, беседуя с ней, я посетовала, что нигде не могу найти ни каких-либо сведений о жизни ее мужа во второй половине девяностых годов, ни следов какой-либо переписки.
— Между тем письма были, — сказала Софья Борисовна, — были и письма и фотографии, и все это — в большом количестве. По ним можно было составить полное представление о том, что делал мой муж в те годы изо дня в день, что думал, каковы были его планы, как он выглядел. Они были, но пропали безвозвратно. Письма к его первой жене — Юлии Парадис.
И Софья Борисовна рассказала мне трагическую историю этих писем и фотографий.
— После отмены Исключительного закона против социалистов Вильгельм Либкнехт со своей второй женой Наталией и пятью сыновьями переехал из Лейпцига в Берлин. Но в Лейпциге остались их сердца — Берлин был им чужд. Было, правда, два обстоятельства, которые вскоре примирили Вильгельма Либкнехта со столицей: деятельность берлинского рабочего класса и… Грюневальд. Часто по воскресеньям семья Либкнехтов предпринимала прогулки в Грюневальд совместно с семьей Парадис. Сначала доброжелательное общение, а затем и большая дружба связала обе эти семьи. Об этом рассказывали и фотографии воскресных прогулок по Грюневальду, на которых запечатлены старый Либкнехт с женой и сыновьями и веселый Парадис с дочкой Юлией, очень миловидной и симпатичной молодой девушкой. Она была, как я слышала от моего мужа, приятельницей всех пяти сыновей Вильгельма. И все пятеро были в нее влюблены. Предпочтение было отдано Карлу, и в мае 1900 года они поженились. В 1915 году, когда мой муж был призван в армию, он показал мне шкатулку с его письмами к первой жене. Это были письма времен Арнсберга, Падеборна, Вюрцбурга, письма из Глаца, США и другие. Шкатулку мой муж отдал на сохранение своему младшему брату доктору Курту Либкнехту, жившему в Веддинге. А через двадцать восемь лет, во время второй мировой войны, шкатулка с письмами погибла под развалинами дома, куда попала одна из самых больших бомб, сброшенных на Берлин… Та же гибель фатально постигла и альбомы с фотографиями и многое другое, принадлежавшее моему мужу. В 1925 году, когда мы — я и дети — покинули нашу квартиру в Штеглице, после долгих мучительных размышлений я пришла, наконец, к определенному решению: библиотеку моего мужа, альбомы с семейными фотографиями, его частные бумаги — все, относящееся к его юношескому периоду и первому браку, — временно поместить в его рабочем кабинете в адвокатской конторе, где когда-то работал он сам, а теперь его брат Вилли. Большая библиотека была расставлена на полках, а все ценные бумаги, письма и фотографии положены в письменный стол и заперты. Ключ остался у меня. Я знала, что его братья ни к чему не прикоснутся, знала и то, что теперь могу быть спокойна — все сохранится в комнате, которая столько лет была связана с моим мужем теснее, чем его кабинет в нашей квартире. Комната все еще хранила неистребимый запах бесчисленных сигар, которые он здесь выкурил… Я не знаю точно, в каком месяце и в каком году во время войны упала бомба в этот дом, на Шоссештрассе, 121, только бомба упала и разбила весь дом и все, что в нем было… Так погибло все. Остались только фотография Юлии на прогулке в Грюневальде и два коротеньких письма Карла к ней — из Глаца и США, которые я позже нашла среди его уцелевших бумаг…
Письма погибли безвозвратно, их не вернуть. И нельзя домыслить мысли юного Карла Либкнехта, оставшиеся неизвестными его биографам, как нельзя придумать события, каждодневно с ним случавшиеся, людей, с которыми он встречался.
В 1899 году он вернулся в Берлин с дипломом доктора юридических наук, с правом на адвокатскую практику, с намерением поскорее жениться на Юлии. И с твердым решением посвятить свою жизнь делу рабочего класса.
Став столичным адвокатом, он очень скоро превратился в профессионального революционера.
Вопрос о том, к какому крылу социал-демократической партии он должен примкнуть, не возник перед ним: он встал на сторону революционной части партии. Он не зря изучал многие годы экономику и философию — его мировоззрение вполне определилось к тому моменту, когда он начал свою партийную деятельность. В силу своей горячей натуры, бурного темперамента он ничего не делал наполовину: в политическую работу он включился сразу очень активно и, к немалому удивлению старых членов партии и неудовольствию многих из них, с первых же шагов проявил такую самостоятельность суждений, такой талант оратора и пропагандиста, что очень быстро завоевал себе авторитет среди народа и рядовых социал-демократов.
Его первое серьезное выступление посвящено было самому важному для того момента вопросу партийной жизни: борьбе с ревизионизмом. Он выступил в одном избирательном округе Берлина с речью «Тактика социал-демократии и предложения Бернштейна»[1].
Бернштейн — один из партийных лидеров, идеолог реформизма и зачинатель ревизионизма, проповедовал «устарелость» марксизма. Германская социал-демократия, занимавшаяся главным образом парламентской, просветительской, кооперативной работой, не дала должного отпора Бернштейну. Выступление Карла Либкнехта не пришлось по вкусу большинству партийных руководителей, не пытавшихся бороться с оппортунизмом. Когда же Карл Либкнехт в декабре 1899 года на одном из рабочих собраний стал настаивать на организации массовых выступлений рабочих, доказывал насущную необходимость более действенных, наступательных форм борьбы, партийные вожди насторожились.
Молодого адвоката называли «горячая голова» — не все вкладывали в эти слова доброжелательный смысл.
На заседании правления социал-демократической партии Август Бебель, сдерживая радость, сообщил, что сын Старика — Карл Либкнехт — решил «посвятить свою жизнь служению делу рабочего класса». И лидеры партии вполне серьезно поручили Бебелю следить, чтобы в результате деятельности молодого Либкнехта партия «не потерпела ущерба».
Кем стал для партии, для немецкого пролетариата, для германской революции Карл Либкнехт — показало будущее. Но официальное руководство германской социал-демократии действительно немало «терпело» от него. Очень скоро Карл высказал свои мысли на тему о партийной тактике — в первой же серьезной статье, опубликованной в теоретическом органе германской социал-демократии журнале «Нойе цайт». Он писал, что революционную борьбу нельзя ни на минуту ослаблять, что такое ослабление равносильно самоубийству партии, что революция должна все время идти по восходящей линии, что энергия партии должна год от года, месяц от месяца возрастать, а не падать. Он жестко и четко критиковал ревизионизм и его теорию мирно-постепенного врастания в социализм на том этапе становления империализма, когда только революционный взрыв мог изменить социальное и государственное устройство страны.
Он писал в этой статье, иронически названной «Новый метод»: «Сердце и голова обычного буржуа не откроются нам ради красивых глаз социал-демократии. Нет!.. Спасая себя и возлюбленные свои прибыли, они время от времени — добровольно! — кидают кусок «кровожадной волчьей стае» пролетариата, который уже гонится за ними по пятам».
Придет время, и Карл возглавит эту «погоню». Придет время, и те, кто опасался «ущерба» от его деятельности, перейдут в стан его врагов. Они предадут и Карла, и партию, и рабочий класс.
Но придет время — и оправдаются пророческие слова Вильгельма Либкнехта, что рожденное на поле боя немецкое государство будет беспрестанно катиться от одного поворота к другому, от войны к войне, и в конце концов оно «должно рассыпаться на поле боя или от революции снизу…»
Вильгельм Либкнехт умер 7 августа 1900 года.
До последнего часа он продолжал редактировать «Форвертс», до последнего часа не утрачивал веселого, заразительного оптимизма. И бешеной работоспособности.
Пять часов шло траурное шествие по улицам германской столицы — проводить Старика приехали представители рабочего движения из всех стран Европы.
Если бы Вильгельм Либкнехт мог приоткрыть хоть один глаз, он, вероятно, воскликнул бы: «А я и не думал, что до сих пор еще столь популярен в массах!» И это было бы вполне в его духе.
Трудно было поверить в смерть «солдата революции», как он сам любил себя называть. Трудно было поверить, что это его, недавно еще такого жизнерадостного и подвижного, приняла земля кладбища Фридрихсфельде.
Но голос его снова зазвучал в речах его сына Карла. И его перо, острое, ядовитое, пламенное, было подхвачено рукой его сына.
Глава 2 «Я знаю нечто действительно позорное…»
За время многолетнего общения с семьей Вильгельма Либкнехта, за четыре года замужества фрау Юлия успела узнать, что такое жизнь революционера. И хотя ее муж был таким же адвокатом, как и старший шурин, и хотя в их общем адвокатском бюро оба они были равны, она понимала, что равенство это распространяется только на их профессию, но не на общественно-политическую деятельность.
Она всячески старалась оградить мужа от излишней загруженности, от переутомления бесчисленным количеством дел, которые он брал на себя. Она боялась за судьбу семьи; зная его горячий нрав, постоянно ждала неприятностей с полицией или судом.
Она оберегала семью и оберегала мужа, когда это было в ее силах, частенько прибегая к наивным женским хитростям. Бывало, когда в кабинете Карла слишком долго засиживались товарищи по партии или русские студенты, фрау Юлия подсылала мальчишек, и они, шумно вбегая, бросались к отцу и кричали:
— Довольно тебе здесь разговаривать! Мы скучаем без тебя!
Собственно, кричал только старший, маленький Роберт лопотал что-то нечленораздельное. Ухватив отца за руки, они тянули его в другую комнату.
Смущенный, он пытался превратить это в шутку — раскатисто хохотал, отбиваясь от цепких сыновних рук, бегал по комнате, сшибая на пути стулья, и требовал:
— Догоните, вы же молодые! Поймаете — тогда ваша взяла…
В конце концов приходилось брать малыша на руки и под эскортом старшего отправляться к жене. Обыкновенно в таких случаях гости извинялись и, ссылаясь на неожиданные дела, уходили. А Карл, виновато глядя на них, просительным тоном уговаривал подождать.
Когда Карл сказал, что собирается ехать в Кенигсберг, фрау Юлия, разумеется, не возразила ни одним словом. Но на душе у нее было неспокойно. Поездка в Кенигсберг была важной и деловой, и фрау Юлия не позволила себе выказывать волнение. Она осталась в Берлине с двумя сыновьями и терпеливо ждала возвращения мужа.
Карл Либкнехт был защитником одного из девяти немецких социал-демократов, обвиненных в «содействии попыткам ниспровержения существующего в дружественной стране строя». «Дружественной страной» в данном случае именовалась самодержавная Россия.
Но, на беду организаторов этого судебного процесса, с другой Россией — Россией революционной — был близок адвокат и социалист Карл Либкнехт.
Вся русская колония в Берлине сдружилась с Карлом Либкнехтом; он постоянно посещал вечера, которые устраивали русские товарищи в германской столице, чтобы раздобыть денег в пользу русской революционной партии. Частенько к нему обращались за советом, когда кто-нибудь из русских «попадался» и ему угрожал арест или высылка по политическим причинам; когда дело требовало выступления в печати или в рейхстаге (в последнем случае он прибегал к помощи Бебеля). Он никогда не отказывался, брал на себя защиту в самых, казалось бы, безнадежных делах и делал все это так, как не смог бы никто другой.
Примерно за два-три года до Кенигсбергского процесса Либкнехт, получивший уже известность в Берлине как защитник прав пролетариата, столкнулся с делом революционера Петра Ананьевича Красикова. В то время в Берлине, как и в некоторых других немецких городах, проживало несколько «нелегалов» из России. Они занимались главным образом организацией перевозки запрещенной литературы и газеты «Искра», печатавшейся с конца 1900 по май 1902 года сначала в Лейпциге, а потом в Мюнхене. Газета должна была по мере выхода ее номеров аккуратно доставляться в Россию.
«Вообще весь гвоздь нашего дела теперь, — писал Ленин в письме Красикову, — перевозка, перевозка и перевозка. Кто хочет нам помочь, пусть всецело наляжет на это».
Красиков, бывший одним из доверенных лиц ЦК в Берлине, попался за проживание по чужому паспорту. Это грозило сначала заключением в одной из немецких тюрем, а затем — и это было самым страшным — выдачей царским жандармам. Красиков оказался в чрезвычайно опасном положении и понимал, что надежды на благополучный исход у него почти нет.
Надежда явилась в лице Карла Либкнехта.
— Защиту в процессе я беру на себя, — заявил он Красикову, придя к нему в тюрьму, — остальное зависит от решения суда.
Красикова, разумеется, осудили — блестяще построенная защитительная речь Либкнехта не помогла; Либкнехт подал кассационную жалобу, а до получения ответа взял Красикова на поруки. При этом он внес залог в тысячу марок. Внес, зная, что деньги эти никогда уже к нему не вернутся: он попросту переправил своего подопечного в Штутгарт, где за дальнейшее спасение Красикова взялась Клара Цеткин.
Тогда же Либкнехт познакомился и с другим агентом русского ЦК — Мартыном Николаевичем Лядовым.
«Первый раз я пришел к нему с доктором Вечесловым и Бухгольцем, — вспоминает Лядов. — В то время русские шпионы совершенно не стеснялись в Берлине. Под покровительством прусской полиции они действовали совершенно как дома. Даже в канцелярии Берлинского университета было предоставлено место русским сыщикам. Особенно охотились они за доктором Вечесловым, который был давно известен как представитель «Искры». И вот как раз перед этим квартира, в которой жил за городом Вечеслов, подверглась ограблению. По всей картине этого налета было ясно, что орудовали не простые воры. В бедной студенческой обстановке Вечеслова нечем было поживиться простым ворам. Украдена была главным образом переписка, перерыты были все книги и рукописи. Одним словом, было ясно, что под видом ограбления произведен был настоящий российский обыск. В это же время у ряда русских товарищей воровались письма из письменных ящиков. Вот по этим делам мы пришли посоветоваться с Карлом Либкнехтом. Он сразу же заинтересовался этим делом: «Надо разыскать эту шайку, надо собрать как можно больше материала, и мы заставим Бебеля выступить с этим материалом в рейхстаге». Он сейчас же вызвал нескольких рабочих — социал-демократов, и мы тут же договорились организовать настоящую контрразведку.
И действительно, на некоторое время мы под руководством Карла Либкнехта превратились в настоящих Шерлоков Холмсов… Самое главное, нам удалось установить имя начальника сыщиков. Жил он в богатой вилле за городом под именем генерал-инженера Гартинга. На деле оказался старым провокатором Ландэзеном.
Во всем этом деле Либкнехт проявил колоссальную энергию и поразительную находчивость. Было очень весело с ним работать. Мы за это время очень близко с ним сошлись. Его, видно, не удовлетворяла спокойная работа германской социал-демократии. Он с жадностью расспрашивал про нашу нелегальную российскую работу.
— Вот это было бы по мне, — говорил он, — это не то что наша будничная парламентская работа…» Пользуясь материалами, собранными группой Лядова с помощью Либкнехта, Август Бебель выступил с запросом в рейхстаге.
— Проживающие в Германии русские, — с трибуны парламента говорил старейший его депутат, — преимущественно студенты, приехали к нам получить высшее образование. Они отнюдь не являются анархистами, как это пытаются представить правительство и реакционная печать. Высылка из Германии так называемых «нежелательных иностранцев» на русскую границу, по существу, является умышленной выдачей русских их палачам для ужасной гибели без судебного разбирательства в рудниках Сибири или в темницах Петропавловской крепости. Ни одно правительство в мире не соглашается оказывать России такие любезные услуги! Германское правительство и Германская империя готовы стать чистильщиками сапог у «батюшки-царя»…
Запрос Бебеля не остался без ответа: ответ, циничный и наглый, он получил от министра иностранных дел Рихтгофена.
— Да, мы следим за русскими студентами, потому что все они анархисты. А русские студентки приезжают сюда только для свободной любви… Наша обязанность содействовать с особенным старанием самому тесному соприкосновению полицейских учреждений различных соседних государств…
Он не очень-то стеснялся, этот министр!
Голос Бебеля остался голосом вопиющего в пустыне — парламент аплодировал Рихтгофену.
Но за стенами парламента слова министра вызвали волну возмущения. Простые люди резко высказывались на митингах и собраниях. О «русском курсе» прусских правителей говорил Либкнехт на многотысячном собрании в берлинском районе Моабит — об услугах, оказываемых русскому царизму, о позоре, которым покрывает такая политика весь немецкий народ. Собрание выразило сочувствие борцам против самодержавия, протест против поддержки русского деспотизма и уверенность, что протест этот найдет живой отклик в сердце рабочего класса Германии.
А русское студенчество, живущее в Берлине, — как оно реагировало на выступление министра? Русские студенты протестовали открыто и смело; протест их напечатали некоторые падкие на сенсации газеты. В Берлине только ахнули: иностранцы в Германии были настолько бесправны и запуганы, настолько не смели поднять свой голос, что поведение русских вызвало изумление широкой публики и гнев самого рейхсканцлера Бюлова.
Рейхсканцлер разразился площадной бранью на очередной сессии парламента, он закидал русскую молодежь кучей оскорблений и с пеной у рта выкрикивал грязные антисемитские лозунги.
Вот тут-то вмешался в дело Карл Либкнехт. Однажды вечером, вскоре после постыдного выступления Бюлова, он пригласил к себе нескольких русских товарищей. Пожалуй, никогда еще не видели они его таким возбужденным, как в этот вечер. Лицо Карла было покрыто густым румянцем, добрые умные глаза гневно сверкали под стеклами пенсне; он не выпускал изо рта сигары, и дым от нее густо висел в комнате.
Дробно постукивая тонкими пальцами по столу, с трудом сдерживаясь, он громко сказал — не сказал, а потребовал:
— На это новое оскорбление надо дать новый, еще более резкий отпор. Надо так ответить, чтобы вся эта шваль убедилась, что никому не страшны ее угрозы! Мы сейчас же подготовим резолюцию, потом вы на большом собрании подпишете ее. Все, кто придет! А потом — потом мы ее размножим и разошлем не только во все газеты, но и всем депутатам рейхстага… Потому что нет уверенности, что большинство из них вообще-то читает какие-нибудь газеты!
Все так и было сделано: полная достоинства и возмущения резолюция, подписанная многими десятками русских — участников большого собрания, на сей раз была направлена против самого рейхсканцлера.
Неслыханная дерзость кучки молодых иностранцев ошеломила всех. В рабочих кварталах выступление произвело огромное впечатление. В души рабочих, которые после отмены Исключительного закона против социалистов не подвергались личному риску за участие в борьбе, этот мужественный шаг заронил глубокие симпатии к русскому революционному движению.
Шесть русских студентов были тут же высланы за пределы Германии. Следом за ними отправились секретные донесения «дружественной полиции» в Россию. Бюлов отыгрывался как мог. Но и студенты не сдавались.
В час отъезда высланных из Берлина на вокзале собралось множество народу. Многочисленные полицейские чины, не сводя глаз с толпы, особенно пристально наблюдали за русскими студентами и студентками. И тут произошел небывалый в Берлине случай: в момент отхода поезда русские запели:
Смело, друзья, не теряйте Бодрость в неравном бою!.И все, кто был на платформе, подхватили мелодию…
В этой толпе звучал и голос Либкнехта. Совершенно счастливый этой неслыханной в Германии открытой демонстрацией русских товарищей, с трудом сдерживая радостную улыбку, он пел вместе с остальными.
Результаты «студенческой эпопеи» сказались очень скоро: рабочие Берлина, а за ним и других германских городов активно заинтересовались историей Российской социал-демократической партии и рабочего движения в России. Немецкие пролетарии особенно вникали в детали конспиративной работы, совершенно неизвестной им.
Энергично взялся Либкнехт за пропаганду истории революционного движения в России — устраивал нелегальные собрания, на которых выступали русские партийные деятели, сам проводил беседы. Он подготовил молодых агитаторов, направил их во многие немецкие города с докладами о надвигающейся русской революции.
В то время в Берлине жил С. А. Пятницкий, возглавлявший хорошо законспирированную группу русских революционеров. Группа эта переправляла в Россию нелегальную литературу и помогала русским товарищам, вынужденным покинуть родину, устроиться за границей. Пятницкому срочно понадобилось найти склад для хранения литературы. Кто-то посоветовал ему обратиться к Либкнехту, и, конечно, Либкнехт быстро и успешно провел это дело: нелегальную экспедицию он устроил в подвале огромного здания, занятого редакцией и типографией газеты «Форвертс».
Не было ничего удивительного в том, что адвокат Карл Либкнехт (правительство знало о его принадлежности к социал-демократической партии, но понятия не имело о его активной связи с русскими революционерами) взялся защищать одного из девяти арестованных немецких социал-демократов, помогавших переправлять нелегальные материалы в царскую Россию. И ни судьи, ни правительство, ни русские дипломаты, стоявшие за спиной этого процесса, не думали, что участие Либкнехта принесет им какие-либо неожиданности.
Царские власти были не на шутку встревожены потоком нелегальной литературы, все шире проникавшей в Россию. Русский консул в Кенигсберге Выводцев не раз уже доносил посольству в Берлине, что на имя парикмахера Новагродского из неизвестного адреса поступают тюки с газетами, брошюрами, листовками на русском и латышском языках. Выводцев обратился в кенигсбергскую полицию, полиция изъяла на таможне девятнадцать образцов брошюр и доставила их консулу. Выводцев донес об этом в Берлин; оттуда последовало указание от русского посла Остен-Сакена усилить слежку за русскими, проживающими в Германии и известными в России как «революционные деятели». Такое же указание получили консулы и в других немецких городах. Сеть русских полицейских агентов значительно расширилась, германская полиция охотно и активно помогала им. Во главе этой шпионской сети был поставлен тот самый Гартинг, о котором с помощью Либкнехта были уже осведомлены русские «нелегалы». «Главный русский шпион» получал оклад, равный окладу прусского министра, — 36 тысяч марок в год и должен был оправдывать эти большие затраты царского правительства. Что и делал с усердием.
В начале 1903 года вблизи Тильзита был задержан транспорт с русской литературой, подготовленной к контрабандной отправке в Россию. Вслед за этим в Тильзите и Кенигсберге было арестовано несколько социал-демократов, и прусское министерство юстиции предложило русскому правительству возбудить преследование против девяти человек, активно содействовавших транспортировке нелегальной литературы.
Остен-Сакен немедленно последовал совету своих немецких друзей и возбудил преследование против девяти членов социал-демократической партии Германии.
Была только одна загвоздка, способная сорвать все дело: согласно прусским законам наказанными могли быть только те граждане Германии, которые совершили преступление против государства, охраняющего интересы Германии на основе взаимности. Но в русском законодательстве не было подобной статьи, значит действия, совершаемые немцами против русских властей, не подлежали ни судебному преследованию, ни наказанию. Короче говоря, задуманный процесс был абсолютно противозаконен. Дело против немецких рабочих, помогавших русским революционерам, с точки зрения закона, не могло быть возбуждено.
Могла ли такая малость послужить препятствием для германского кайзера, германской юстиции, германского суда? Конечно, нет! Тем не менее надо было сохранить хоть какую-то видимость исключительных обстоятельств, при которых право исходить из «сути, а не из буквы» закона становилось как бы необходимостью.
Слишком заманчиво было нанести публичный удар рабочему движению двух таких стран, как Германия и Россия. Слишком велик соблазн гласным путем придушить это движение хоть в какой-то степени. Любые средства для такой цели были хороши!
И девять немецких рабочих объявляются пособниками банды убийц и анархистов…
Такое обвинение требовало незыблемого подкрепления фактами. Фактов не было — их следовало создать. Сфабриковать отсутствующие материалы взялся Выводцев. Именно ему поручили «перевести» на немецкий язык некоторые из конфискованных брошюр. И Выводцев сел за «перевод». «Творчество» оказалось не из легких: автору «перевода» приходилось выдергивать отдельные фразы из разных абзацев, страниц и даже разных брошюр, искусственно соединять между собой, сдабривать выдержками из революционных песен и террористических произведений эсеров.
Фальсифицированный перевод был заверен соответствующими подписью и печатью и передан германским властям. Он-то и лег в основу кенигсбергского процесса.
Процесс должен был проходить по заранее намеченному строгому плану, как проходили и прежде десятки угодных кайзеру процессов. Правда, на этот раз мировая общественность проявила, пожалуй, несколько повышенный интерес к Кенигсбергу. Правда, в период следствия раздавалось немало протестующих голосов. И недаром несколько позже, вспоминая это время, кайзер Вильгельм II писал своему «брату» русскому самодержцу Николаю II: «Мое правительство всегда было готово помочь твоему правительству в борьбе с революционным движением, и делалось это так энергично, что нам пришлось встретиться по этому поводу с упреками в нашей собственной стране и даже в парламенте…»
Да, даже в парламенте, где теперь уже не один только Бебель протестовал против провокационных выпадов в адрес русских социал-демократов — подняли возмущенные голоса представители весьма умеренных партий — центра и свободомыслящей рабочей партии.
Большинство газет нападало по этому поводу на правительство. Приходилось оправдываться перед общественным мнением и, не стесняясь в выражениях, доказывать, что речь идет об «организации тайного общества», о «преступлениях против русского царя», о «государственном преступлении» и «государственных преступниках»; о «банде цареубийц и уголовников».
Казалось, кенигсбергский процесс был так хорошо подготовлен и продуман, так все было предусмотрено, что не могло быть сомнений в его «благополучном» конце.
Все было предусмотрено. Все, кроме Карла Либкнехта.
12 июля 1904 года. Кенигсберг. Старинное здание прусского королевского суда. Большой зал заседаний полон публики. Немцы, русские, другие иностранцы. Корреспонденты всех европейских газет.
Перед судейским столом — тюки конфискованной литературы. Тысячи газетных листов, десятки тысяч прокламаций, сотни брошюр.
И прокурор Шютце безапелляционно провозглашает: литература террористическая; авторы и люди, которым она адресована, — все, как один, террористы и убийцы. Стало быть, германские социал-демократы, помогавшие переправлять эту литературу, призывающую к убийству русского царя и другим террористическим актам, — соучастники кровавых преступлений.
Ни обвиняемые, ни адвокаты не были знакомы с содержанием конфискованной литературы; ни обвиняемым, ни их адвокатам не были даже названы заголовки брошюр и прокламаций. И только за пять дней до начала процесса обвиняемым был вручен обвинительный акт… двести листов густого текста!
На скамье подсудимых: экспедитор газеты «Форвертс» Петцель, берлинский столяр Эренпфорт, парикмахер Новагродский, кассир Браун, сапожник Мертинс из Тильзита, рабочие Трептау и Клейн из пограничной полосы Восточной Пруссии, контрабандисты Кегст и Кугель.
Судья задает вопросы. Подсудимые отвечают спокойно и лаконично. Судья настойчиво выспрашивает, кто из русских занимался транспортировкой запрещенной литературы? Подсудимые все, как один, пожимают плечами и отказываются назвать русских товарищей.
Вопросы прокурора сложней и путаней — тут надо быть начеку. Прокурору важно доказать, что подсудимые знали содержание брошюр, которые переправляли, а это по царским законам подлежит наказанию — тюрьма или крепость.
Однако поймать подсудимых в расставленные силки не удается.
Помощник прокурора Каспар поспешно заявляет: что-что, а уж существование тайного общества и участие в нем обвиняемых, во всяком случае, можно считать доказанным.
Первые три дня процесса не принесли морального удовлетворения судьям. Не принесли они ничего сенсационного и публике, заполнявшей зал. Так и не удалось вырвать у обвиняемых признания в «террористической» деятельности, равно как не удалось заставить назвать хоть одну русскую фамилию.
«Сенсация» началась с того часа, когда адвокат Карл Либкнехт стал допрашивать первых свидетелей.
Профессор Томского университета М. Рейснер, вызванный по требованию Либкнехта как свидетель и эксперт, вспоминал потом: «Каким-то непостижимым волшебством Либкнехту удалось бросить русский царизм на скамью подсудимых, приковать его к позорному столбу… и, наконец, наложить ему на медный лоб раскаленное клеймо отвержения».
Профессор Рейснер — специалист в области русского государственного права — жил в то время в Берлине. Вторым экспертом Либкнехт потребовал вызвать социал-демократа и знатока русского революционного движения, почти всю жизнь прожившего в России, В. Бухгольца.
Оба эксперта со всей убедительностью доказали, во-первых, совершенную несовместимость идей русской социал-демократии с терроризмом, во-вторых, полную юридическую несостоятельность обвинений.
Уже одно это было в достаточной степени скандально для прокуратуры. Но это были только цветочки.
На свидетельском месте полицейский комиссар Шефлер. Адвокат Либкнехт задает ему вопрос:
— Находится ли кенигсбергская полиция в особой связи с русской полицией?
Свидетель бормочет нечто невнятное.
— Пользовалась ли здешняя полиция, — задает Либкнехт следующий вопрос, — услугами шпионов или членов русского консульства в Цюрихе?
Свидетель растерянно отвечает, что об этом он не _осведомлен.
Либкнехт спрашивает:
— Знаете ли вы кого-нибудь из русского консульства, кто выполняет полицейскую службу?
На этот раз вмешивается судья — вопрос адвоката отводится.
На свидетельском месте полицейский комиссар Вольфром.
— Известно ли вам, — спрашивает Либкнехт, — что изложение содержания русской революционной литературы, полученное вами от русского консульства, в прессе и рейхстаге квалифицировалось как сознательная ложь?
Полицейский комиссар как-никак человек грамотный, газеты он читает, и притворяться неосведомленным у него нет никакой возможности.
Спасает судья — он снова отводит вопрос адвоката.
Члены суда в замешательстве. Судья все чаще отводит вопросы Либкнехта.
Впрочем, каверзный вопрос, о содержании «арестованных» брошюр, не остается без ответа; отвечает прокурор Шютце: русский консул Выводцев переводил тексты в спешке, ошибки в переводе брошюр, разумеется, возможны.
В зале иронический смех, возгласы возмущения. А вот и сам Выводцев занял свидетельское место. — Где находится абзац, — спрашивает Либкнехт, — в котором говорится: «Ничто не может избавить трон Николая Второго от той судьбы, которая постигла Александра Второго; кровавое дело должно свершиться, и ничто не спасет царя от ярости народа»? Так, кажется, сказано в вашем переводе?
Выводцев лихорадочно листает одну из брошюр. Цитируемое место он найти не может. Такого текста в русской брошюре нет.
Либкнехт просит найти вторую цитату, третью, десятую. Выводцев ни одной не находит. Публика откровенно издевается над свидетелем.
Обстановка в суде накаляется. Судья объявляет перерыв.
А на пятый день защита выпустила первую «колючку»: она заявила, что представленный царским посольством в Берлине перевод русского уголовного уложения тоже не соответствует оригиналу. Либкнехт потребовал экспертизы. Экспертиза установила, что договора о взаимной защите интересов между Германией и Россией не существует. Либкнехт назвал вещи своими именами: русские и прусские власти совершили подлог; посол в Берлине Остен-Сакен и консул в Кенигсберге Выводцев сознательно извратили в переводе законы. Либкнехт предложил читать вслух конфискованную литературу, дабы установить ее точное содержание, поскольку к переводам теперь ни у кого нет доверия.
Семь дней шло чтение революционной литературы. На семь дней зал старинного королевского суда в Кенигсберге превратился в трибуну революционной пропаганды.
На одиннадцатый день процесса Либкнехт выступил с защитительной речью. А точнее — с обвинительной:
— …История России в большей мере, чем какой-либо другой страны, написана кровью, которую пролил не народ, а правящие сословия, боровшиеся между собой, и той кровью, которой обагрены руки правительства, кровью крестьян, сектантов, еврейского населения и кровью солдат и офицеров!.. Господин прокурор спрашивает: что может быть позорней, чем эти лежащие перед ним листовки? Я знаю нечто действительно позорное: это положение в России, о котором говорят эти листовки!..
Со страстной силой обличителя говорил Либкнехт. Публика слушала в полном молчании. Невольно заслушались и судьи. И когда Либкнехт процитировал посвященное Вере Засулич[2] стихотворение в прозе Тургенева «Порог», не было больше человека ни в зале, ни на скамье подсудимых, ни среди свидетелей, ни среди судей, кто не понял бы, что суд против революционеров силой страстного слова Карла Либкнехта превращен в трибунал против реакции. И русской и немецкой.
— Сибирь и Шлиссельбург — таковы две эмблемы российского правления. Без Сибири и Шлиссельбурга нет царизма. Там погибает цвет русской молодежи… Даже если бы обвиняемые сделали все то, что им приписывает обвинение, то они совершили бы прогрессивное дело, и через несколько десятилетий, когда в России произойдут перемены, подвиги этих людей ознаменуют славную для Германии страницу в мировой истории…
Кенигсбергский процесс с треском провалился. И прав был Либкнехт, когда сказал в своей речи, что нигде еще русскому правительству не были нанесены на глазах у всего мира такие сокрушительные удары, как в зале кенигсбергского суда.
В течение двух недель вся Германия жила процессом, происходившим в Кенигсберге. Немецкие газеты на сей раз были на редкость единодушны, даже орган национал-либеральной партии «Кельнише цейтунг» с досадой констатировала, что прусский министр юстиции, затеяв кенигсбергский процесс, достиг результатов, совершенно противоположных тем, На которые он рассчитывал. Даже убежденный монархист профессор Дельбрук вынужден был признать, что моральное поражение, понесенное правительством, прямо-таки оглушительно.
Бебель громогласно назвал в рейхстаге кенигсбергский суд «неслыханным позором, величайшим юридическим и моральным провалом правительства».
Либкнехт мог праздновать победу: суд признал основное обвинение — преступление против дружественной державы — недоказанным; все девять подсудимых по этому пункту были оправданы. Чтобы спасти хоть чем-нибудь свой престиж, суд приговорил пятерых обвиняемых к непродолжительным срокам заключения за «принадлежность к тайному обществу».
Едва был вынесен приговор, Либкнехт заторопился домой. В Берлине ждали дела, много дел. Не только адвокатские, хотя и их, должно быть, скопилось достаточно, — ждали дела партийные, политические.
И терпеливо ждала молодая жена.
Фрау Юлия напрасно волновалась: после двухнедельного отсутствия Карл вернулся победителем. Никаких неприятностей, под страхом которых она постоянно жила, на этот раз не приключилось.
И все-таки предчувствия, которые она испытывала и упорно гнала от себя перед отъездом Либкнехта в Кенигсберг, не обманули ее. Со дня выступления на процессе Карл Либкнехт вышел на большую политическую арену. Именно в этот день прусское правительство «засекло» социал-демократа Либкнехта как «фигуру весьма опасную для общественного спокойствия», как человека, деятельность которого не сулит ничего доброго этому правительству.
И с этого дня начался путь Карла Либкнехта к Голгофе.
Не прошло и трех дней после возвращения домой, как Либкнехт уже выступал с речью, посвященной кенигсбергскому процессу, в берлинском театре «Палас», на многотысячном народном собрании.
За час до начала в зале не было уже ни одного свободного места. У входа толпились тысячи людей, которых не мог вместить «Палас». Полиция оцепила здание, оттеснив жаждущих в близлежащие улицы.
Много раз во время речи Либкнехта одобрительные и приветственные крики прерывали его, а когда он закончил, несколько долгих минут не смолкала буря аплодисментов.
Рассказав о процессе, выразив свое возмущение всей мерзостью и продажностью суда, рассказав о героических буднях русских революционеров и о страшной, беспросветной жизни русского народа, о подлости прусского правительства и позоре, который оно навлекло на себя этим судом, Либкнехт подвел итог:
— Практический результат процесса заключается в том, что каждый прогрессивно мыслящий немец не может не заявить: я считаю своим долгом помогать русским борцам за свободу; а каждый член германской партии должен считать своей обязанностью оказывать поддержку стремлениям членов русской партии, содействуя контрабандной доставке социал-демократических листовок. Не только каждый член партии, но и каждый прогрессивно мыслящий человек должен способствовать тому, чтобы Бастилия деспотизма пала и мы вскоре могли провозгласить: «Царизм умер, да здравствует свобода России!»
Либкнехт рассказывал о процессе на десятках рабочих собраний. Он произносил обличительные речи против самодержавия и позорного подхалимства перед ним немецких властей. Эти речи печатались в «Форвертс», и вся Германия могла читать их.
Но немецкая социал-демократия так и не сумела использовать тот отклик, который получил кенигсбергский процесс у немецкого народа. И Либкнехт уже в 1906 году на Мангеймском партийном съезде с горечью говорил:
— Кровь, которую проливают там наши братья, они проливают за нас, за пролетариат всего мира. То, что мы до сих пор сделали, — это лишь маленькая лепта; ею мы откупились от той полной кровавых жертв борьбы, которая ведется на востоке также И за нас…
Глава 3 «Кому принадлежит молодежь, тому принадлежит будущее»
Семь лет он занимал кафедру защитника в сотнях судебных процессов. Однажды ему пришлось стать обвинителем — в 1904-м, в Кенигсберге. А сейчас он сидит на скамье подсудимых, и его самого обвиняют в государственной измене.
За то, что он развенчал милитаризм.
В государственной измене обвиняли его отца Вильгельма Либкнехта, и теперь он может только гордиться тем, что тоже удостоился такой чести.
Три года прошло со дня его первого большого выступления в Кенигсберге. Что произошло за это время в его жизни?
Родилась дочь, назвали ее Верой. Вырос и повзрослел, стал серьезным, понятливым мальчиком Гельми — ему уже шесть лет. Подрос и Бобби, так они звали своего младшего, Роберта; четырехлетний малыш обещал стать художником: карандаши, уголь, мел хватал, где видел, рисовал и чертил, где только можно.
Карл очень любил своих детей. Но если подсчитать, сколько часов провел он с ними за эти три года? Постыдная получится цифра для любящего родителя!
Он вел бродячий образ жизни. Не было такого уголка в Берлине, куда не занесло бы его партийное дело профессионального пропагандиста и агитатора. Пожалуй, и по всей Германии не много нашлось бы городов, которые ему не пришлось посетить.
Он был нечеловечески загружен все эти годы. Доклады, речи, выступления в Берлине, Штутгарте, Лейпциге, Эссене, Бремене, Иене; на собраниях, митингах, партийных съездах и конференциях; главный доклад на первом Международном конгрессе социалистической молодежи; председательство в Интернационале социалистической молодежи; участие в избирательной борьбе, парламентская деятельность, адвокатская работа, которая — надо честно признаться — принесла ему славу и народную любовь, но немного принесла доходов. Статьи, брошюры, книги…
Он вел бродячий образ жизни, и никогда нельзя было заранее знать, где он окажется к вечеру сегодня или утром завтрашнего дня. Нельзя сказать, чтобы эта жизнь тяготила его — он любил общение с людьми, любил и те идеи, которые пропагандировал.
И люди верили ему, любили его, шли за ним.
Секрет его небывалого успеха у народа заключался главным образом в его любви к человеку. Он любил народ той подлинной любовью, которой чужды мысли о собственной выгоде, любовью преданной и жертвенной, не знающей никаких границ.
Он был создан вождем пролетарских масс в их самой справедливой, самой благородной борьбе — борьбе за свободу.
В конечном счете именно за это он и оказался на скамье подсудимых. Там, где обычно сидели его клиенты. Ситуация пикантная, но в условиях кайзеровской Германии отнюдь не необычная.
Надо признаться, он чувствует себя на этой скамье ничуть не хуже, чем на ораторской трибуне. Для него речь на процессе будет таким же пропагандистским выступлением, как и сотни других его речей.
Все, что будет на процессе, он может рассказать заранее. Он, впрочем, уже рассказывал об этом за месяц до суда на собрании в своем избирательном округе: что затеянный против него процесс не является для него неожиданностью, но что процесс этот выльется в «перворазрядный политический скандал» и «даст нам в руки бесценное оружие в борьбе против реакции» и что «его следствием будет не страх, а дальнейшее усиление антимилитаристской пропаганды».
Уж он-то постарается, чтобы все было именно так. На этот раз его услышат не несколько сотен членов партии, не тысячи пролетариев — весь просвещенный мир. И поэтому он, пожалуй, немного волнуется — отнюдь не из-за будущего приговора: волнуется как и каждый оратор, которому предстоит выступить перед миллионной аудиторией.
Формально его обвиняют в измене родине. И судить его будут за его книгу «Милитаризм и антимилитаризм». Труд, который зародился еще в бытность его на солдатской службе, постепенно оформлялся в последующие годы, окончательно созрел и вылился в доклад, который он сделал в прошлом году на собрании Союза молодых рабочих Германии в Мангейме. Труд, в котором он, исходя из положений Маркса и Энгельса, развивал новую стратегию и тактику рабочего класса.
«Кому принадлежит молодежь, тому принадлежит будущее», — написал он в своей книге. Очень страшно, если будущее принадлежит молодежи, прошедшей службу в прусской армии! Молодежи, которая в итоге этой службы, не рассуждая, пойдет на любую бойню для «защиты отечества», которая будет тупо расстреливать такую же трудящуюся и такую же обманутую молодежь любой другой страны; не задумываясь, поднимет ружье на своих отцов и матерей, если они осмелятся потревожить покой кайзера.
Очень страшно, если такой молодежи доверить будущее страны, будущее народа, ее собственное будущее.
Борясь за молодежь, он и попал в «изменники родины».
Германия стала сейчас самой милитаристской страной Европы, очагом постоянной опасности войны, рассадником военной муштры и тупости, страной, где юнкерство и буржуазия даже во сне мечтали о переделе мира.
Борясь против этого, он боролся с империализмом. Напуганная революцией в России, еще более напуганная нарастающим боевым настроением немецкого народа, германская реакция вынашивала планы кровавой расправы с революционным движением в стране. Исподволь, планомерно, обстоятельно.
Либкнехт усмехнулся, вспомнив приказ командующего войсками VII армейского корпуса генерала Биссинга о тактике вооруженного подавления рабочих выступлений; «совершенно секретный» приказ, но… разве в армии не было социал-демократов, разве не скрывались они даже среди офицеров?..
В стране лихорадочно создается определенная атмосфера — атмосфера «патриотизма», «героической борьбы за благо отечества», «защиты своих границ», — словом, прививается империалистическая идеология; и не только рекруты — все юношество подвергается обработке. Создаются специальные шовинистические молодежные организации, чтобы завладеть душами сыновей, а через них повлиять и на отцов.
Борьба против милитаризма, борьба за молодежь — разве это не одно и то же? — стала «задачей номер один» для партии.
В Бремене и в Иене на партийных съездах Либкнехт требовал усиления антимилитаристской пропаганды, он говорил, что милитаризм самая большая и грозная опасность для человечества. Он говорил, что партия ограничивается только пропагандой в периоды избирательных кампаний, а между тем молодежь в них не участвует — все, кто моложе двадцати пяти лет, остаются за бортом этой пропаганды. А ведь именно те, кто моложе, и призываются в солдаты и выходят из армии с готовым мировоззрением, готовым и опасным.
«У кого в руках молодежь, у того в руках армия, — говорил Либкнехт. — Сделать армию революционной — может ли хоть один социал-демократ мечтать о большем?»
И в Бремене и в Иене он настойчиво предлагал создать молодежные организации, в которых партия могла бы воспитывать социалистически настроенную смену борцов.
Но партийные руководители принимали его выступления в штыки, как, впрочем, делали это всегда: их опасения о беспокойной жизни, которую создаст в тихой заводи парламентской работы Карл Либкнехт, оправдались.
Они встречали в штыки многое, что он предлагал, иной раз посмеивались над ним, но отнюдь не добродушно.
И зачем были нужны оппортунистам из руководства партии молодежные организации? Ведь бесспорно, что попадут они под влияние левого крыла, где им и постараются привить революционный дух. В рамки деятельности социал-демократической партии, по мнению ее большинства, создание такого рода юношеских организаций не укладывалось. Один из лидеров социал-демократической партии высказался по этому поводу: «Если бы такое движение существовало, то мы должны были бы бороться против него».
И все-таки вопреки всему молодежные организации родились. Сперва в Берлине и Мангейме; потом берлинская организация преобразовалась в Объединение свободной молодежи Германии, куда входили группы из северных областей страны; мангеймская — в Союз молодых рабочих и работниц Германии, объединивший молодежь Бадена, Вюртемберга, Баварии.
Организации существовали, и с этим приходилось считаться. Существовала и молодежная газета «Молодая Гвардия», которая сразу же получила около четырех тысяч подписчиков — по тем временам цифра значительная.
В сентябре в этой газете была опубликована нашумевшая статья Либкнехта «Прощание с новобранцами», адресованная к молодым людям, для которых «пробил час призыва» на военную службу.
«…Плетка голода — это символ свободы по сравнению с тем принуждением, с тем рабством, которое вам уготовано под гнетом кроваво-жестокого милитаризма… Но все же к вам взывают: надлежит защищать отечество… Защищать отечество?.. Корыстная политика захвата мировых рынков и колониальная политика может служить интересам крупнокапиталистических предпринимателей; на отечество, на пролетариат эта политика возлагает новое бремя…..вам придется отправиться в казармы.
Там вы скоро услышите: вы должны нести службу не только для борьбы против внешнего врага, но и для борьбы против внутреннего врага!
…Внутренний враг — это ваши отцы, матери, братья, сестры и друзья, это весь пролетариат и все те, кто не служит верой и правдой правящей реакции; внутренний враг — это сегодня еще вы сами! И, вернувшись с военной службы, им станете — вы сами! Да, вы сами, те, кого призывают к борьбе против этого внутреннего врага, к борьбе против самих себя…»
Через восемь дней после того, как была опубликована эта статья, в Мангейме состоялась первая Все-германская конференция молодежи. И все свои думы, все тревоги, все, что наболело с самого 1893 года — со времени солдатчины, высказал Либкнехт перед этой молодежью. Сотни юношей слушали его напряженно, и каждый думал, что именно к нему взывает оратор.
В марте 1907 года начало действовать Международное юношеское бюро, в которое вошел Либкнехт. Бюро должно было подготовить международную встречу социалистической молодежи.
Встречу наметили на 24 августа в Штутгарте, и Карлу Либкнехту был поручен основной доклад. Либкнехт приехал в Штутгарт на шесть дней раньше.
В воскресенье, 18 августа, в старинном швабском городке многотысячным митингом открылся международный конгресс II Интернационала.
Либкнехт стоял возле трибуны, и глаза его казались горящими под освещенными солнцем стеклами пенсне. Невдалеке он увидел двух женщин. Одна — слегка уже располневшая, с седеющими волосами, собранными на затылке в тугой узел, с добрыми, немного грустными глазами под припухшими веками; это Клара Цеткин. Вторая — маленькая и хрупкая, заметно хромающая; крупный нос, удлиненный овал лица, пышные темные волосы и огромные мудрые глаза.
Два молодых человека, стоявшие рядом с Либкнехтом, тоже, должно быть, сразу увидели эту женщину. Один из них сказал:
— Ну и глаза! В жизни не видел таких!
А другой, одернув его, тихо бросил:
— Это же Роза Люксембург…
И добавил:
— Вон, смотри, видишь мужчину, который машет им, — это Ленин. Вождь русской революции…
Либкнехт снял пенсне и, близоруко прищурившись, старался получше разглядеть подошедшего.
Впервые участвуя в конгрессе Интернационала, Либкнехт чувствовал себя несколько стесненно. Он присматривался, прислушивался и с горечью отмечал, что германская делегация в большинстве своем занимает какую-то неустойчивую, примиренческую позицию. Даже Бебель и тот оказался под влиянием общего настроения германской социал-демократии. Резолюция по важнейшему вопросу — по вопросу о борьбе с милитаризмом, — которую предложил Бебель, была неопределенной, неконкретной. Общие фразы, никаких точных задач, ничего о средствах и методах, какими должен рабочий класс бороться против милитаризма.
Либкнехт был счастлив, когда услышал поправки к этой резолюции, предложенные Лениным и Розой Люксембург! Он был счастлив, во-первых, потому, что воочию увидел непримиримую, четкую революционную позицию главы русских большевиков. В поправке прямо было сказано, что, если не удастся помешать возникновению войны, рабочий класс должен использовать порождаемый войной кризис для ускорения свержения буржуазии. Во-вторых, потому, что услышал отражение собственных мыслей, за которые он столько раз ратовал и в своих докладах и в своей книге.
И особенно обрадовало Либкнехта, что в этих поправках было, в частности, сказано: «…содействовать тому, чтобы рабочая молодежь воспитывалась в духе братства народов и социализма и пропиталась классовым самосознанием».
Новая, принятая конгрессом резолюция соединяла строгость научно-марксистского анализа с «рекомендациями рабочим партиям самых решительных и революционных мер борьбы».
«Сегодня в полдень конгресс закрылся, — писал Либкнехт из Штутгарта, — с очень хорошими результатами специально для меня и моего милитаризма…»
И в тот же вечер начал свою работу другой конгресс — социалистических юношеских организаций. Председателем был избран Либкнехт.
Когда он взошел на трибуну и перед лицом жадно смотрящих на него молодых делегатов тринадцати стран заговорил, никто не мог бы подумать, что этот пламенный оратор, этот веселый человек с доброй обаятельной улыбкой не спал уже несколько ночей.
Он говорил, как всегда, зажигательно и весомо, и слушатели впитывали каждое его слово, верили ему, готовы были идти за ним. Он говорил о борьбе против милитаризма, ставшей основной его темой, его целью, к которой он решил идти до конца.
Результатом этого конгресса было единодушное решение — создать Интернационал юношеских социалистических организаций.
А тем временем в Берлине продолжалась незадолго до этого начатая мышиная возня вокруг его книги «Милитаризм и антимилитаризм». Верховный прокурор потребовал конфискации книги. Но наскребли еле-еле шестьдесят восемь экземпляров; весь остальной тираж мгновенно разошелся. Не сумев арестовать произведение, решили арестовать автора. И не как-нибудь — по требованию самого военного министра Пруссии Эйнема!
Либкнехт был уже хорошо известен правительственным кругам как человек опасный, непримиримый борец против милитаризма, убежденный крайне левый социал-демократ, адвокат, доставляющий немало хлопот «правосудию». Ему не простили кенигсбергского процесса и того позора, который он навлек на голову германской юстиции.
Все, что написал Либкнехт в своей небольшой книжке, хоть кого из верхушки кайзеровской юнкерской Германии могло привести в бешенство.
«Милитаризм! Не много лозунгов так часто употребляется в наше время…» — так начиналась книга. «История милитаризма, если затронуть ее наиболее глубоко, вскрывает собою самую внутреннюю сущность истории развития человечества, ее пружины, а раздел ее, посвященный капиталистическому милитаризму, обнаруживает сокровеннейшие и тончайшие корни капитализма…»
«История милитаризма является вместе с тем историей политических, социальных, экономических и вообще культурных столкновений между государствами и народами, — говорилось дальше, — а также историей классовой борьбы внутри отдельных государственных и классовых объединений».
А так книга кончалась: «Антимилитаристическая пропаганда должна широкой сетью покрыть всю страну. Пролетарская молодежь должна систематически воспитываться в духе классового сознания и ненависти к милитаризму… Пролетарская молодежь принадлежит социал-демократии, социал-демократическому антимилитаризму. Если все выполнят свой долг, она должна и будет завоевана нами. За кем молодежь, за тем и армия».
Книга «Милитаризм и антимилитаризм в связи с рассмотрением международного молодежного движения» — таково было ее полное название — выдвигала революционную программу антимилитаристской деятельности социал-демократической партии Германии. И в отношении к этой книге сказалась резкая неоднородность состава партии.
В сущности, Либкнехт выражал только чаяния революционного, левого ее крыла, немногочисленного и не очень влиятельного. У партийных же лидеров, в большинстве своем настроенных крайне ревизионистски, произведение Либкнехта вызвало неприкрытое раздражение.
Титульный лист книги Карла Либкнехта «Милитаризм и антимилитаризм»
Программа борьбы с милитаризмом была теоретически обоснована. Автор произвел краткий, но всесторонний анализ милитаризма и его корней; доказал, что милитаризм несет две функции: подготовку и осуществление захватнических войн и борьбу против попыток изменить общественный строй внутри страны. Характеризуя величайшую опасность милитаризма для дела освобождения рабочего класса, Либкнехт подчеркнул кровную заинтересованность пролетариата в сохранении мира между народами.
Это принципиальное положение было исходным во всей антимилитаристской деятельности Либкнехта. Равно как и утверждение, что антимилитаризм ничего общего не имеет с пацифизмом, так как не отрицает необходимости армии в любой социалистической стране, пока революция не охватит все страны мира.
С точностью ученого и страстностью революционера и гуманиста обнажил Либкнехт звериное лицо милитаризма. Даже сегодня, спустя полвека, все его выводы звучат вполне актуально.
Нападки начались сразу, злобные и откровенные до цинизма. Власть имущие поняли, чем грозит им распространение книги, раскрывающей и срывающей все их планы.
Первой высказалась буржуазно-юнкерская пресса. Затем клевету на книгу и автора подхватила вся реакционная печать. И, наконец, все радикальное направление в партии.
Один тайный военный советник потребовал в печати пополнения государственного законодательства, чтобы «положить конец подобной подрывной деятельности». Представители высших правительственных кругов не стали дожидаться дополнения существующих законов — нет подходящего закона, значит надо «подтянуть» вину автора под один из существующих. Лучше и легче всего инкриминировать ему «подготовку к государственной измене» — одна из самых резиновых формулировок, дающая при умелом с ней обращении нужные результаты. Благо в практике германского имперского суда был богатейший опыт в такого рода делах.
Зацепка для привлечения Либкнехта к суду была найдена: в книге оказались высказывания, которые военный министр Пруссии Эйнем квалифицировал как изменнические. О чем он не замедлил сообщить в письме верховному прокурору Ольсгаузену: в «арестованной» книге наличествуют идеи, благодаря которым автора легко обвинить в «подготовке к государственной измене в смысле статьи 81, пункта 2 Уголовного кодекса Германской империи». Правда, тут же признавался Эйнем, прямых призывов к совершению государственной измены в книге не содержится, однако само опубликование ее «способно содействовать осуществлению изменнических действий». Тут же упоминались статьи уголовного кодекса: 85 — под которую, к сожалению, нельзя подвести «данное преступление», 86 — под которую, если умело взяться, можно подтянуть вину автора книги; упоминались еще статьи и пункты, и из всего письма было ясно, что все это надо перетасовать ловкими руками, что если рамки одной статьи тесноваты — надо их расширить, что некоторые статьи закона следует использовать лишь частично и т. д. и т. п. Словом, обвинение было состряпано с учетом существующих законов.
Одного только не учли ни военный министр, ни прочие представители «законности» — не учли, что Либкнехт сам отлично знал законы страны. Защищать правого — была его профессия. Защищать себя он не собирался. В случаях, подобных данному, адвокат ли, подсудимый ли, он становился обвинителем.
На сей раз он обвинял милитаристов.
29 апреля его вызвали к следователю. Он быстро разобрался в грозившем ему наказании. «С государственной изменой дело обстоит серьезно, — писал он в одном частном письме. — Обвинение составлено довольно хитро; разумеется, частично оно основано на грубых недоразумениях. Конечно, я не могу вести какую-либо игру в прятки».
16 июля верховный имперский прокурор подписал обвинительное заключение. Мысли и даже формулировки были взяты из письма к нему военного министра — прокурор был крайне осторожен и побоялся взять на себя вольное изложение вины Либкнехта. Он-то знал, с кем имеет дело. Пусть уж лучше сам министр отвечает за свои решения.
По этому обвинительному заключению автору книги «Милитаризм и антимилитаризм» грозила каторжная тюрьма, лишение гражданских прав и исключение из сословия юристов.
«Не играть в прятки» — это значило продолжать свою пропаганду против милитаризма, продолжать свою партийную деятельность, как будто ничего не случилось, как будто не навис над его головой колпак каторжника.
И он продолжал. До самого суда. Последнее его выступление перед судом было на партийном съезде в Эссене.
Густав Носке, социал-демократ правого крыла, недавно избранный депутатом рейхстага, в первой же своей речи в парламенте заявил от имени партии: социал-демократы хотят, чтобы Германия была вооружена как можно лучше, и в этом они сходятся с правительственными партиями других течений. Либкнехт обрушился на Носке и на тех, от чьего имени тот говорил.
С присущей ему горячей убежденностью он доказал, что Носке совершенно игнорирует сущность социал-демократии как классовой организации рабочего класса: место международной солидарности пролетариата у Носке занял буржуазный ура-патриотизм.
Носке сидел и слушал и молча кусал губы. Он был зол до предела и хорошо запомнил эти слова. Позже он писал об эссенском выступлении Либкнехта как об «анархистско-большевистском антимилитаризме». Через одиннадцать лет Носке полностью рассчитался с «этим большевиком»…
А через три недели после партийного съезда он, Карл Либкнехт, адвокат по профессии, социал-демократ по убеждению, пропагандист и борец по призванию, депутат Берлинского собрания городских депутатов по общественному положению, сидел на скамье подсудимых в имперском суде в Лейпциге.
До девяти осталось еще четверть часа. Либкнехт сидит у маленького столика, на котором разложены его записки, и внимательно оглядывает зал заседания. Выражение лица сосредоточенно-задумчивое и решительное.
На площади у здания суда толпа народа. Здание оцеплено полицией, у всех входов строгий контроль.
Толпа шумит, выкрикивает лозунги и в конце концов стихийно выстраивается в колонну. Возникает мощная демонстрация, скандирующая имя Либкнехта.
За несколько минут до начала судоговорения мощный поток людей прорывается в коридоры, боковые проходы, приступом берет ложи для привилегированной публики, растекается по всему огромному зданию имперского суда.
Вспоминает ли Либкнехт своего отца в этот час? Что испытывает он в эти первые минуты в роли подсудимого?
Нет, не будет он играть в прятки!
И на первом же заседании он заявляет:
— За все, что я написал в брошюре, полностью отвечаю; я беру на себя каждое сказанное в ней слово.
Это ответ на каверзный вопрос председателя суда Треплина, не собирается ли Либкнехт отказаться от написанного. А на вопрос Треплина, что он называет юношескими организациями, за которые так горячо ратует, он пространно и толково объясняет суду, что это должны быть такие организации, которые будут воспитываться в духе идей борьбы за народное счастье, в духе стремления к миру и народному благу. В духе борьбы за дело пролетариата и социал-демократических идей.
И с трибуны суда он продолжает развивать свои антимилитаристские идеи, от которых у прокурора Ольсгаузена сразу же портится настроение.
Прокурор желчно обвиняет Либкнехта в том, что он сеет ненависть к милитаризму у молодежи и требует использовать эту ненависть во время войны. Что он намерен разжечь войну между Францией и Германией с целью поднять революцию в массах и отменить имперскую конституцию.
Прокурор явно хватил через край. Очень вежливо и спокойно защитник Гаазе разъясняет ему: книга Либкнехта от начала до конца проникнута как раз стремлением воспрепятствовать войне. За что, между прочим, вы его и судите.
Тогда прокурор начинает развивать другую мысль: ему во что бы то ни стало надо доказать, что Либкнехт от головы до пят проникнут идеями анархизма.
Выступает свидетель Бебель; он решительно опровергает эти попытки прокурора — пришить Либкнехту анархические взгляды. Он говорит, что Либкнехт — марксист, а марксизм и анархизм так же несовместимы, как милитаризм и свобода. О чем господину прокурору следовало бы знать, раз уж он выступает в таком процессе.
Прокурор раздражается все больше и больше и договаривается до совершенной нелепости. Он цитирует место в книге Либкнехта, где сказано, что начало войны всегда является неблагоприятным моментом для антимилитаристских выступлений, потому что массы поддаются на активные уговоры, будто «защищают свое отечество», и потому что в такое время население, как правило, бывает охвачено шовинистическим угаром. Процитировав эти слова, прокурор заявляет: он, Ольсгаузен, уверен, что Либкнехт думает как раз наоборот — что именно начало войны является благоприятным моментом для антивоенной забастовки, восстания; а приставку «не» он, Ольсгаузен, предлагает считать… опечаткой.
И снова защитник Гаазе вежливо и слегка ехидно разъясняет, что толкование прокурора более чем произвольно, что суд может пользоваться только документом — в данном случае книгой — и что соображения господина прокурора не могут здесь играть решающей роли.
Ольсгаузен не сдается: оставляя без внимания слова Гаазе, он настаивает на своем — книга подстрекает к восстанию, с тем чтобы оно было сделано в начале войны, — налицо факт подготовки к государственной измене.
На сей раз слово получает Либкнехт. Откровенно усмехаясь глупости прокурора, он тоном школьного учителя поясняет:
— Восстание нельзя «сделать», оно может возникнуть как революционный ответ на непопулярную, враждебную интересам народа войну. Взгляните на Россию, там восстание в значительной мере началось из-за русско-японской войны. Если и Германия затеет такую войну, можно не сомневаться, что тогда и у нас такая война вызвала бы не патриотические настроения, а подействовала бы революционизирующим образом, и, к чести немецкого народа, я убежден, что именно так и произошло бы в случае интервенции в Россию…
Ольсгаузен ужасно обрадовался этому заявлению: Либкнехт лил воду на его прокурорскую мельницу!
— Вот, вот, я и говорю, что книга «Милитаризм и антимилитаризм» представляет собой попытку разжечь до фанатической ненависти отвращение к так называемому милитаризму и готовит рабочих к вооруженным насильственным действиям против существующей системы военной организации страны, особенно в случае войны Германии с Россией! Я подчеркиваю, что обвиняемый сам признал логическим и психологическим следствием своей агитации забастовку против войны и подстрекательство войск к революции.
Затем прокурор, довольный, что поймал этого неуловимого, скользкого, как угорь, Либкнехта на слове, заявил, что Либкнехт своей книгой «сознательно и преднамеренно осуществил бесчестные действия».
Либкнехт в нарушение судебной дисциплины вскочил со своего места подсудимого. Председательствующий сделал вид, что сам дал ему слово — в разных углах зала послышались довольно откровенные угрозы в ответ на последнюю реплику прокурора.
— Моя честь останется при мне, — воскликнул Либкнехт, — даже если вы все, пятнадцать человек, будете считать мои взгляды бесчестными и пошлете меня в тюрьму и лишите всех прав! Внутренне меня все это не затронет!
И, обернувшись к Ольсгаузену, уже спокойно добавил:
— У нас с вами разное понятие о чести. И не приведи бог, чтобы оно у нас было одинаковым…
В течение всего процесса уверенно и четко отвечает он на вопросы. Да, он как социал-демократ выступает за быстрейшее осуществление требований программы своей партии. Потому что…
Ольсгаузен не дает ему договорить: вполне справедливо он замечает, что далеко не каждый социал-демократ в Германии проповедует идеи, подобные либкнехтовским.
Прокурор достаточно хорошо был осведомлен о многочисленных столкновениях и боях Либкнехта и левого крыла партии с ее правлением. И все время старался противопоставлять «плохого» Либкнехта «хорошим» руководителям социал-демократии. Он отлично знал, что правление партии вполне довольствуется парламентской деятельностью, считая, что более сорока человек социал-демократической фракции — достаточная сила, чтобы защищать народ.
— За парламентской силой должна стоять внепарламентская сила — воодушевление немецкого пролетариата, — отвечает на это Либкнехт, — иначе все сорок три человека нашей фракции в случае необходимости легко могут быть изгнаны из рейхстага с помощью одного или двух шуцманов. Я не повинен в том, что разъяснение сущности нашего общественного порядка может вызвать опасные настроения. Это вина нынешнего социального строя…
Он подчеркивает, что всячески настаивал, опять-таки как и должен настоящий социал-демократ, на скорейшем изъятии права решения вопроса о войне и мире из компетенции кайзера и передаче этого права представителям народа, который один несет все тяготы войны, а потому один и должен решать вопрос о ней.
— Я хочу, чтобы наше войско не было использовано в гражданской войне против «внутреннего врага»…
Он оглядел зал пристально и цепко, сел на место и, довольный, улыбнулся. Подумал: «Разве не счастье, что мне дали возможность перед всем миром развить мою антимилитаристскую точку зрения?!»
Он так и сказал суду: что считает этот процесс огромной удачей для интересов социал-демократии и прежде всего пролетарской молодежи.
Славу богу, сказал он, этот процесс сыграет огромную роль в антимилитаристской пропаганде, и за это он, Либкнехт, может только поблагодарить те влиятельные круги, которые этот процесс затеяли.
И суд знал, что это правда. И суд ничего не мог уже с этим поделать. И вконец разгневанный прокурор потребовал для Либкнехта двух лет каторжной тюрьмы, пяти лет лишения гражданских прав и немедленного ареста.
Само собой разумеется, заявил Ольсгаузен, что сословие юристов сделает из всего этого соответствующие организационные выводы и исключит изменника родины из своих рядов, лишив его впредь права адвокатской деятельности.
Заключительное слово Либкнехта внесло смятение в ряды противника. Заключительное слово, вдобавок ко всем его ответам и всему его поведению на суде, произвело огромное впечатление на судей, на корреспондентов немецкой и иностранной прессы, на публику, сидевшую в зале. И еще больше на тех, кто остался за пределами здания суда и кто непостижимым образом в ту же минуту узнавал, что сказал Либкнехт.
— Действительная основа обвинения ясна. Она не юридическая, а политическая, и поэтому так трудно обосновать это обвинение юридически… Я понимаю, что это только первая большая кавалерийская атака на развивающееся в стране молодежное движение и антимилитаристскую агитацию.
— Вы, — обратился он к судьям, — можете уничтожить меня и моих детей, это возможно. Но в политической борьбе семьи часто приносятся в жертву. Служение политической борьбе — суровая обязанность. И, подобно тому, как солдат, идущий ria войну, готов погибнуть от смертоносной пули, социал-демократ, вступающий на поле политической борьбы, знает: каждый момент он может быть сражен… Однако его место занимают другие… Вы считаете, что вы со мной разделались! Между тем здесь развернулась блестящая пропаганда в пользу моих антимилитаристских идей. А нашей юстиции, как мне кажется, процесс не принес больших лавров… Я не чувствую себя здесь обвиняемым, если и буду осужден.
Он был осужден. После его заключительного слова, в котором он разоблачил все махинации, проделанные для составления мало-мальски убедительного обвинения, у суда не было никакой возможности удовлетворить требование прокурора, и суд присудил его к относительно мягкому наказанию — полутора годам заключения в крепости.
Германской юстиции процесс действительно не принес лавров. Лавры он принес осужденному.
Выслушав приговор и ничем не выразив своей реакции, Либкнехт собрал бумаги и вместе с Гаазе покинул зал. Едва только он показался на верхней ступени широкой гранитной лестницы имперского суда, как на площади поднялось нечто невообразимое. Тысячная толпа, не покидавшая площадь все дни, пока длился процесс, зааплодировала и закричала. Трудовой Лейпциг приветствовал «своего товарища Либкнехта», выигравшего процесс у кайзеровской юстиции. Именно — выигравшего, потому что обвинительный приговор ни в какие сравнения не шел с тем, что выиграли от этого суда рабочий класс Германии, немецкая левая социал-демократия и сам Либкнехт.
Либкнехт был растроган. И в эти минуты, перед этими людьми у него не было причин скрывать свое волнение. И он и они отлично понимали: обвинительный приговор, приговор, который только что прочел председатель суда, был вынесен не ему, Либкнехту, — германскому государству.
Волна рабочих собраний прокатилась по стране.
Социал-демократы и беспартийные пролетарии, социалистическая молодежь и прогрессивная интеллигенция в Штутгарте, Кесселе, Кенигсберге, Дрездене, Лейпциге выражали свое восхищение поведением Либкнехта на суде и свое осуждение имперской юстиции.
Поток приветственных телеграмм шел к Либкнехту. Он не успевал отвечать на них.
На собрании в Берлине передовые столичные рабочие называли Либкнехта «достойным сыном Старика», а Бебель — самый старый из оставшихся в живых руководителей германского пролетариата — говорил о том, как вырос авторитет Карла Либкнехта не только в глазах его друзей, но и в глазах врагов благодаря его мужественному, партийному поведению перед судьями и прокурором. Он сказал, что имперскому суду во все время его существования не приходилось иметь дело с таким опасным обвиняемым, каким оказался «наш друг и товарищ Карл Либкнехт».
В ноябре съезд прусской социал-демократии в специальной резолюции выразил признательность Либкнехту за его «мужественное отстаивание перед имперским судом позиции социал-демократии и интересов пролетариата».
Таковы были результаты процесса для Либкнехта, социал-демократии, рабочего класса Германии. Надежды прокурора на исключение его из сословия юристов не оправдались: суд чести не решился вынести Либкнехту обвинительный приговор, и он не был лишен права адвокатской деятельности.
Вся мировая пресса, освещавшая ход процесса, обсуждала его результаты. И хотя рейхсканцлер Бюлов писал, что приговор над Либкнехтом его «очень радует», радостного для правительства тут было мало. Даже большинство буржуазных газет вынуждено было признать, что процесс способствовал широкой пропаганде антимилитаризма и создал Либкнехту небывалую популярность.
Зато царские дипломаты с одобрением отозвались о «деятельности» германской юстиции.
«Достойно внимания, — писал сотрудник русского посольства в Берлине, — с какой энергией германское правительство выступает против малейших попыток привить пагубное движение антимилитаризма в германском народе…»
В самой же России народные массы и социал-демократическая партия выражали возмущение приговором, вынесенным Либкнехту, и удовлетворение тем, что процесс и пагубная для царизма антимилитаристская пропаганда получили такой широкий отклик во всем мире.
Газета «Пролетарий» писала: «Что ж! Немецкий пролетариат энергично выразил свое сочувствие осужденному Либкнехту: преследования только усилят и обострят способность рабочих масс к борьбе».
Ленинская газета «Вперед», пославшая приветствие Либкнехту, опубликовала статью «Государственная измена», в которой высоко оценивала его выдающуюся деятельность как революционного социал-демократа, энергичного организатора и руководителя международного молодежного движения, неутомимого борца против милитаризма. «Немецкое правительство сильно обнаглело за последнее время. Лавры Николая Кровавого не дают спать германскому императору… И по примеру русского правительства, обвинившего с.-д. членов второй думы в принадлежности к военной организации и засадившего их в тюрьму, германское правительство состряпало и у себя процесс о государственной измене».
Либкнехт не собирался и в тюрьме прекращать свою деятельность. В чем очень скоро убедилось германское правительство.
Либкнехт «шел в тюрьму» не как государственный изменник — как признанный, любимый, уважаемый, достойный преклонения лидер революционного движения немецких рабочих.
Это они 21 октября пришли проститься с ним в самом большом зале Берлина «Нойе вельт». Зал не мог вместить и десятой доли желающих увидеть Либкнехта перед тюрьмой, услышать его, выразить ему свои симпатию и любовь. Появление его на трибуне вызвало овацию, с которой могла сравниться разве только та овация, которую устроили ему жители Лейпцига в день, когда он после приговора выходил из зала суда.
Он закончил свою речь словами:
— …Тюрьмы, крепости и каторжные стены не в состоянии остановить движение социал-демократии вперед и воспрепятствовать ее победе.
24 октября Карл Либкнехт уезжал в Глац, в крепость, где ему предстояло прожить долгих восемнадцать месяцев.
Он расцеловал детей, простился с женой. Фрау Юлия с трудом сдерживала накипавшие слезы, мужественно старалась не расстраивать Карла. Она знала, что на эту свою первую отсидку он смотрит как на неизбежные результаты борьбы, знала, что он полон оптимизма и решимости и оттуда продолжать свое дело.
Он говорил ей в утешение, что полтора года — это всего полтора года и что они пройдут, как проходит все в этом мире.
В тот день в квартиру Либкнехтов пришли друзья по партии: Бебель, Франц Меринг, еще несколько человек. Бебель был ласков и задумчив. Добрая улыбка его — для Карла у него была особая улыбка — говорила, что он доволен поведением человека, которого мог назвать своим сыном по партии и который был сыном его самого близкого друга.
Не во всем он был согласен с Карлом. Он считал, что создание Центрального комитета специальной антимилитаристской пропаганды, как того требовал Либкнехт, придало бы партии односторонний характер, привело бы к массовым репрессиям властей против членов партии, ведущих антимилитаристскую агитацию, и могло послужить поводом для издания новых исключительных законов против социал-демократии. Он пытался доказать это Карлу, но, убедившись, что на него доказательства не производят впечатления, прекратил спор. Зато он был по-настоящему горд той огромной популярностью, какую Карл сумел завоевать за три дня процесса. Он гордился Карлом и с надеждой смотрел на него.
Он думал об уходящем поколении истинных борцов за социализм. Мысленно подсчитывал, сколько их осталось. Убедился, что для такого подсчета хватает пальцев на руках. Прикинул, кто же придет к ним на смену? Кто сможет возглавить движение, когда их не станет и его, Бебеля, не будет? И снова с надеждой посмотрел на Карла.
Наконец они простились. Либкнехт отправлялся в крепость.
Вот и раскрылись ворота Глацкой крепости. И захлопнулись. А вот и камера. Первая камера, в которую Карл Либкнехт попал как осужденный. Первая, но не последняя…
Глава 4 «Это наказание— самая большая честь, которая до сих пор мне была оказана»
Для человека, подобного Либкнехту, одиночество невыносимо. Общение с живыми людьми, бурная, полнокровная деятельность нужны были ему, как воздух; чтобы всегда было некогда, чтобы нужно было успеть столько, сколько один человек за одни сутки физически не может успеть; чтобы были телефонные звонки, чтобы приходили люди, чтобы надо было кому-то советовать, кого-то отстаивать, с кем-то воевать. Словом, чтобы жизнь мчалась, как автомобиль на последней скорости. Никакая другая жизнь не могла его устроить.
И хотя камера его была обыкновенной камерой, и хотя режим не особенно строгим, и хотя он имел возможность гулять на территории крепости и не был лишен права переписки, и хотя весной у него было полно цветов, Либкнехт метался в четырех стенах, не находя успокоения.
Пожалуй, его камера выгодно отличалась от многих других подобных: стол, заваленный книгами, журналами, газетами; книги в ящике; сколоченные четыре досточки, образующие нечто вроде книжных полок, стоящих прямо на полу; стул, который не привинчен к полу, — его можно передвигать к окну и выглядывать наружу.
Разумеется, он не сидел без дела. Разумеется, он писал, и писал много и подолгу, но… это была не та работа, которой он жаждал, да и шла она медленно, вяловато.
Он задыхался от своей изолированности, от невозможности поговорить с близким товарищем, оттого, что был лишен привычного общения с народом, бурных речей на митингах, атмосферы судебных процессов, где он умудрялся выдирать из цепких лап правосудия, казалось бы, заранее и безнадежно обреченных рабочих, революционеров, студентов.
И еще — очень тревожила жена. И старший сын Гельми.
У фрау Юлии начались приступы острых болей в правом боку. Гельми хворал и лежал в постели. Правда, в последнем письме фрау Юлия писала, что она чувствует себя гораздо лучше и поднялась на ноги, но ведь не исключено, что это просто в утешение мужу, которого лучше сейчас не волновать, — хватит с него и своих тревог… Надо написать ее врачу, узнать у него правду. Быть может, Юлии следует отправиться в Карлсбад, на курорт? Не сейчас — как только он отбудет свой срок.
Восемнадцать месяцев. Семь из них уже прошло. Сейчас весна. Даже тут, в крепости, дышать стало легче. Потом — цветы. И еще — он приручил черного дрозда. Каждое утро птица прилетает к нему, садится сперва на карниз, потом, смешно озираясь по сторонам, словно проверяя, не подсматривают ли тюремщики, быстро перепрыгивает на оконную решетку и, склонив голову набок, ждет. Он кормит птицу, радуется ее прилетам, как будто в эти часы приходит единственный друг, облегчающий жизнь затворника.
Сегодня 26 мая. Вечереет. Сегодня был хороший день: прибыло письмо от Юлии и пачка газет. Он читал их, не отрываясь, от первой до последней буквы. Наспех. Завтра можно будет еще раз перечитать, повнимательней.
Он садится за свой стол, аккуратно сдвигает стопки книг, освобождая место, и пишет письмо.
Это одно из двух дошедших до нас писем Карла Либкнехта к его первой жене.
«Глац, 26.5.08
Дорогая Юлия!
Наконец прибыли газеты. За твое письмо большое спасибо — я пишу д-ру Ш. открытку. Как обстоит дело с Гельми? Открытка из Грюцевальда свидетельствует о том, что он тоже уже на ногах. Его письмо полно ошибок; посылаю ему обратно с поправками.
Цветок, который я прилагаю, это так называемая купальница, тут он обозначает розу Глаца и является символом Глацкого горного общества; из семейства лютиковых. Дай его Гельми для его гербария; он должен убедиться, что листья этих цветов очень схожи с листьями лютиков, которые я ему уже посылал; также и цветок — точно такой, только еще более махровый.
У меня сейчас много цветов в комнате — огромный букет бузины, два букета купальницы, два — майского ландыша.
Кроме того, ко мне заползают дождевые черви из-за планки карниза — меня от них тошнит. Но я держу их на корм для черного дрозда.
Я вполне здоров. Только работа двигается не так быстро, как мне хотелось бы.
Последние дни стало холодно и ветрено, но града не было; прошло только несколько небольших гроз.
Я хочу попытаться отправить на лето — на время каникул — Гельми к одному моему знакомому учителю — холостяку, вблизи Бодензее (Швейцария). Я буду ему писать. Возможно, Бобби тоже. Это было бы великолепно! Как у вас с непогодой? Поцелуи и приветы всем.
Карл»[3].
…Гельми уже семь лет. Надо думать о серьезных занятиях — мальчишка пишет с огромным количеством ошибок. Он, Карл, в его годы был куда более грамотен и начитан. Но Гельми интересуется природой — это у него, должно быть, наследственное, от меня и от деда. И любовь к Грюневальду — наше семейное чувство. Когда-то отец говорил, что Грюневальд — это как раз то, что может примирить его с жизнью в Берлине…
«Работа двигается не так быстро, как мне хотелось бы…» О какой работе идет речь?
Это работа многих лет жизни Карла Либкнехта. Работа серьезного исследователя, философа, экономиста, искусствоведа, литературного критика. Работа человека огромной эрудиции.
Сейчас еще неясно, во что она выльется. Законы движения общества или законы общественного развития. Размышления или этюды. В сущности, неважно, как она будет называться. Важно написать ее, хотя бы начать писать, так чтобы написанное не вызывало у самого себя неудовлетворенности и раздражения. Замысел велик, огромен, надо охватить основные законы развития общества. Философия и право, естествознание и экономика, культура и искусство. Разумеется, той литературы, которая есть у него в камере, недостаточно. Ему многого не хватает, но не может же он перевезти сюда всю государственную библиотеку! А именно она и нужна ему.
Вот почему медленно движется эта колоссальная работа. Вот почему он разочарован в самом себе — ведь он всегда считал, что семижилен, что может творить в любых условиях и при любых обстоятельствах.
Правда, он загрузил себя предельно — кроме писания «этюдов», еще изучает русский язык; не может же революционер, если он подлинный революционер, не знать русского языка! Языка страны, где прошла революция 1905 года, где так сильна социал-демократическая партия, где есть такие руководители, теоретики и вожди, как Плеханов и Ленин. Страна, язык которой знали его крестные — Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
И снова Либкнехт берется за русские книги, и всякий раз, когда ему что-либо не удается, искоса поглядывает на одну нетолстую книжку, лежащую особняком.
Жаль, что ее прислали в немецком переводе! С каким наслаждением прочитал бы он эту книгу по-русски, чтобы услышать могучий голос человека, написавшего ее, в подлинном звучании. Даже в переводе чувствуется, как неповторим, своеобразен и богат язык писателя.
Либкнехт раскрывает книгу. И опять перечитывает надпись на титульном листе: «Карлу Либкнехту с любовью и горячим уважением. М. Горький».
Книга называется «Мать». Она пришла в крепость промозглым ноябрьским днем с солнечного Капри и сразу же озарила неуютную холодную камеру. Будто где-то между листов Максим Горький вложил немного лучей итальянского солнца! Либкнехт прочел ее не отрываясь. Не раз слезы увлажняли его глаза, он перечитывал по нескольку раз те или иные строки. И не раз вспоминал он прошлую весну, когда в Берлин приезжал русский Художественный театр и вместе с ним приехал Максим Горький. Вспоминал вечер Горького, на котором великий писатель читал своих «Буревестника», «Песнь о Соколе», и то, как он, Либкнехт, вместе с компанией товарищей-партийцев ворвался в антракте за кулисы, чтобы высказать Горькому свое восхищение. И как впервые в жизни оробел перед ним и так и не смог сказать ни слова…
Миновала первая весна в заключении. Отцвели купальницы и майский ландыш, дождевые черви перестали заползать в камеру, и черный дрозд не прилетал больше и не садился на тюремную решетку: видно, нашел себе место, где пищи было вдоволь.
Фрау Юлия все чаще стала прихварывать; Гельми по-прежнему делал в письмах к отцу множество ошибок.
16 июня в жизни заключенного произошло событие, о котором он писал: «это… мне очень дорого». Он, осужденный за «подготовку к государственной измене», единодушно был избран в прусский ландтаг. Он стал одним из первых шести представителей социал-демократии в этой твердыне прусско-германской реакции.
В крепость посыпались приветственные и поздравительные телеграммы. «Поздравляем бесстрашного и отважного борца за благо народа и свободу»; «Выражаем свои лучшие пожелания «государственному изменнику», избранному в прусский юнкерский парламент»; «Поздравляем и надеемся скоро снова увидеть вас в наших рядах» — эти и подобные слова радостью откликались в сердце Либкнехта. Мужественная солидарность рабочих с ним, осужденным имперским судом узником, о многом говорила. Прежде всего о том, что пролетариат стал смелее, что не так легко теперь запугать его, что настроение у масс боевое.
И была во всем этом ложка дегтя — мысль, что партия так неумело и слабо использует эти настроения рабочего класса.
Еще до заключения в крепость Либкнехт рассказывал своим русским друзьям-политэмигрантам, что его очень тревожит судьба немецкой молодежи и что он не знает, как долго удастся удержать самостоятельные молодежные организации.
Он не ошибся: вот теперь вышел закон, запрещающий юношам и девушкам, не достигшим восемнадцати лет, участие в каких бы то ни было политических организациях.
Он очень разволновался, когда несколько делегатов Нюрнбергского партийного съезда, добившись разрешения на свидание, рассказали ему об этом. И еще больше взволновали его те настроения, о которых он сейчас услышал. Настроения руководителей партии: они собираются воспользоваться ситуацией, чтобы задушить всякое самостоятельное молодежное движение. Судя по всему, на Нюрнбергском съезде будет принято именно такое решение.
А ведь он, давно предвидя это, во всех своих письмах к товарищам по партии настаивал на сохранении организаций рабочей молодежи. И сейчас он настойчиво внушал приехавшим делегатам, как важно поддержать это движение, пусть даже формально оно будет не политическим — скажем, какое-нибудь «просветительское общество» или «клуб развития художественного вкуса». Не в названии дело — важна суть!..
Тем временем в Гамбурге собрался конгресс профсоюзов, и устами одного из руководителей был произнесен приговор. «Лучше будет, — сказал этот деятель, по фамилии Шмидт, — если молодой рабочий вместо уплаты членских взносов купит себе лишний кусок колбасы…»
Конгресс профсоюзов в своем решении подписал смертный приговор самостоятельным молодежным организациям. А Нюрнбергский съезд социал-демократической партии привел его в исполнение: было решено распустить все молодежные союзы и вместо них создать комиссии при местных партийных комитетах «по работе с молодежью».
Присутствие Либкнехта на съезде, вероятно, не изменило бы принятой резолюции. Но оно, безусловно, было бы крайне неприятным для большинства участников съезда и наверняка нарушило бы ту атмосферу единодушного согласия, в которой он протекал. Кое-кто, вероятно, не раз облегченно вздыхал при мысли, что беспокойный Либкнехт находится так далеко от Нюрнберга.
Вскоре после этих печальных событий Либкнехт получил письмо от Бебеля:
«Нам нужна талантливая смена. К сожалению, способности очень редки. Ты единственный, на кого я возлагаю свои надежды…»
И дальше Бебель выражал уверенность, что ему, Карлу, придется «однажды занять ведущее положение в партии».
Горько и радостно было читать это письмо. Радостно, потому что Бебель так высоко ценил его. Горько, потому что даже он, Август Бебель, честь и совесть партии, не понимал: потому-то и нет у партии талантливой смены, что никто не занимается ее воспитанием! Ведь показала же русская революция 1905 года, как важно для судеб рабочего движения активное участие в нем молодежи! Молодежи, полной энтузиазма и проникнутой социалистическим мировоззрением. Так почему даже Бебель не хочет понять этого? Почему только он, Либкнехт, Клара Цеткин и еще считанные представители левого крыла партии, почему только они считали работу с молодежью насущной задачей и важнейшим пунктом в партийной деятельности?!
Впрочем, напрасно он спрашивает себя «почему?» — чисто риторический вопрос. Он хорошо помнит, как воевали против него, начиная с 1904 года, лидеры партии, когда он стал настойчиво добиваться объединения рабочей молодежи. Он помнит наглые слова одного из лидеров, не постеснявшегося на большой конференции заявить: «Если бы такое движение и существовало, то мы должны были бы бороться против него…»
Не по вкусу оппортунистам было то, что Либкнехт всегда говорил: борьба за пролетарскую молодежь неотделима от борьбы против милитаризма. И когда его, Либкнехта, осудили за его книгу о милитаризме и молодежи, эти же лидеры объявили во всеуслышание, что привлечение автора книги к суду и осуждение его подтверждают правильность их взглядов на антимилитаристскую пропаганду и невозможность доверить лицам, подобным Либкнехту, воспитание немецкой молодежи.
Поддержка пришла оттуда, откуда ее следовало ожидать, — из России, от Ленина. Поддержка, к сожалению, только моральная — на практическую деятельность германской социал-демократии она не оказала решительно никакого влияния.
Статья Ленина «Воинствующий милитаризм и антимилитаристская тактика социал-демократии» резко критиковала правых немецких социал-демократов — Фольмара, Носке и их сторонников. Ленин писал, что их рассуждения о необходимости принимать участие в «оборонительной» войне толкают на путь национализма, на путь защиты своего буржуазного отечества (что и подтвердилось спустя шесть лет!). Ленин обрушился на их оппортунистические заявления: коль скоро милитаризм и войны являются неизбежными спутниками капитализма, нет никакого смысла вести против них борьбу.
Ленин писал: «Современный милитаризм есть результат капитализма. В обеих своих формах он — «жизненное проявление» капитализма: как военная сила, употребляемая капиталистическими государствами при их внешних столкновениях… и как оружие, служащее в руках господствующих классов для подавления всякого рода (экономических и политических) движений пролетариата…»
Либкнехт читал эту статью, сидя в крепости. Читал и радовался, что узнает свои собственные мысли, высказанные Лениным в более четкой и лаконичной форме.
Он помнил Ленина по Штутгартскому конгрессу II Интернационала, он работал тогда в той же комиссии, что и Ленин. Он и тогда еще поражался остроте ленинских определений, редкостной логичности его доказательств, умению наповал разить противника в теоретическом споре, его изумительной способности вести полемику. Он помнил, как в те дни испытал счастливое чувство оттого, что именно Ленин, в котором для него символизировалась русская революция, оказался таким несгибаемым социалистом.
То, что он, Либкнехт, в вопросах милитаризма и антимилитаризма стоял на тех же позициях, что и Ленин, а стало быть, на правильных позициях, в эти тягостные дни было для него огромной моральной поддержкой. Но душевная боль от сознания, что великолепная ленинская статья никак не повлияет на правление германской социал-демократической партии и на всех, кто идет за этим правлением, что дело всей его, Либкнехта, жизни рушится там, за стенами Глацкой крепости, — эта боль не оставляла ни на минуту. Он приходил в ярость от собственного бессилия, оттого, что все его статьи и письма, посылаемые отсюда, просто игнорируются партией.
Партия… Ее создавал его отец и Август Бебель. Оба они не раз подвергались критике Маркса и Энгельса за то, что не во всем и не всегда были последовательны, как это надлежит руководителям революционного пролетариата. Но что сказали бы Маркс и Энгельс теперь о деятельности Шейдемана, Эберта, Носке, Бернштейна, Фольмара и всей этой компании ревизионистов и оппортунистов?!
Если проанализировать историю рабочего движения Германии и историю германской социал-демократии, пожалуй, можно найти объяснение и неоднородности состава партии, и ее тенденции к парламентским формам борьбы, и тому, что именно германская социал-демократия стала родиной ревизионизма.
В середине прошлого века три четверти рабочих Германии были заняты в ремесленных мастерских, и это обстоятельство наложило свой отпечаток на характер рабочего движения. После отмены Исключительного закона против социалистов в социал-демократическую партию усилился приток мелкобуржуазных попутчиков. Переход германского капитализма в империалистическую стадию сделал более устойчивой прослойку рабочей аристократии.
В первые годы нового века, когда обострились противоречия империализма, в германской социал-демократии возникло три течения: правооппортунистическое, центристское и левое. И если разногласия между первыми двумя были скорее формальными, то у левого крыла партии мало находилось общего с обоими течениями. Руководство партии, состоявшее почти сплошь из представителей правых и центра, постепенно отошло от революционных методов борьбы и в конце концов скатилось на социал-шовинистические позиции.
К тому времени, когда Карл Либкнехт стал активным партийным деятелем, когда популярность его затмила популярность многих лидеров партии, центристское руководство все больше склонялось к соглашательству и с неудовольствием смотрело на всякий «резкий ход». Считая, что ни массы, ни обстановка еще не созрели для революции, что в Германии, стало быть, нечего и копья ломать, правление партии принимало в штыки все выступления, которые угрожали нарушить добрые отношения с буржуазией и правительством.
Либкнехт сидел в крепости уже вторую зиму. Зима была теплая, грязная и дождливая. Либкнехт все писал и писал наброски и целые главы своего большого труда. После многочасового сидения в душной камере, смертельно устав от работы, он подвигал к окну стул, подтягивался на руках, опираясь о высокий подоконник, и подолгу смотрел на обложенное тучами хмурое небо, следил, как падали на карниз мелкие брызги дождя.
Тоскливое небо, тоскливый, нудный дождь, тоскливо у него на душе…
А между тем он полон сил, и ничто так не бесит его, как вынужденная пассивность. Что такое несколько статей, которые он написал за эти месяцы, или несколько глав для книги, или множество писем? Ничто по сравнению с тем, что он может, на что способен его темперамент, что он должен делать!
1 февраля, незадолго до конца заключения, его поразил тяжелый удар: умерла мать, Наталия Либкнехт. Мать, обожаемая сыновьями, человек широкой и большой души.
«Как относились и я и все мы, — писал он через восемь лет в письме к жене, — к нашим родителям, к нашей матери — этого словами не выразишь. Объяснить это можно многими причинами, в том числе перенесенными вместе страданиями и преследованиями. И в самом деле, существует такая любовь, которая сильнее смерти и с которой смерть ничего не может поделать: мертвый продолжает жить в мыслях и чувствах тех, кто его пережил. Так было и с моими родителями: они только отсутствуют, но даже и это выражение не совсем точно…»
1 июня 1909 года Карл Либкнехт вышел из крепости. Бурная, сложная, многообразная деятельность сразу же захватила его. Похоже было, что он изо всех сил старается «погасить задолженность», которая скопилась за восемнадцать месяцев.
Он набросился на работу с яростью раскованного Прометея. Он стал теперь еще смелее, еще прямолинейней, еще неистовей. Круг его обязанностей и дел чрезвычайно расширился. Пожалуй, после Бебеля он был теперь в Германии социал-демократом «номер один». Его имя знали далеко за пределами страна. О нем говорили в России, этой пороховой бочке революции.
Через двадцать четыре дня после освобождения он произнес свою первую речь в прусском ландтаге. Рабочие, избравшие его депутатом, когда он сидел в крепости, убедились, что не ошиблись в своем выборе. Речь шла о трехклассном избирательном праве, обрекавшем на полное бесправие трудящиеся массы.
Когда вице-президент ландтага Порш предоставил Либкнехту слово, наступила непривычная для прусского парламента тишина. С нескрываемым любопытством и напряженным вниманием зал ждал: что он скажет на этот раз — недавний арестант, «изменник родины», столь неожиданно оказавшийся их коллегой в парламенте. Что скажет известный адвокат и социал-демократ, выдающийся оратор, способный, как говорят, зажечь любую аудиторию? Что скажет на сей раз этот «борец за свободу народную», которому имперский суд так ловко заткнул глотку на полтора года?..
Через две минуты они поняли, что скучно им, во всяком случае, не будет. Еще через три минуты молчание было нарушено возмущенными возгласами.
— Господа, — сказал он, — я начну свою речь в несколько литературной форме. По мнению Кардано, одного из философов (он был уверен, что никто из сидящих здесь понятия не имеет о Кардано), человечество делится на три различных класса… Первый класс состоит из тех, кто обманывает, второй из тех, кто обманывает и одновременно бывает обманут (обманутые обманщики), и третий класс — это те, которые только бывают обмануты. Вот, коротко говоря, смысл прусского трехклассного избирательного права.
Не лишенная чувства юмора аудитория разразилась громким хохотом.
При следующих словах смех оборвался. Наступило оскорбленное молчание.
— Да, господа, вы смеетесь сами над собой и не знаете даже, что вы над собой смеетесь… Я хочу еще рассказать вам один исторический анекдот. Существовал деятель реформации, по имени Буцерус, друг Лютера и Цвингли, следовательно, весьма почтенная личность, с вашей точки зрения; он сказал в 1526 году…
Кто-то хихикнул негромко; кто-то возмущенно воскликнул: «Издевательство!» Либкнехт обернулся на возглас и спокойно, все тем же тоном, по которому так и нельзя было понять, издевается он над своими «коллегами» или говорит вполне серьезно, продолжал:
— Да, господа, вы со своими взглядами еще не перешли через порог 1526 года… Поэтому уместно вам это сегодня еще раз напомнить. Буцерус говорил: «Если скажут волку, чтобы он сторожил овец, или кошке, чтобы она оберегала колбасу, то можно себе представить, как они будут охранять. Точно таким же образом сейчас опекается бедный люд». Да, господа! Эти слова имеют силу и сегодня и являются прекрасной характеристикой вашей точки зрения на отношения имущих классов с бедными классами. Вы с исключительной энергией защищаете ту точку зрения, что нельзя уничтожить трехклассное избирательное право. Господа! Я хочу сначала еще раз спросить: на каком основании, по какому праву вы защищаете подобную претензию?!
Сидящие справа дружно закричали: «Конституция!»
— …На основании нарушения конституции, на основании государственной измены, совершенной сверху, и больше ни на каком основании!..
— Ого! — заорали депутаты. — Опомнитесь! Кого вы обвиняете! По себе судите! Давно ли с вас сняли обвинение в государственной измене!
Вице-президент доктор Порш тщетно пытался успокоить разбушевавшихся депутатов. Весьма возможно, что Либкнехту просто не дали бы говорить дальше, но любопытство взяло верх; любопытство и надежда, что он, пожалуй, договорится до такого, после чего не представит труда вторично привлечь его к судебной ответственности.
Когда стало немного тише и разгневанные прусские депутаты снова заняли свои места, кто-то негромко, но внятно сказал:
— За полтора года доктор Либкнехт имел возможность обдумать свое поведение, свою политику…
И тоже тихо, но внятно Либкнехт ответил:
— У меня было полтора года времени?.. Полтора года! Это наказание — самая большая честь, которая до сих пор мне была оказана… Лучше находиться в тюрьме в качестве жертвы насилия, чем сидеть здесь в качестве насильника!..
И он осмеял их лицемерные разглагольствования о «христианской любви к ближнему», он сказал, что весь мир смеется над этими разглагольствованиями. Он преподал им урок прусской истории, высказал мнение прогрессивных людей об их юнкерской кровожадности, прошелся по адресу пресловутого «пруссачества», раскрыл все их противозаконные и антиконституционные махинации с избирательным правом и весь этот уничтожающий поток обвинений закончил словами:
— …Этот Карфаген, это трехклассное избирательное право должно быть уничтожено. И мы неустанно будем заявлять об этом в стране при каждой возможности. Мы столь долго будем наступать без передышки, пока не будет взят этот бастион, и мы позаботимся о том, чтобы народный суверенитет был стабильным и крепким, как гранитный утес, и чтобы господа юнкеры потеряли в ландтаге почву под ногами!
А через месяц он выступал в Киле, на огромном народном собрании, возникшем стихийно из демонстрации, которую кильские рабочие организовали в виде протеста против русского царя Николая II, приглашенного кайзером в гости в Германию. Он говорил, что царская реакция не только несчастье русского народа, это позор для всей Европы.
Он жадно общался с народом, после того как долго был с ним разлучен. Он выступал с речами и докладами о «кровавом режиме царизма, который сейчас свирепствует в еще большей степени, чем когда-либо до революции»; о юношеском движении и идейном руководстве социал-демократов молодежью; против прусского полицейского террора и за улучшение благополучия рабочего класса. И всюду красной нитью проходили слова, сказанные им в Лейпциге, в речи о политическом положении: «Антимилитаризм есть не что иное, как стремление к тому, чтобы армия перестала быть подходящим средством для удовлетворения алчных замыслов авантюристов, которые готовы при благоприятных условиях все потопить в крови».
После полутора лет, проведенных в Глацкой крепости, он остался верен себе. Каждый трудящийся человек, несправедливо обиженный, нуждающийся в совете и помощи, знал, что в адвокатской конторе на Шоссештрассе, 121, у доктора Карла Либкнехта он встретит полное понимание и чуткость, что ему окажут помощь советом или действием.
Доктор Карл Либкнехт защищает в Дрездене русских студентов, обвиненных в принадлежности к тайному обществу. В Шпандау — рабочих-спортсменов, отданных под суд за то, что на загородной прогулке они шли организованным строем и несли красное знамя. В процессе против участников демонстрации в Галле он выступает в защиту двадцати пяти обвиняемых. Он выступает в четырех последующих аналогичных процессах.
Как «летучий голландец», носится он по стране и всюду, где бы ни побывал, оставляет у народа теплую память о себе. Пламенный агитатор, активный политик, стремящийся двинуть массы на борьбу, стремящийся завладеть их вниманием; смельчак, полный энергии, всегда полный планов; отличный человек, любимец рабочих и молодежи, всегда бодрый и веселый, остроумный и чуткий, — таким был Карл Либкнехт в годы, последовавшие за отбытием первого наказания.
Один из участников Лейпцигского съезда партии в 1909 году вспоминает о нем: «Не забуду никогда, как он во время Лейпцигского съезда германской социал-демократии в течение шести дней, пока шел съезд, после работ, после массовых митингов, ночью в продолжение всей недели кутил с нами, молодыми, до белого утра, сидел в кафе за стаканом вина в красной фригийской шапочке из бумаги — тогда в Лейпциге происходила известная Лейпцигская ярмарка — как, с испугом заломив руки, смотрел на него его серьезный брат Теодор. Во всяком своем жесте Карл Либкнехт был сыном своего отца — великого агитатора, великого живого человека, умевшего веселиться, как малое дитя… Он был единственным социал-демократом Германии, в котором жил дух Парижской коммуны».
В октябре 1910 года Карл Либкнехт соглашается на приглашение национального секретаря социалистической партии США приехать с агитационной целью, по случаю выборов в конгресс и сенат, и 10 октября отплывает в Соединенные Штаты.
А дома? Дома, как всегда, дожидалась жена, дети ловили каждую минуту, чтобы побыть с ним. Он любил детей, все свободное время — до чего же его было мало! — уделял им, постоянно следил за их развитием, воспитанием, учением. Он любил жену, жалел, что ему так мало доводится бывать с ней, что вышла она замуж за человека-бродягу, с которым всегда находится в разлуке.
Фрау Юлии оставалось довольствоваться его письмами. Он писал много и часто и когда был ее женихом, и когда стал мужем, и когда служил в армии, и когда отсиживал в крепости. Он писал ей из своих Поездок по стране, писал из Америки. Судя по письму, помеченному ноябрем 1910 года, можно горько сожалеть о пропаже остальных.
Судя по этому письму… Да вот оно, коротенькое и усталое; не письмо — мысли вслух, продолжение прерванного разговора, обрывки впечатлений, доверенные бумаге, без необходимости излагать их складно и связно — все равно адресат поймет.
«Любимая Юлия!
Через Солт-Лейк, город мормонов, над Зельцзее тянется мост па 40 километров. Лунный свет и бушующие волны; пенящиеся, дикие, расточительные озорницы, вздымающиеся к небу, разорванные, словно бы покрытые снегом. Два поезда под нами столкнулись на одном пути…
Теперь ночь в Калифорнии в Dreamland; так называется помещение, в котором я 17-го выступаю. Я хочу видеть Иоселитский заповедник и Золотые ворота. Я не могу много писать: только видеть и слышать.
Очень я устал.
Я очень надеюсь встретить тебя в Портсмуте; или встретиться, когда я высажусь в Маурет. Телеграфируй мне.
Все здесь бесконечно дорого. Сейчас иду спать; шестую ночь в пути и еще восемь предстоит. Спится хорошо.
Целую тебя и детей.
Твой Карл»[4].
Неизвестно, встретила ли его жена. Неизвестно, телеграфировала ли она ему. И о поездке в Америку почти ничего больше не известно.
Глава 5 Жизнь продолжается
Фpay Юлия Либкнехт была человеком жизнерадостным, деятельным и неунывающим. Приступы болей, все чаще посещавшие ее, причиняли не только физические, но и нравственные страдания. Прикованность к постели, необходимость подолгу созерцать четыре стены и потолок своей спальни ставили ее в унизительную зависимость от процессов, происходящих внутри ее организма.
Когда был установлен диагноз — заболевание желчного пузыря, фрау Юлия выехала в Карлсбад с твердым намерением раз навсегда покончить с болезнью. И после двух-трех поездок она с радостью почувствовала себя почти здоровой. Боли уже не укладывали ее в постель, только изредка глухо напоминали о себе. Первое время она строго соблюдала диету, а потом решила, что болезнь отступила и можно уже забыть о всяком лечении.
Утраченное чувство зависимости от болезни, возвращенное право распоряжаться собой по собственному усмотрению, вернувшаяся возможность воскресных прогулок, общения с природой, которую она так любила, — все это рвалось наружу: фрау Юлия отправилась с друзьями в автомобильное путешествие по Рейнланду. Утомительная непривычная поездка закончилась катастрофой.
В пути фрау Юлия почувствовала себя плохо. Приступ налетел внезапно. Пришлось остановиться в Эмсе. Местный врач вынес приговор: немедленная операция.
Но, очевидно, было уже поздно. За операцией последовала смерть Это случилось 22 августа 1911 года.
Трое сирот — десятилетний Гельми, восьмилетний Роберт и пятилетняя Вера — остались на попечении отца.
Карла Либкнехта горе настигло с такой внезапностью, что он не сразу понял, что произошло. Ушел из жизни молодой, энергичный человек, друг, терпеливая и любящая жена. С ней ушло многое, что связывало его с юностью, с прошлым, с родительским домом.
Несмотря на всю его суматошную, бурную жизнь, в которой не так уж много места оставалось для семьи, для него годы жизни с Юлией были счастливыми. Кто знает, может быть, в глубине души Карл и упрекал себя в том, что так мало уделял ей внимания и времени? Быть может, испытывал глубоко запрятанное даже от самого себя болезненное чувство вины перед ней?..
Революционер не принадлежит себе. Эта банальная истина тем не менее истина. Ни время Либкнехта, ни даже самые его душевные переживания не принадлежали ему. Дела не ждали, партия требовала деятельности. Через две недели предстоял партийный съезд в Иене.
Жизнь продолжалась.
Для Либкнехта, человека бурных чувств во всем — и в горе, и в радости, и в личном, и в общественном, — это было спасением.
Йенский съезд был довольно оживленным. Особенно разыгрались страсти вокруг так называемого марокканского вопроса. Аферы, в которой Германия намерена была приобрести для своего флота базу на северо-западном побережье Африки, а Франция и Англия не собирались ни при каких обстоятельствах допустить этого.
В Пруссии в это время проходило движение за новую избирательную реформу, и, вероятно, авантюра была организована прусским юнкерским правительством для отвлечения внимания масс на «патриотическую ниву».
Французские социалисты внесли в Международное социалистическое бюро предложение провести демонстрацию протеста против марокканской аферы. Против предложения французов резко возражал представитель немецких социалистов Молькенбур. Он написал письмо в адрес бюро, в котором протестовал против всеобщей демонстрации и созыва международной конференции.
Письмо вызвало возмущение Розы Люксембург, и она его опубликовала.
В одном из документов, изданном правлением партии во время Йенского съезда, Розу Люксембург упрекали в том, что она выдала партийную тайну и тем совершила «антипартийный поступок».
Роза выступила на съезде с гневной речью. Кто-то из руководства назвал ее в кулуарах «сварливой бабой».
Либкнехт ядовито напомнил делегатам, что берлинские рабочие не стали ждать так называемого «разглашения тайны со стороны товарища Люксембург», что они «многократно проявили свою активность и показали, что сумели лучше, чем партийное правление, оценить серьезность положения» в вопросе о Марокко. Он назвал марокканскую историю аферой, преследующей бонапартистские провокационные цели. Правление партии, сочинившее «дело Люксембург», действовало по правилу «держи вора». Ибо само оно, правление, допустило промах, не призвав своевременно массы к протесту против марокканской истории. Но социал-демократические массы сделали это без правления и вопреки ему.
— Что бы ни случилось: разразится ли гром, ударит ли молния — борющийся пролетариат окажется на высоте! — закончил Либкнехт.
На Йенском съезде критика деятельности (точнее, бездеятельности) лидеров социал-демократии приняла особенно острые формы. Не потому ли, что в воздухе пахло войной?
Военные приготовления, которые усиленно вело немецкое правительство, были настолько явными, что не только старый социал-демократический волк Август Бебель, не только обладающий великолепным политическим нюхом Карл Либкнехт чувствовали их — каждому мало-мальски мыслящему человеку было ясно: кайзер готовится к большой войне.
Силы, заинтересованные в развязывании войны, нужно было разоблачить.
В январе 1912 года Либкнехта избрали в рейхстаг. Теперь он стал трижды парламентарием, и не раз случалось, что рейхстаг, прусский ландтаг и Берлинское собрание городских депутатов заседали одновременно, и Либкнехт бегал с одного заседания на другое, умудряясь выступить на всех трех.
Во время выборов в рейхстаг в 1912 году центральным вопросом был вопрос об отношении партий и правительства к войне. Обещать беспощадную борьбу против милитаризма и войны — значило обеспечить себе успех у основной массы избирателей. И социал-демократы, чья партия к тому времени стала самой многочисленной в Германии, такое обещание громогласно дали. Должно быть, это и сыграло решающую роль в том, что они получили НО мандатов в рейхстаге. Весь рабочий класс отдал за социал-демократов свои голоса — так велико было в то время антивоенное настроение немецкого пролетариата.
Приближение войны ощущалось не только в Германии— во всей Европе. Массовые демонстрации в защиту мира прошли во всех столицах; в Германии они приняли небывалые размеры. «За свободу и мир!», «Война — войне!» — стали лозунгами дня. В городах проходили стычки между рабочими и полицией. В Хемнице съезд социал-демократической партии принял резолюцию по докладу «Об империализме», в которой говорилось, что «социал-демократия борется против любых настойчивых империалистических стремлений, где бы они ни проявились, со всей решительностью отстаивая международную солидарность пролетариата, который ни при каких обстоятельствах не питает враждебных чувств к другим народам».
Насколько эта резолюция была только громкой фразой, стало ясно через два года. В те дни бешеной гонки вооружения и явной угрозы войны осуждение милитаризма социал-демократами носило чисто декларативный характер. Внутри партии не было единства.
«На первый взгляд — странное явление: при такой очевидной важности этого вопроса, при таком явном, бьющем в лицо вреде милитаризма для пролетариата трудно найти другой вопрос, по которому существовали бы такие шатания, такая разноголосица в среде западных социалистов, как в спорах об антимилитаристской тактике», — писал Ленин.
В Германии только левые социал-демократы во главе с Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург требовали решительных выступлений пролетариата против колониальной политики, против гонки вооружений и угрозы грабительской войны.
«…Мы должны дать в рейхстаге генеральное сражение националистическим фразам, — писала Люксембург в журнале «Равенство», — которые на каждом шагу выставляют против нас во время избирательной борьбы и за которыми укрываются милитаризм, колониальная политика, ужасы войны и личного самовластия».
«Генеральное сражение» в рейхстаге дал Карл Либкнехт 18 апреля 1913 года.
Двенадцатый год был годом бурного расцвета парламентской деятельности Либкнехта и резкого похолодания в его отношениях с партийным руководством. Двенадцатый год был трамплином к тому прыжку, который он сделал в следующем году.
Двенадцатый год принес ему личное счастье: женщина, которую он полюбил, стала его женой.
Софье Рисе было двадцать восемь лет. Невысокая, по-мальчишески стройная, с глубокими черными глазами, волевым ртом и шапкой пышных черных волос; обаятельная и умная, она приехала из России, из Ростова-на-Дону, чтобы в Германии завершить свое образование.
С Либкнехтом она встретилась в Берлине, у общих знакомых, и большая любовь навсегда приковала ее к этому человеку. Не оттолкнула «бродячая» жизнь, не устрашили неожиданности, на каждом углу стерегущие революционера, не вызвали опасений враги, которых у него было более чем достаточно.
Не испугало и трое детей.
Дети сразу назвали ее «мамой». Она и в самом деле стала для них матерью, хотя вполне могла бы быть сестрой. Должно быть, как раз потому, что была она так молода, им легко было подружиться с ней.
Хорошая, большая семья; дети, к которым она привязалась; тепло и уют, которые сумела создать; большой, хороший, любимый человек — какой счастливой она себя почувствовала!
Ненадолго. Через два года грянула война, и с тех пор муж редко жил в семье. А еще через шесть лет его убили. И кончилось ее недолгое счастье…
Два года на целый человеческий век. Наверно, это были большая любовь и большое настоящее счастье. Потому что Софья Либкнехт навсегда осталась верна ему.
…Передо мной фотография семьи Либкнехта. 1913 год. Карл Либкнехт в черном костюме и в таком же галстуке под твердым стоячим воротничком белой сорочки; густые черные вьющиеся волосы — седины на фотографии не видать; черные усы и вертикальная борозда, прорезывающая твердый волевой подбородок. Из-под пенсне мягко и задумчиво смотрят проницательные глаза. Рядом с ним — сыновья. Открыто улыбающийся Роберт, близорукий, как и отец, в очках; и Гельми с такой же, как у отца, вертикальной «чертой» на подбородке; губы его чуть приоткрыты, глаза глядят весело — будто очень ему хочется засмеяться, но возраст не позволяет. Возле Гельми — Вера. Две косички, перевязанные белыми лентами, прежде всего бросаются в глаза. Веселая, забавная девчонка так изумленно, с таким любопытством смотрит с фотографии, что кажется, вот-вот с уст ее сорвется какой-нибудь вопрос. Она тесно прижалась к Софье, и такая нежность угадывается в этой близости женщины и ребенка, что если пристально вглядеться, начинает казаться — между ними определенно есть сходство.
Взгляд молодой жены Либкнехта устремлен в пространство, губы плотно сжаты, что-то скорбное в лице. Будто смотрит она в даль годов, и видится ей страшное горе…
Разумеется, ничего похожего она тогда не могла предвидеть. Быть может, она просто не хотела, чтобы на лице было написано испытываемое ею счастье, — судя по тому, какой я узнала Софью Борисовну Либкнехт теперь, человеком она была скрытным, сдержанным в своих чувствах, человеком, который не впускает посторонних в свою душу, в свои переживания, будь то радость или горе.
И только на одной фотографии, где она стоит среди цветущего хмелевого поля, вся озаренная солнцем, в яркой белой кофточке, такое же яркое откровенное счастье написано на ее лице…
День в семье Либкнехта начинался с телефонного звонка. Звонили с Шоссештрассе, 121, где помещалась адвокатская контора братьев.
Секретарша просила напомнить доктору Карлу Либкнехту, что сегодня в уголовном суде в Моабите слушается такое-то дело: «Пожалуйста, фрау Либкнехт, проследите, чтобы доктор не опоздал и, главное, не перепутал, куда сегодня нужно ему ехать. Скажите, что в десять, в Моабите», — умоляла секретарша.
Это был традиционный звонок. Дело в том, что доктор Карл Либкнехт был удивительно рассеянным и забывчивым человеком. Во всем, что не касалось его партийно-политической деятельности.
Фрау Либкнехт только посмеивалась: где она, эта пресловутая немецкая пунктуальность? В своем муже она ничего подобного не обнаружила.
Он умудрялся сочетать в себе удивительное и обыденное, необычайный талант организатора и способность постоянно опаздывать, предельную точность в политических делах и редкостную забывчивость во всем остальном.
Софья Либкнехт добросовестно выполняла просьбы секретарши, и благодаря ее настойчивым напоминаниям Карл все-таки попадал именно туда, куда ему следовало попасть в этот день.
Адвокатская контора Либкнехтов представляла собой пристанище для горестей и обид главным образом пролетарского люда.
Большая просторная комната — приемная, в которой всегда ожидало множество клиентов. Были здесь представители разных слоев населения, но как-то так получалось, что к младшему из двух адвокатов больше стремилась рабочая беднота. Чтобы просуществовать от такой адвокатуры, нужно было брать на себя огромное количество дел.
Клиентов была масса. И каждый из них считал, что его дело самое главное, и старался как можно подробней рассказать о нем «господину адвокату». Люди в таких случаях становились разговорчивыми, но врожденная деликатность, доброта и мягкость не позволяли Либкнехту прервать человека. Он только с тоской смотрел на остальных ожидающих, понимая, что переговорить со всеми никак не успеет.
В конце концов он выработал определенный прием — добродушно и весело прерывал бесконечные излияния клиента успокаивающими словами:
— Теперь послушайте, что я вам скажу: идите себе спокойно домой, и все необходимое будет сделано.
И он действительно делал все, что было в его возможностях.
Из приемной комнаты две двери вели в кабинеты братьев. Кабинеты были однотипны: большой письменный стол, стулья, на столе телефон, у стенки — полки с документами. В кабинете Теодора висел портрет доктора Ре — отца Наталии Либкнехт, а в кабинете Карла стояло его кресло. Семейные реликвии, дань уважения памяти матери и ее замечательному отцу — депутату, а затем и президенту первого немецкого парламента.
Контора многими нитями была связана с семьями адвокатов. То ли контора была филиалом квартиры, то ли квартира филиалом конторы?.. Работа нередко переносилась из конторы домой. Тогда в квартиру Либкнехтов с утра приходили стенографистки, работали под диктовку Карла, в минуты передышки болтали с фрау Софьей и детьми, чувствовали себя здесь как дома.
Была ли так скоро забыта Юлия? Ни дети, ни Карл не забывали ее. Но боль утраты притупилась со временем — быстрее у маленькой Веры, дольше вспоминали мать сыновья. Появление в семье Софьи внесло успокоение в сердца детей. Семья снова стала семьей, к отцу вернулся его веселый, жизнерадостный нрав. Хорошая мать, она оказалась и хорошей воспитательницей. Детей Карла она искренне считала своими. Они отвечали ей тем же, и радостной была жизнь в первые два года ее водворения в семье.
Впрочем, и в эти годы волнений у Софьи Либкнехт было немало. Да и могла ли жизнь жены Карла Либкнехта проходить без тревог и волнений? Стремительный и бурный, Карл после какого-нибудь особенно острого своего выступления не остывал и дома. И жена всегда была в курсе его дел, знала, о чем и о ком он в тот день говорил, с кем пришлось ему воевать, каких результатов ждал от своей речи, какие неприятности подстерегали его.
В душе она гордилась им. Какая женщина не позавидовала бы ей, несмотря на все треволнения, на всю сумбурность, какими полно было существование Карла?
Почти каждое его выступление вызывало теперь долго не смолкающий отклик. О нем говорила пресса, его превозносили одни и ругали последними словами другие — таких было больше; ему угрожали, его преследовали, его ставили в пример, ему подражали.
Но, пожалуй, ни одно его выступление, ни одна произнесенная речь не вызывали еще такой бури, какая разразилась после его речи в рейхстаге 18 апреля 1913 года.
Глава 6 Либкнехт против Круппа
Сказать, что разразился скандал, — значит ничего не сказать. Такого, пожалуй, не упомнит история Германского государства. Чтобы правительство в результате разоблачений, сделанных социал-демократическим депутатом, вынуждено было возбудить судебный процесс против… самого Круппа! Оплота прусского юнкерства, фирмы, производящей почти все немецкое вооружение, крупнейшей немецкой компании, с вековой историей и традициями, которую неистово восхвалял недавно сам император!
Самая могущественная фирма — всего восемь месяцев назад был отпразднован ее столетний юбилей. В Эссене проводили торжества, какие не часто бывали в Германии. Присутствовали все министры и сам кайзер.
— Пушки Круппа служили прусским войскам на полях сражений, — ораторствовал Вильгельм II, — на которых подготовлялось и завоевывалось единство Германии. Пушками Круппа также и теперь вооружены германская армия и германский флот. Заводы Круппа строят корабли, которые носят германский флаг…
Вся реакция после этой речи, захлебываясь от восторга, пела оды «пушечному королю», превознося его заслуги перед немецким народом. И вдруг какой-то социал-демократ, адвокат Карл Либкнехт называет Круппа аферистом, а всю его деятельность — «германской панамой»!
Но Либкнехт недаром был блистательным и знающим юристом. Чтобы обвинять — он знал это, — надо иметь в руках доказательства. Чтобы обвинять Круппа — мало простых доказательств; надо иметь такие неопровержимые факты, такие подлинные документы, так суметь построить разоблачение, чтобы ни один казуист не смог ничего опровергнуть. Словом, по «королю пушек» надо стрелять из пушек.
Крупп был оплотом империи. Все вооружение шло через него. Могли исчезнуть все прочие поставщики оружия и остаться только Крупп — Германская империя продолжала бы быть могучей, вооруженной державой. И Крупп, понимая это, совсем уж перестал в чем бы то ни было стесняться. Он работал на все фронты, считая себя неуязвимым и незаменимым, зная, что и кайзер и германское правительство предпочтут смотреть сквозь пальцы на любую его аферу, лишь бы только не лишиться его.
Цинизм его деятельности не имел предела. Распоясавшийся крупнейший капиталист вкупе со всеми руководителями фирмы, рангом пониже, не знал никаких запретов и действовал, как хотел, во имя собственной наживы, роста своих и без того баснословных капиталов.
Либкнехт против Круппа! Комар против слона… Каковы же были конфуз и смятение в германском правительстве, когда, поставленное в чудовищно неловкое положение перед мировой общественностью, оно вынуждено было ответить на «комариное жужжание»… судебным процессом против могучего «пушечного слона».
Разумеется, «комару» это не пройдет даром, ему еще припомнят «крупповскую» эпопею. Но пока — пока комар оказался ядовитым, спрятаться от его жалящих укусов было некуда. И вообще возник вопрос: кто же из них комар, а кто — слон?
18 апреля на всю жизнь запомнилось и кайзеру, и правительству, и крупным немецким капиталистам, и юнкерству. Запомнилось оно и немецкому народу.
В этот день сессия германского рейхстага должна была утвердить новый законопроект о военном бюджете, выдвинутый правительством Бетман-Гольвега. Ассигнования на вооружения намного превышали предшествующие. Вопрос о том, готовится ли Германия к войне, уже не подлежал сомнению: новый законопроект был равносилен началу войны.
Миллиардные ассигнования на вооружение, мотивировал рейхсканцлер, необходимы, потому что балканские войны вызвали обострение международных отношений. Германии, заверял он, грозит нападение извне, Германия должна быть готова к обороне, Германия должна поддержать свой военный авторитет, обеспечить свое будущее; Германия занимает особое географическое положение, и это обязывает ее быть достаточно сильной, чтобы одновременно «защищаться» на востоке и на западе.
Все буржуазные партии, от консерваторов до прогрессистов, поддержали этот законопроект, выступая единым фронтом за агрессивную внешнюю и реакционную внутреннюю политику правительства. И только один Либкнехт выступил против всего парламента, против всего правительства, в сущности, против кайзера. Его разоблачения, веские и неопровержимые, его утверждение, что источник военной тревоги нужно искать прежде всего внутри Германской империи, вызвали сначала изумление, затем настороженность, потом опасения и, наконец, неприкрытую злобную ненависть. Впрочем, наживать себе врагов в кругах буржуазии и правительства он умел, как никто!
— Значит, германские военно-промышленные фирмы осуществляют патриотическую миссию, поставляя оружие всех видов для германской армии и флота? — говорил Либкнехт. — Так по крайней мере утверждает реакционная пресса; так утверждает, как мы это только что слышали, господин канцлер, так говорил несколько месяцев назад сам кайзер… А как насчет поставок германскими военными фирмами оружия за границу? Как насчет того, что это германское оружие, если учитывать «военную опасность извне», будет потом направлено против Германской империи, против немецких солдат? А известно ли господам депутатам, что эти фирмы поставляют оружие за границу по ценам более дешевым, чем в свое отечество? Нет, не известно? Так вот теперь пусть будет известно. Факт, что и говорить, примечательный и как-то не очень соответствует патриотическим чувствам немцев, возглавляющих эти фирмы. Не правда ли? Впрочем, рейхстагу многое известно. Известно, что в 1905 году Крупп, например, поставлял в Америку бронеплиты по 1920 марок за тонну, а прусскому военному министерству по 2320 марок…
Депутаты были шокированы. Откуда у этого адвоката такие точные сведения? Такие совершенно секретные данные? И как он не боится раскрывать свою осведомленность в самых потаенных государственных делах?
А он не боялся. Он продолжал говорить, глядя в лицо канцлеру, военному министру, депутатам, публике.
Известно ли им, что военные фирмы заключили между собой секретные соглашения о монопольных ценах на поставки оружия отечественным военным ведомствам? Скажем, Крупп и Штумм еще двенадцать лет назад заключили соглашение о поставке военному министерству брони, которое обеспечивало фабрикантам чистую прибыль в размере 150 процентов. Не правда ли, не плохой «патриотизм»? Во всяком случае, весьма выгодный, а? Патриотизм или прибыль — что служит стимулом для деятельности Круппа и ему подобных? Любовь к своему отечеству? Но у капитала нет и не может быть отечества! Это еще не все — фирма Круппа патриотична настолько, что, желая знать все, что делается в стране, особенно в военном министерстве, создала целую сеть шпионских гнезд во всех военных ведомствах. Фирма богатая, что и говорить. Часть этих богатств, часть астрономических прибылей, получаемых ею от любимого отечества, она без ущерба и с большой пользой для себя употребила на подкуп чиновников. И чиновники всех рангов были и есть на шпионской службе у Круппа, они разглашали и разглашают фирме все военные тайны империи. Брандт — так фамилия главы этой «разведывательной сети», которая состоит на службе у Круппа, — Брандт организовывает и руководит «разведкой» в центральных военных ведомствах в пользу фирмы. Брандт действовал с помощью чистогана, и, надо сказать, не к чести многих прусских военных и гражданских чиновников, действовал вполне успешно: от них он получал все сведения о секретных ценах на оружие, поставляемое конкурирующими фирмами, о размерах и сроках военных поставок, о новых образцах оружия, разрабатываемых в конструкторских бюро других фирм, о планах военных министерств в области вооружения армии и т. д. Полученные сведения Брандт направлял в Эссен на имя фон Девитца, непосредственно связанного с советом директоров фирмы Круппа…
Вот так хлестал Либкнехт всех их по физиономиям, не давая времени передохнуть, собраться с мыслями. Депутаты слушали, ошеломленные. Публика, особенно корреспонденты, боялась проронить хоть одно слово. Рейхсканцлер был так смущен, что нечаянно разорвал на мелкие кусочки какой-то нужный документ, который держал в руках. А военный министр неприметно расстегнул верхний крючок кителя — похоже было, что его вот-вот хватит удар.
Но никто уже не смел остановить оратора, никто не нарушал тишины огромного зала. Казалось, сами стены готовы зажать уши, чтобы не слышать его постыдных разоблачений.
Было очевидно, что скандала не миновать. Было ясно, что через несколько минут… что там через несколько минут: уже сейчас каждое слово Либкнехта стало достоянием гласности. Скандала не миновать не только в своей стране — вся мировая прогрессивная пресса подхватит его.
Осталась только одна надежда: обвинения, брошенные Либкнехтом, голословны — доказательств у него нет. А коли так, что мешает опровергнуть его слова?
И опровержения посыпались бы, как из дырявого мешка. Опровергал бы прежде всего сам Крупп, и военный министр, и канцлер, и, разумеется, кайзер Вильгельм не замедлил бы вступиться за своего любимца.
Но Либкнехт знал, с кем имеет дело и на кого поднимает руку: в его поднятой руке были зажаты доказательства — документы, которые никем и никак не могли быть оспорены.
Он их огласил. Семнадцать зашифрованных донесений Брандта!
— Я решил представить все эти факты общественности, — сказал Либкнехт, — в интересах германского народа и европейского мира.
Почему? Он рассказал и это. Еще в конце прошлого года эти донесения были представлены им, Либкнехтом, прусским следственным органам. Но военное министерство умышленно затягивает расследование, надеясь, очевидно, что у него, Либкнехта, не станет решимости предать всю эту грязную историю гласности. Они ошиблись: как раз поэтому, потому что он понимает, что следствие может и вовсе не быть произведено, он решился сегодня на этот шаг.
Военный министр Геринген менее всего думал, что ему придется выступать в рейхстаге по такому поводу. Но тут уж не было выбора, и Герингер решительно взошел на трибуну.
Он выступает, сказал он, от имени правительства. Да, он должен признаться, раз уж Либкнехт осмелился огласить здесь государственные секреты, что прусской тайной полицией арестован ряд чиновников военного министерства, заподозренных во взяточничестве и разглашении военной тайны. Но при чем здесь фирма Круппа?! То, что некоторые чиновники оказались взяточниками и шпионами, — факт из их биографий, а не биографии заслуживающей только величайшей благодарности отечества столетней фирмы! Сто лет германская армия работала с Круппами, фирма имеет огромные заслуги перед немецкой армией, а стало быть, перед Германским государством. И мы должны выразить фирме признательность, а не забрасывать ее грязью, как это на руку господам социал-демократам!
Либкнехт ответил незамедлительно: так, стало быть, немецкий народ должен быть благодарен Круппу? А не наоборот ли? Не из карманов ли беднейших представителей немецкого народа черпает этот «процентный патриот» сотни миллионов, которыми располагает?! А не напомнить ли защитнику Круппов, у которого, видно, короткая память на историю, как 29 апреля 1868 года Фридрих Крупп за два года до начала франко-прусской войны предлагал Наполеону III свои услуги в вооружении французской армии новейшей артиллерией?! Артиллерией — он это знал, — которая будет разить немецкий народ, воевать против его родины?!
— Я, само собой разумеется, не ждал благодарности от господина военного министра, — говорил Либкнехт, — но надо признать несколько своеобразным то обстоятельство, что господин военный министр счел необходимым в своем выступлении выразить благодарность фирме «Крупп» за ее великие заслуги и патриотические дела… Немецкий военный законопроект, безусловно, в значительной части является плодом патриотических интриг того рода презренных патриотов выгодной сделки, о которых я здесь говорил. Народное благополучие требовало моего выступления, возлагало на меня обязанность раскрыть опасную для общества деятельность заправил военной промышленности… Изложив здесь материал, которым я располагаю, я выполнил свой долг; а господин военный министр должен еще в значительной степени выполнить свой долг. Ничего не должно быть скрыто, ничто не должно быть затушевано… Мы ждем, что правительство проявит необходимую энергию, чтобы выступить и должным образом воздействовать на всесильную фирму «Крупп» и на всю эту всесильную капиталистическую клику, и что большинство рейхстага сделает те необходимые выводы, которые должны быть сделаны в интересах германского народа, в интересах европейского мира…
В ту же ночь с невероятной поспешностью из Эссена в Берлин примчался генеральный директор крупповской фирмы — Гугенберг. И 19 апреля, когда рейхстаг был переполнен, когда рейхстаг шумел, кричал, стучал ногами в нетерпеливом ожидании, что же бут дет дальше? — Гугенберг выскочил на трибуну и, потрясая кулаками, завопил:
— Я не знаю дела Круппа, я знаю дело изменника родины Либкнехта!.. Никто никогда не выдавал нашей фирме государственных секретов…
— Были выданы государственные секреты! — с места перекричал его Либкнехт. — Фирма «Крупп» хранила в Эссене, в несгораемых шкафах, большое количество тайных донесений своих агентов о самых разнообразных вещах. Эти тайные донесения были в большинстве конфискованы, после того как я представил имеющиеся у меня документы…
Что было в этот день — сказать нельзя! Все газеты, бывшие на содержании у Круппа и других военных промышленников, вся пресса, финансируемая крупной буржуазией, подняла истерический вой в защиту чести Круппа. «Честь Круппа — честь Германии, — заявило правительство, — пороки Круппа — пороки государства!..» «Все для спасения чести Круппа!» — кричали первые полосы газет.
Замолчать скандал было уже нельзя. Имя Круппа склонялось на всех европейских языках. Пресса всех направлений комментировала выступление Либкнехта. В большинстве немецких газет выступление это передавалось в чудовищно искаженном виде. На Либкнехта лили потоки грязи, называли его «иностранным агентом», заинтересованным в том, чтобы Германия «лишилась самой большой своей военной фирмы, чтобы перед лицом врага, чьим агентом является Либкнехт, она потерпела поражение».
Законопроект трещал по всем швам — утверждение его находилось под очевидной угрозой.
Газеты на видном месте помещали оправдания Круппа, и то, что «сам Крупп» должен был что-то объяснять, в чем-то оправдываться, было величайшей победой Либкнехта: с его разоблачениями нельзя уже было не считаться.
Зато левая буржуазная печать, все социал-демократические газеты потребовали создания парламентской следственной комиссии. В Англии и Франции речь Либкнехта полностью напечатали рабочие и социалистические газеты и тут же вытащили на свет божий собственных «круппов».
Либкнехт рассказывал дома:
— Мои слова подействовали, подобно выстрелу в стаю пирующих воронов, которые с пугливым криком разлетались в разные стороны.
«Выстрел» этот всколыхнул целое море — один выстрел одного человека…
Шумела пресса, заседали директора фирм, в военном министерстве чуть ли не круглые сутки совещались, ища выхода из создавшегося положения. Кайзер демонстративно наградил Круппа орденом Красного орла. В крупнейших капиталистических фирмах лихорадочно просматривали содержимое секретных сейфов и увольняли «подозрительных» сотрудников.
А Карл Либкнехт, приходя домой, с усмешкой читал десятки угрожающих, полных клеветы и оскорблений писем и весело успокаивал жену: «Я теперь персона грата, если со мной что-нибудь случится, во всем мире поймут, что я был прав…»
21 апреля в «Форвертс» появилась статья, один только заголовок которой вселял тревогу и любопытство: «Что случилось? Что случится?»
«Трудно направить луч света… в секретные кабинеты магнатов капитала, — писал Либкнехт, — как это нам удавалось в течение последних дней… Шайка враждебных отечеству «патриотов» неистово сжимает кулаки и прежде всего в связи с разоблачением крупповского фонда оплаты его прислужников…
Грубая, беспардонная сила, цинично попирающая все те аргументы и методы, которых требуют, так сказать, благопристойность и культура, во всем сходная с самим милитаризмом, этой концентрированной и систематизированной жестокостью и насилием, — вот какова военная промышленность. Она чудовищна по своим силам, ненасытна в своих претензиях, она исполнена страсти в своем стремлении к барышам… Она по своей внутренней сущности имеет международный характер; через все государственные границы простирается солидарность фабрикантов оружия в деле подстрекательства народов друг против друга; и по своему внутреннему и внешнему бесстыдству военная промышленность превосходит все проявления капитализма. Вместе с тем именно она чрезвычайно заинтересована в определенном влиянии на политику, прежде всего на внешнюю политику, на государственную власть и на все те политические мощные факторы, с помощью которых разжигается губительный огонь вражды между народами, с помощью которых можно противодействовать «опасности» мирного развития, причем именно эти факторы одновременно являются наиболее богатыми заказчиками для военной промышленности.
Никакие узы моральных соображений не могут быть достаточно крепкими для того, чтобы сдержать подстрекаемое подобной психологией дикое эгоистическое стремление военной промышленности к прибылям. Всякую плотину смывает эта волна, если только эта плотина не установлена капиталом в собственных интересах».
Если бы статья не была датирована 21 апреля 1913 года, кто бы не принял ее за статью борца за мир сегодняшнего Запада?!
Карл Либкнехт и сам по себе был достаточно прочной плотиной, препятствовавшей круппам в их неудержимом стремлении к наживе любой ценой — ценой большой или малой крови своих соотечественников или трудящихся других стран, других континентов. Они смыли и эту плотину. Весьма вероятно, что именно в те дни крупповского скандала, который вызвали выступления Либкнехта в рейхстаге и в печати, и была задумана операция по «смыванию этой плотины».
Слова его звучали, как выстрелы дальнобойных орудий. Ни одна пушка фирмы «Крупп» не могла конкурировать с ним в разящей силе. Его третья речь в рейхстаге 26 апреля закрыла последнюю возможность, к которой стремилось правительство, — спустить на тормозах весь скандал. После этой речи следовало, хотя бы для виду, в чем-то признать вину Круппа.
Либкнехт не настаивал на том, что афера Круппа — единственная в мире. Напротив, он подчеркивал: почти в каждой капиталистической стране есть свои круппы. Все военные тресты разных стран находятся в преступном против народов этих стран заговоре — своеобразный «Интернационал войны». Клика монополистов, будь то в Германии, Франции или Англии, преступно заинтересована в мировой войне. Тем важнее разоблачение Круппа, что его преступление — типичное преступление, а не исключение.
— В интересах поддержания мира, — говорил Либкнехт, — в интересах содействия усилиям, которые должны воспрепятствовать тому, чтобы Европа ради фискальной политики была ввергнута в войну, необходимо еще раз перед всем миром указать на ту капиталистическую клику, интересом жизни которой являются война, ненависть и раздор между народами; необходимо бросить клич народам: «Отечество в опасности!» Но оно в опасности не перед внешним врагом, но перед опаснейшими внутренними врагами — военными монополистами всех стран.
И социал-демократ Либкнехт, ненавистный правительству, с трудом терпимый официальным руководством партии, добился своего. Германия гудела, и всюду повторяли одно слово — на улицах и площадях, в рабочих столовках и в цехах, в домах прогрессивной интеллигенции и беднейших слоев государственных служащих: «Крупп», «Крупп», «Крупп».
Рейхстаг вынес постановление, которого добивался Либкнехт: была образована следственная комиссия для проверки военных поставок. Правительство вынуждено было провести два судебных процесса против фирмы «Крупп». Все, что говорил Либкнехт, подтвердилось на этих процессах. Суд, однако, нашел выход, чтобы доказать, что обвинения Либкнехта, хоть и содержат крупицу правды, все же очень сильно преувеличены: приговор был вынесен на незначительные сроки тюремного заключения ряду чиновников из фирмы «Крупп» и военных ведомств.
Юстиция спасала то, что еще можно было спасти. Но легенда о неподкупности прусских чиновников была развеяна в прах. Грязь, антипатриотизм, предательство ради денег — все стало ясным народу после выступлений Либкнехта.
Еще яснее стало это на втором процессе, где свидетелем выступал сам Либкнехт, а на скамье подсудимых сидели главный осведомитель Круппа — Максимилиан Брандт и директор фирмы Отто Эксиус. Оба шпиона были осуждены.
По требованию Либкнехта рейхстаг вынужден был создать комиссию для изучения вопроса: возможна ли национализация военной промышленности. Сама постановка подобного вопроса говорила о мощи Либкнехта, за которым стоял рабочий класс, бурно сочувствовавший этому предложению.
Интерес в народе к речам Либкнехта был настолько высок, что газеты в дни его выступлений раскупались нарасхват, увеличилось число подписчиков социал-демократических газет, подробно освещавших ход процессов против фирмы «Крупп». Настроение масс в результате крупповской истории было таким накаленным, что следовало только использовать этот момент для мобилизации рабочего класса. Но руководство партии этого не сделало. Ни фракция, ни правление партии не издало даже ни единой брошюры, ни одной листовки или воззвания, посвященных разоблачению Круппа и других поджигателей войны.
Фракция рейхстага, по сути дела, устранилась от борьбы против нового военного законопроекта, и низовые социал-демократические организации были взволнованы позицией фракции. Кое-где в низовых организациях требовали от правления партии привести в движение трудящихся, вплоть до организации массовой стачки. Фракцию, своим поведением в рейхстаге оказывавшую услугу правительству в утверждении законопроекта, критиковали на все корки. Но фракция, состоявшая главным образом из ревизионистов и центристов, игнорировала голоса с мест. Фракция в целом проголосовала за прямые налоги на военные расходы.
Лозунг, пропагандируемый левыми социал-демократами в рабочих массах — «ни гроша, ни человека милитаризму», — был отброшен руководителями партии.
В августе в газете «Форвертс» Либкнехт опубликовал статью «Фиглярничанье». Он писал, что вся буржуазная и правительственная печать продолжает свои жульнические маневры, чтобы покончить с делом Круппа при помощи «ловкости рук и проворстве пальцев, которые были бы достойны индийских факиров, если бы оказались менее неуклюжими». Но после всего, что произошло в рейхстаге, после всех разоблачений, никакие «телохранители» Круппа ничего не могут поделать. Потому что «Все это привело к скандалу, к совершенно неслыханному мировому скандалу! Идол ура-патриотизма Крупп, озаренный сияющим нимбом безграничной милости, даже любви его императорского величества, украшение и слава Германии, самая священная национальная святыня, лежал в пыли, в самом низменном капиталистическом человеческом обличье…» Чем бы ни кончилось это фиглярничанье, нельзя недооценивать значение того, что подтвердилось на процессе. Политически важная сторона дела достаточно освещена. И надо делать все политические выводы. И за это надо бороться независимо от того, «обанкротится ли юстиция».
Он боролся. И боролся не один. В левом крыле социал-демократической партии все его выступления, все его идеи и статьи вызывали полную поддержку. Вместе с ним были и Клара Цеткин, и Франц Меринг, и Роза Люксембург.
Судьба навеки связала память о нем с памятью о Розе Люксембург. Имена их всегда стоят рядом. Не только потому, что оба они одновременно погибли, но и потому, что боролись рядом против общего врага, за одно и то же дело.
Сложная была судьба у Розы Люксембург. Еврейка по национальности, полька по месту рождения, она почти всю свою сознательную жизнь провела в Германии. Маленькая, хромоногая, с крупным некрасивым носом, она была так обаятельна, так необычны были ее огромные, глубокие, трагические, полные вековой мудрости глаза и словно нарисованные, великолепные черные брови, что никто и не примечал ее некрасивости, невзрачного роста, хромой походки. Стоило однажды увидать ее, как уже невозможно было выйти из-под власти ее обаяния.
Идейность ее могла бы стать легендарной: человека, который, по ее мнению, хоть на йоту отклонился от правильного пути, она вычеркивала из своего сердца, даже если это был любимый и уважаемый человек, друг, которому она прежде поклонялась. Так вычеркнула она Карла Каутского, когда поняла, что он изменил делу рабочего класса, за которое она отдавала все, что у нее было. Вычеркнула не молча — она воевала с ним, она высказывала в печати и в своих выступлениях, лично ему и его жене, с которой продолжала быть дружна, все, что думала о его оппортунизме, о его измене святому для нее делу.
Это была цельная личность, неутомимая и могучая в работе, не унывающая в беде, если беда была связана с ее деятельностью, любящая и всеми друзьями любимая, веселая, радостная и не лишенная ни женского обаяния, ни чисто женских черт характера. Никогда, ни при каких обстоятельствах она не теряла веры в победу своего дела. Однажды сказанные слова: «Надо быть, как свеча, которая горит с обоих концов», — она претворяла в жизнь. И, казалось, огонь был неугасим.
Она способна была зажечь окружающих, даже самых равнодушных. Она обладала удивительным свойством: привлекать людей, которых хотела привлечь.
Она умела отстаивать свою точку зрения, не признавала непререкаемых авторитетов, считала, что каждый может ошибаться, но никто не имеет права упорствовать в своих ошибках. Она и сама никогда не упорствовала, если ошибалась.
Ленин много и остро критиковал ошибки Розы Люксембург, отвечал на ее неправильные статьи и действия. Но он уважал ее острый ум, ее большую эрудированность и ее глубокую преданность делу рабочего класса. Ей он прислал заказной бандеролью «экземпляр своей книги по философии — на память о нашей беседе по поводу Маха при последнем нашем свидании».
Перед войной, когда в Германии развернулась борьба за избирательную реформу, она отстаивала революционную тактику, доказывая, что и в Германии, по примеру русского пролетариата, надо применять новые, внепарламентские формы борьбы — демонстрации, массовые стачки. Много времени она отдавала теоретическим проблемам. Она оказалась одной из немногих в Германии, кто поднял свой голос против предательства правых и центристских лидеров германской социал-демократии.
Непреклонную борьбу вела она против милитаризма. В 1913 году она выступила с публичным разоблачением палочной дисциплины, царившей в кайзеровской армии, так ядовито и остро, как только она умела. За это ее бросили на полтора года в тюрьму. Ее считали «опасной» и церемонились с ней еще меньше, чем с Карлом Либкнехтом, — ведь она не была немкой!
Карл с удовольствием читал гневные статьи Розы, узнавал ее горячность и с радостью думал, что хоть и мало их — левых, но зато какие! Можно жить и бороться, когда с тобой, локоть к локтю, шагают такие люди.
Понимал ли Карл Либкнехт, что никогда не простит ему германское правительство ни его разоблачений, ни этого вынужденного процесса против Круппа, ни его выступлений против военного министра? Думал ли, что в эти дни была отлита пуля, сразившая его шесть лет спустя?.. И если бы знал, сыграло бы это какую-либо роль в его поведении?
Весь светлый облик Карла Либкнехта, вся его жизнь, его самоотверженная борьба позволяют дать ответ на этот вопрос: нет, не сыграло бы никакой роли. Даже если бы кто-то шепнул ему в те горячие дни борьбы, что за углом его ждет купленный правительством убийца, который прикончит его, если он тотчас же не прекратит своей борьбы, он, вероятно, усмехнулся бы своей особенной, понимающей и слегка иронической улыбкой, снял бы пенсне, пристальным, близоруким взглядом вгляделся в говорящего и — взошел бы на трибуну, чтобы произнести четвертую, пятую, сотую речь против всех поджигателей войны, убийц народов, против империалистов.
Ни одним словом не возражала ему жена, человек, с которым он был предельно откровенен. Но могла ли она не беспокоиться о его судьбе? Она могла улыбаться и радоваться вместе с ним его победам, но в душе, конечно, всегда была неспокойна. Могла ли она поручиться, что сегодня он вернется из рейхстага, или с массового митинга, или с собрания? Могла ли быть уверенной, что по дороге его не арестуют или не устроят нападения из-за угла?
И она старалась не расставаться с ним. Он рад был этому. Его «бродячая» жизнь мало оставляла времени для жены, и он счастлив был, когда можно было вырваться из берлинского водоворота и хоть недолгое время пробыть вместе с ней.
Весной этого бурного, богатого событиями года они выехали в Лондон.
..Лондон, Шарлотт-стрит, 107. Коммунистический клуб. Адрес, хорошо знакомый эмигрантам из разных стран, так или иначе связанным с рабочим движением. Коммунистический клуб — штаб-квартира русских политических эмигрантов, место встреч германских социал-демократов, по разным причинам оказавшихся в Англии.
Клуб этот имел свою долгую, почти легендарную историю. Основан он был в 1840 году двумя немецкими политэмигрантами, членами тайного Союза справедливых. Через семь лет здесь состоялся первый конгресс Союза справедливых, а еще через несколько месяцев — второй конгресс, теперь уже Союза коммунистов. Новый устав и программа были написаны Марксом и Энгельсом, они же предложили лозунг для Союза коммунистов: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Официально клуб назывался «Коммунистическое рабочее просветительское общество».
Коммунистический клуб никогда не пустовал. Собрания, дискуссии, любительские спектакли и концерты, выступления левых социалистических деятелей из разных стран устраивались здесь почти ежедневно.
По приглашению Коммунистического клуба и выехал в Лондон Карл Либкнехт.
«…он произнес сильную, яркую, горячую речь о том, что тогда нас больше всего волновало, — о быстро надвигавшейся угрозе войны. Главный зал клуба был переполнен до отказа. Сидеть было негде. Люди примостились на окнах, на столах, даже на каминах. Жара и духота были невыносимые. Напряжение в аудитории с каждой минутой росло. Речь оратора то и дело прерывалась бурными рукоплесканиями. А он, этот оратор, яркий брюнет с живыми движениями, бросал в толпу, точно пули, острые, колючие слова, которые в каждом сердце зажигали гнев и протест против правителей, влекущих свои народы в бездну кровавой бойни…
Карл Либкнехт говорил очень хорошо. В его словах было не только ораторское искусство — в них чувствовалась также глубокая искренность, которая подкупала и очаровывала.
После окончания собрания Либкнехт вместе с несколькими товарищами зашел в ресторан Коммунистического клуба. С Либкнехтом была его жена, молодая, интересная брюнетка, русская по национальности. Мы сидели все за двумя сдвинутыми столами, и Либкнехт, еще не остывший от только что испытанного ораторского возбуждения, все время разговаривал и шутил. Кто-то из товарищей спросил, как поведет себя германский пролетариат, если кайзер вздумает объявить войну.
— О, германский пролетариат сумеет сказать свое слово! — убежденно воскликнул Либкнехт.
И потом, повернувшись ко мне, спросил:
— А как поведет себя русский пролетариат?
— Русский пролетариат будет против войны, — ответил я.
История внесла серьезные поправки в наши тогдашние ожидания, но русский пролетариат более чем исполнил свой долг: под руководством ленинской партии он совершил величайшую из всех великих революцию, открывшую совершенно новую эпоху в развитии человечества.
Была уже полночь, когда, проводив Либкнехта, мы стали расходиться по домам. Стояла тихая летняя ночь, огромный город отходил ко сну, лишь кое-где на центральных улицах еще слышался постепенно замиравший рокот дневной сутолоки… По дороге мы много говорили о только что прослушанной речи Либкнехта, о грозной опасности войны, о роли пролетариата в ее предупреждении»[5].
«Грозная опасность» все явственней надвигалась. Еще недавний «брат» императора Вильгельма II — русский царь Николай II в буржуазной пропаганде, в правительственных и реакционных газетах вдруг превратился в ярого врага не только кайзера, но и всего немецкого народа. Правительство при каждой возможности внушало народу, что если и вспыхнет война против России, то это будет война «оборонительная», на благо родной Германии, во имя ее спасения от русских варваров. Шовинистический угар всячески распространялся и раздувался. Борьба Либкнехта, Розы Люксембург и других левых социал-демократов против Круппа, против придворных торговцев орденами, против поджигателей войны, разлагающих молодежь, против юнкерской военной касты, против империализма все больше затруднялась этим угаром «спасай отечество», этими шовинистическими призывами правительства.
А между тем руководство социал-демократической партии не имело единого мнения о тактике в войне, если она последует. Создавалось впечатление, что правление партии просто надеется на какой-либо стихийный благоприятный поворот событий. Вообще единого мнения к концу 1913 года у германской социал-демократии не было, пожалуй, ни по одному важному вопросу. Если между правыми и центром во многом было единодушие, то с левыми правление партии все время находилось в оппозиции.
В такой обстановке открылся 14 сентября в Иене очередной съезд партии. Первый съезд без участия Августа Бебеля: он умер за месяц до этого дня.
В то время в Германии шла борьба за избирательную реформу, принявшую, как и все в те месяцы, особенно острую форму. Неизвестно, что сказал бы по этому поводу Бебель — первый социал-демократический депутат рейхстага, избранный в 1867 году, когда парламентская деятельность социалиста-пролетария была еще чем-то совершенно неслыханным. Ему тогда еще не было и двадцати семи лет. У него было скудное образование и незначительный политический опыт. И не было ни одного примера в мире, которому он мог бы подражать. Впервые в мировой истории социалист-пролетарий вошел в парламент. Он один был против правительства, против него выступали самые выдающиеся ораторы, самые искушенные парламентарии. За его спиной стояла маленькая партия, обладавшая маленьким опытом, еще очень слабая идейно, переживающая детскую стадию своего развития. И все-таки он смог стать видным парламентским деятелем и внушить к себе уважение. Инстинктивно он понял, какой метод надо избрать в парламенте для борьбы за пролетарское дело.
Ленин писал в 1913 году, что Бебель по праву считался «самым даровитым парламентарием Европы, самым талантливым организатором и тактиком, самым влиятельным вождем международной, враждебной реформизму и оппортунизму, социал-демократии». «…Бебель такой крупный авторитет в международном движении пролетариата, такой опытный практический вождь, такой чуткий к запросам революционной борьбы социалист, что он в девяноста девяти случаях из ста вылезал сам из болота, когда ему случалось оступаться, и вытаскивал тех, кто хотел идти за ним».
А теперь место Бебеля в парламенте пустовало. Чего только не перевидал на своем веку этот маршал революционной армии пролетариата Германии! И некому было без него вытягивать тех, кто «лез в болото»…
Впрочем, те, кто занял оппортунистическую позицию на Йенском съезде, не пошли бы за Бебелем, если бы он вздумал тянуть их на правильный путь. Они, в сущности, давно уже невылазно сидели в болоте и на этом съезде еще раз продемонстрировали, что болото оппортунизма и есть привычная для них среда.
В парламенте фракция социал-демократической партии верноподданнически проголосовала за увеличение военных кредитов. Левые — Цеткин, Либкнехт, Люксембург и другие требовали, чтобы это позорное поведение фракции было вынесено на обсуждение всех членов партии. Но партийный съезд в Иене отверг их предложение. Отверг он и предложенную левыми резолюцию о необходимости массовой политической стачки.
Карл Либкнехт выступал на Йенском съезде по вопросу о массовой стачке, как методе борьбы за новую избирательную реформу. Тут он столкнулся с Филиппом Шейдеманом — будущим душителем германской революции, закулисным палачом Либкнехта и Люксембург.
Либкнехт напомнил, как в прежние годы, на предыдущих съездах речь шла о том, что завоевание свободного избирательного права «отнюдь не безделица, это не второстепенный вопрос, это было и остается самой жгучей, самой срочной проблемой в Германии». А теперь — как это ни странно — кое-кто говорит, что прусское избирательное право, собственно, не является столь существенным и ради него не стоит вести слишком серьезную борьбу.
— Я не могу так быстро переучиваться, — воскликнул Либкнехт, — и я знаю, что за стенами помещения, где идет заседание нашего съезда, многие товарищи тоже не могут так быстро переучиваться!
Умер Бебель, и Шейдеман стал играть в руководстве партии значительную роль. Совсем, казалось бы, недавно был он избран в правление — всего два года назад, а уже сумел войти в силу, своими оппортунистическими выступлениями покупая авторитет у правых и центра. Он и в рейхстаге при голосовании новых кредитов раболепно высказывался в поддержку правительства и на этом Йенском съезде повел себя так, что Либкнехт высказал ему все, что о нем думал. И Шейдеман запомнил и это выступление и непримиримую позицию Либкнехта, в корне расходящуюся с той, за которую так хитро, так дипломатично ратовал он сам.
Выступая на Йенском съезде, Шейдеман изобразил людей, призывающих к массовой стачке, как пустых фразеров от революции, фанатиков «с большевистским душком».
— Как могло случиться, — говорил Либкнехт, — что именно восторженных сторонников продолжения и усиления борьбы за прусское избирательное право, которые в первую очередь высказывались за обсуждение вопроса о массовой стачке, как мог он именно их высмеять, как фразеров, и по всем правилам опорочить?! Уже самая дискредитация сторонников массовой стачки, допущенная товарищем Шейдеманом… должна была послужить поводом для того, чтобы внимательно приглядеться к резолюции, внесенной правлением партии, и для того, чтобы отнестись к ней с некоторым недоверием…
Очень мягко и очень сдержанно выступал он на сей раз. Это стоило ему, горячему и прямому, немалых усилий. Но была такая атмосфера на съезде, так явно брали верх оппортунисты, используя угар шовинизма и ура-патриотизма, раздутых правительством и прессой, и так важно было если и не победить оппортунистическую позицию правления, то хотя бы высказать вслух отношение левых к ней, что Либкнехт изо всех сил старался сдерживать свой ораторский темперамент.
— Наша резолюция, — сказал он дальше, — отличается от резолюции партийного правления прежде всего тем, что занимает позицию, одобряющую дискуссию о массовой стачке, она ее приветствует, потому что эта идея возникла из революционных потребностей масс, из их твердой веры в постоянство тактических устремлений партии, которые еще два года назад считались священными в рядах всей партии; наша резолюция приветствует обсуждение вопроса о массовой стачке, потому что он вытекает из требования постоянства в нашей беспощадной борьбе, вплоть до сокрушения противника…
Да, но как раз шейдеманы и не заинтересованы были в «сокрушении противника», ибо они прекрасно уживались с этим противником; они частенько шли у него на поводу и никогда не были подлинными выразителями интересов масс. Они легко отрекались сегодня от своих вчерашних революционных фраз; они потому и были оппортунистами, что принципиальность у них не пользовалась почетом.
И Либкнехт и все левое крыло отлично это понимали, и не для Шейдемана с таким жаром выступал Либкнехт — он хотел, чтобы то, что понимали они, поняли и все рядовые члены партии и весь рабочий класс Германии. А поняв, сказали бы свое слово и повернули бы политику партийного правления на сто восемьдесят градусов, в сторону истинной борьбы за социализм.
— Тот, кто серьезно относится к массовой стачке, не может принять такую тормозящую дело резолюцию, какую предложило правление партии, — закончил Либкнехт. — Надо принять резолюцию, которая нацелена на то, чтобы содействовать идее массовой стачки. В вопросе о прусском избирательном праве и сегодня и в будущем недопустима остановка, невозможен возврат назад, возможно только движение вперед!
Шумные аплодисменты. И — полный провал. Партийный съезд прошел под знаком победы оппортунистов. Оппортунистическая тактика была одобрена большинством съезда против 141 голоса левых и примыкавшей к ним некоторой части центристов.
Левых было слишком мало. Партийный съезд в Иене — последний съезд перед войной — показал это, как никогда, наглядно. Этот съезд тем и был примечателен, что оппортунисты на нем почти уже перестали стесняться, почти уже открыли свои карты, почти уже не прикрывались громкой фразой.
Карл Либкнехт возвращался из Иены домой, и всю дорогу его не покидало ощущение надвигающейся катастрофы. Он понимал, что поражение левых на съезде — не случайное, что в это смутное время оно тем более ощутимо и тем более чревато последствиями. Не то чтобы поколебалась его вера в немецкий пролетариат, но он знал, что массы надо организовывать, убеждать и пропагандировать, что массы верят своей партии, а партия — надо назвать вещи своими именами, — партия обманывает их. Сладкие и туманные слова Шейдемана, явно метящего в лидеры партии, кружат головы, притупляют бдительность и ослабляют решимость. Сладкие слова, которые, когда дойдет до дела, горечью отольются пролетариату.
В стране было неспокойно. Правление партии палец о палец не ударяло для того, чтобы хоть каким-нибудь образом бороться с надвигающейся катастрофой, чтобы разоблачить поджигателей «оборонительной» войны, чтобы создать непримиримое к ней настроение у трудящихся.
Многое мог Либкнехт, многое делал он. Многое делали и его товарищи: Люксембург, Цеткин, Меринг. Но что могла предпринять горстка идейных социал-демократов, не щадящих себя, не думающих о себе, самоотверженных и честных, против того угара, который нагнетался всеми реакционными, буржуазными и — увы — социал-демократическими силами в народе?!
Катастрофа назревала. Это понимал Либкнехт. И, понимая, напряженно думал: что еще он может, что еще он должен?..
Глава 7 Когда маски сорваны
Серый автомобиль быстро едет по улицам вечернего Берлина. Сумерки. Тревожные, настороженные. Двое штатских широкими жестами разбрасывают с автомобиля листовки. Листовки падают на серый асфальт и яркими белыми пятнами расцвечивают улицы.
Какой-то человек в очках и с портфелем резко наклоняется за листовкой, роняет очки и растерянно озирается близорукими глазами. Кто-то вырывает из его рук листовку и читает вслух: «Мы мобилизуем! Народ требует войны!..»
И вот уже за автомобилем бегут люди, ловят на лету гонимые ветром белые листки, комкают их, дрожащими руками расправляют, и… ликующие крики оглашают воздух:
— Мобилизация! Война с Россией! Спасем наше отечество..
Что случилось? Еще днем Берлин был подобран, напряжен, насторожен. Каждый лелеял в душе надежду, что чаша сия все-таки вопреки очевидности минует его. А сейчас?.
Разносчики газет орут на весь город:
— Война с Россией! Германия объявила войну России! Мобилизация! Спасем наше отечество…
Толпы возникают на каждом шагу. Кое-где уже слышен плач женщин и возгласы молодых мужчин. К ночи толпы людей густеют — никто не ложится спать. Кажется, наконец, дошло до народа, что приключилось, — толпы молчаливы, в рабочих районах чувствуется растерянность: где же обещанная социал-демократами «война — войне»?
А Центральный комитет партии молчит. А «Форвертс» пишет какие-то нелепые вещи вроде «Австрийский конфликт должен остаться локализованным…», «Наша страна не хочет войны…» И тут же: «…пусть страна помнит, что война еще не означает конец царизма, пусть Германия бережется от вторжения «темной» России…»
«Темная Россия», «берегитесь ее вторжения» — что это? Призыв к «обороне» отечества? Но какая же оборона, когда Германия сама объявила войну?! Кому— царизму? Какое дело кайзеру до уничтожения царизма?
На другой день война уже вступила в свои права: по улицам непрерывным потоком шагают шеренги мобилизованных юношей. На тротуарах стоят расфранченные дамы, бросают цветы, выкрикивают патриотические лозунги. А возле шеренг торопливо, стараясь не отстать, бегут женщины — матери, провожающие своих сыновей. Матери, которым теперь уж наплевать и на русский царизм, и на кайзера, и на спасение отечества. Матери, которые знают, что больше могут и не увидеть своих сыновей…
В рабочих районах, откуда ушли эти шеренги мобилизованных, настроение суровое. То и дело вспыхивают разговоры, раздраженные, настойчивые: почему молчит партия? Почему не организуют демонстраций? Куда попряталось все руководство?
И, словно в ответ на эти вопросы, в углу небольшой площади в Веддинге, на высоком крылечке, появляется человек средних лет и кричит. Вокруг него тотчас же возникает толпа.
— Мы боролись! — говорит человек, срывая голос. — Мы пытались предотвратить войну. Мы выполнили наш долг… Социал-демократия никогда не хотела войны… Но когда отечество в опасности, надо суметь и тут выполнить свой долг…
Солнечный летний день. Хмурые, темные лица. Растерянный оратор слезает с крыльца. Пожимая плечами, проходит сквозь расступившуюся толпу. А за углом идет очередная колонна мобилизованных.
Толпа покорно расходится. Безмолвно, растерянно.
А в центре германской столицы, на Унтер-ден-Линден, свирепствуют шовинисты. Улица забита народом, поют национальные песни.
Кайзер вышел на балкон своего дворца. Его встречают овациями. В кирках служат молебствия за здравие немецкого воинства, за победу над врагом. Кирки тоже полны. Матери молятся за своих сыновей. А с кафедры пастор, воздевая руки к небу, проповедует: «жизнь — за отечество».
Слухи ползут по городу. В экстренных номерах газет пишут, что русские казаки, не дожидаясь объявления войны, перешли границу. Что русские войска идут прямо на Берлин. Автомобили мчатся теперь по Есем улицам: правительственные агенты разбрасывают воззвания.
К ночи кто-то пустил слух: русский стрелял в кронпринца, и кронпринц убит. В каком-то кафе избивают русских, не имеющих возможности выехать из Берлина. Слухи ложны — кронпринц жив и здоров, никто на него не покушался. Но сплетни фабрикуются, видимо, по определенному плану, чтобы подогревать «патриотизм».
Всю ночь на улицах слышится топот патрулей. Где-то уже гремят первые пушки. Где-то уже падают первые жертвы.
Правление социал-демократической партии молчит…
2 августа. Раннее воскресное утро. В квартире Либкнехта необычно тихо и как-то неспокойно. Хотя внешне все, как обычно. Карл поспешно завтракает — надо ехать на заседание фракции рейхстага.
Фрау Софья старается скрыть свою растерянность, разговаривает сдержанно, нарочито спокойно. Нет, она не приемлет эту войну! Она еще не в состоянии понять, каковы будут последствия этого кошмара, но кошмар уже охватил ее цепко и жестоко, и она с трудом старается не показать мужу, как, в сущности, растерянна.
Либкнехт и сам понимает это. Ему немного страшно оставлять ее одну — вчера до него дошли слухи об избиении русских «шпионов». Надо сказать, чтобы сегодня постаралась вовсе не выходить на улицу. А сейчас — пора ехать.
И он уже поло>н будущим, ближайшими часами, когда во фракции начнут говорить о войне, о военных кредитах.
Он только недавно вернулся из Франции, он выступал там перед шахтерами в Конде сюр л’Эко. Он виделся с Жаном Жоресом, они долго и тревожно обсуждали вопрос, как предотвратить опасность войны. Что еще можно, что нужно для этого сделать? Жорес — руководитель французских социалистов — в отличие от немецких правых лидеров действительно ненавидел милитаризм, страстно боролся против войны. А вчера его убили. Первая жертва французского империализма в этой войне, сраженная рукой террориста-реакционера.
С минуту Либкнехт задумчиво смотрит в окно и не слышит, как в комнату входит гостья.
Александра Михайловна Коллонтай только вчера приехала из Кольгруба, где отдыхала вместе с сыном. В Берлине первая встреча с одной из членов социал-демократической партии сразу же привела ее в смятение: она вдруг почувствовала всю силу шовинизма, поняла, что и для этой женщины, партийного деятеля, она теперь уже не единомышленница, а чужая, русская…
Потрясенная позицией — вернее, умалчиванием позиции — правления немецкой социал-демократической партии, потрясенная всем увиденным и услышанным сначала в Мюнхене, а затем в Берлине, она поспешила к Карлу Либкнехту, человеку, о котором знала: этот не такой, этот навсегда останется на наших позициях.
Александра Михайловна вошла в комнату и протянула Либкнехту обе руки. Взволнованный, он поднялся ей навстречу. И радостно и грустно было им обоим. Они давно не виделись, хотя всегда помнили друг о друге; встретиться же довелось в такой страшный час.
— Русских выселяют из всех отелей, — рассказывала Коллонтай, — пансион наш переполнен, но, боюсь, и оттуда скоро попросят. Тревожусь за сына и… Ничего все-таки не понимаю, — совсем по-женски, жалобно закончила она.
Либкнехт невесело усмехнулся.
— Уж больно у нас легковерная публика. Ничего не стоит ее облапошить… — сказал он иронически и уже с гневом продолжил: — Ловкая, умелая игра нашего правительства Мы сами подготовляли и вызвали пожар, а когда пламя вспыхнуло, делаем великодушную мину и уверяем, что хотим мира, что Россия первая отточила меч, что мы «вынуждены» защищаться… И «ваши» и «наши» друг друга стоят в этой игре. Но наши играют ловчее. Смотрите, какой великолепный жест для легковерных — послана нота России, требование демобилизации. Это пощечина крупной державе! Но мы, мы великодушны! Мы даем сроку для ответа двенадцать часов. Чудесно построено! Инсценировка, достойная Рейнгардта…
— Ты не опоздаешь? — робко напомнила жена, хотя ей и не хотелось вовсе, чтобы муж сейчас уезжал, и приятно было встретиться и поговорить с русским человеком.
— Да, да, пойдемте, договорим по дороге, — заторопился Либкнехт.
Поехали вместе в город. По Грюневальду, обычно такому благодушно мирному, а сейчас зловещему, притаившемуся.
Проезжали военные автомобили, проходили взводы солдат Полиция сновала по улицам и переулочкам. Праздно гуляющей публики, как это всегда бывало по воскресеньям, совсем не было видно.
Много офицеров и солдат, много плачущих женщин То и дело слышатся слова «русский шпион».
Либкнехт вспоминает о недавней поездке во Францию. О Жоресе.
— Меня как ножом полоснуло, — говорит Коллонтай, — когда услышала об убийстве Жореса. Пожалуй, только в ту минуту и поверила в войну… И поняла: сознаю все величину утраты, и все-таки как бледно это событие на фоне кошмара войны.
Либкнехт согласился.
— Жорес действительно делал все возможное, чтобы заслонить пролетариат от войны. Мы там с ним много времени были вместе, провели множество агитационных митингов. И я убедился — Жорес прав: французский пролетариат против войны, куда более активно против, чем наш.
— Карл, а какова же позиция вашей партии?
— Тактика партии еще неясна, — он выразительно пожал плечами, — идут большие споры…
И помолчав немного:
— Сейчас будем заседать фракцией. Посмотрим, что там скажут…
Похоже было на то, что ничего решительного, ничего определенного не ждет он от фракции. Похоже было, что вряд ли он надеется, что позиция станет более ясной. Но думал ли он о том, какой она окажется? Мог ли думать, к какому позору приведет эта фракция германский пролетариат, германскую социал-демократию?
И что он сам станет невольным участником этого позора…
Заседание социал-демократической фракции германского рейхстага продолжалось два дня. Началось оно относительно спокойно и, казалось бы, не предвещало бури.
— Подумайте, кто бы поверил, что среди наших социал-демократов столько патриотизма, воодушевления, — захлебывался восторгом Гере, — многие идут на войну добровольцами. Германия дорога нам всем, на нас напали, мы ее отстоим! Мы покажем, что и социалисты умеют умирать за родину! Мои дочери рвутся в сестры милосердия, и, конечно, я не смею отговаривать их.
— Мы идем бороться с царизмом, — нервно бросил Штатгаген, — мы поможем русским избавиться от насилия и гнета…
Казалось, никто из присутствующих не сомневается в том, голосовать или не голосовать за военные кредиты, надо только выработать подходящую, достойную социалистов формулировку.
И тут выступил Либкнехт. Возмущенный, гневный, чуть ли не со слезами на глазах, охрипшим от волнения голосом он воскликнул: «Одумайтесь!» Он сказал им все, что мог, об этой проклятой империалистической бойне; он пытался доказать, что ни один социал-демократ не смеет голосовать за военные кредиты в этой грабительской войне, затеянной империалистами и только в их собственных интересах. Что ничего, кроме неисчислимых бедствий и страданий, смерти миллионам мужчин и сиротства миллионам детей, не принесет и не может принести эта война. Он внес четкое и недвусмысленное предложение, не требующее особых формулировок: социал-демократическая фракция рейхстага не будет голосовать за военные кредиты.
Вот тогда-то и началось. Как потом говорил один из участников этого исторического заседания, «обнаружились чудовищные, небывалые разногласия».
Только четырнадцать человек проголосовало за предложение Либкнехта. Четырнадцать, хотя их было больше ста!..
Крик и шум стояли невообразимые. Никто не давал договорить другому. На Либкнехта посыпался поток брани.
— Война — факт! Никто не может ее уже остановить! Сегодня правительство предусмотрительно объявило войну Франции, но нам угрожает еще и Англия! Вот увидите, она встанет рядом с Россией! — нервничал Штатгаген.
— Если мы воздержимся от голосования, — патетически поучал Шейдеман, — социалисты в глазах массы могут потерять всю свою популярность. Рабочие массы за войну. Германия должна обороняться! Вся наша фракция должна показать свое полное единодушие в этот час испытания для родины.
— Когда разбойники напали на мой дом, я буду дурак, если стану рассуждать о гуманности, вместо того чтобы их пристрелить! — кликушествовал Густав Носке. — Эта война должна идти до победного конца, и победит в ней Германия!
— А мировая рабочая солидарность? — с издевкой спросил Гаазе.
— Какая там солидарность? Она бессильна перед лицом войны!
Фракция поручила выработать формулировку своего заявления Каутскому и небольшой комиссии. Это заявление о том, что социал-демократическая фракция поддерживает правительство и голосует единодушно за военные кредиты, должно было быть прочитано завтра на пленарном заседании рейхстага.
Единодушно? А четырнадцать противников? А Либкнехт? Они должны подчиниться, они не смеют нарушать партийную дисциплину, они не должны вносить раскол в партию теперь, особенно теперь…
Что думал в эти страшные часы Карл Либкнехт? Понимал ли он, какой позор падет на их головы, на его голову перед лицом пролетариев мира?
Должно быть, в те минуты не до конца понимал. Была у него едва теплящаяся надежда, что все еще, может быть, обойдется, что фракция одумается в последнюю минуту. Быть может, это просто растерянность перед лицом первого в жизни партии настоящего испытания. Мог ли он тогда знать, что все руководство социал-демократии, а не только ее фракция, безоговорочно стало на сторону военных промышленников, армии и государственного аппарата? Что они, равно как и деятели профсоюзов, — изменники, предавшие знамя Интернационала, что они будут проповедовать единство всего народа с поджигателями войны.
Оборонительная война… Но ведь и французские социалисты, не говоря уже о русских меньшевиках, тоже твердят, что война для них оборонительная! Если в нее будет втянута Англия, то и они, английские социалисты, также провозгласят оборонительную войну. Разве не ясно всем то, что ясно ему: война захватническая, за передел сфер влияния, чисто империалистическая война?
В те исторические дни Либкнехт присутствовал при перерождении Каутского, Шейдемана, Зюдекума и других вождей германской социал-демократии. Перерождении? Нет, он присутствовал при другом акте: просто они сорвали свои маски. Под масками оказались неприглядные лица — лица людей, в скором времени ставших самыми откровенными предателями, палачами рабочего движения и его вождей.
В патриотическом угаре ни один из «большинства» не пытался больше прикрыть красивыми фразами свое предательство. Фразы потеряли смысл. Равно как и дальнейшая игра в идейных борцов за социализм. На их улице наступил праздник.
Для Либкнехта единство партии было самым святым, и во имя этого единства он решил, что не станет в одиночку выступать в рейхстаге против того, против чего протестовала вся его душа, все его существо.
Вероятно, во всю свою жизнь революционера и социалиста Карл Либкнехт не совершал большей ошибки. Он осознал ее очень скоро, он исправил ее, но долго еще болела его душа, и долго еще чувствовал он весь позор свершившегося в тот день, 4 августа 1914 года.
…В кулуарах рейхстага пусто. Служители — одни старики: молодых забрали по мобилизации. Депутатов еще нет, до утреннего заседания осталось полчаса.
Но вот швейцар широко раскрывает двери перед пожилым человеком с несколько растерянным лицом. Человек медленно входит в вестибюль. Проходит его по диагонали и зачем-то возвращается обратно. Это Карл Каутский.
Швейцар впускает второго посетителя — женщину. Каутскому она хорошо знакома — Александра Коллонтай. Нехотя двигается он ей навстречу. Здоровается. Говорит несколько ни к чему не обязывающих слов приветствия. Потом, напав на подходящую для момента тему, рассказывает, что сидит в Берлине совсем один — оба сына в армии, жена лечится в Италии.
Коллонтай невежливо отмалчивается о сыновьях и об одиночестве Каутского. И прямо спрашивает:
— Что вы думаете обо всем этом? Что будет дальше?
— В такое страшное время каждый должен уметь нести свой крест…
Что он имеет в виду? То, что сыновья его могут быть убиты? Или то, что произошло на вчерашнем заседании фракции?
Коллонтай смотрит на него изумленными глазами — и это Каутский, недавний бог немецких социалистов? Впрочем, он уже успел кое-что показать за последние годы. И немаловажное. Но чтобы так раскрыть себя!!
Каутский только собрался ретироваться от явно неприятной для него сейчас собеседницы, как вошли еще три человека — все социал-демократические депутаты: Бендель, Франк, Давид.
Вендель что-то горячо доказывал двум остальным, продолжая разговор, начатый еще на улице:
— Если в редакции «Форвертс» до сих пор не поняли, в чем наш долг, редакцию надо послать в дом для идиотов!.. В такие минуты, когда разворачиваются мировые события, они все еще жуют книжную мудрость. С такими людьми аргументации излишни. Тут следует помнить, что сейчас все решается пулей…
Вендель — журналист, сотрудник «Форвертс», самый молодой член рейхстага и самый недавний член социал-демократической фракции. Но Вендель. оказывается, не только социал-демократ, он еще и «патриот». Вот он заявляет решительно:
— Я иду сражаться. Там я нужнее, чем в редакции «Форвертс»…
В вестибюль между тем входит все больше и больше депутатов. Немолодой депутат с интеллигентной бородкой и злыми глазами становится в позу, словно собираясь держать речь во славу «патриотов-социалистов», но в эту минуту публика двинулась по направлению к залу. Митинговать некогда — заседание начинается.
Уже было известно, что Англия, присоединившись к Франции и России, объявила войну Германии. Впоследствии образовалось две группы, ведущие между собою кровопролитную бойню: с одной стороны, Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария; с другой — Франция, Англия, Россия, Япония, Италия и США. Война разрасталась с молниеносной быстротой, втягивая все больше и больше стран. Очень быстро она превратилась в мировую войну.
На утреннем заседании ничего неожиданного не произошло — почти все время занял канцлер со своей ура-патриотической речью. Зал рейхстага был заполнен, все депутаты на местах, что далеко не всегда бывало в германском парламенте; полно и публики.
Канцлер Бетман говорит подчеркнуто деловито, бросает незлобный упрек России за то, что факел войны зажжен ею.
В четыре объявляется перерыв. Через час социал-демократическая фракция огласит свое заявление.
Через час должна произойти катастрофа… Для немецкой социал-демократической партии — ведущей партии II Интернационала; для самого II Интернационала, крах которого был предрешен изменой германской социал-демократии, в течение долгого времени претендовавшей на репутацию хранительницы и истолковательницы идейного наследия Маркса и Энгельса.
До этого момента остался один час. Как чувствуют себя в этот последний час Шейдеман, Каутский и иже с ними? Что думает Карл Либкнехт?
Александра Михайловна Коллонтай оставила воспоминания об этом трагическом для пролетариата Германии дне, о своей встрече в этот день с Либкнехтом, о том, что он говорил ей в этот час.
…В перерыв она поспешила вниз, в кулуары. В зале толпилось много военных. Некоторые депутаты были в офицерской форме. А вот и Либкнехт. Она спрашивает его о вчерашнем заседании — заседание это не дает ей покоя, бередит душу, и никак она не может понять: неужто и он присоединится к этому предательству?
— Они безнадежны, — отвечает Либкнехт. — Угар «любви к отечеству» затуманил им головы. Ничего не поделаешь. Сегодня заявление фракции будет внесено.
— А те, кто остался в меньшинстве? — спрашивает Коллонтай.
Либкнехт зябко пожимает плечами.
— Меньшинству остается подчиниться партийной дисциплине. Чудовищно, что прочтет это заявление Гаазе. Гаазе, который сразу же присоединился ко мне и до конца заседания был против этого заявления. А теперь…
У Коллонтай накануне арестовали сына. Она рассказывает об этом Либкнехту.
— Знаете что, — предлагает он, — давайте используем этот перерыв и поедем с вами в оберкомандо за справкой.
Александра Михайловна видит, как тяжело ему в кулуарах рейхстага, где собственные товарищи глядят на него неодобрительно за его резкие суждения о войне, за критику заявления.
Но как ни удручен он мировыми событиями, он находит время и силы помочь русским товарищам и отозваться на ее, Коллонтай, личную беду. А между тем сейчас они ведь «враги», и его заступничество будет отмечено как минус «неугомонному Карлу».
«Сколько в нем светлого, человечного… Таким, именно таким должен быть настоящий социалист», — думает Александра Михайловна.
Едут в переполненном публикой омнибусе.
— Сегодня мы разваливаем Интернационал, — говорит Либкнехт, — пролетариат не простит немецкой социал-демократии сегодняшнего шага. Пройдет десять лет, прежде чем этот шаг забудется.
В оберкомандо их долго держат в приемной. Либкнехт нервничает. Обычно магический титул «член рейхстага» не действует сегодня. Что такое член рейхстага для этих тупых физиономий в военных мундирах, как машина, точно, без мысли выполняющих предписания свыше?
— Поглядите, там, направо, фабрикуется общественное мнение и создаются легенды о том, что на Германию напали, — обращает Карл Либкнехт внимание Коллонтай на дверь с надписью «Отдел прессы». — Здесь сочиняются телеграммы о наших победах и сообщения о шпионах… Завтра появится опровержение, но опровержения печатаются мелким шрифтом — их никто не читает.
Либкнехт делает несколько шагов в сторону стола, где заседают офицеры. Хочет взять стул.
— Ни шагу дальше, — грубо останавливает его часовой.
У Либкнехта нервно подергивается щека.
Наконец Либкнехта приглашают к адъютанту Кесселя.
Нового он ничего не узнал: надо ждать составления списков. Это займет, быть может, несколько дней, быть может, две-три недели. Для ускорения можно подать прошение о свидании с сыном, прошение о том, чтобы передать ему вещи, и т. д.
Заходят еще в комендатуру, но и там никаких сведений.
Но когда они снова выходят на Унтер-ден-Линден, Коллонтай видит, что обычная энергия вернулась к Либкнехту. Он уже весь озабочен планом: как вызволить русских товарищей из тюрьмы? Как им помочь, пока они под замком?
Спешат в рейхстаг.
Заседание открылось ровно в пять. Публики на хорах, кажется, больше, чем утром, — куда только она вместилась? Но нет уже того напряжения, тех настороженно-нахмуренных лиц, какие были в конце утреннего заседания. По-видимому, никто не сомневается, что кредит — пять миллиардов марок — кайзеровское правительство получит. Более того, получит единогласно. По-видимому, содержание заявления социал-демократической фракции — единственное, в котором можно было сомневаться, — уже ни для кого не является тайной.
На трибуну выходит Гаазе. Читает заявление. При словах, что социал-демократия «не оставит свое отечество на произвол судьбы в час испытания», возникают бурные, восторженные овации.
Гаазе сквозь шум и возгласы пытается читать дальше. Его снова перебивают аплодисменты — чего там дальше? Дальше и так все ясно.
Наконец оратор доходит до последних слов:
— «…Исходя из всех указанных причин, социал-демократическая фракция высказывается за кредит!»
Подобного истерического восторга не видели еще стены рейхстага: публика вскакивает на стулья, чтобы стоя приветствовать «верную отечеству» социал-демократию. Кричат, размахивают руками, стучат ногами по сиденьям.
И — этого тоже еще не видели стены рейхстага — акта голосования не происходит. Зачем?
— Итак, кредит вотирован единодушно, — констатирует вице-президент рейхстага, уловив момент, когда наступает относительное успокоение.
И снова крики, снова буря — везде и на левых скамьях.
Либкнехт, нахмуренный, раздраженный, выходит из зала. Снова у него дергается щека, глаза злые и — чуточку растерянные. Сразу же его обступают товарищи по фракции. Товарищи? Нет, теперь уже враги. И он и они не скрывают этого.
— Понимаете ли вы, что все это значит? Понимаете ли, что сегодняшний день уничтожил Интернационал?..
— Сумасшедший маньяк, — громко шепчет Бендель, достаточно громко, чтобы Либкнехту было слышно, — таких, как он, надо сажать за решетку. Сейчас всякие сентиментальности — побоку! Сейчас такие — предатели!..
Либкнехт оборачивается на этот громкий подлый шепот, но не успевает ответить — Бендель быстро ретируется. Должно быть, глаза Либкнехта ничего хорошего не предвещали.
Кто-то говорит:
— Да, мы, германцы, умеем быть единодушными! Какая великая торжественная минута…
Либкнехт в бешенстве, в бессильной злобе бросается к двери..
Либкнехт брел по Тиргартену. Рядом, молчаливая и потрясенная, шла Коллонтай. Молчала, потому что знала: то, что он сейчас говорит, говорится не ей; это мысли вслух, мысли обрывистые, тяжелые, мучительные. Мысли человека, который впервые в жизни (вольно или невольно для него, по-видимому, не играет роли) пошел наперекор своим убеждениям, изменил самому себе.
Он говорил медленно, раздумчиво. Как бы выталкивал мысли, теснившиеся в голове.
— Что будет с Интернационалом? — внезапно спросил он, остановившись.
Коллонтай промолчала: вопрос не требовал ответа.
— Сегодняшний день его уничтожил… — ответил сам себе Либкнехт. — Нам, немецким социал-демократам, рабочий класс мира никогда не простит сегодняшнего акта.
А через несколько секунд голос его изменился. Это снова был прежний Либкнехт, не терпящий пассивности, ненавидящий бессмысленную слезливость. Либкнехт, который рожден был для действия.
— Но мы так этого не оставим! Надо начать действовать теперь же. Надо бороться за немедленный мир, надо разоблачить лицемерие правительства! Надо сорвать с них маску…
И словно только сейчас увидел, что идет не один, — остановился, немного смущенно посмотрел на спутницу своими добрыми близорукими глазами и протянул руку:
— Простите… Здесь мы расстанемся — я спешу к Розе…
Роза Люксембург жила в Фриденау, в небольшой уютной квартирке. В этот вечер она была не одна: горстка истинных революционеров, как и она сама, потрясенных предательством вождей социал-демократической партии, возмущенных заявлением фракции рейхстага, не сговариваясь, словно бы по наитию, собралась здесь, в этой маленькой квартирке, чтобы вместе с Розой обсудить положение. Никто из них — ни Франц Меринг, ни Эрнст Мейер, ни Герман Дункер, Вильгельм Пик, Юлиан Мархлевский не могли в этот вечер находиться в одиночестве. Надо было излить свою горечь и боль, надо было начать действовать, надо было обсудить эти совместные действия, ибо — теперь уж нечего перед самими собой закрывать глаза на действительность — их очень мало, их катастрофически мало, но именно они, и больше никто, должны спасать отечество. Спасать не от выдуманных врагов, не от врагов кайзера и иже с ним — от врагов пролетариата, от врагов трудящихся, от тех, кто предал их и кто ведет их на гибель.
К кому же было идти с таким делом, как не к Розе?
Роза встречала каждого молчаливым пожатием руки. Видно, ждала, что придут еще товарищи, видно, ждала, что придет Карл.
Карл Либкнехт решил идти к ней внезапно, в ту самую минуту, когда понял, что не надо плакать и каяться, что надо бороться. Он шел, опустив голову, но в душе рад был, что, наконец, можно будет высказать перед ней всю свою боль за происшедшее. По-видимому, на весах истории, на весах борьбы за дело революции несравненно больше весило сегодняшнее голосование, чем нарушение дисциплины, к которой он не посмел прибегнуть.
Теперь он это понимал, теперь он знал, что совершил ошибку. Но не в его характере было бить себя в грудь и каяться — он должен был бороться, должен был действовать. А действовать надо было всем вместе, им — которых осталось так мало.
В этот вечер в Фриденау, на квартире Розы Люксембург, были произнесены слова, которые навсегда прилипли к тем, кому были адресованы.
Неудержимая в своем гневе, Роза резко и грубо сказала:
— Германская социал-демократия отныне не что другое, как смердящий труп… Трупный запах давно уже исходит от нее, я его не раз улавливала, трупом воняло от Каутского, а теперь разложились все лидеры партии. Теперь только мы можем представлять интересы пролетариата, и вся ответственность за спасение нашего дела лежит отныне только на нас. Мы должны поднять всю партию, всех рядовых членов ее, всех рабочих Германии на борьбу за свое спасение. Мы должны добиться, чтобы рядовые партийцы громко, во всеуслышание протестовали против позорного предательства их депутатов в рейхстаге, против поведения фракции. Какими путями — будем сейчас решать…
Либкнехт был прав — война похоронила под своими обломками II Интернационал. Как показало ближайшее время, не только немецкая социал-демократия изменила решениям социалистических конгрессов об отношении к войне, о необходимости бороться против нее всеми мерами — в ближайшие дни на те же позиции измены рабочему классу встали и вожди других социал-демократических партий — Вандервельде в Бельгии, Гед, Тома и другие во Франции, Макдональд и Гайндман в Англии, Плеханов и Аксельрод в России. Они встали на позицию защиты «своих отечеств» — своих империалистов, кайзеров, царей, императоров. Многие из них в дальнейшем стали министрами в буржуазных реакционных правительствах.
II Интернационал распался.
И только одна партия — русские большевики — продолжала вести последовательно революционную политику. Высоко поднятое знамя большевизма, крепко зажатое в руке Ленина, стало единственным маяком в мировом социалистическом движении. С первых часов войны большевики высказали свое отношение к ней: «Долой войну! Война — войне!» — так значилось в воззвании, выпущенном Центральным Комитетом большевиков. И Ленин, первый и единственный из всех деятелей II Интернационала, указал трудящимся единственный путь выхода из реакционной войны — путь революции. И Ленин, единственный из них, не «спасал свое отечество», он писал:
«…С точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наименьшим злом было бы поражение царской монархии…» Революционный класс не может не желать поражения своему правительству в реакционной империалистической войне. Поэтому все революционные марксисты всех стран должны проводить политику поражения своих правительств. Ибо: «Захват земель и покорение чужих наций, разорение конкурирующей нации, грабеж ее богатств, отвлечение, внимания трудящихся масс от внутренних политических кризисов России, Германии, Англии и других стран, разъединение и националистическое одурачение рабочих и истребление их авангарда в целях ослабления революционного движения пролетариата — таково единственное действительное содержание, значение и смысл современной войны».
Велик был контраст между германскими социал-демократами, где вся партия, по существу, встала на позиции оппортунизма, а группа левых еще не успела создать крепкую пролетарскую партию, и русскими большевиками, где партия была уже достаточно сильна и привлекла на свою сторону рабочий класс страны. В отличие от «патриотов» немецких социал-демократов единогласно, хотя и не единодушно, проголосовавших за военные кредиты, депутаты-большевики в Государственной думе России отказались принимать участие в голосовании военных кредитов и в знак протеста покинули зал заседания, заклеймив политику европейских правительств как империалистическую.
…Это произошло на следующий день после голосования в рейхстаге.
На Шоссештрассе, 121, в адвокатской конторе братьев Либкнехт, только что начался рабочий день. Несколько ранних клиентов уже ждали в приемной. Карл Либкнехт только что пришел. Сидел в кабинете брата Теодора, о чем-то беседовал с ним.
Встревоженная секретарша без стука вошла в кабинет и сразу же выпалила:
— У доктора Карла на квартире обыск… Только что звонила его соседка.
Обыск? У члена рейхстага?
Либкнехт выбежал из конторы и, схватив первое попавшееся такси, помчался домой.
А дома в это время под дулом револьвера сидела Софья Либкнехт и несколько полицейских переворачивали вверх дном квартиру. Копались в бумагах Карла, в его книгах, в шкафах, в детском белье… Что ищут? Оружие? Запрещенную литературу? Признаки «подготовки к государственной измене», в которой его уже однажды достаточно постыдно и безуспешно обвиняли?
Когда он примчался домой, обыск кончился. Вконец расстроенная Софья рассказала о нем.
— Что искали? — вопрос, который мучил ее. — Почему меня держали под револьвером?
— Должно быть, — пытается найти объяснение Либкнехт, — причина в моей недавней поездке во Францию, в моих «связях с иностранцами».
Отличный повод для обвинения в шпионаже, вот и готова будет «государственная измена».
В контору Либкнехт вернулся озабоченным, но тут же взялся за дела: прежде всего надо освободить русских товарищей. И он пишет прошение, чтобы женам и матерям заключенных по крайней мере разрешили свидеться с ними. Потом он откладывает ручку и невесело усмехается: можно бы, конечно, попробовать нажать на канцлера и через него добиться освобождения русских. Он слышал, как вчера Гаазе говорил кому-то, что теперь социал-демократы — персона грата у правительства.
Вот до чего дожили! Он вскакивает со стула и нервно ходит, почти бегает по комнате. Надо действовать, надо безотлагательно действовать, прорвать эту пелену национального гипноза. Надо, чтобы рабочие поняли ложь, обман всей этой военной махинации. Разоблачать надо…
А между тем на окнах магазина, где продают «Форвертс», висит плакат: «Ловите русских шпионов!..» А между тем многие социал-демократы, в том числе и руководящие деятели, идут добровольцами в армию… Еще три дня назад рабочие в Берлине осаждали районные комитеты партии в ожидании «пароля» — готовы были выступить в любой форме против войны. Не дождавшись, потеряли веру в партию и заразились чудовищным шовинизмом ее деятелей. Теперь настроение у рабочих резко изменилось.
Через несколько дней Либкнехта ожидал еще один «сюрприз» — в газетах поместили фальшивку: фотографию Либкнехта с приделанной военной формой. И заметку: ортодоксальный социалист Карл Либкнехт понял, наконец, в чем его истинное назначение, и записался добровольцем на фронт.
При виде этой гадости Софья Либкнехт страшно расстроилась. А Карл расхохотался.
— Пустяки. Ложь от бессилия. Никто им не поверит!
И неожиданно серьезно добавил:
— Но в армию меня, безусловно, мобилизуют. Несмотря на мой преклонный возраст. Этого следует ждать. Ну что ж, попрошусь в санитары…
«Прав он, — подумала жена, — непременно его призовут, хотя бы уж для того, чтобы подорвать его авторитет в народе: вот, мол, смотрите, как у него слова расходятся с делами… Потому и фальшивку эту поместили в газете, а теперь, наверно, поспешно будут доказывать, что она соответствует действительности: напялят на него солдатскую шинель, как сделали это на фотографии…»
Так и жили они с тех пор под угрозой мобилизации. Либкнехта не оставляли в покое: преследовали меткими уколами, травили в прессе, ущемляли как можно. Он утрачивал свою обычную жизнерадостность, свой оптимизм; он устал от постоянно нервической обстановки, от слежки, которую чувствовал за собой.
Но он действовал.
31 августа он внес на заседании правления партии предложение — провести широкую кампанию против шовинистических и захватнических подстрекательств. Правление отклонило его предложение. 3 сентября он опубликовал письмо в «Бремербюргерцейтунг» — одной из немногих газет, все еще находящихся в руках левых социал-демократов, — в котором рассказывал о диаметрально противоположных мнениях в парламентской фракции по вопросу о голосовании кредитов и разоблачал легенду о «единодушии» фракции.
В это же время Роза Люксембург разослала триста телеграмм руководящим деятелям партии, требуя немедленного созыва чрезвычайной партийной конференции для борьбы с империалистической войной. На ее призыв откликнулись Либкнехт, Меринг, Клара Цеткин, Мархлевский и еще несколько левых социалистов.
10 сентября в Берне закончилось совещание группы русских большевиков, на котором Ленин говорил об отношении большевиков к войне и о позорной роли германской социал-демократии, перешедшей на позицию поддержки империалистической войны, изменившей делу социализма. В тот же день, 10 сентября, Либкнехт, Люксембург, Цеткин, Меринг написали коллективное заявление, в котором отрекались от социал-шовинистической позиции партии, и призывали всех социалистов бороться против войны всеми средствами. Заявление так и не удалось опубликовать в немецких газетах, оно появилось только в итальянской, шведской, швейцарской печати.
Либкнехт действовал. Он бессчетное число раз выступал на рабочих собраниях Берлина, резко высказывался против войны, выслушивал горькие упреки в адрес фракции, в свой собственный адрес, в адрес своих единомышленников — левых социалистов, которые не сумели дать отпор шовинистам.
Потом он решил, что недостаточно вести пропаганду только в столице, недостаточно открывать рабочим глаза на истинное положение дел только в Германии, и отправился за пределы страны. Он получил разрешение на поездку в Бельгию, под предлогом розысков пропавшего без вести брата жены, и в первой половине сентября выехал на север Франции. Там, в районах, занятых немецкими войсками, он выступал перед солдатами Из Франции — в Бельгию, оттуда — в Голландию.
Всюду он говорил о разногласиях между партийным руководством германской социал-демократической партии и ее левым крылом, подробно рассказывал, что произошло на заседаниях фракции рейхстага перед голосованием военных кредитов; раскрывал утонченные способы, к каким прибегает шовинистическая пропаганда, чтобы воодушевить немецкий народ на войну. Он говорил, что германской партии нужна регенерация сверху донизу, если она не хочет потерять права называться социал-демократической, если она намерена восстановить свой в настоящее время основательно потрепанный престиж в глазах мира.
Об этом призыве к регенерации партии Ленин писал: «Все партии должны принять этот лозунг Либкнехта, и смешно, конечно, было бы думать о возможности выполнить этот лозунг без исключения из партии Шейдеманов, Легинов, Реноделей, Самба, Плехановых, Вандервельде и К°, или без разрыва с политикой уступок направлению Каутского, Турати, Лонге, Мергейма». «Права была Р. Люксембург, — давно писавшая, что у Каутского «прислужничество теоретика»— лакейство, говоря проще, лакейство перед большинством партии, перед оппортунизмом. Нет на свете теперь ничего более вредного и опасного для идейной самостоятельности пролетариата, как это поганое самодовольство и мерзкое лицемерие Каутского, желающего все затушевать и замазать, успокоить софизмами и якобы-ученым многоглаголанием разбуженную совесть рабочих. Если Каутскому это удастся, он станет главным представителем буржуазной гнили в рабочем движении».
Мудрено ли, что Шейдеман и Каутский были «недовольны» выступлениями Либкнехта, особенно за границей?! Правление партии создало специальную комиссию по «делу Либкнехта», и комиссия эта осудила его выступления.
Либкнехт подрывал буквально на всех углах лозунг, выброшенный некоторыми наиболее откровенными лидерами партии, — «не упускать легкомысленно нынешнее доброжелательное отношение правительства». Либкнехт мешал оппортунистам в их положении «любимцев» кайзеровского правительства, мешал им использовать это положение для своих личных, корыстных целей. И если в прежние времена, после его выступлений на собственном процессе, после речей на съездах в Эссене и Иене, партийные лидеры затаили мстительную злобу — теперь уже все правление было настроено против него и ненависть больше не скрывалась.
Но что могло поделать партийное руководство с любимцем рабочих, с человеком, чья популярность у йарода ни в какие сравнения не шла с их собственной популярностью?
Либкнехт честил их как социал-предателей, раскрывал их мелкие души, и ему верили, верили каждому его слову — вот в чем был ужас…
Но вскоре он сам попал в «чистилище». Рабочие Штутгарта — твердыни левого крыла германской социал-демократии, перемыли ему все косточки за его голосование 4 августа и потребовали от него исправления ошибки.
Либкнехт поставил под удары голову, мужественно принял эти удары и ушел с собрания партийного актива обновленным, полным решимости бороться еще более активно, чего бы это ему ни стоило.
Собрание партийного актива должно было начаться в восемь часов. Колокола на штутгартских кирках еще не пробили и половины восьмого, а дом, где было назначено собрание, уже полон. У входа стоят несколько человек и о чем-то горячо спорят. Либкнехт внимательно слушает и пока что молчит.
С грохотом подъезжает к дому пролетка. В ней немолодая женщина с милым усталым лицом. Следы тяжелых переживаний, долгая болезнь наложили нездоровый отпечаток на это лицо.
Те, кто стоял возле Либкнехта, поспешили к пролетке. Клара Цеткин с благодарностью опирается на чью-то руку и неожиданно быстрой походкой направляется к крыльцу. Либкнехт торопится ей навстречу, крепко пожимает обе руки.
В глазах у старой социалистки пытливый вопрос: что-то он скажет сегодня? Он, Карл Либкнехт, в которого она так верит…
Небольшой зал для заседаний переполнен. Либкнехт идет к трибуне, и все глаза строго и сурово следят за ним. Напряженно слушают его слова, напряженно ждут. Очень для них весомо сегодняшнее его выступление: важно убедиться, что не они ошиблись в Либкнехте, — что он ошибся 4 августа и что понимает свою ошибку.
Да, он понимает, прямо сказал он. И сразу же спало напряжение, суровые лица раскрылись в улыбках, шепот удовлетворения прошелестел по рядам.
Он сказал, что голосовал за военные кредиты исключительно из соображений партийной дисциплины, потому что с детства рос под этим знаком, потому что отец ему всегда говорил: главное — дисциплина, без нее нельзя осуществлять борьбу. Но теперь он понял — не должно было быть такой дисциплины! Пусть их, протестующих, было всего четырнадцать — они, а не те, кто был в огромном большинстве, были правы! Партийная дисциплина не дисциплина сотни оппортунистов и горе-патриотов, они еще не партия, и следовало понять это вовремя. Он сказал, что и теперь, как прежде, стоит за решения II Интернационала, решения, направленные против войны. Что он всю свою партийную жизнь боролся против войны и намерен бороться против нее и против империализма до конца своего существования…
Нет, Либкнехт не изменил своим убеждениям! Радостно констатировать это. Вот теперь, когда ясным стало, что он прежний Карл, страстный борец против милитаризма и войн, что по-прежнему он их Либкнехт, борец за их дело, свой — вот теперь-то они и покажут ему, где раки зимуют! Чтобы впредь знал, что такое партийная дисциплина…
Но не все, сидящие в зале, довольны его выступлением. Не все аплодируют ему, то и дело прерывая его слова. Есть и тут свои «патриоты», им не по вкусу обвинения Либкнехта в адрес правления партии. Они возражают, они кричат, что одобрение военных кредитов социал-демократической фракцией — это как раз и есть «патриотический подвиг».
С трибуны он сходит под гром аплодисментов. А когда аплодисменты стихают, его место на трибуне занимает старый рабочий, широкоплечий, с туго налитыми мышцами рук и шеи — грузчик или молотобоец, судя по внешности. Сначала очень спокойно, потом постепенно распалившись, он говорит о том, как изменило Интернационалу руководство партии, как рабочий класс верил ему, а теперь многие и веру потеряли, какой страшный вред нанесло голосование в рейхстаге делу пролетариата. Но вот он называет имя Либкнехта.
— То, что Либкнехт пошел на поводу у фракции, не есть подчинение партийной дисциплине! Он знал, что партия, Интернационал раз и навсегда установили свою тактику против войны. То, что он все-таки позволил им прочесть заявление, в котором было сказано, что социал-демократическая фракция единодушно голосует за кредиты, было проявлением половинчатости и непоследовательности. Ему, Либкнехту, не к лицу было молчать! Он, Либкнехт, обязан был в интересах международного революционного социалистического движения громко и решительно сказать «нет!».
Большинство собравшихся бурно аплодировало оратору, почти так же единодушно, как и самому Либкнехту. В развернувшейся дискуссии мало кто одобрял «патриотизм» и «дисциплинированность» Либкнехта — почти все поддержали то, что высказал старый рабочий.
Разгоряченный, взволнованный вышел Либкнехт, чтобы сказать заключительное слово.
— Я получил порядочную взбучку. Но этот урок, преподанный вашими устами, устами рабочих, пойдет мне на пользу. Вы еще убедитесь в этом… Мне остается лишь обещать вам, что в дальнейшем я буду вести непримиримую борьбу против кайзеровской войны и против кайзеровских социалистов.
Это выступление в Штутгарте ему не простили «кайзеровские социалисты». Штутгарт дал возможность правлению партии обрушиться на него с кучей обвинений. Правда, по словам Либкнехта, замечания по поводу Штутгарта произвели на него не большее впечатление, чем все их предыдущие замечания. Ворох обвинений, которые посыпались на его голову со стороны руководителей партии, вызвал у него только прилив сарказма. Он отвечал, как умел отвечать, — очень убедительно, очень зло, очень вежливо и, как могло показаться, очень спокойно. Так отвечать может только человек, твердо стоящий на своих позициях, вооруженный фактами, способными опровергнуть любое обвинение, и чувствующий за своей спиной поддержку тех, ради кого он борется.
«Кайзеровские социалисты» обвиняли его в том, что он своими выступлениями внушает рядовым членам партии, будто социал-демократия раздираема противоречивыми мнениями, когда на самом деле никаких разногласий в партии нет — ни внутри ее правления, ни между руководителями и рядовыми социал-демократами.
Они писали ему официальные письма, и он тоже ответил им письмом:
«Тактические и принципиальные внутрипартийные разногласия» среди членов партии имеются налицо. Их не приходится «им внушать», как выразились вы в несколько прусской манере… Как вам известно, широкие партийные круги без всякого стеснения изо дня в день пропагандируют ярко выраженную националистическую политику, призывают проявить «furor teutonicus» («тевтонское неистовство») против «вражеских народов» и даже против социалистов других стран… Борьба против подобных взглядов имеет лишь характер обороны. К цепям осадного положения, в которое уже закована эта оборона, теперь еще прибавляются кандалы, накладываемые на нее правлением партии…
Следует разъяснить упомянутый тактический принцип. Безусловно, сейчас речь идет об империалистической войне, о той империалистической войне, которая уже давно должна была наступить и которой мы из общих соображений поклялись противопоставить наши силы в международном масштабе; как раз мы, немцы, имеем особые основания для того, чтобы противодействовать этой войне; с исторической точки зрения агрессором является быстро развивающийся германский империализм; происходит наглая германо-австрийская превентивная война и одновременно завоевательная война. Сказка о враждебных вторжениях на территорию Германии «давно быльем поросла»; уже давно потеряла смысл пародия под названием «освободительная война против царизма» и тому подобное. Когда вопреки позиции, занятой партией, еще 27 июля и даже 30 июля наша фракция голосовала за военные кредиты, она тем самым и во «вражеских» странах сорвала все плотины, которые там противостояли войне. Фракция, правда, этим укрепила военную силу Германии, но одновременно и силу «вражеских» государств…
…Заявление, которое бы ясно выразило стремление к окончанию войны, к международной солидарности, к самоопределению народов и борьбе против аннексий, такое заявление принесло бы спасение, имело бы освобождающее влияние на пролетариат всего мира и укрепило бы в международном плане тенденции, направленные к окончанию войны на благо всех народов. Если в результате подобного воздействия удалось бы заключить мир, не являющийся унизительным ни для одной стороны, то тем самым была бы создана сильнейшая гарантия мира на будущее, мир был бы обеспечен благодаря интернациональной солидарности народов. Это единственная возможная социалистическая политика, которая должна быть политикой, проводимой с позиций Интернационала…»
Он сдержал обещание, данное рабочим-социалистам Штутгарта. Письмо его, разумеется, вызвало возмущение тех, кому было адресовано. Правление партии, ее Центральный комитет не собирались менять свою раз навсегда взятую линию — линию поддержки правительства в войне, пропаганды «патриотизма», национал-шовинизма и — измены делу Интернационала.
Гнев правления против Либкнехта вот-вот должен был вырваться наружу. И вырвался…
2 декабря 1914 года. В этот день открылась очередная сессия рейхстага, на которой должен был обсуждаться второй законопроект о военном бюджете: разумеется, Вильгельму II отпущенных на ведение войны кредитов оказалось мало, и он потребовал «добавки».
За день до этого Карл Либкнехт, верный своим решениям всеми силами бороться против войны, верный слову, данному рабочим Штутгарта, решил переговорить с теми четырнадцатью, которые поддержали его на первом знаменательном заседании. Он понимал, что его не слишком стойкие товарищи, довольно легко и быстро отказавшиеся от внутрифракционной борьбы, за это время еще сильнее подверглись заражению «патриотизмом». Но все же он надеялся, что хоть кто-нибудь из них пойдет рядом с ним.
Горьким было его разочарование: никто из четырнадцати не остался верен прежним убеждениям, все до единого отказались от своих обещаний.
Он оказался один. Один перед всей фракцией, один перед всем рейхстагом. И — что самое важное— один перед немецким народом.
— Один в поле не воин, — сказал ему близкий товарищ. — Не следует без поддержки пускаться в такую борьбу!..
— Это ничего не даст, — убеждал другой. — Лучше и не пытаться…
На этот раз никто не сомневался в единодушном голосовании, никто не ждал подвоха от социал-демократической фракции, которая показала свою «преданность кайзеру» четыре месяца назад.
Громогласное «нет!», брошенное Карлом Либкнехтом в лицо парламенту, подобно шаровой молнии, прокатилось по огромному залу. Подумать только! Один из всех, один-единственный, он осмелился пойти против правительства, кайзера, отечества.
Пользуясь минутой молчания, он хотел было объяснить мотивы своего протеста, ибо в этом именно и был смысл его «нет».
Не тут-то было! Молчаливое изумление развеялось — вихрь пролетел по залу Стены рейхстага дрожали от криков, возгласов, топота ног — депутаты ринулись к Либкнехту.
Он стоял над ними, несокрушимый, как сама справедливость. Он казался выше их всех. Глаза его жестко встречали разъяренные взгляды противников, и где-то на самом их донышке таилась насмешка.
Председатель отказался дать ему слово для объяснения. Он это предвидел — заранее заготовил заявление, чтобы председатель рейхстага включил его в стенографический отчет.
Председатель отказался сделать и это; быстро пробежав заявление глазами, он заявил:
— Мотивировка голосования депутата Либкнехта не может быть включена в стенографический отчет — она содержит выражения, которые вызвали бы осуждение председателя, если бы были сделаны устно.
Не включена в отчет? Не надо, есть другие пути, чтобы довести до сведения народа, почему депутат рейхстага социалист Карл Либкнехт голосовал против новых военных кредитов! Голосовал один из ста десяти членов своей фракции.
Через несколько дней в квартирах рабочих кварталов Берлина, в цехах столичных заводов, в трамваях, омнибусах, в поездах городской железной дороги, в магазинах и ресторанах появилась нелегально выпущенная листовка: «Отклонение Либкнехтом военных кредитов». Листовку выхватывали друг у друга, переписывали от руки и передавали дальше. Она очень быстро вылетела за пределы Берлина, распространилась по стране, разными путями достигла заграницы. Она вызвала ликование рабочего класса и тех социалистов, которые были в оппозиции к официальному руководству партии и его тактике.
Листовка эта показала, что есть еще порох в пороховницах, что есть еще вожди у пролетариата Германии, что есть кому бороться за его интересы, против кровопролитной, грабительской войны.
Вот что рассказал народу Либкнехт:
«Мое голосование по поводу сегодняшнего законопроекта я обосновываю следующим образом: эта война, которой не хотел ни один из участвующих в ней народов, ведется не ради благополучия немецкого или какого-либо другого народа. Речь идет об империалистической войне, о войне ради капиталистического господства на мировом рынке, о политическом господстве над колониальными владениями, имеющими важное значение для промышленного и банкового капитала…
Немецкий лозунг «Против царизма», подобно нынешнему английскому и французскому лозунгу «Против милитаризма», имел своей целью мобилизовать во имя вражды между народами благородные инстинкты, революционные традиции и надежды народа. Германия, виновная в существовании царизма, по сегодняшний день являющая пример политической отсталости, не призвана к тому, чтобы быть освободительницей народа. Освобождение русского народа, как и немецкого, может быть делом только этих народов…
Необходимо требовать скорейшего заключения мира без завоеваний, мира, не являющегося унизительным ни для одной стороны; следует приветствовать все усилия, направленные к этой цели. Только одновременное постоянное усиление во всех воюющих странах течений, стремящихся к подобному миру, может остановить кровавую бойню до того, как будут полностью исчерпаны силы всех участвующих народов. Устойчивым может быть только мир, достигнутый на основе международной солидарности рабочего класса и свободы всех народов. Поэтому пролетариату всех стран необходимо и сейчас, во время войны, проводить совместную социалистическую деятельность во имя мира.
Я голосовал за чрезвычайные кредиты для борьбы с нуждой в запрошенном размере, который меня далеко не удовлетворяет. Равным образом я одобряю все мероприятия, которые могут облегчить тяжкую судьбу наших братьев на поле битвы, положение раненых и больных, которым я выражаю свое безграничное сочувствие; и в этом отношении ни одно требование не может быть чрезмерным. Однако, выражая протест против войны, против действий тех, кто за нее отвечает и ею руководит, против капиталистической политики, вызвавшей войну, против капиталистических целей, ею преследуемых… я отвергаю кредиты, затребованные на войну.
Берлин, 2 декабря 1914 года.
Карл Либкнехт».
Тогда же Либкнехт написал «объяснение» президиуму фракции: «Во время вчерашнего голосования в рейхстаге я находился в исключительно затруднительном положении. По моему убеждению, программа партии и решения международных конгрессов требовали отклонения законопроектов. Я обязан действовать в духе программы партии и ее решений. Ввиду чрезвычайной важности законопроекта мне представлялось невозможным уклониться от присутствия на заседании и от участия в голосовании; я был обязан, заняв определенную позицию, выполнить свой долг депутата… У меня не осталось никакого другого пути для того, чтобы отклонить ответственность за роковое решение фракции, ибо я ни при каких обстоятельствах не могу нести эту ответственность, к чему я пришел после тщательного и многократного рассмотрения вопроса…»
Результатом этого заявления было исключение Карла Либкнехта из членов социал-демократической фракции рейхстага.
Но один оказался в поле воин. Мужественное короткое «нет!» Либкнехта громовым эхом прокатилось по Германии, по всем странам мира. Его услышали на заводах и шахтах, в солдатских окопах по обе стороны линии фронта.
Он говорил от имени миллионов простого народа. Имя его стало знаменем для всех борцов за мир.
Некоторое время спустя Ленин писал о нем:
«Один Либкнехт представляет социализм, пролетарское дело, пролетарскую революцию. Вся остальная германская социал-демократия, по верному выражению Розы Люксембург… — смердящий труп».
Могучее воздействие на массы оказало одно либкнехтовское слово. Десятки рядовых членов партии собирались на митинги и собрания и принимали резолюции солидарности. Поток писем потянулся к Либкнехту со всех концов страны, со всех концов мира.
Всю жизнь он хранил потом эти письма — дорогие реликвии, память о неравной борьбе, за которую он отдал свою жизнь.
Один оказался воином в поле…
В те декабрьские дни его депутатская приемная помещалась в районном комитете социал-демократической партии, в самой бедной части города. Большая, почти пустая комната; на стенах портреты Бебеля, Вильгельма Либкнехта и картины из истории германской социал-демократии. Посреди комнаты стол, заваленный грудой телеграмм, писем, открыток с марками разных стран; напечатанные на машинке резолюции собраний.
Либкнехт сидел за столом под лампой, прикрытой зеленым абажуром. Под глазами залегли темные круги — следы смертельной усталости немолодого уже человека Выразительные быстрые пальцы перебирали эту массу посланий и на выбор брали то одно, то другое. Либкнехт подносил послание к близоруким глазам, и лицо его разглаживалось, а глаза начинали смеяться.
Вот письмо от старого друга — Клары Цеткин. Она хочет пожать ему руку и выразить свою великую радость по поводу того, что он поступил, как достойный сын своего отца. Вот письмо молодых рабочих из Фридрихсхагена: «В тот момент, когда Вы своим голосованием 2 декабря восстановили против себя стольких, в том числе и в партии, мы чувствуем себя особенно обязанными выразить Вам свое восхищение». Вот письма от бывшего генерального секретаря швейцарского союза работников пищевой промышленности, от беспартийных рабочих, от редактора газеты железнодорожников, от председателя социал-демократического избирательного союза, от товарищей по партии, от писателя и портного; письмо с лаконической подписью: «Единомышленник»; письмо от женщин-матерей; письма из Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа, Бреславля, Нюрнберга, Берлина, Зутфена, Альтона, Оффенбаха-на-Майне, Дрездена; письма из Голландии.
А вот эти — самые дорогие — письма от солдат. Одно — из лазарета от раненого воина. Альфред Вегверт пишет: «…члены партии часто обсуждали на фронте Вашу позицию в вопросе о предоставлении военных кредитов, и все товарищи с радостью приветствовали ее. Нас было там около двенадцати товарищей, и мы в окопах вели долгие и подробные беседы о социал-демократии и войне… Мы были очень рады, что Вы остались верны нашим общим революционным убеждениям, и все в один голос говорили: «Либкнехт — единственный честный парень в нашей партии».
Так старались поддержать его в эти дни и месяцы травли и злобных преследований Взрыв бешеного негодования в лагере буржуазии и в руководстве социал-демократической партии и — началась яростная кампания против Либкнехта. Шовинистическая пресса, реакционеры всех оттенков, милитаристы и члены правительства называли его «изменником родины», «наихудшим врагом народа». Руководители партии поносили его, как нарушителя единства партии и германского рабочего движения. Ураган диких оскорблений и угроз посыпался на его голову.
А он продолжал работать. Он писал нелегальные листовки, в которых снова и снова говорил о разбойничьем характере войны, писал, что каждый шаг, сделанный в Германии в борьбе против империалистической войны, вызывает такие же шаги в других странах, усиливает в них борьбу за мир. Он не побоялся дважды выступить в прусском ландтаге — он говорил слова, которые ни один депутат в то время не осмелился бы сказать.
— Долой лицемерие гражданского мира! — к ужасу всех присутствовавших, воскликнул он на заседании 2 марта 1915 года. — Подымайтесь на международную классовую борьбу за освобождение рабочего класса и против войны!
И на другом заседании:
— Наша задача в данных условиях — крикнуть рабочему классу всех стран: за дело! Те, кто в окопах, и те, кто в тылу, должны сложить оружие и обратиться против общего врага, который лишает их света и воздуха…
Его выступления, его речи и статьи будоражили души, тревожили совесть рядовых социал-демократов, и многие из них понимали уже, что раскол в партии неминуем, что он уже фактически свершился и что пора думать об организационном оформлении левого крыла. Рабочие чутко реагировали на каждую мысль Либкнехта и в письмах доверяли ему свои думы.
…Он сидел над этими письмами, радовался им, размышлял над ними. Будущее партии — вот что больше всего тревожило его.
Негромкий стук в дверь нарушил его раздумья. Едва он успел ответить «Пожалуйста!», как дверь открылась, и в комнату стремительно вошел незнакомый молодой человек. Необыкновенно красивый, высокого роста, с растрепанной каштановой шевелюрой — такой растрепанной, что, казалось, гребень никогда не касался ее! — с большими серо-зелеными глазами.
Либкнехт, остро реагирующий на всяческую красоту, залюбовался необычным лицом, чудесной, располагающей улыбкой вошедшего. На вид ему было лет двадцать семь — двадцать восемь.
Трудно было уловить, в чем это выражалось, но, только глядя на незнакомца, можно было сразу сказать, что он имеет какое-то отношение к войне. Хотя в костюме его не было ничего особенного — разве что казался он несколько небрежным; хотя на ногах не было сапог — разве что ботинки давно не чищены; хотя лицо не выглядело утомленным — только твердый взгляд серо-зеленых глаз выдавал внутреннее напряжение, настороженность и, пожалуй, боль.
Слегка сутулясь, человек поклонился и представился: военный корреспондент Соединенных Штатов Америки, был только что во Франции, на театре войны, много слышал там от солдат о Карле Либкнехте. И небрежно бросил:
— Джон Рид…
Говорил он на хорошем немецком языке, но сильный акцент выдавал в нем иностранца.
В этой большой полупустой комнате он сразу занял много места, но от этого комната не стала теснее — только уютней и светлей, что ли. Он бросил быстрый взгляд на стены, задержался на портретах Бебеля и Вильгельма Либкнехта, скользнул глазами по двум-трем картинам и, казалось, мгновенно охватил и фотографически отпечатал всю комнату в памяти. Было что-то профессиональное в этой его манере быстро ориентироваться в обстановке. И когда он назвался журналистом, Либкнехт невольно кивнул.
Да, разумеется, он слышал об этом американском журналисте и нисколько не удивился, что судьба, а вернее — война, забросила его сюда.
Дождавшись молчаливого приглашения, Рид опустился на стул и быстро завязал разговор. Причем сделал он это с такой легкостью и так ненавязчиво, что хозяин почувствовал к своему нежданному гостю еще большую симпатию.
Речь, конечно, прежде всего зашла о голосовании в рейхстаге и о том резонансе, который вызвало поведение Либкнехта во всем мире, в том числе в Америке.
Либкнехт и сам не мог понять, почему так взволновали его слова Рида. Нож для разрезания бумаги, который он взял со стола, быстро завертелся в его нервной руке, и во все время разговора он уже не выпускал этот нож; и по тому — быстро или медленно вертелся он — можно было сказать о душевном состоянии хозяина.
Так они сидели друг против друга при слабом свете настольной лампы. И оба не сводили глаз друг с друга. Один — в наглухо застегнутом сюртуке, очень смуглый, с почти круглым лицом, с мягким, до странности добрым выражением глаз, с темными усталыми кругами под глазами, другой — молодой, энергичный, полный любопытства, полный впечатлений от недавней поездки по фронту, полный жизни, с ясными, умными, печальными глазами.
Двери, которые Рид не потрудился закрыть за собой, так и остались распахнутыми. Было видно, как в пустой вестибюль вошли две женщины в трауре и тихо опустились на скамью. Должно быть, дожидались представителя местного партийного комитета, ведающего пенсиями. Сидели они тихо и молча, но черные трагические вуали лучше всяких слов говорили о том, что привело их сюда.
Рид кивнул в сторону вестибюля и тихо спросил:
— Последствия войны? Потеряли мужей?
— Лучшие из нас погибают там…
— Вы продолжаете придерживаться своих непримиримых взглядов по-прежнему? Ваше крайне враждебное отношение к войне и к правительству не изменилось?
— Социал-демократ не может придерживаться никакой другой позиции, — ответил Либкнехт с легкой улыбкой. Он говорил по-английски, вставляя иногда немецкие слова. — Как только возникает капиталистическая агрессия, она должна получить решительный и безоговорочный отпор. Невероятное давление, оказываемое на народы всех стран, не могло заставить международный рабочий класс поверить в то, что эта война — его война.
И, помолчав, добавил.
— Я выражаю эту точку зрения как представитель рабочих.
В своей манере задавать вопросы в лоб, прямо и без подготовки, перепрыгивать с одного вопроса на другой, по одной ему понятной логике Рид быстро спросил:
— Каковы, по-вашему, сейчас шансы на мировую революцию?
— Я считаю, — спокойно ответил Либкнехт, как нечто само собой разумеющееся, — что война не может закончиться ничем иным.
— А каковы дальнейшие намерения и планы вашей социал-демократии?
Лицо Либкнехта внезапно приняло твердое выражение.
— Мне трудно ответить вам на этот вопрос, — совсем уже другим тоном сказал он.
Рид понимающе кивнул: в конце концов он был совершенно посторонним человеком, и у Либкнехта не было оснований раскрывать перед ним партийные планы — кто знает, не послужит ли это на руку врагам социал-демократии, если Рид опубликует его ответы. А конечно же, опубликует — для чего другого стал бы спрашивать?
Рид широко улыбнулся, давая понять, что не осуждает ответа, но все же будет продолжать расспросы, потому что ради этого и пришел к Либкнехту.
Но с этого вопроса Либкнехт был уже куда более насторожен и сух и каждое свое слово заметно продумывал.
А Рид продолжал сыпать вопросами и, почти не дожидаясь ответов, зная, что они будут или неопределенные, или крайне лаконичные, пытался восстановить первоначальное — доверительную атмосферу.
— Какую работу проводит сейчас ваша партия в борьбе против войны? Нелегальные листовки, правда? Работа с молодежью? Среди фронтовиков?
Ни на один из этих вопросов Либкнехт не ответил ничего вразумительного. Было понятно, что он просто отказывается отвечать.
Под конец Рид еще раз спросил о самом, по-видимому, для него главном: значит, Либкнехт по-прежнему бескомпромиссно враждебен по отношению к правительству?
И еще раз Либкнехт ответил теми же словами, только короче:
— А разве может быть у социал-демократа какая-либо иная позиция?..
Рид снова согласно кивнул — понятно, если капиталистическое государство ввергло мир в преступную войну, что еще может делать социалист, как не бороться до конца? Он и сам так думал, но Либкнехту это не было известно.
Прежнее доверие как будто снова установилось после этого повторного вопроса — что-то было в интонации Рида утвердительное. Простились они довольные друг другом, и Либкнехт опять залюбовался мужественным красивым лицом молодого человека.
А молодой журналист, ставший затем другом Советской России и пламенным защитником идей Октября, написавший свою знаменитую книгу «Десять дней, которые потрясли мир», писал через несколько лет, в год, когда были зверски убиты Карл Либкнехт и Роза Люксембург:
«…Против кайзеровской Германии с ее дисциплинированной промышленностью, железными армиями и феодальной аристократией, против тщательно насаждаемого ура-патриотизма, против трусости и нерешительности популярных в стане лидеров — вот против чего открыто выступил этот человек, бывший в рейхстаге единственным представителем самой обездоленной, самой угнетенной, самой бесправной части населения. В Германии были и есть и другие революционные вожди, мужчины и женщины, вступившие в непримиримую борьбу с германским империализмом, но Либкнехт находился на виду у всех, на него смотрел весь мир — и вот там, в рейхстаге, когда все вокруг него гнулось под ужасным нажимом, Либкнехт выступил против официальной мощи самой высокоорганизованной державы на земле.
Известна истину: осмелившийся говорить будет услышан. Либкнехт был услышан. Услышали его союзные дипломаты и люди, формирующие общественное мнение, и сказали, что он за Антанту. Услышали его немецкие социал-демократы большинства, кайзеровские социалисты и исключили Либкнехта из своих рядов. Но его услышали и массы немецкого народа, немецкие солдаты в окопах, немецкие рабочие на военных заводах, безземельные крестьяне Саксонии. Его голос был услышан и по другую сторону фронта; и французские солдаты, в умах которых в тот момент безнадежно смешались национализм и интернационализм, от глубины души сказали: «Либкнехт — самый отважный человек на земле».
Да, народ услышал его. И поэтому, когда правительство и правые лидеры не смогли больше переносить его разоблачений, его тактики, срывавшей маски с их неприглядных лиц, с их политики, когда невмоготу стало им слушать на весь мир звучащий голос этого человека, защитника интересов рабочих всего мира, — тогда они быстренько избавились от него, наивно полагая, что голос Карла Либкнехта будет звучать глуше, если его не будет в столице.
Вопреки тому, что в свои сорок четыре года он стоял на пределе призывного возраста; вопреки тому, что здоровье его не позволяло признать его годным; несмотря на то, что он был депутатом рейхстага и как депутат не подлежал мобилизации, — он был призван в действующую армию. Ему оставили право участвовать в сессиях рейхстага и прусского ландтага, но запретили покидать Берлин во время сессий парламента и вести какую-либо политическую деятельность, за исключением парламентской. В противном случае как военнослужащему ему угрожал военный трибунал. Его послали сначала на Западный фронт, затем перебросили на Восточный, он служил в нестроевом батальоне, болел и лежал в лазарете. И все-таки очень скоро правительство с досадой убедилось: избавиться от Либкнехта не удалось. Звонкий голос его доходил и до Берлина, и до самых отдаленных уголков Германии, и по эту и по ту сторону фронта; доходил и до стран, лежащих за пределами Европы, перелетал через океан и всюду продолжал творить свое дело — воевать против войны.
Перед самым отъездом Либкнехта в армию на квартире у Вильгельма Пика собралась маленькая группа левых социал-демократов: Либкнехт, Меринг, Кете и Герман Дункер. Группа обсуждала предложение Розы Люксембург и Меринга об издании ежемесячного журнала по теории и практике марксизма. Журнал назвали «Интернационал», и в апреле вышел первый его номер. Всех, кто группировался вокруг журнала, стали называть группой «Интернационал».
Следующий номер журнала так и не появлялся. На некоторое время властям удалось обезглавить группу «Интернационал» — в феврале за речь о жестоком обращении с солдатами, произнесенную на собрании во Франкфурте-на-Майне, была арестована Роза Люксембург; вслед за ней посадили Вильгельма Пика — он возглавлял демонстрацию женщин, требовавших мира и возвращения с фронтов мужей и сыновей; был арестован и Франц Меринг; приговорили к тюремному заключению тяжело больную Клару Цеткин за ее выступление на женской конференции в Берне.
А Либкнехта засунули в солдатский мундир. Солдат рабочего батальона — Карл Либкнехт! Депутат рейхстага и прусского ландтага, крупный адвокат, на весь мир прославившийся антимилитарист, один из вождей рабочего класса Германии, самый последовательный немецкий социалист — солдат рабочего батальона в «великой армии» Вильгельма II!
Его вызвали в пятое окружное военное управление Берлина и оказали особую «честь» — сам начальник управления беседовал с ним. С деланной заботливостью начальник предупредил будущего солдата обо всем, чего ему не следовало делать: не участвовать в революционных собраниях, не вести революционную пропаганду, не выкрикивать антиправительственные лозунги и т. п. Похоже было, что начальник страшно волнуется за его будущее, как бы Либкнехт — не приведи бог! — не угодил под военный трибунал…
Только тогда по-настоящему и окончательно поверил Либкнехт в то, что его и в самом деле посылают на фронт. Как ни готовился он к этому, как ни уговаривал себя и близких, что его непременно заберут в армию, до этой минуты тайная надежда еще теплилась в его душе. Теперь же он ясно понял из слов начальника: ставка делается на то, чтобы он, предупрежденный заблаговременно, пойманный в нарушении всех этих «нельзя», был судим трибуналом и надолго, если не навсегда, устранен с дороги. Потому что и этот слащавый начальник и те, кто за ним стояли, отлично понимали: Либкнехт и в армии останется тем, кем он был вне ее.
Что ж, они правы: вчерашним рабочим и крестьянам его слово пропагандиста принесет, быть может, большую пользу, чем тем, кто находится в тылу. Конечно же, он наплюет на все эти предупреждения, конечно, будет писать в легальную и нелегальную печать и, уж во всяком случае, будет выступать на сессиях рейхстага, благо не догадались лишить его и этой возможности!
Посмеиваясь, он старался внушить все это жене. Ему было важно не усугублять ее тщательно скрываемое волнение своим собственным, надо прямо сказать, прескверным душевным состоянием. Ему важно было, чтобы она не заметила его болезненной усталости, повышенной нервозности, всего его дурного самочувствия.
Он бодрился как мог и всячески старался весело шутить над всем, что с ним происходило.
Был один трудный для него разговор. При своем повышенно деликатном отношении к жене он не знал, как подойти к этому разговору. Так и дотянул до дня отъезда, когда времени на размышления уже не оставалось.
Как раз в эти дни приехал в отпуск с фронта младший брат Курт Либкнехт. Врач-дерматолог, успевший уже приобрести некоторую известность, он был мобилизован и в качестве военного врача находился в Бельгии и в северной Франции.
Братья должны были встретиться после долгой — разлуки и — попрощаться перед еще более длительным расставанием.
Вот тогда-то и решился Карл Либкнехт заговорить со своей женой о шкатулке. Софья не раз видела, как бережно хранит он эту шкатулку, и никогда не спрашивала, что за дорогие реликвии таятся в ней. Разговор о шкатулке до этого, последнего перед отбытием Карла на фронт дня никогда не возникал.
— Здесь мои письма к Юлии, — сказал, наконец, он. — Должно быть, она сама собрала их в эту шкатулку и, я знаю, очень ими дорожила. Это за период нашего жениховства и первых лет брака.
Он раскрыл шкатулку, и впервые Софья увидела ее содержимое: аккуратно сложенные, перевязанные тоненькими ленточками письма, пролежавшие здесь по меньшей мере лет двадцать.
Несколько мгновений оба молчали, словно почтив память покойной. Потом он спросил:
— Я думаю, у тебя нет никакого желания читать их?
Пожалуй, это не было вопросом — интонация скорее утвердительная слышалась в его голосе. Софья кивнула. Впрочем, у нее и в самом деле не было никакого желания ворошить его прошлое, казалось неловким заглядывать в запертую дверь его первой любви.
— Я отдаю шкатулку на сохранение Курту, — договорил он, — на все время, пока будет длиться эта проклятая война. Ты ничего не имеешь против?
Она снова молча кивнула.
На следующее утро они простились.
Глава 8 «Главный враг в собственной стране»
«Нам говорят: «Все кажется спящим в ряде стран. В Германии все социалисты поголовно за войну, один Либкнехт против». Я отвечаю на это: этот один Либкнехт представляет рабочий класс…» — так писал Ленин в мае 1917 года.
То, что он «представляет рабочий класс», Либкнехт отчетливо понял на фронте. Стоило ему показаться «на людях», как солдаты толпой обступали его, и начинался разговор о самом важном, о самом больном — о войне. Как случилось, спрашивали солдаты, что социал-демократы, которые всегда клятвенно заверяли, что не допустят войны, все, как один, голосовали в рейхстаге за войну? Как случилось, что он, Либкнехт, при вторичном голосовании оказался в полном одиночестве?
Он старался отвечать коротко, не вдаваясь в подробности, из опасений, что долгий разговор в толпе может привлечь внимание офицеров. Но солдаты не удовлетворялись краткими ответами, они как раз ждали от него подробностей, они хотели понять, что же происходит в партии, которую прежде все они считали «своей».
И всякий раз кончалось тем, что он, увлекаясь, читал им целые лекции по истории германской социал-демократии, рассказывал о Марксе и Энгельсе, раскрывал сущность оппортунизма, говорил об измене лидеров германской социал-демократии. И о левом крыле партии, к которому он сам принадлежит, и о том, что теперь пролетариат знает, кто его наиболее опасный враг, маскирующийся в тогу добродетели.
Не могло командование не замечать этих сборищ. В конце марта Либкнехта вызвал подполковник и довольно мягко напомнил о тех предупреждениях, которые ему сделали во время призыва в военном управлении. Он ответил, что ему все это известно, что он все понял, что у него хорошая память — повторять ничего не надо. А в апреле на эту же тему заговорил старший лейтенант — командир его роты. Этот был погрубее и прямо заявил, что знает обо всех его «проделках» и что требует прекратить «пропагандистские штучки». Еще сказал, что тем, кто с ним «якшается», не поздоровится, с ними он расправится просто — штрафной батальон льет по ним слезы.
Напуганный последней угрозой, он просил солдат по возможности быть осторожными, не собираться вместе больше нескольких человек. Но они только отмахивались — пуля-то везде догонит, что здесь, что в штрафном — чего там беречься! И прибегали к нему целыми подразделениями при первой возможности.
На Западном фронте шли весенние дожди, солдатские сапоги шмякали по грязи, люди мокли и не имели где просушиться, но шли к Либкнехту в казарму, иной раз под ливнем и грозой. Шли не только, чтобы послушать его, посоветоваться с ним, прочитать письмо, полученное из дому, — шли, чтобы порадовать его пирогом, присланным матерью, поделиться посылкой, полученной от жены. Он не смел отказываться от солдатского угощения — они приняли бы отказ за кровную обиду.
От дождей у него ныло тело, но он работал наравне со всеми, строил стратегическую дорогу, наотрез отказываясь от помощи, которую ему постоянно предлагали товарищи. Он быстро исхудал, его округлое лицо удлинилось, печать измождения легла на него. Всегда оживленные глаза глядели теперь утомленно и грустно. Он был придавлен всем, что успел увидеть.
В этот дождливый холодный день, ничем не напоминавший мягкий климат Франции, он получил из дому посылку и письма от жены и детей. Он всегда любил читать их письма, а здесь, на фронте, любая весточка из дому была для него праздником.
Он не писал жене уже несколько дней — изнурительный, непривычный труд в эту изнурительную, совсем не весеннюю погоду лишил его сил, и он едва добирался до нар поздно вечером и старался тут же заснуть, как только наступала тишина.
Тишины, правда, становилось все меньше и меньше: артиллерийские бои на этом участке фронта велись интенсивно, а теперь к звукам канонады прибавился еще постоянный и противный гул аэропланов.
Он начал писать ответное письмо жене. Он не стал внушать ей, что тут тишь да гладь, а написал письмо среднее между правдой и ложью, слегка приукрасив свое фронтовое бытие.
«…Несколько раз мы имели возможность наблюдать здесь довольно хорошо артиллерийские бои, которые за последнее время ведутся с большой силой», — сообщил он и тут же поблагодарил за присланные вкусные вещи и очень просил не присылать ему ничего больше, потому что «…ведь вам самим деньги очень нужны…».
Письмо было не очень длинным — он объяснил это тем, что пишет поздним вечером и их уже загоняют на ночлег. Письма сыновьям получились еще короче, но он не мог позволить себе сегодня потратить все силы на личные письма — по плану, составленному им для самого себя, ему необходимо было еще успеть написать большую и важную листовку, которая завтра по конспиративным каналам должна уйти в Берлин.
Он писал эту листовку и думал, что в Берлине почти никто не остался на свободе, и печатать листовки становится все трудней и трудней.
«Кому обязан немецкий народ новыми бедствиями? — писал он. — От кого он должен требовать отчета за новые гекатомбы жертв, которые теперь будут нагромождены?..»
Страстно объяснял он народу, как от него скрывали темные, закулисные дела, махинации империалистов, которые ввергли миллионы людей в мировую бойню. Он писал, что еще в марте можно было начать переговоры о мире, но и эту возможность скрыли от немецкого народа. «…Англия протянула руку, но жадность и алчность немецких империалистов ее отвергла. Обнадеживающие усилия к заключению мира были сорваны германскими кругами, заинтересованными в крупных колониальных завоеваниях, в аннексии Бельгии и французской Лотарингии капиталистами, сидящими в крупных немецких судоходных компаниях, поджигателями войны из германской тяжелой индустрии».
Он ответил на вопрос — кому обязан немецкий народ продолжением чудовищной войны? «Только несущим ответственность безответственным элементам в собственной стране!» Нет и не может быть мира между трудящимися и капиталистами, не Франция, Англия, Италия, Россия являются врагами трудящихся масс. «Главный враг каждого народа находится в его собственной стране! Главный враг германского народа находится в Германии: это германский империализм, германская военная партия, германская тайная дипломатия. Этого врага в собственной стране должен побороть немецкий народ… Достаточно, более чем достаточно резни! Долой поджигателей войны по эту и по ту сторону границы!
Положим конец бойне народов!
Пролетарии всех стран…объединитесь для интернациональной классовой борьбы, против заговоров тайной дипломатии, против империализма, против войны, за мир в социалистическом духе!
Главный враг находится в собственной стране!»
Он дописал последние слова и поставил подпись: «Союз Спартака». За этой подписью скрывалась группа «Интернационал»: Люксембург, Меринг, Цеткин, Иогихес (Тышка), Пик, Мархлевский и др. «Политические письма», которые выходили из-под их пера, назывались письмами «Союза Спартака». Почти весь актив «Союза Спартака» либо сидел в тюрьмах, либо находился на фронте; оставшиеся на свободе перешли на нелегальное положение и вынуждены были тщательно скрываться.
Он поставил эту подпись, но кто из читавших листовку не узнал в ней голос Карла Либкнехта? Узнали все — и те, к кому она была обращена, — немецкие пролетарии, и те, против кого призывала, — германские империалисты.
В конце, мая он выехал в Берлин на очередную сессию рейхстага. Это официально. А неофициально 9 июня у него на квартире собрались те из единомышленников, кого можно было собрать в это смутное время: Дункер, Мархлевский, Меринг, еще несколько человек. Они собрались, чтобы написать письмо в два адреса — правлению социал-демократической партии Германии и президиуму фракции рейхстага.
Эти тоже были «враги в собственной стране».
Либкнехт сел за письмо, обсуждая с товарищами каждую его фразу:
«События последних недель вынуждают нас написать это письмо. После 4 августа 1914 года парламентское и внепарламентское руководство германской социал-демократии начало вести такую политику, которая означает не только банкротство партии в небывалый исторический момент, но и все более определенный отход от прежних принципов.
Роковое влияние этого поворота неотвратимо сказывается как на внешней, так и на внутренней политике партии, которая, таким образом, в обеих этих областях перестала существовать как самостоятельный фактор. Признание гражданского мира — это кол, забитый в могилу классовой борьбы; ее нельзя вести ни с помощью ведомственных и парламентских секретных совещаний, ни с помощью закулисной политики по примеру капиталистических клик.
Большинство фракции рейхстага уклоняется от всякой серьезной борьбы, даже за свободу коалиций, за избирательную реформу… От сессии к сессии оставались напрасными и тщетными надежды на изменение политики фракции, каждый раз снова наступало разочарование. Май принес с собой завершение катастрофы…»
«Завершением катастрофы» было выступление видного деятеля партии, депутата Фридриха Эберта, который с трибуны рейхстага от имени фракции заявил 29 мая: «В этот час растущей опасности мы безоговорочно признаем то, что мы заявляли здесь как 4 августа, так и позже».
Вся шовинистическая пресса немедленно подхватила эти слова и радостно объявила всему читающему миру: продержаться до конца — вот чего хотят немецкие социал-демократы; устами Эберта они сами об этом заявили.
«…На тревожные звуки фанфар, — писал Либкнехт дальше, — призывающих к завоеваниям, прозвучавшие в речах консервативных и национал-либеральных ораторов, социал-демократическая фракция отозвалась лишь новым подчеркиванием своего признания политики 4 августа и ссылкой на слова рейхсканцлера, который обнаружил перед лицом всего мира свое стремление к аннексиям. Самые срочные причины существовали для того, чтобы, наконец, отмежеваться от правительственной военной политики и объявить ей самую решительную борьбу…»
Поскольку фракция и не подумала протестовать против военной политики правительства, напротив — присоединилась к ней, она тем самым обманула доверие народа, избравшего ее, и подвела заключительную черту под гибельным развитием, которое началось 4 августа. Социал-демократическая фракция рейхстага полностью обанкротилась.
«Настоящий момент властно требует немедленных действий. Положение совершенно определилось; ситуация ясна, и не остается почвы для сомнений. Отныне альтернатива гласит: спасение партии или разрушение партии.
Мы предупреждаем против политики 4 августа и 29 мая. Мы знаем, что выражаем мнение значительной части партийных товарищей и широких слоев населения, когда требуем, чтобы фракция и правление партии, наконец, без колебаний положили предел политике, губящей партию, отказались от гражданского мира и начали по всей линии классовую борьбу в соответствии с принципами программы и партийными решениями, чтобы они повели социалистическую борьбу за мир. Ответственность за все, что произойдет в ином случае, падает на тех, кто толкнул партию на гибельный путь и стремится и дальше вести ее по этому пути».
«Мы знаем, что выражаем мнение значительной части наших товарищей», — написал Либкнехт. Слова эти требовали подтверждения, и надо было найти способы в условиях нелегального существования дать возможность тем, кто согласится с этим письменным протестом, поставить под ним свою подпись.
Либкнехт и Дункер решили, что самый простой и верный путь — размножить письмо в тысяче копий и разослать партийным и профсоюзным активистам. Каждый, кто получал такую копию, подписывался под ней и отправлял письмо правлению партии.
Правление получило тысячу экземпляров, подписанных тысячью социал-демократов! Мало того, Либкнехт сумел устроить и отпечатку письма типографским способом, и оно было распространено в виде листовки.
Политика руководителей германской социал-демократии была выведена на чистую воду, и германский народ мог, наконец, полностью ознакомиться со всем тем, что от него так тщательно скрывали.
Не успел Либкнехт вернуться в казармы, как слух о его приезде облетел весь полк. Со всех концов, где расположилась воинская часть, к которой был прикомандирован рабочий батальон, приходили к Либкнехту солдаты и младшие чины, и в конце концов собралась компания в несколько сот человек. Солдаты желали знать, что творится в рейхстаге, правда ли, что фракция снова, на сей раз бесповоротно, предала их? Что намерены предпринять левые, как теперь надлежит поступать им, солдатам, которым поперек горла стоит эта страшная бойня?
Предупреждения и приказы командования не имели силы — самый факт пребывания Карла Либкнехта здесь, в военной обстановке, оказывал «разлагающее» влияние на солдат. За всеми, кто общался с Либкнехтом в первые дни приезда, наблюдали, не сводя глаз. И не было секретом для офицеров, что в последующие дни и в казармах и на передовых, в окопах, каждую возможную минуту возникали подозрительные сборища, на которых какой-нибудь из «зараженных» либкнехтовскими идеями солдат пропагандировал «войну — войне» и призывал повернуть оружие против «врага в собственной стране».
Либкнехта нужно было убрать. Лучше всего, конечно, было бы отправить его к праотцам, но не представлялось возможности послать его на передовую, поскольку он был нестроевым; неплохо было бы отправить его в тыл — все-таки от греха подальше, но не имелось приказа о его демобилизации. И тогда командование части добилось перевода Либкнехта на Восточный фронт. Там, на Востоке, войска все еще победоносно занимали территорию противника, там еще силен был «патриотический» дух и там — так думало командование — сами солдаты заткнут ему глотку с его речами бунтовщика и изменника.
Очень поспешно его выпроводили из казарм. Приставили специального унтер-офицера, который наблюдал за его сборами и затем должен был сопровождать до нового места назначения.
Он совершил мучительную поездку в сопровождении своего стража. Настолько неудобную и утомительную, что запомнилась она надолго.
И ни минуты не смог передохнуть, приехав в новую часть: оказалось, что солдаты все были на лесном пожаре, и его немедленно отправили туда же, где он и занимался пожарным делом до позднего вечера.
Шестнадцать километров пришлось ему проехать до места постоя на тряской телеге, свесив гудящие, натруженные ноги. Когда он, наконец, слез с телеги и побрел к своей «квартире», вид у него был такой, что первый же встречный солдат предложил проводить его до лазарета.
«Квартира» оказалась обыкновенным сараем, плотно закупоренным со всех сторон, без окон, без какой бы то ни было вентиляции. Набитые соломой мешки уложены прямо на пол, вместо подушек — шинели. Либкнехт дрогнул, когда понял, что это за странное щелканье раздается под его сапогами — он шагал прямо по паразитам, которые кишмя кишели здесь. Почувствовав дурноту, он захотел напиться, но, посмотрев в зачерпнутую кружкой воду, так и не решился утолить жажду: вода была затхлая и мутная.
На следующее утро его повели в санчасть, чтобы сделать обязательную противохолерную прививку. И снова он ощутил приступ брезгливости, когда ему, четвертому, вкололи нестерилизованную иглу шприца, ту же самую, которой кололи трех предыдущих солдат: он поежился и с опаской подумал: какую только наидряннейшую болезнь не подцепишь при такой «асептике»!.. Позже он узнал, что в части действительно очень много больных самыми разными заболеваниями.
Хутор, на котором расположился батальон, находился в лесистой местности; с холма, где стоял солдатский сарай, видно было небольшое озерцо. По вечерам в низинах стелился густой белый туман. Наблюдательный, ничего не пропускающий мимо глаз, поклоняющийся природе во всех ее проявлениях, Либкнехт с любопытством озирался, все примечал и все запомнил — и это поблескивающее вдалеке озерцо, и утопающие в зелени, близко расположенные друг от друга хутора, и деревья — невысокие, ветвистые, с толстыми узловатыми стволами, с листьями, похожими на ивовые, названия которых он, к своей досаде, не знал.
А там, неподалеку, Россия, исконные русские земли… Как хорошо было бы побывать здесь с женой, здесь, на ее родной земле! Жена… Сколько бед свалилось сразу, на ее голову — брат пропал без вести, муж мыкается на фронте, а совсем недавно умер отец. Горячо любимый ею человек умер вдалеке от нее. Нельзя ей оставаться сейчас в Берлине — пусть едет к матери, в Швейцарию. Дети могут пожить с сестрой Алисой, а ей надо непременно уехать. Только бы согласилась!..
Он решил написать ей об этом сегодня же, как только вернется с работ.
Работы… Саперы шли через взорванные либавские форты; на дороге попадались трупы наполовину зарытых лошадей, могилы неизвестных солдат. Изредка над позициями пролетали германские аэропланы. Холодно, сыро; мучительно тяжела земля, которую надо поднимать лопатой и отбрасывать в сторону.
А вечер еще более холодный и зябкий. Либкнехт сидит в сарае в сумерках догорающего дня. И пишет. Уже десять дней нет от жены известий, тревога не оставляет его сердце. Он думает о ней постоянно и часто, очень часто пишет домой письма — отдельно ей, отдельно детям. Над сараем проносятся тяжелые облака, гонимые ветром и больше похожие на грозовые или градовые тучи. Там вдалеке, у моря, угасает вечерняя заря. Он зябнет на улице, у входа в барак, где qh пристроился на каком-то ящике; на коленях у него книга, а на книге — лист бумаги, на котором он, почти не различая букв, пишет письмо. Сквозь открытую дверь видны усталые лица солдат, собирающихся на ночлег. При колеблющемся свете свечи они кажутся смертельно бледными, с глубоко запавшими глазами. Но его воображение работает и здесь — ему эти солдаты «кажутся картиной Рембрандта или Доу», как пишет он жене.
«…Теперь и я в России, но без тебя. И при каких обстоятельствах! Я не могу описать мое нравственное состояние. Чувствовать себя безвольным орудием глубоко ненавистной мне власти!.. И защищать… чьи интересы?!» Он просит написать ему все подробности и о ней самой, и о детях, и о том, «как развивается наша борьба против ПК[6] и фракционного бюро? Мне очень хотелось бы знать все подробности и последние новости… Работы очень много. Я прямо без сил. Трудимся и по воскресеньям, как в будни…»
Од и впрямь настолько устал, что у него очень скоро уже не хватает сил писать «веселые» письма. Изредка, словно бы спохватившись, он все еще вставляет несколько торопливых слов об окружающей природе, которая «здесь грандиозна в своей безграничности, силе и дикой непосредственности». В остальном — предстоит дальнейшее продвижение на восток, а пока вот уже три дня как нет почты, сидят без газет, а для него это все равно что без курева, гораздо хуже, чем без пищи; и — ужас! — рабочий батальон, кажется, собираются посылать на передовую, стрелять по «врагу» — этого он уже не вынесет.
Потом его батальон перебазируется в другое место. Живут не в сарае, в конюшне, но холод такой же, ужасно «страдаем от паразитов. Мухи, вши, блохи и крысы мучают нас больше всего. Огарок собирается погаснуть. Половина одиннадцатого вечера! Мы промокли до костей. Тысячи мух жужжат кругом и невыносимо меня терзают… Мы должны получить ружья. Нас хотят превратить в регулярное войско. Черт их подери!..»
А дальше — поход. И неизвестно, куда он приведет. И неизвестно, что там будет. И неизвестно, когда можно будет снова написать домой. И совершенно неизвестно, сможет ли он на сей раз использовать свое право выехать в Берлин, на сессию рейхстага… А сил становится все меньше и меньше, на душе — все хуже и хуже, потому что слухи подтвердились и они теперь — регулярное войско и их намерены ввести в бои. А этого он не может. Этого не могут и его товарищи по батальону — товарищи по партии. Они стараются теперь, под особенно сильным и неусыпным наблюдением, хоть изредка перекинуться несколькими мыслями, чтобы определить линию своего дальнейшего поведения.
В Берлин он все-таки поехал.
С тех пор как социал-демократы исключили его из своей фракции, он крайне редко получал возможность выступить в прениях. Но он хитрил: брал слово то для мотивировки голосования по тому или другому поводу, выступал с замечаниями к порядку дня, а то и просто бросал хлесткие реплики с места или писал пространные запросы и объяснения; затем они выходили за подписью «Союза Спартака» в виде листовок, и в них раскрывалась вся та мерзость, какая творилась в рейхстаге.
На этой сессии, 20 августа, должен был выступать с официальным заявлением статс-секретарь по иностранным делам. Пленарный зал рейхстага, как и всегда во время войны, был залит огнями и полон публики. На правительственных скамьях расположились кайзеровские сановники и увешанные орденами генералы. Появился президент рейхстага. Гул стих.
Президент предоставляет слово статс-секретарю; все ждут — слухи об официальном заявлении ползли по городу: говорили, что будут обсуждать мир и его условия, говорили, напротив, что будет объявлено о продолжении войны до победы, — да мало ли что говорили!
Оратор выдержал эффектную паузу, раскрыл рот, чтобы сказать первую фразу тщательно подготовленной речи. Вдруг в наступившей острой тишине раздался громкий, отчетливо слышный во всех углах огромного зала возглас:
— Мы хотим мира!
В оцепенении несколько секунд все молчат. Затем председательствующий строго глядит на Либкнехта, который и не собирается скрывать, что кричал он, и объявляет о наложении на него взыскания. Либкнехт иронически улыбается и кланяется. Раздаются смешки.
А дело сделано — эффектное выступление сведено до уровня балагана.
Либкнехт остался верен себе — правительству пришлось сделать вывод: пребывание в армии не пошло ему на пользу, не охладило его горячую голову, не заставило молчать. За эти месяцы, пока он был на фронте, вышло с десяток злых и разящих писем-листовок за подписью «Союза Спартака», и нужно было быть последним обывателем, чтобы не понимать, кто чаще всего скрывается за этой подписью, кто является идейным вдохновителем этих воззваний.
Нет, видно, придется избавляться от него другими путями.
Так думали многие. Так думали не только юнкерско-буржуазные представители в правительстве, так думали и те, с кем Либкнехт формально числился в одной партии, — Эберт, Шейдеман, Носке, на которых не раз уже обрушивался ядовитый сарказм Либкнехта.
Он выехал из Берлина 3 сентября 1915 года вконец больной, еле волоча ноги Вернулся в свой взвод, куда добирался двенадцать часов с разными приключениями, и все началось сначала.
Теперь взвод стоял неподалеку от Двины, у Фридрихштадта.
Во время отсутствия Либкнехта отряд успело сильно потрепать ураганным артиллерийским обстрелом, командованию пришлось даже переменить квартиру, прячась от огня. Либкнехт не застал многих прежних товарищей и с огорчением узнал, что это еще не худшее, что худшее впереди — их собираются отправлять в дальний поход, еще ближе к фронту, хотя точное место назначения никому из солдат пока не известно Жили в постоянной боевой готовности.
Сорокачетырехлетний солдат рабочего батальона — доктор юридических наук, социалист и революционер, один из немногих последовательных борцов за мир и дело пролетариата в Германии, Карл Либкнехт не столько переживал физические трудности, не столько чувствовал страх смерти, сколько испытывал муки нравственные, муки человека, которого хотят заставить стрелять, тогда как самая мысль о войне не укладывается в его сознании, самая эта мысль ему отвратительна.
Ночь. В бараке тускло горит одна-единственная свеча; дышать нечем; мухи немилосердно жалят; стоит храп пятидесяти измученных немолодых мужчин. Спят чуть ли не друг на друге.
Ночи становятся все длиннее и темней, а освещения по-прежнему нет. Хорошо, если удается разжиться свечой — ее воруют для «товарища Либкнехта» солдаты из хозяйственного взвода. Воруют, рискуя попасть под трибунал, но делают это упорно и систематически, несмотря на его постоянные протесты. От такого выражения преданности тепло становится у него на душе. Он написал сыну: «Товарищи носят меня на руках. Они бы охотно делали за меня и всю мою работу, но только я не допускаю до этого».
При свете огарка он пишет почти всю ночь. Уже занялась заря, когда послышалось шипенье и свеча погасла, догорев дотла. Но он успел дописать свое приветствие — приветствие Международной конференции социалистов-интернационалистов, открывавшейся в швейцарской деревушке Циммервальд.
«Дорогие товарищи!
Простите, что пишу наспех несколько строк. Я в плену у милитаризма, я в оковах. Поэтому я не могу явиться к вам, но мое сердце, мои мысли, все мое существо вместе с вами…»
Он пишет о задачах, которые стоят перед собравшимися на конференцию: «Расправа, беспощадная расправа с изменниками и перебежчиками Интернационала в Германии, Англии, Франции и других местах. Принципы, лежащие в основе нашей позиции в отношении мировой войны, являются частным случаем применения принципов, лежащих в основе нашей позиции в отношении капиталистического строя; их надо вкратце выяснить. Вкратце! Я надеюсь! Ибо в этом вопросе мы все едины, вы все едины, мы должны быть едины…
Гражданская война, а не гражданский мир! Соблюдать международную солидарность пролетариата, против псевдонациональной, псевдопатриотической гармонии классов, интернациональная классовая борьба за мир, за социалистическую революцию…
Новый Интернационал возродится, он может возродиться на развалинах старого, на новом, более крепком фундаменте. Друзья! Социалисты всех стран, сегодня ваша задача — заложить фундамент для будущего строения… Величие этой цели поможет вам стать выше тягот и мелочей повседневности, стать выше бедствий этих страшных дней!..
Пролетарии всех стран, соединитесь снова!»
Приветствие это не было напечатано, но все участники Циммервальдской конференции читали его. Конференция работала с 5 по 8 сентября 1915 года. И прошла под знаком острой идейной борьбы между революционными марксистами во главе с Лениным и единомышленниками Карла Каутского во главе с немецким социал-демократом Ледебуром. Марксистская группа была крепкой, сплоченной, но малочисленной, и проект манифеста, предложенный левыми, был отклонен большинством делегатов. Но даже тот, непоследовательный, недоговаривающий манифест, который был принят, кончался словами:
«Рабочие и работницы! Матери и отцы! Вдовы и сироты! Раненые и искалеченные! Ко всем вам, кто страдает от войны и через войну, ко всем вам мы взываем:
Через границы, через дымящиеся поля битв, через разрушенные города и деревни —
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!»
Через полтора года Ленин писал:
«Не «ждать», а основать третий Интернационал должна тотчас наша партия, — и сотни социалистов в тюрьмах Германии и Англии вздохнут с облегчением, — тысячи и тысячи немецких рабочих, которые устраивают ныне стачки и демонстрации, пугающие негодяя и разбойника Вильгельма, прочтут в нелегальных листках о нашем решении, о нашем братском доверии Карлу Либкнехту и только ему, о нашем решении бороться и теперь против «революционного оборончества», — прочтут это и укрепятся в своем революционном интернационализме».
А Карл Либкнехт, которого Ленин называл единственным представителем революционных масс Германии, под беспрерывный вой снарядов, грохот выстрелов, оглушительные взрывы, зловещее шипенье писал с фронта товарищу по партии:
«Я считаю, что мы должны подумать о том, не следует ли нам — и каким образом — развернуть пропаганду забастовки на заводах военного снаряжения по англо-американскому и русскому образцу и через нее — массовой военной забастовки… Прошу Вас обсудить эту мысль с нашими штутгартскими друзьями, а также сообщить другим нашим друзьям…»
Нет, не удалось правительству избавиться от Либкнехта, не удалось заставить его замолчать, отправив на фронт. Не удалось это на Западном фронте, еще менее того — на Восточном. Расчеты на «патриотизм победителей» на русском фронте не оправдались — патриотизма давно уже не было, близость России только еще больше будила революционные мысли; несколько случаев братания с русскими солдатами вконец «разложили» германские воинские части. Да и победы были уже весьма сомнительными — позиции обстреливались непрерывно, гранаты и шрапнель стали постоянными гостями в немецких окопах.
В полку, где находился батальон Либкнехта, с минуты на минуту ждали приказа об отступлении. В батальоне началась дизентерия. Постоянный холод, сырость, мокрая солома, на которой спали солдаты, невозможность согреться даже ночью, после целого дня пребывания под дождем и ветром, многих свалили в радикулите. Простуженными были все — по ночам барак содрогался от дружного надрывного кашля.
И на весь саперный батальон — две с половиной тысячи человек — приходился один фельдшер; почему-то его называли врачом, хотя он более всего походил на полуграмотного санитара.
Либкнехт нестерпимо страдал от антисанитарии, холода, сырости, изнурительной работы. Закутавшись в мокрую грязную шинель и не менее грязное тонкое одеяло, он лежал ночи напролет, так и не засыпая ни на минуту. А утром — снова лопата, сырая и оттого особенно тяжелая земля, а иной раз — навоз. Ломило руки, постоянно болела голова, стали пошаливать глаза — от чтения и письма в темноте он стал хуже видеть и незнакомая режущая боль в веках серьезно начала беспокоить его.
Страдало тело. Еще больше страдала душа. В тот день, когда со стороны Риги было произведено неожиданное нападение на немецкие позиции и рота, в которой работал Либкнехт, рыла окопы на передовых — прошел слух, что завтра их рота сама засядет в окопы.
Вот оно то, чего он больше всего боялся! В этот вечер он написал старшему сыну: «Рядом со мной все грохочет и гремит, — против нас выпущены все силы ада. Я не буду стрелять…»
В ту же ночь он заболел. Наутро его отвезли к батальонному фельдшеру. Так попал он на несколько дней в лазарет, в пяти километрах от фронта, и втайне надеялся, что, быть может, за эти дни произойдут какие-то изменения и его часть по-прежнему останется нестроевой.
Когда он вернулся, многих товарищей он не досчитался. Тяжелые времена стали еще тяжелее. Работали теперь по ночам — днем позиции так бешено обстреливались, что рыть окопы было невозможно.
Русские стояли в каких-нибудь восьмидесяти-ста метрах. Их окопы тянулись и впереди и позади — все уже перепуталось, образовался некий клин, в центре которого Карл Либкнехт с лопатой в руках рыл окопы для немецких солдат.
И до того отвратительна была ему эта работа, что он даже был рад, когда вместо рытья окопов получал наряд — таскать навоз.
Как-то ротмистр, застав Либкнехта за этим занятием, злорадно спросил:
— Как вам нравится ваша работа?
Уж очень хотелось ему показать свое презрение к этому «борцу за мир», к этому человеку, к которому, как к магниту, тянулись все солдаты, сколько их было в округе!
— Ничего, — ответил Либкнехт, — ничего, не страшно, если бы только был мир.
— Да, но тогда вы, разумеется, этой работы не делали бы, — ухмыльнулся ротмистр, и глаза его нехорошо блеснули.
— Отчего же, — спокойно возразил Либкнехт, — напротив, именно тогда я очень охотно убирал бы навоз…
Лишенный чувства юмора, туповатый ротмистр, разумеется, не понял, кого подразумевал Либкнехт под словом «навоз». Он только с угрозой в голосе спросил:
— Значит, теперь вы работаете неохотно?..
— На войне я ничего не могу делать охотно, — отрезал Либкнехт, ожидая, что же за этим последует.
Но ничего не последовало — ротмистр несколько растерялся. Тихо чертыхнувшись, он ретировался.
На следующий день — вернее, ночь — снова погнали их копать землю.
«Вокруг нас — могилы и кресты, — пишет Либкнехт об этой ночи в одном из писем к жене, — над нами шелестят ветви деревьев, и все это освещается вспышками яркого света. Вдруг один из товарищей, работающих рядом со мной, погружается в землю: под ним провалился гроб, и он топчется на трупе, меся ногами какую-то гадость. Но ничего — отверстие засыпают, и лопаты продолжают свое дело среди гробов, крестов и мертвецов, среди грохота, трескотни и свиста пуль… Ужасные картины!.. Вдруг крик: «Бросай работу!» Возможно, атака русских. Взвиваются немецкие ракеты, и мы, перегибаясь, вылезаем из нашего отрезка окопа, лежащего отдельно, на расстоянии от 30 до 40 метров, от длинной и уже готовой траншеи. Мы спотыкаемся среди кустов о могилы, — никто не знает дороги или направления к главному окопу. Мое пенсне, сбитое веткой, падает в траву; случайно я нахожу его ощупью. Вдруг один из нас замечает окоп. Мы прыгаем туда. Унтер-офицер недоволен. Я бранюсь с ним, но не очень злобно, так как он добрый парень, хотя очень ограниченный и чересчур боязливый. Я заявляю ему, что стрелять не буду, даже если прикажут. Пускай меня расстреляют. Другие соглашаются со мной. Мы начинаем шуметь. В ту же минуту мимо наших ушей начинают свистеть пули: русские слышат нас. До них доносится каждый слишком громкий лязг лопаты… Пока что я избавился от своего ружья и хожу на работу безоружным. Я чувствую себя тогда, — конечно, внутренне — почти свободным».
Так уж повелось — в письмах к жене и детям он записывал свои впечатления, рассказывал обо всех событиях, не считая нужным скрывать и от детей ужасы войны, пусть знают и запоминают на всю жизнь.
Письма были длинными, писал он их часто, чуть ли не каждый день, и непонятно, как и когда умудрялся в этих немыслимых условиях написать не только несколько листовок и статей для молодежного журнала, но еще и проект «Института социалистических исследований»! Он создал этот научный труд, не имея под рукой ни одной нужной книги, ни одной необходимой справки, во время походов в двинских лес£х. Он понимал, что проект еще страдает «неясностью, неровностью и растянутостью… вследствие многочисленных дополнений и условий его возникновения». Он послал его в Швейцарию, а несколько позже через жену просил передать русским друзьям, что проект его хоть и не совершенен, но он был бы рад, если бы русские товарищи познакомились с ним и использовали то, что найдут возможным.
Без этой духовной пищи, которой он сам себя по мере возможности подкармливал, он бы, наверно, погиб очень скоро. Колоссальное нервное напряжение подорвало его и без того не блестящее здоровье; он все чаще чувствовал недомогание, во время ходьбы его охватывала иной раз такая слабость, что он не мог больше сделать ни шагу. Потом все проходило так же внезапно, как начиналось, и он шел дальше.
А за последнее время, ко всему этому, он еще почувствовал, что за ним неусыпно шпионят. Сперва почувствовал, а потом — «…я узнал, что за мной шпионит отвратительным образом целая грязная компания», — написал он жене.
25 октября его вызвали в штаб батальона.
— Нам сообщили, что вы ведете среди своих товарищей пропаганду против церкви. Я этого допустить не могу… Я должен официально просить вас прекратить это занятие. Говорят, что вы подкрепили свои доводы против религии еще тем, что таким путем можно содействовать окончанию войны: это можно легко истолковать как возбуждение к мятежу.
Последние слова звучали явной угрозой, не хватало только, чтобы офицер упомянул слово «трибунал».
— Я говорю это вам с самыми лучшими намерениями, — продолжал офицер, — мое понимание войны приближается к вашему, и в душе я сочувствую пацифистским идеям.
Либкнехт чуть не расхохотался: неужели они считают его таким идиотом, чтобы он попался в эту фантастически глупую ловушку?
— Вы, вероятно, догадываетесь, — еще мягче заговорил офицер, — что окружены шпионами, которые обо всем доносят. Значит, необходима осторожность. Кроме того, я знаю, что саперный штаб-офицер к вам не расположен. Я сам слышал, как он по случаю вашего последнего отпуска сказал: «Если бы он там разгуливал в штатском, я его непременно арестовал». Так что будьте настороже.
Либкнехт не ответил на «откровенность» откровенностью — очень уж прозрачны были расставленные сети. Тем не менее он вежливо поблагодарил и сказал, что постарается быть осторожным.
Хорошо еще, что командование, по-видимому, не догадалось, кто скрывается за подписью «Непримиримый», поставленной под антимилитаристской статьей в журнале «Югендинтернационал». Если они эту статью не прочли еще в сентябрьском номере, то, наверно, прочтут ее продолжение в декабре.
На другой день его вызвал батальонный командир. Тот же разговор о пропаганде против религии, о том, что он не может потерпеть такого в своей части, у своего солдата. И этот тоже, оказывается, очень хорошо относится к Либкнехту, хотел бы быть с ним в добрых отношениях, чтобы иметь право потом сказать кому следует, что, мол, Карл Либкнехт безупречно нес свою солдатскую службу. Поэтому он решил не давать делу хода и считать, что слышал все эти разговоры частным образом. И опять:
— Помните, что многие ваши товарищи разыгрывают перед вами добрых друзей, а за спиной говорят против вас и пишут на вас доносы…
И этот туда же. Не хочет ли он рассорить Либкнехта с его товарищами, внести смуту в отношение между ним и солдатами? Не для того ли все это? Или впрямь затесался провокатор? Но кто же?
Батальонный командир между тем, пристально следя за лицом Либкнехта, которое, кстати сказать, ничего, кроме вежливой скуки, не выражало, продолжал:
— Я ничего не имею против того, чтобы вы беседовали с отдельными лицами, которые интересуются многими вопросами, о коих вы знаете больше нас, простых смертных. Я ведь и сам расспрашивал вас о многом, когда вы вернулись с сессии рейхстага. Но чтобы не было агитации. Вы ведь меня понимаете?
А перед тем как проститься, добавил весьма многозначительно:
— Вы не должны забывать, что ваши письма могут быть вскрыты, — военная цензура имеет на это право, чтобы вовремя предотвратить бунты и возмущения.
Он, конечно, сам все понимал. Не мог он только до конца раскусить и понять этих двух: того, вчерашнего штабиста, и этого, командира батальона. Ловушка или в самом деле доброе отношение? Лучше остановиться на первом — безопасней. Лучше считать, что надо быть настороже, — меньше наделаешь ошибок. Впрочем… Все, что он пишет крамольного, они могут прочесть в нелегальных листовках «Союза Спартака», в социалистических журналах, меньше всего — в его письмах. Что касается разговоров с солдатами — как было, так и будет. Не может он прекратить свою, как сказал командир, «агитацию», не может не воспользоваться доверием людей и не попытаться вести их за своими идеями. А осторожничать, если и впрямь среди солдат есть шпион, ему уже поздно: во-первых, он достаточно много успел наговорить; во-вторых, шпиону для его пристрастных донесений вовсе не обязательно, чтобы они были правдивы, — он может и сочинить. Что бы ни говорил он в своих беседах, результат будет один. Так лучше говорить все.
Итак, он нарушил все приказы и должен нести, по-видимому, за это ответственность. Во всяком случае, надо быть готовым ко всему, коль скоро эти нарушения не только стали известны начальству, но оно, это начальство, сочло нужным довести до его сведения, что поведение его не составляет ни для кого тайны. Непонятно только, чего они ждут? То ли хотят умыть руки — мы, мол, до последней возможности терпели; то ли ждут подходящего момента, чтобы накрыть его на месте «преступления». И тогда — трибунал, со всеми вытекающими отсюда выводами.
Только он не пойдет им в этом навстречу — дудки! Незачем лезть на рожон, никому, кроме его врагов, это не принесет пользы. В том-то и должен сказаться талант революционера-конспиратора — делай свое дело, но так, чтобы никто не поймал за руку.
Но таланта конспиратора ему на сей раз так и не пришлось проявить: к счастью для него и для германских революционеров, он заболел. К счастью, потому что при его горячем нраве, при страстной, увлекающейся натуре недолго бы он продержался «в подполье». Трибунала ему было бы не миновать, и, уж конечно, его сумели бы подвести под высшую меру наказания.
К счастью, он заболел: прямо в лесу, во время рубки деревьев, потерял сознание. Кое-как солдаты привели его в чувство, но через несколько дней обморок повторился.
И вот он сидит в батальонной штаб-квартире в ожидании автомобиля, который отвезет его в лазарет. В лазарет ему не хочется, он бы с радостью вернулся к товарищам, чтобы «до конца разделить с ними муки фронта», как он писал жене; но новый батальонный врач, сменивший на этом посту невежественного фельдшера, заявил, что не может взять на себя такую ответственность перед рабочим классом Германии и обязан отправить его, Либкнехта, на серьезное лечение.
Он был огорчен и своей болезнью и тем, что в условиях госпиталя не сможет, конечно, работать; а работы было много, очень много: надо было дописать очередную листовку, надо было закончить статью «Антимилитаризм» для молодежного журнала. Если даже он умудрится все-таки обмануть госпитальный персонал, то как же оттуда переслать все эти работы по назначению? На фронте конспиративная связь была налажена, а теперь придется довериться почте, к которой у него, разумеется, никакого доверия нет; он отлично понимает, что вслед за ним пойдет сугубо секретное письмо, в котором начальника госпиталя поставят в известность о его неблагонадежности, а связистов — о необходимости подвергать «просмотру» всю его корреспонденцию.
В последнем письме с фронта он пишет жене: «…умственно и душевно я совсем молодец, а физически так не вовремя развалился. У меня еще много работы, и как я ни слаб, а не могу ни на минуту оставаться спокойным. Что-то будет?»
И только на этапном пункте он на время забыл о собственных тревогах, до того потрясла его тамошняя обстановка. 31 октября 1915 года он пишет: «Я — на этапном пункте! Поголовный разврат, сверху донизу. Роскошная жизнь и произвол власти заключили здесь губительный союз…»
Во фронтовом госпитале он находился недолго — болезнь, по-видимому, зашла так далеко, что его переправили на лечение в Берлин.
Здесь можно было писать, главное — здесь под рукой были товарищи! Настроение у него значительно улучшилось, и это видно по его письму, написанному из берлинского госпиталя Кларе Цеткин. Он называет свое новое место жительства «золотой клеткой» — золотой, потому что здесь действительно превосходные врачи, и они многое делают, чтобы вылечить его. Правда, он понимает, что его хворь — острое воспаление нервных окончаний — не так-то просто поддается лечению, а главное, постоянно грозит рецидивом. Но он, как всегда, не унывает — бывают вещи похуже, хотя вряд ли так уж много существует болезней, которые причиняют такие адские физические страдания! Скоро он уже сможет выходить на воздух — постепенно страдания отступают. А потом его хотят отправить на курорт, чтобы закрепить полученные результаты. Но эта перспектива его совершенно не устраивает: можно себе представить, сколько вызвало бы разговоров в стане его врагов — Карл Либкнехт отсиживается на курорте, когда миллионы простых немцев гибнут на фронтах войны. «Политически мне этот курорт решительно ни к чему. Так что, чтобы и мне и всему миру не было беспокойства…»
От курорта он отказался, но лечение длилось еще довольно долго. Его часто навещали товарищи, посетил Старик — Франц Меринг; приходили сперва поодиночке, потом по нескольку человек сразу. И в результате долгих бесед пришли к выводу — хватит! Хватит находиться в одной упряжке с предательским руководством социал-демократической партии! Надо отмежеваться хотя бы идейно, создать свой, революционный союз, пусть небольшую, но деятельную организацию со своей революционной программой. И чтобы народ больше не путал их, революционеров, с теми — социал-предателями.
Его выписали из госпиталя в конце декабря. А 31 декабря на Шоссештрассе, 121, в конторе братьев Либкнехт, состоялась встреча нового, 1916 года. Необычная встреча, вошедшая в историю международного рабочего движения.
Единомышленники Карла Либкнехта и группы «Интернационал» съехались с разных концов страны на конференцию левых социал-демократов; не было только Клары Цеткин и Розы Люксембург, но и они незримо присутствовали здесь. Тяжело болевшая Цеткин принимала деятельное участие в составлении программы; Роза Люксембург, все еще томившаяся в тюрьме, прислала разработанные ею «Тезисы задач международной социал-демократии», которые и должны были обсуждаться на конференции.
В эту ночь в адвокатской конторе Либкнехта была основана «Группа Спартака» — будущее ядро Коммунистической партии Германии. «Тезисы» Люксембург стали программой спартаковцев. Письма «Спартака», выходившие от времени до времени задолго до организации группы, с этого дня должны были печататься регулярно; конференция избрала центральное руководство «Группы Спартака».
Это был первый, правда еще достаточно робкий, шаг верных, преданных делу рабочего класса марксистов; мужественно и самоотверженно сделали они этот шаг к подлинно революционной самостоятельности в военные дни, когда всякое проявление свободы в Германии удушалось правительством.
И программа этой новой нелегальной организации была мужественной марксистской программой.
«Ввиду измены официальных представителей социалистических партий ведущих стран целям и интересам рабочего класса, ввиду их перехода с позиции пролетарского Интернационала на почву буржуазно-империалистической политики, насущной необходимостью для социализма является создание нового рабочего Интернационала, который должен взять на себя руководство и объединение революционной классовой борьбы против империализма во всех странах.
Классовая борьба внутри буржуазных государств господствующих классов и международная солидарность пролетариев всех стран — два неразрывных жизненных правила рабочего класса в его всемирно исторической борьбе. Нет социализма вне международной солидарности пролетариата, и нет социализма вне классовой борьбы…
В борьбе против милитаризма и войны решающую силу могут представлять лишь сплоченные массы пролетариата всех стран…
Сейчас единственная задача подлинно национальной свободы — это революционная классовая борьба против империализма. Отечеством пролетариата, защите которого должно быть подчинено все остальное, является Социалистический Интернационал…»
Это уже была платформа. Но это еще не было полным размежеванием с социал-демократией. Фактический раскол в партии давно уже произошел, надо было только закрепить его организационно. И уже через несколько дней после рождения «Группы Спартака» один из единомышленников Либкнехта, Отто Рюле, опубликовал письмо в «Форвертс», в котором говорил о необходимости и неизбежности организационного раскола.
Но время для этого не наступило, спартаковцы были слишком маломощны, и им пришлось еще три года оставаться в организационных рамках партии, имея свои собственные программные установки.
Первый важный шаг. был сделан. «Группа Спартака», ставшая затем «Союзом Спартака», с этого года все больше стала приближаться к своей конечной цели — к созданию революционной партии нового типа.
Так начался для Либкнехта новый, 1916 год. Год, принесший ему славу и беды, испытания и радости, необычайную любовь народную и — каторжную тюрьму.
С балкона кайзеровского дворца Карл Либкнехт провозглашает социалистическую республику, 9 ноября 1918 г.
Глава 9 «Ответственность за это несу я…»
Его голос снова зазвучал в стране Либкнехт использовал все доступные ему трибуны. Под разными предлогами в рейхстаге ему не давали говорить, при каждом удобном случае обзывали «государственным изменником», не зачитывали его письменных запросов.
О чем он немедленно доводил до сведения народа в «Письмах Союза Спартака».
Он забросал правительство запросами — готово ли оно вступить в переговоры о мире без аннексий и контрибуций; запросы оставались без ответа. Издеваясь, он писал в очередном «Письме»: «…это тоже ответы, и притом весьма убедительные…» Он настаивал, чтобы правительство передало в распоряжение депутатов рейхстага документы, касающиеся причин возникновения войны. Правительство категорически отказывается удовлетворить это требование. Во всех своих речах он вновь и вновь напоминал, что Германия стремилась к войне, что все разговоры об оборонительном ее характере — голое фразерство, что вся германская политика соткана из лжи.
И опять он писал запрос за запросом и, изловчившись, не раз получал слово в рейхстаге для «справки» или «к порядку голосования» и использовал это слово для нового запроса. Он бил в одну точку, и в конце концов правительство, больше всего не желавшее, чтобы запросы Либкнехта доводились до сведения общественности, нашло-таки способ лишить его возможности выступать» Ради этого были специально изменены правила выступления депутатов; по новым правилам запросы могли подаваться только группой не менее пятнадцати человек; а так как Либкнехт не принадлежал больше ни к какой фракции, его запросы могли теперь вполне законно не приниматься.
Не бездействовало и правление социал-демократической партии. Нарушая устав, правление исключало из фракции рейхстага каждого, кто хоть в самой малости сбивался с ноги в патриотическом марше социал-демократии. Контроль над газетой «Форвертс», где изредка продолжали печатать оппозиционные материалы, принял неприличные размеры — газете попросту затыкали рот. Увольняли редакторов партийных газет, осмелившихся публиковать неугодные правлению партии материалы. Увольняли совершенно хулиганским способом: поручали дворнику выталкивать редакторов из их кабинетов на улицу; дворники, находившиеся-на жалованье у полиции, охотно выполняли это.
«Правление не знает границ в своей беспощадности, — писал Либкнехт в политическом письме «Союза Спартака» № 19, — ответить на это можно только втрое большей беспощадностью. Оставаться сейчас в оборонительной оппозиции — значит капитулировать. Помочь может только решительное наступление. Отказ от уплаты членских взносов — во г то и сегодня действенное средство, которым можно обезвредить Шейдемана и Эберта… Правление стало на путь применения силы, и, только применяя силу, можно его одолеть. Удар на удар, сила против силы…
Смысл заключается в том, чтобы закрыть предательским инстанциям доступ к партийным деньгам, поступающим в наши организации. Эти средства нужно изъять не у партии, а у тех инстанций, которые, систематически пренебрегая своим долгом, используют их против партии, отнимают их у партии, у борьбы за социализм…
Выбора нет: либо спасение, либо гибель партии…все наши силы отдадим партии, отдадим социализму. Но этой партийной системе, этим предательским партийным инстанциям — ни одного человека, ни одного гроша: борьба не на жизнь, а на смерть.
И кто в этой борьбе не с нами, тот против нас».
Вот так заговорили левые, борясь против «узурпаторов партийных постов». И — чего не было в начале войны — многие местные организации открыто становились на сторону спартаковцев. Авторитет Шейдемана и его дружков явно мерк; сиянье «патриотизма», защиты отечества, на котором они строили свою славу в первые месяцы войны, уже не ослепляло — многие социал-демократы, многие пролетарии прозрели при мрачном свете военной трагедии. Пе имея возможности расправиться с Либкнехтом по линии партийной, не имея возможности лишить его печатного голоса, фракция мечтала вовсе лишить его парламентских выступлений. Все труднее становилось Либкнехту использовать трибуну рейхстага для пропаганды — военная цензура перестала выпускать публикацию его речей, ему больше не давали слова «по вопросам регламента».
От него избавлялись любыми путями, и, предвидя, что недалеко то время, когда его физически уберут с дороги — упрячут в крепость или в тюрьму; понимая, что найдут возможность вовсе заткнуть ему рот в парламенте, он изощрялся как мог, придумывая, каким бы образом на предстоящем, очень важном заседании рейхстага высказать то, что он хотел и должен был сказать.
Сессия заседала 8 апреля. Обсуждался бюджет министерства финансов. Карл Либкнехт смиренно попросил слова, на сей раз для «замечаний».
Он вышел на трибуну, держа в руках несколько мелко исписанных листков. Он только успел сказать, что военные займы преступно грабят трудящееся население страны, как в зале поднялся крик:
— Долой с трибуны! Наплевать на регламент! Отечество дороже регламента!..
Потом послышался громкий топот, будто в зал въехал кавалерийский эскадрон, и разъяренные депутаты набросились на Либкнехта с кулаками. Обороняясь, он сжимал в одной руке свои заметки, другой — прикрывал лицо. Кто-то подскочил и с налета вырвал у него листки. Швырнул их на пол и яростно начал топтать ногами.
Отбиваясь от ударов, Либкнехт нагнулся, чтобы поднять рассыпавшиеся по полу листки. И в ту же секунду председатель, перекрикивая брань и возгласы, объявил:
— Вы лишены слова, поскольку покинули трибуну!
Восторженные вопли были ему ответом.
— Я только поднял вырванные у меня из рук и брошенные на пол записи, я еще не кончил говорить…
— Вы сошли с трибуны, стало быть закончили все, что хотели сказать.
— Это нарушение всех правил, господин председатель, я получил слово, и я буду говорить! — криком на крик отвечал Либкнехт.
И тогда председатель рейхстага, уже не стараясь скрыть своей враждебности, заявил:
— Я вообще лишаю вас слова! Я лишаю вас права участия в этом заседании, поскольку вы грубо нарушили порядок в парламенте, вы нарушаете его достоинство…
Овации «народных представителей» покрыли его слова.
Дальше уже никто не церемонился — Либкнехта оттащили подальше от ораторского места и вытолкнули из зала заседаний.
На другой день вся печать хранила гробовое молчание по поводу безобразного изгнания из зала рейхстага депутата Карла Либкнехта. Отчет председателя рейхстага, помещенный в газетах, бесстыдно искажал события; о хулиганском нападении на Либкнехта не было сказано ни слова. Официальную стенограмму не опубликовали вовсе.
Либкнехт написал председателю рейхстага письмо с протестом. Письмо не поместила ни одна газета. Это мало помогло правительству — протест Либкнехта был напечатан и распространен по всей стране в политическом письме «Союза Спартака» 22 апреля 1916 года.
В эти дни в Иене состоялась нелегальная конференция рабочей молодежи, организованная Карлом Либкнехтом. Все меньше становилось его единомышленников, оставшихся на свободе, — кто был осужден на тюремное заключение, кто послан в окопы. Вся тяжесть борьбы против войны ложилась на плечи молодежи. Либкнехт, всегда придававший огромное значение молодежному движению, теперь особенно пристально следил за ним. Нелегальная конференция, организованная во время войны, его личное присутствие на ней — его, кому под страхом военного трибунала были запрещены выезды из Берлина и занятия политической агитацией, — все это должно было поднять дух молодежи, показать, что ничто не может служить препятствием в борьбе за правое дело.
И Либкнехт тайком едет в Иену, где выступает с основным докладом. Резолюция, принятая конференцией по этому докладу, говорила не только о борьбе против войны, но и о борьбе за свержение капиталистического строя. Был создан временный центр молодежных организаций, которому надлежало установить связь между отдельными группами юношеского движения.
Эта организованная Карлом Либкнехтом нелегальная конференция, факт его тайного выезда из Берлина, его доклад — образец большевистской пропаганды и агитации против правительства и против войны, — его призыв провести 1 Мая антивоенную демонстрацию — все это стало известно полицейским и военным властям. Его могли арестовать в тот момент, когда он вернулся в Берлин. Но не арестовали. Понимали: чтобы взять Карла Либкнехта, нужны более веские причины, более подходящий момент.
Момент этот наступил. Впрочем, Либкнехт сам его создал. Он знал, на что идет, нарушая все запреты, бросая в лицо правительству слова, которые сразу же облетели весь мир. Он знал, на что идет, и сам заранее готовил приближение этого момента.
«Группа Спартака» призывала рабочий класс Германии к антивоенной массовой демонстрации в день 1 Мая. По мысли Либкнехта, такая демонстрация в центре столицы должна была явиться переломным моментом в антивоенном движении и вызвать его усиление.
В Берлине появились воззвания:
«1 Мая 8 часов вечера.
Тот, кто против войны,
явится 1 Мая
в 8 часов вечера
на Потсдамерплатц (Берлин).
Хлеб! Свобода! Мир!»
И всюду в Берлине появились листовки — их разбрасывали вечерами на людных улицах, засовывали в карманы прохожим, клали в котелки и шляпы в концертных залах и театрах, бросали в пролетки и омнибусы, опускали в квартирные почтовые ящики. Листовки, словно обильный ливень, затопили столицу. Их невозможно было не читать, от них некуда было спрятать людей. И их читали. К страху и ужасу полицейских и военных столичных чиновников, к недовольству кайзера и гневу парламента.
Листовку написал Карл Либкнехт.
«Все на праздник Первое мая!» — звала она. В ней говорилось о гибели культуры «в пучине необузданной монархии мировой войны», о том, что война нужна, только чтобы «прусские помещики и породнившиеся с ними кровососы-капиталисты могли набивать себе карман, порабощая и эксплуатируя новые страны; чтобы поджигатели войны из кругов тяжелой промышленности собрали золотой урожай на кровавой ниве трупов;…чтобы милитаризм, монархия, чтобы самая черная реакция получили в Германии небывалую власть и неограниченное господство…». Листовка призывала к тому, чтобы рабочий класс не позволял больше гнать себя на бойню, словно стадо баранов, давая своим злейшим врагам наглеть и крепнуть. Она призывала рабочих, социал-демократов, женщин и молодежь положить конец небывалой бойне, братоубийству. Она заканчивалась словами:
«Первого мая мы протягиваем братскую руку через всяческие блокады, через разделяющие нас поля сражений народам Франции, Бельгии, России, Англии, Сербии, народам всего мира! Первого мая мы поднимем наш голос, голос многих тысяч с призывом:
Долой виновников гнусного преступления, виновников бойни народов! Долой капиталистических воротил, поджигателей войны и тех, кто на ней наживается!
Наши враги не французский и русский народы, а немецкие помещики, немецкие капиталисты и их «исполнительный комитет» — немецкое правительство. Вставайте на борьбу против них, против смертельных врагов всякой свободы, вставайте на борьбу за все, что знаменует благо и будущее дело рабочих, человечества и культуры!
Пора кончать войну! Мы хотим мира!
Да здравствует социализм! Да здравствует Интернационал рабочих!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Задолго до восьми часов Потсдамская площадь кишела пешими и конными полицейскими. Люди шли сюда со всех концов огромного города; мужчины и женщины, молодежь и старики, члены социал-демократической партии и обыватели, рабочие и ремесленники, жены и матери. Шли все, кто верил — демонстрация может помочь поскорей покончить с бойней, вернуть с фронтов тех, кто еще уцелел, прекратить продовольственный голод и военный режим Шли, откликнувшись на призыв спартаковцев, сотни и тысячи, и огромная Потсдамская площадь к восьми часам заполнилась до отказа.
Когда Либкнехт поднялся на невысокую трибуну, перед его глазами разлилось море людей. Котелки, соломенные шляпы, женские шляпки с замысловатыми «гнездами» цветов на темени, открытые девичьи головы — море это разлилось далеко вокруг, сколько глаз хватало.
В строгом черном костюме с черным галстуком под стоячим крахмальным воротничком, исхудавший и словно бы ставший от этого еще выше, озаренный лучами заходящего солнца, он обратил лицо к толпе и заговорил.
Рядом с ним стояла Роза Люксембург. Измученная недавним пребыванием в тюрьме, она как бы помолодела оттого, что, назло всему и несмотря ни на что, стояла здесь, на этой трибуне, рядом с Карлом Либкнехтом; оттого, что, пренебрегая опасностью, не только они, не только их ближайшие товарищи, но вот эти тысячи и тысячи простых людей пришли сюда, прорвав все полицейские кордоны, и с восторженным вниманием слушают Карла.
Он уже кончал говорить. Он уже выкрикнул два лозунга, от которых дрогнула толпа, — «Долой войну! Долой правительство!» — и в ту же минуту свора полицейских, рассеянных в толпе, протиснулась к трибуне, смяла людей, кинулась к Либкнехту, схватила и увела.
Все случилось молниеносно-быстро. И вот уже полиция, убрав главного врага, Либкнехта, разгоняет демонстрантов.
Под натиском полиции демонстранты разделились на три колонны и растеклись по смежным улицам. Десять тысяч человек с негодованием требовали свободы Либкнехту. Его имя скандировали до хрипоты, и в течение двух часов вся берлинская полиция не в состоянии была восстановить порядок.
А в последующие дни по стране прокатилась волна протеста. Уже знали, что Либкнехт подвергнут предварительному заключению в следственной тюрьме, уже стало известно, что его будет судить военный трибунал.
Либкнехт был прав, когда решил, что его личное участие в демонстрации в центре Берлина даст толчок к перелому антивоенной борьбы рабочих, что этот факт активизирует их. Но еще большую роль сыграл факт его ареста.
Впрочем, он и к этому был готов. Вероятно, ждала такого финала и Софья Либкнехт. Но, видимо, ни сам Либкнехт, ни его жена не предполагали, что это будет столь серьезно. Должно быть, думали — арестуют, подержат под арестом и выпустят. Как-никак депутат рейхстага.
Но шли дни, а конца аресту Карла не было видно. Ему грозил военный суд.
Потом был обыск. Потом пришло от него из тюрьмы письмо, очень утешительное по тону. Но чем больше старался он утешить жену, тем сильнее становилось ее волнение — она понимала, что, если бы и на самом деле не было причин к беспокойству, он бы просто отшутился, а не внушал изо всех сил, что «все в полном порядке».
Он писал: «Мое дело затянется на несколько дней. А тем временем я останусь под арестом за неисполнение служебного приказа. Для беспокойства нет никаких причин. Обыск, наверное, встревожил тебя… Я чувствую себя хорошо».
Но тут же, несмотря на «несколько дней», он просит прислать белье и книги — много книг и все такие, которые нужны были ему для его давнишнего исследования — «Законы общественного развития» — и которые не прочтешь в несколько дней. И тут же он пишет об адвокате и о том, чтобы она ни в коем случае не просила за него членов рейхстага: «Я не желаю их услуг, даже если то будет с самыми лучшими намерениями. На этом я настаиваю. Если ты уже с кем-нибудь говорила, то немедленно возьми обратно свою просьбу…»
Софья, как и Роза Люксембург, считала, что нет оснований для особого беспокойства. Но теперь гнетущая тревога охватила ее: чем может кончиться военный суд? Что, если не нарушение приказа, а государственную измену будут они ему инкриминировать?..
В рейхстаг она, разумеется, не стала обращаться. И правильно сделала — Либкнехт знал, что писал. Этим лицемерам, которые ненавидели его, не следовало доверять, даже если они делали самую ласковую мину.
Спектакль, который собирался разыгрывать рейхстаг, имел, разумеется, свою подкладку — закулисная его история стала известна позднее.
4 мая имперский канцлер обратился с письмом в Суд Королевской Берлинской комендатуры. На письме стоял гриф «Весьма спешно». Канцлеру не терпелось: надо было торопиться — до «спектакля» оставались считанные дни.
«На повестке дня заседания рейхстага 9 мая с. г., — писал канцлер, — стоит предложение социал-демократической фракции об освобождении из-под ареста депутата Либкнехта. Я не сомневаюсь в том, что предложение будет отклонено (курсив автора), но считаю необходимым для достижения этого результата, чтобы рейхстагу возможно скорее были предъявлены данные, на основании которых ведется следствие над Либкнехтом…»
О письме этом Либкнехт, вероятно, понятия не имел. А знал ли он, о чем идет речь в приказе об аресте? Знал ли об этом, когда писал жене, что нет никаких оснований для беспокойства?
Знал. Уже 3 мая он писал в суд «разъяснения» к своему следственному делу.
В приказе говорилось, что «…солдат рабочего батальона Карл Либкнехт подлежит предварительному заключению и потому, что над ним тяготеет подозрение, что во время войны, ведомой против Германской империи, он умышленно оказывал содействие враждебной державе… и, следовательно, предметом следствия является преступление (§ 176 № 1 воен. улож. о нак.)».
Когда Либкнехту прочли обвинительный акт, он ответил:
— Я исполнил свой долг, как и впредь неуклонно буду исполнять его, и оправдываться мне не в чем.
Это бы еще ничего. А вот то, что Либкнехт написал в Суд Королевской Берлинской комендатуры в ответ на обвинительный акт, вызвало гнев и ярость не одного только председателя суда господина фон Бена — оно вызвало ярость рейхстага, правительства, кайзера — всех, против кого неуклонно и несгибаемо все годы боролся Либкнехт.
«…Следствие против меня ведется по приказу инстанций, — писал Либкнехт, — которые даже и во время пребывания моего под арестом не стеснялись нарушать мою депутатскую неприкосновенность… которые противозаконно держат страну на осадном положении и сами, стоя на почве беззакония, обвиняют меня в мнимом нарушении закона…
Мне не в чем оправдываться. Я просто заявляю, что я социалист-интернационалист и стою за политику, которую уже много лет веду совершенно открыто. Я не беру назад ни единой буквы из моей листовки, из лозунгов: «Долой правительство! Долой войну!», из моего заявления от 3 мая, из всего, что было мною сказано в парламенте и что вызвало яростный вой моих врагов. Оправдываться мне не в чем.
Но раз уже зашла речь о государственной измене, позвольте заявить вам следующее:
Государственная измена была всегда привилегией правящих классов, князей и аристократов и является одной из самых аристократических традиций этой касты. Подлинные государственные изменники пока еще сидят не на скамье подсудимых, а в конторах металлургических заводов, фирм, ведающих вооружением армии, в больших банках, в усадьбах юнкеров-аграриев; они сидят… в министерствах, во дворцах принцев королевской крови и на тронах.
…Это люди, которые ввергли человечество в хаос столкновения варварских сил, превращают Европу в груду развалин и пустыню и окутывают ее атмосферой лжи и лицемерия, в которой истина слепнет и задыхается…
Обвинение оправдывает этих подлинных государственных изменников и потворствует им, стараясь обезвредить меня за мое противодействие им…»
Что и говорить, заявление мало похоже на попытку оправдаться. Автор далек был от расчета на то, что слова его облегчат его участь. А что участь будет тяжела — он уже понимал. Он понимал, что обвинение в квалифицированной государственной измене будет поддерживаться на суде во что бы то ни стало и что минимум, что может его ожидать, — каторжная тюрьма на три-четыре года.
Он не ждал и не мог ждать оправдания; он, пожалуй, и не хотел его: он считал, что осуждение его послужит на пользу делу, которому он себя посвятил, куда больше, чем оправдательный приговор.
Он только хотел, чтобы немецкий народ, общественность мира, пролетарии всех стран знали, что он не отказывается ни от одного своего слова; что истинные государственные изменники расправляются с ним, как расправляются со всеми борцами за дело пролетариата. Он хотел использовать свою переписку с судом, чтобы еще раз, наиболее ярко, пропагандировать свои идеи, чтобы еще раз призвать народ к борьбе против их общих врагов.
Копии с заявлений — он буквально атаковал ими судебные власти, — в которых он развивал лозунги, провозглашенные на Потсдамской площади, он тщательно собирал, передавал в надежные руки, как и все материалы следствия, которые попадали к нему, и мечтал, чтобы все это было собрано в книгу и опубликовано.
Пока же наиболее важные документы и объяснения Либкнехта распространял в нелегальных листовках «Союз Спартака».
А потом состоялся суд.
Начался он с того, что по ходатайству представителя обвинения постановил удалить из зала заседаний всех посторонних лиц, а оставшихся обязал хранить строгое молчание.
«Посторонними» оказались и Софья Либкнехт и доктор Теодор Либкнехт. И пока полиция выпроваживала тех, кто пришел на эту постыдную комедию, пока грубо выводили жену и старшего брата Либкнехта, в зале гремел его возмущенный голос:
— Однако не думайте, что вам удастся скрыть происходящее от общественности! Чем больше вы прилагаете для этого усилий, тем в меньшей степени вам это удастся и тем вернее удастся нам пренебречь вашими решениями и законами. Как верно то, что солнце сияет в этом зале, так верно и то, что весь мир узнает все, что вы хотели сохранить во мраке!
Его не испугал ни сам судебный процесс, ни обстановка таинственности, в которой проходил суд. Пренебрегая тем, что его слова только ухудшат его положение, что он сам накликает на себя еще большую беду, не думая о себе, не останавливаясь ни перед чем, он снова и снова использовал трибуну суда, чтобы сорвать последние покровы с империализма вообще и с германского в частности.
Либкнехт обвинял. Жестоко, ядовито, веско. Будто и не его дело слушалось в военном суде, будто и не ему грозила каторжная тюрьма, будто не перед судьями, которых он презирал, — перед всем миром выступал он.
Несмотря на секретность, какой был окружен процесс, слова, сказанные Либкнехтом в первый же день, к вечеру были уже известны далеко за пределами здания суда. Не помогло изгнание «посторонних», не помогло «строгое молчание» присутствующих — были каналы, недоступные юстиции; по этим каналам хлесткие, ядовитые, разящие обвинения обвиняемого просачивались наружу в ту же минуту, как были произнесены.
Первое же заявление, поданное Либкнехтом председателю суда, содержало все ответы на все возможные вопросы, которые ему могут задать судьи. И если они рассчитывали, что он попытается оправдываться, — их ждало жестокое разочарование. Нет, оправданий от Карла Либкнехта военному суду юнкерской юстиции не дождаться!
«…Листовку «Все на праздник Первое мая!» и воззвание я распространял в конце апреля, а также 1 мая сего года в Берлине и его окрестностях…
За пределами Берлина я лично их не распространял, но делалось это с моего ведома и согласно моему настойчивому желанию. Ответственность за это несу я. За содержание листовки и воззвания я также несу ответственность, а по поводу происхождения их отказываюсь давать пояснения.
На пасху я был в Иене. В подробности этого входить не намерен.
…Я несколько раз крикнул «Долой правительство!», «Долой войну!» даже тогда, когда меня арестовала полиция.
Я не подчинился аресту беспрекословно, так как не имел ни малейшего желания под угрозой кулаков полицейских отказаться от участия в демонстрации.
Я знаю — и это соответствует моему желанию, — что о демонстрации и о листовке стало известно за границей.
…Я действовал вопреки запрещению, потому что так подсказывал мой патриотический долг.
…Важнейшая задача социалистов — содействовать тому, чтобы в недалеком будущем, как во время войны внешней, так и во время войны внутренней, сотни тысяч голосов в ответ на приказ упрямо твердили: «Стрелять не будем!»
…Я не изменю своим политическим, своим интернационалистическим убеждениям, что бы ни решил суд.
Я буду по мере сил непоколебимо вести и впредь политическую борьбу, интернационалистическую и социалистическую борьбу — и пусть мне выносят какой угодно приговор…»
Приговор был вынесен 28 июня — Карла Либкнехта присудили к двум с половиной годам тюремного заключения.
В этот день в Берлине возникла первая в Германии массовая политическая стачка. В этот день с самого утра огромная демонстрация протеста затопила улицы столицы. И на той же самой Потсдамской площади уже не десять — двадцать пять тысяч пролетариев требовали освобождения Либкнехта.
Карл Либкнехт не испугался военного суда. Суд испугался волны протеста, стачки, настроения масс. Шла война, и очень важно было сохранить «толпу» в узде. «Толпа» ее сбросила — стеной встала на защиту своего вождя. И это сыграло решающую роль в том, что приговор оказался более милостивы, чем предполагалось ранее.
Но и такой приговор был только деталью театральной декорации: хорошие судьи смилостивились, а вот плохой прокурор опротестовал приговор. Расчет был такой: пока суд да дело, пока кассационная инстанция будет решать, пройдет месяц-два, к тому времени народные страсти улягутся — «толпа» так непостоянна в своих настроениях! И, разумеется, кассационный суд росчерком пера аннулирует то, что вынужден был уступить народу берлинский военный суд.
Не только прокурор обжаловал приговор — осужденный тоже обратился в высший военный суд округа. Дело слушалось через два месяца. Кто знает, быть может, оно закончилось бы несколько мягче — «толпа» оказалась постоянной в своих настроениях и через два месяца; быть может, приговор предыдущей инстанции остался бы в силе, если бы Либкнехт хоть на йоту снизил свой голос. Но чем больший резонанс в мире имел этот голос, тем более грозным становился он.
В ожидании второго суда Либкнехт не сидел без дела — не было, казалось, такого политического события, на которое он бы не откликнулся. И что важно, его отклики тут же публиковались в «Политических письмах» и листовках «Союза Спартака».
Арестовали 10 июля Розу Люксембург, арестовали так, на всякий случай — «в порядке охраны общественного порядка». Либкнехт не смолчал. Этот осужденный за государственную измену преступник писал:
«Мне сообщили, что 10 июля арестована моя приятельница Роза Люксембург. Агенты военного сыска обманом заманили ее в тюрьму, где она при своем слабом здоровье окончательно захиреет в скверном воздухе и без движения.
В феврале 1915 года ее втиснули вместе с воровками и проститутками в зеленый фургон и год продержали в тюрьме. Теперь хотят окончательно уничтожить эту женщину, в тщедушном теле которой живет такая пламенная великая душа, такой смелый, блестящий ум и которая будет жить в истории человеческой культуры.
Не допускают никаких официальных сообщений о забастовках. Прячут позор. Боятся народной массы. Подлое дело силится защитить себя подлыми средствами.
И эти душители свободы, эти палачи истины — это «Германская империя»! Это они тянутся в нынешнюю войну к скипетру владычества над миром. Победа в их руках была бы гибелью для немецкого народа и тяжелым испытанием для человечества.
Но сила, которую пытаются одолеть в Розе Люксембург, могущественнее кулачного права осадного положения. Она разрушит стены тюрьмы и восторжествует».
Софья Либкнехт металась теперь между двумя тюрьмами — следственной тюрьмой, где сидел Карл, и тюрьмой во Вронке, где томилась Роза. Еще одна трагедия произошла в это же время в ее жизни — где-то на фронте погиб любимый брат.
Эта хрупкая женщина с фигуркой подростка оказалась, однако, куда сильней, чем о ней можно было подумать. Она посылала все, о чем просил ее муж — а просьбы его всегда сводились прежде всего к книгам, а затем к дешевым сигарам или табаку; посылала теплые письма, вкусные вещи и книги Розе; на ней держался весь дом, вся большая семья Либкнехта; она должна была все время носить на лице беспечную маску, чтобы не тревожить, не нервировать детей; она должна была всякий раз хлопотать о свиданье с Розой, она должна была… Словом, Софья Либкнехт в то трагическое для нее время показала себя не только преданной женой, не только отличным товарищем, но и стойким, самоотверженным, мужественным человеком.
Слушание дела в высшем военном суде Берлинского округа началось в самых вежливых тонах (что это было — невольное уважение к неслыханной смелости Либкнехта или опасения перед «гласом народным?»). А кончилось (должно быть, судьи потеряли голову и перестали оглядываться!) бешеной яростью и чуть ли не бранью.
Представитель обвинения — товарищ военного прокурора Цейтшель — с самого начала был более чем сдержан. Он даже допустил, что обвиняемый вел себя «благородно и действовал из идейных соображений», исходя из мировоззрения, которое ему, представителю обвинения, глубоко чуждо. Но все дело в том, что независимо от побуждений для достижения идейных целей обвиняемый пользовался средствами, которые не могут быть оправданы никакими целями. Он, обвинитель, вынужден квалифицировать эти средства как бесчестные. Что можно, например, сказать об утверждении подсудимого, будто бы война затеяна центральными державами ради интересов кучки помещиков и капиталистов?! Утверждение, мягко говоря, сомнительное, а по существу — клеветническое… Словом, исходя из всего вышесказанного, он, обвинитель, предлагает приговорить подсудимого Карла Либкнехта к шести годам и нескольким месяцам каторжной тюрьмы с поражением в правах сроком на десять лет.
И тут началось то, что постепенно довело судей до белого каления.
— Сначала я повторю свои требования, чтобы мои заявления были приобщены к приговору точно в такой форме, в какой я их изложил и представил письменно, — начал Либкнехт, — мы с вами принадлежим к двум различным мирам и говорим на разных языках. Я протестую против того, чтобы вы, кому мой язык непонятен, вы, принадлежащие к лагерю моих врагов, излагали мои слова в вашем толковании.
Он сделал небольшую паузу, ожидая возражений, но так как суд безмолвствовал, продолжал:
— Представитель обвинения назвал сомнительными применяемые мною средства, сомнительными мои утверждения об историческом характере и причинах возникновения войны Как же я должен это квалифицировать? Ведь дело ему известно, и он знает, каким обилием фактов и доводов я располагаю; ведь именно он совместно с судьей отклонил мое ходатайство о представлении доказательств по поводу предыстории войны! Я отказываюсь добавить здесь хоть что-либо к уже сказанному, поскольку не считаю данный суд для себя компетентным. Но виновников — тех поджигателей войны, что сидят в Берлине и Вене, — еще призовут к ответу, им солоно придется…
Председательствующий прервал обвиняемого и призвал его к порядку: нечего здесь бросаться словами, не имеющими отношения к делу, нечего искать других обвиняемых — суд судит его, Карла Либкнехта, а не тех, кого ему, вероятно, было бы угодно видеть на своем месте.
Вот тут-то и прорвало Карла Либкнехта. Тут-то он и накалил атмосферу до такого градуса, что уже ни о какой беспристрастной мине не могло быть больше и речи.
— «Каторга!», «Поражение в гражданских правах!» — воскликнул обвиняемый, неуважительно передразнивая обвинителя. — Ну что ж! Мое представление о чести гражданина расходится с вашим! Но говорю вам: я буду с честью носить куртку каторжника, как ни один генерал не носил еще своего генеральского мундира! Я здесь не для того, чтобы оправдываться, а чтобы обвинять! Мой лозунг — не гражданский мир, а гражданская война! Долой войну! Долой правительство!
Представитель обвинения сбросил с себя маску. Он больше не считает, что обвиняемый «ведет себя благородно», и ему больше незачем самому играть в благородство. Он кричит и требует запретить Либкнехту крамольные речи, призывы к бунту здесь, в высшем военном суде! Он пытается еще обороняться от нападок обвиняемого — пусть, мол, послушает Либкнехт, что говорят о нем в народе! Но обвиняемый отмахивается от его крикливого протеста, как от жужжания мухи.
— Вникните только, — требует он у судей, — представитель обвинения называет меня бесчестным, предлагает осудить на шесть лет и несколько месяцев каторги с поражением в правах на десять лет. Но когда я позволяю себе сделать несколько критических замечаний по его адресу — при этом более справедливых, — он становится на дыбы — он, потребовавший дать мне шесть лет каторги и десять лет поражения в правах — этакую малость! Представитель обвинения призывает на помощь против меня народ. Ну-ка, сделайте это не на словах, не в запертом на десять замков суде, который прячется от народа. Выньте кляп изо рта у народа, снимите с него наручники осадного положения! Призовите народ — сюда, куда угодно, призовите солдат с фронта — куда вам будет угодно^ И дайте нам возможность выступить перед вашим судом; на одной стороне будете все вы, судебная палата в полном составе, представители обвинения и господа из генерального штаба, военного министерства, ведомства по делам печати и все прочие угодные вам люди. А на другой стороне буду стоять я один или кто-нибудь из моих друзей. И с кем тогда окажется народная масса, когда с ее глаз сорвут завесу лжи, — с вами или со мной, — на этот счет у меня сомнений нет!
Он очень спокойно, внутренне спокойно выслушал приговор кассационного суда: четыре года и один месяц каторжной тюрьмы и шесть лет лишения гражданских прав.
Один из очевидцев, присутствовавший на суде, человек, стоящий на враждебных Либкнехту позициях, стенографически записал» последние часы заседания, требование прокурора, перепалку обвиняемого с председателем суда и представителем обвинения и заключительные слова Карла Либкнехта. Неведомо как попала эта запись к спартаковцам, но только и она стала достоянием гласности: в «Политическом письме «Союза Спартака» № 3 за декабрь 1916 года под заголовком «У меня сомнений нет!» запись была размножена в тысячах экземпляров.
Народ, читавший это письмо, не замедлил ответить на вопрос — на чьей стороне находится народ? Массовые протесты против приговора над Либкнехтом снова взбудоражили всю страну. Уловки правительства не помогли — задурить голову пролетариату не удалось.
А задурить пытались. Даже сама публикация приговора была разыграна, как хорошо поставленная пантомима.
За неделю до вынесения приговора в Бремен прибыла из дальнего плавания подводная лодка «Германия». Лодку продержали в тайне на рейде до 24 августа. В этот день вся буржуазная печать подняла кампанию «ликования» по поводу «только что» состоявшегося счастливого возвращения на родину «легендарного корабля, прорвавшего блокаду». И где-то на задворках газет была помещена именно в этот день коротенькая заметка о приговоре над Карлом Либкнехтом.
Но «ликование» по поводу возвращения «легендарного корабля» не заглушило народного ропота. Уловка не имела успеха, не имел успеха и призыв против стачек, выпущенный одним из оппортунистических профсоюзов. Забастовки и демонстрации, начавшиеся в день вынесения приговора, становились все значительней.
В письмах «Союза Спартака» было опубликовано обращение к Либкнехту перед тем, как он отправился в каторжную тюрьму:
«Гордый и несгибаемый, смертельный враг господствующих, верный друг и защитник угнетенных, знаменосец международного социализма — таким уходишь ты на каторгу, и любовь сотен тысяч людей в Германии, во всех странах провожает тебя на этом мученическом пути. На железную дверь, за которой ты исчезаешь, будут обращены взгляды сотен тысяч, чтобы почерпнуть у тебя силу, мужество и воодушевление… Мы знаем тебя, мы знаем, что ты выдержишь. Ты гордо перенесешь все мучения и вернешься к нам, исполненный все той же юношеской энергии».
В тот день, когда был оглашен приговор высшего суда над Карлом Либкнехтом, Роза Люксембург из тюрьмы послала письмо жене своего друга.
Она писала Софье, что потрясена исходом дела, что ей так хотелось бы быть сейчас с Соней, она уговаривала ее уехать куда-нибудь на природу, где за ней будут ухаживать, потому что она, должно быть, совсем выбилась из сил. Она мечтала — Роза всегда была мечтательницей! — о том, как будущей весной «мы будем бродить все вместе по полям и по Ботаническому саду..».
Будущей весной она все еще сидела во Вронке и с тоской вспоминала в письме к Софье Либкнехт, как «в прошлом году в апреле я как-то срочно вызвала вас обоих в Ботанический сад, чтобы послушать со мною соловья, который давал целый концерт. Мы тихо сидели, спрятавшись в густом кустарнике на камнях у маленького проточного пруда; но после соловья мы внезапно услышали однозвучный жалобный крик, который звучал приблизительно так: «глиглиглиглиглик». Я сказала, что это звучит, как крик какой-нибудь болотной или водяной птицы, Карл согласился со мной, но мы абсолютно не могли установить, что это за птица. Подумайте только, тот же самый жалобный крик я услышала здесь, вблизи, несколько дней тому назад, рано утром; у меня сердце билось от нетерпения поскорей узнать, что это за птица..»
Кто бы мог подумать, что эти строки писала женщина-спартаковка, одна из самых пламенных революционерок, каких знала история революционного движения, единственный в Германии борец за свободу, который мог бы выдержать сравнение с Карлом Либкнехтом?! И кто бы мог думать, что та же рука писала в другом письме: «Я все же надеюсь умереть на посту: в уличной битве или исправительной тюрьме..»
Либкнехт подал кассационную жалобу в имперский военный суд. Последняя инстанция — после нее надеяться больше не на что.
Впрочем, он и не надеялся на смягчение приговора, заранее зная, что имперский суд ничем не лучше окружного военного и что для него тут отдушины быть не может. Он предвидел результаты — приговор остался в силе.
Еще в сентябре за полтора месяца до того, как он стал узником каторжной тюрьмы, он написал социал-демократической организации своего избирательного округа нечто вроде политического завещания:
«…На мой взгляд, исключено, чтобы мне снизили наказание. Следовательно, через несколько недель мой депутатский мандат потеряет силу — примерно в середине октября состоится судебное заседание.
Вы выставите нового кандидата, так же разделяющего пролетарские убеждения, как и я. Это настолько вопрос политической чести, что я воспринял бы малейшее сомнение как тяжелую обиду для товарищей, с которыми так много лет стоял плечом к плечу и которые оказали мне доверие, послав в парламент.
Надеюсь, вы позволите мне в эту минуту, когда я прощаюсь с вами надолго — не навсегда, выразить свое мнение и пожелания по поводу подходящего для этой роли человека.
В первую очередь я предлагаю товарища д-ра Франца Меринга, блестящего писателя и ученого, — любые слова о достоинствах его, как политика, прозвучат здесь пошлостью..
Меринг сидит уже месяц, месяц как «содержится под арестом» у г-на фон Кесселя — моего судьи — в берлинской городской тюрьме. Через несколько недель он предстанет перед судом по делу, возбужденному в связи с № 1 журнала «Интернационал». Тем самым выдвижение его кандидатуры явится важной демонстрацией, выражением симпатии отважному седому бойцу и протестом против гнусностей военной диктатуры.
…Надеюсь, наши точки зрения совпадут, желаю удачи в будущих тяжелых боях, в которых — хочу думать — скоро вновь приму участие; благодарю всех друзей и товарищей и приветствую от всего сердца…»
А месяц спустя он писал жене: «…через две недели мое дело окончательно решится, — другими словами, мы должны за эти четырнадцать дней сделать все, что необходимо. Затем — конец.
Я хочу видеть только тебя и детей… В предпоследний раз…
Будь философом! Что такое четыре года! Будь бодрой, и все, даже самое важное, станет пустяком по сравнению с вечностью не только общечеловеческой, но и личной жизни…»
И перед самым отъездом из следственной тюрьмы в каторжную: «…Встань смелее на другую точку зрения и взгляни на мир иными глазами. Теперь ты смотришь на него, как на неправильно повешенную картину… Будь бодрой!»
Она старалась. Старалась быть бодрой, чтобы дети не видели горя на ее лице, в ее глазах. Чаще других в эти глаза заглядывала десятилетняя Вера. Ласковое, любящее, веселое существо, заимствовавшее у своего отца и деда жизнерадостность, легкий характер и остроумие.
Казалось, именно на Веру арест отца не произвел особого впечатления. Быть может, она просто умела не по-детски скрывать свои переживания? Быть может, знала и понимала больше, чем показывала окружающим?
Очень скоро ее понимание и жажда быть полезной сказались в действии: она приняла на свои детские плечи немалую нагрузку и отлично справлялась с ней.
Она была весела и старалась веселить других: она была, как всегда, нежна с мачехой — которую, впрочем, называла «мама»; она несколько раз ездила со своими братьями и матерью к отцу, в Люкау, спокойная, естественно-любопытная, ненавязчивая.
…Люкау. Городок в прусской провинции Бранденбург. Знаменит своей исправительной тюрьмой.
Карла Либкнехта доставили сюда тайком. В пятницу, 8 декабря, в 8 часов утра его привели на Антгальский вокзал. Тихий, пустынный в этот час. Ни одна посторонняя душа не знала, в какой день Либкнехт будет отправлен из Берлина. Ему самому оказали об этом лишь накануне, в четверг вечером, как раз когда на душе у него было тяжело и тревожно: в этот последний приемный день в берлинской тюрьме Софья не пришла — как ему объяснили, она заболела.
В таком тягостном состоянии покинул Карл Либкнехт столицу.
В 10 часов утра он уже был в Люкау. Несколько минут пешком от вокзала и — второй раз в жизни он очутился за тюремной решеткой в качестве узника. Только на сей раз это была тюрьма каторжная, исправительная, и крепость в Глаце казалась по сравнению с ней землей обетованной.
Смятенный, вошел он в камеру. Машинально прикоснулся ладонью к грязно-голубой изразцовой печи, такой неожиданной здесь. Ледяной холод давно остывшего камня ожег руку. Он отдернул ее и огляделся.
Стол, стул, умывальник. Высоко под потолком жалкая перетянутая решеткой щель окна.
Здесь ему жить четыре года. Жить?!
Он быстро подсчитал в уме, сколько это составляет дней, вычел те, что уже просидел, осталось 1422. Осталось?!
Внезапно он почувствовал давно позабытую слабость — как тогда, в окопах. Он присел на жесткую койку и тут же вскочил.
Нет! Не сдаваться! Выстоять! Не терять бодрости! Быть в форме… Он заставил себя пройти несколько шагов — ноги не подкашивались больше. Тогда он зашагал по камере — от окна к двери и обратно. Подходя к окну, задирал голову — где-то там, вдалеке, висел кусочек серого неба. В камере стелился сумеречный свет. «Приспособлюсь! Небо они все-таки не могут у меня отнять…» — подумал он, и мысли внезапно потекли ритмичные, музыкальные.
У него не было ни карандаша, ни клочка бумаги. Только через несколько дней записал он возникшие тогда стихи:
Лишили меня вы земли, но отнять вы не можете небо, — И пусть хоть полоска одна утешает мой взор Сквозь прутья решетки, Зажатые крепко стеной, — Вполне я доволен: Я вижу лазури отрадную даль, Откуда сияющий день мне украдкою свет посылает Иль птички случайная трель Каскадом внезапно прольется Мне хватит полоски одной, Чтоб черного видеть грача-болтуна, Товарища жизни тюремной моей, Иль тучки бегущей причудливый край Да, пусть это будет одна хоть полоска, — Но прошлою ночью мелькала мне в ней Царицею мира из дальней вселенной Одна из прекраснейших звезд. В моем каземате она мне сияла Теплее, светлее и ярче, чем вам, Живущим на воле, и след раскаленный Она начертала во взоре моем Лишили меня вы земли, но отнять вы не можете небо, — И пусть хоть полоска одна утешает мой взор Сквозь прутья железной решетки, — Она даже тело мое Порывами вольной души насыщает, И ныне свободней я вас, Мечтающих кельей тюремной И цепью острожной меня погубить.Глава 10 Непримиримый
Без четверти пять утра. Оконная щель открыта, холодный ветер гуляет по камере. Великолепная изразцовая печь — бутафория: ее никогда не топят, да, верно, и не топили ни разу с тех пор, как стоит на земле эта тюрьма.
Полуголый Либкнехт, синий от холода, с побледневшими, плотно сжатыми губами, мокрым серым полотенцем, едва двигая руками, растирает тело. Несколько сильных движений, и кожа становится сначала розовой, потом краснеет, губы утрачивают смертельную бледность.
Наконец полотенце сжато в комок и летит через всю камеру в умывальный таз. Либкнехт становится в позицию.
Раз, два, три… пятнадцать… двадцать… шестьдесят. Руки вперед — руки назад, вперед, назад, вперед, назад…
Раз, два, три… восемь… девятнадцать, двадцать. Поворот головы вправо, влево, наклон вперед, назад…
Шестьдесят движений плечами, столько же — корпусом.
И, наконец, «прогулка» по камере: шестнадцать маленьких шажков к двери, столько же к окну, всего — четыреста шагов.
Утренняя порция гимнастики закончена.
«…В течение дня я многократно проделываю у открытого окна гимнастические упражнения, каждое утро — холодные обтирания, а каждый вечер — растирание тела; таким способом всего легче справиться с опасностями тюремного заключения для организма… — отчитывается он в письме к жене, успокаивая ее по поводу своего самочувствия. — …К тому же я работаю стоя. Одним словом, забочусь, чтобы моя кровь циркулировала беспрерывно, чтобы нервы и жилы не ржавели, чтобы каждая калория питательных веществ была использована и попадала на надлежащее место. Таким образом, я выдержу, что бы меня ни ожидало».
Выдержать — это лозунг на ближайшие годы. И как всегда, будучи на свободе, он неукоснительно выполнял все свои решения, так и здесь, в каторжной тюрьме, он ни разу не отступил от них.
Между тем «питательных калорий» не хватало. Отвратительная на вкус, скудная пища так и просилась в умывальный таз. Но он и тут заставлял себя съедать все до последней капли именуемой супом бурды, до последней крошки каменно-жесткого хлеба. Месяцами не получал он ни крупинки соли и страдал от этого куда больше, чем от отсутствия сладостей, хотя и был страшным сластеной.
Он жил без света и тепла — в камере даже летом всегда было зябко и сыро; он страдал от отсутствия книг и газет; и все это было ничем по сравнению с главным — нечеловечески трудными были для него одиночество и вынужденная пассивность.
Он — мучительно переносил неволю, как ни бодрился в письмах перед близкими, нет-нет — прорвется в письме тоскливая фраза: «Моя голова полна мыслей, а сердце готово разорваться…», «О, если бы я мог очутиться на воле и работать!», «Иногда, на одно мгновение, в поле моего зрения пропорхнет маленький друг, но, когда я плотно прижимаюсь к решетке, чтобы его увидеть, я различаю лишь одну-две ветки. Болтовни галок уже больше не слыхать…»
«Хотя я нахожусь в положении чижа в клетке, рыбы в аквариуме, охотничьего сокола на цепочке… тем не менее о смерти я еще не думаю». «Я пишу это письмо в полном мраке… От фонаря снаружи ко мне сквозь окно падает лишь узкая полоска света, ослабляемая к тому же плотной сетью тюремной решетки». «О, если б находиться теперь на воле! Я готов биться головой о стены’..»
Он считал дни, оставшиеся до 3 ноября 1920 года — дата, когда кончался срок его заключения. То и дело в письмах (все они, написанные из Люкау жене и детям, к счастью, сохранились) встречаются пометки: «Уже 22 месяца я сижу взаперти в клетке»; «219-й день заключения»; «1/6,666… срока заключения»; «сегодня минуло 100 дней из 1460»; «до 3 ноября 1920 года осталось 1215 дней»…
Для человека, подобного Карлу Либкнехту, нет худшего несчастья, чем неволя, бездеятельность, изолированность от внешнего мира, от людей. Роза Люксембург в одном из своих писем из тюрьмы писала о нем:
«Этот бедняга всегда ведь жил галопом, в вечной суете, спеша на свидание со всем светом, на заседания, в комиссии, всегда окруженный пакетами и газетами, с карманами, полными записных книжек, прыгая из автомобиля в трамвай, из трамвая в железнодорожный вагон, с душой и телом, покрытыми уличной пылью… Это был его жанр, хотя этот человек, как немногие, был в душе глубоко поэтической натурой и мог радоваться, как дитя, каждому цветку. Я заставила его пару раз пойти со мной погулять и немного насладиться весной. Как он жил при этом! А теперь передо мной его портрет — у Сони явилась блестящая идея подарить мне его в день рождения, — и сердце мое судорожно сжимается от боли каждый раз, когда я смотрю на него…»
А он в это же время писал жене: «Десятки лет я хотел бы учиться, не поднимая головы, и вместе с тем свободно предаваться неустанной деятельности».
«Свободно» он предавался… сапожным заготовкам. Да и то вскоре: «Мой сапожник предложил мне работать быстрее, угрожая в противном случае отнять у меня закройку, которая во многих отношениях все-таки очень для меня удобна и приятна…»
Но и этой «приятной» работе пришел конец — в тюрьмах упразднили сапожное ремесло, должно быть, как раз потому, что для заключенных оно было чем-то удобно. Карл Либкнехт перешел на изготовление… бумажных кульков. Изнурительный, отупляющий труд — тысяча кульков в день! «Клея кульки, я усердно считаю: раз-два-три, раз-два-три, стараясь таким образом себя подзадорить и развлечь..» Так изо дня в день, с шести утра до восьми вечера. И когда, наконец, Софье Борисовне удалось получить для него разрешение, о котором он страстно мечтал, — разрешение на книги, — он с болью пишет ей: «Для чтения у меня теперь совсем мало времени… но вечера становятся более длинными, и я использую их по мере сил: я охвачен такой жаждой, что выпил бы, кажется, море».
Длинные вечера продолжались недолго — вместе с ушедшим летом ушло и вечернее солнце, и Либкнехту приходилось читать, стоя у самого окна, сквозь решетки которого пробивались косые лучи уличного фонаря. А потом не стало ни солнца, ни фонаря. «Здесь большие перемены: для экономии света и топлива очищен наш «монастырь». Вот уже восемнадцать дней, как я помещаюсь в № 45 так называемого изоляционного флигеля — большого кирпичного дома, напротив монастыря, с окнами не на юг, как раньше, а на север. Камера намного теснее… с обыкновенной тюремной форточкой для проветривания. Я вижу из нее небо, а вечером и ночью звезды».
И вопреки всему Карл Либкнехт остался самим собой и здесь, в Люкау!
Люкау. Не просто городок в прусской провинции Бранденбург. Люкау не только исправительная тюрьма, которой знаменит городок. Люкау — это этап в жизни Карла Либкнехта, большой, необычный, чрезвычайно насыщенный этап.
Колоссальная воля, твердость в принятых решениях, необычайная целеустремленность, уменье владеть любыми проявлениями своей натуры в любых условиях, редкая многосторонность, огромное обаяние и лиричность, поэтическая одаренность — все это сконцентрировалось в одинокой камере каземата и проявилось с ослепительной яркостью.
Даже его талант воспитателя расцвел тут с необычайной силой. По одним только письмам из тюрьмы к жене и детям можно было бы создать «педагогическую поэму».
Находясь в заключении, он оставался советчиком и другом своих детей, их воспитателем и старшим товарищем. У него было свойство, присущее только очень одаренным педагогам: он умел уважать в ребенке личность, говорил со своими детьми, как с равными. Он внушал им истины ненавязчиво, но убежденно, и только те, в которые сам свято верил.
Трое детей. И все разные, каждый со своими сложностями, все требуют напряженного внимания к себе. И он, в своем тюремном далеке, оставался для них таким же близким, как дома, в Берлине.
Гельми — пятнадцатилетний человек, мечущийся и увлекающийся, резкий в своих суждениях, склонный к аналитическому подходу к любым событиям, трудно переносящий свой переходный возраст.
Роберт — прямой, искренний и честный, не желающий ни в чем кривить душой, не способный лицемерить. Юный натуралист, каким в детстве был отец, подающий надежды маленький художник. Страдающий от травли, которой его подвергали в школе, умалчивающий о ней из боязни оскорбить отца. Принципиальный и целеустремленный.
Вера — существо куда более сложное, чем это выглядит по внешнему поведению, любопытная и любознательная, уравновешенная и жизнерадостная, но «закованная в панцирь скрытности».
Мальчики попали в сложный переплет. В гимназии у Роберта была выделена группа учеников — среди них и Роберт, — которая должна была приветствовать императора. Такого рода «доверие» претило Роберту, он не желал выражать верноподданнических чувств кайзеру, которого не мог уважать; и мальчик наотрез отказался участвовать в церемонии. Тогда ему предъявили ультиматум: либо, невзирая на убеждения, принимать участие во всех выступлениях гимназии, либо оставить ее.
Гельми травили в гимназии так же, как некогда его отца; таково было свойство фамилии Либкнехт — вызывать ненависть и издевательства со стороны благонамеренных родителей и их детей. От обоих сыновей Карла требовали тупой покорности, компромиссов со своей совестью, лицемерия — всего того, что они — дети Карла и внуки Вильгельма Либкнехта — с детства ненавидели.
«Посещение классов, каникулы и прочие школьные дни превратились в непрерывную цепь неприятностей и унижений… — писал Либкнехт жене. — Насильно и постоянно навязываемое им лицемерие — глубочайшая безнравственность».
Почти нет ни одного письма из Люкау, в котором не упоминались бы дети, не сквозила бы тревога о них, не содержалось бы совета об их учении или воспитании.
Сильнее тревожил Гельми — его возраст, становление характера, его суждения и формирующееся мировоззрение требовали безотлагательного постоянного руководства Ученье по обязательной гимназической программе казалось ему скучным и неинтересным, он не терпел никакого насилия над своей личностью, сопротивлялся дисциплине, рвался к свободе, понимая ее довольно анархически.
Письма к Гельми и о нем тактичны и нежны, полны понимания психики мальчика и его запросов.
«Гельми должен стать сильным человеком, — пишет Либкнехт жене, — скажи ему, что он должен смелее идти вперед, завоевывать мир и что только сильные побеждают пессимизм. Борьба, а вместе с ней настойчивость и гордость, что бы ни случилось!» «Не думай, что я не понимаю тебя и твоего теперешнего состояния, — это письмо к Гельми, — почки раскрываются, природа оживает, рвется наружу, переливается через край, ищет себе выхода и, зарождая в душе смутное предчувствие счастья, вместе с тем угнетает и мучит, человек чувствует, что громадная задача его силам не по плечу. Пробираясь ощупью из мрака к свету, погружаешься все глубже в тьму, пока не поймешь относительность всякого человеческого знания. В то же время пробуждаются и другие стремления: желание не только понять мир или часть его, но также овладеть им, завоевать его; шевелятся первые зародыши тайного, глубокого до самозабвения чувства, называемого любовью.
И посреди всего этого стоишь ты, малыш, — стоишь теперь без меня, а ведь я мог бы указать тебе выход из лабиринта, предостеречь тебя от блуждающих огней… Никто не требует от тебя выполнения чего-либо необычайного. Ты должен только — и это долг каждого человека по отношению к самому себе и к другим — развивать по мере возможности твои силы и пользоваться настойчиво и умно тем талантом, который в тебе заложен…» Дальше, в ответ на то, что «школа скучна», идет такая ода наукам, такой гимн филологии и литературе, такое преклонение перед естествознанием, что, если бы все школьные учителя хоть на сотую долю умели так раскрывать чудеса познания, ни один человек в мире никогда бы не подумал, что школьные занятия могут быть скучны. Одновременно этим письмом он вводит сына в историю культуры, науки, искусства и литературы, раскрывает содержание некоторых книг, да тай, что теперь уже невозможно не прочесть их. И тут же, уважая мальчика, не желая ничего ему навязывать вопреки его воле, потому что проявление воли — главное в становлении человека, он пишет: «Ты не должен, однако, отбрасывать в сторону свои сомнения. Не надо слепо следовать моим словам. Ты должен все переработать с самого основания, для самого себя — все побороть». С удовольствием узнает он из писем сына, как разносторонни его интересы, и задумывается над тем, что Гельми вовсе не примитивно плохой ученик — просто он много внимания уделяет одним предметам — любимым, отчего другие терпят ущерб. И пишет: «Твоя жизнь должна быть и будет борьбой и трудом. Но именно в этом будет заключаться твое счастье…» И в другом письме: «Война и многообразное несовершенство мира тебя мучат и печалят. Без сомнения, они должны омрачать каждого из нас Но из этого мрака есть спасительный выход, правда, только один твердая решимость сделать целью своей жизни устранение существующих зол. Не должно быть жизни, предоставляющей всему идти так, как оно идет, возможна только такая, которая готова пожертвовать собой за других».
Поучения? В устах любого другого отца, быть может, да Но эти слова писал Карл Либкнехт, и это не были чисто академические рассуждения — он как бы звал сына следовать за собой, хорошо зная, что ждет их обоих в конце пути.
Либкнехт, приложив к тому немалые усилия, добился от начальника тюрьмы разрешения на внеочередное свидание с сыном, обещания, что им дадут поговорить наедине.
После этой беседы он пришел к выводу, и Гель-ми и Роберта надо забирать из гимназии — пусть учатся дома Но окончательное решение столь важного вопроса он предоставляет жене: «обучение в школе является в настоящее время бесполезным, если не вредным, раз оно противоположно своему назначению, т е. выработке в ребенке духа и характера… Решай, как знаешь Если вышеизложенное убедительно, то скажи Гельми «да» и вручи ему прилагаемое письмо Если же ты останешься при своем мнении, то окажи ему «нет» и письма не давай».
Жена. В стихах, посвященных ей, он называет ее своим вторым «я». Он пишет — никто так не понимает его, как она, никому не может он доверить самое для себя важное — только ей, нет человека, который так хорошо улавливал бы его мысли, едва только он сам успевает осознать их — кроме нее.
Удивительные отношения связывали этих двух, в сущности, таких разных людей Письма Либкнехта к жене полны и нежностью, и преклонением, и желанием заслонить собой, своим неиссякаемым оптимизмом от горестей и бед, стремлением передать ей хоть чуточку собственной сопротивляемости всяческим ударам, которые так и сыпались на ее голову за эти короткие годы брака. И вместе с тем доверие, большое доверие человека человеку, в вещах, которые Либкнехт ставил превыше всего, — в работе, имеющей политический смысл.
«…Именно ты можешь теперь помочь мне». «Ты много сделала — я имею в виду наши дела, о которых ты пишешь». «…Вы не должны забывать обеспечивать их (молодежь) хорошей литературой, особенно теперь. Ты же знаешь, и вы все знаете, насколько я принимаю это близко к сердцу. Именно об этом я думаю особенно часто».
В расшифрованном чтении это значило, что необходимо издавать журнал для юношества и что дело это должны взять в свои руки оставшиеся на свободе спартаковцы. У Либкнехта не было сомнений, что жена поймет любые его иносказания. Он пишет ей о «простуде» — она знает, что речь идет о политических демонстрациях; он пишет «гимнастика» — она читает «политические выступления».
Он пишет: «Что касается порядка библиотеки…я придаю ей чрезвычайное значение; никто, кроме тебя и меня, не может понять, что в настоящее время ее содержание важнее, чем когда-либо». «Библиотека» — это сборник материалов по его процессу — его речи, его запросы и объяснения суду, следственные материалы, которые удалось достать, и т. д. Он полагает чрезвычайно важным опубликовать все это в книге (такая книга «Мой судебный процесс» была издана, когда он находился еще в тюрьме), чтобы именно теперь, во время войны, вся закулисная, вся мерзкая история его суда, все разоблачения стали бы известны народу.
«Не позволяй никому вмешиваться, — пишет он, — только ты знаешь, как и что. Я доверяю только тебе».
Она должна была раздобыть — и раздобыла — некоторые недостающие документы и другие материалы, она должна была по его указаниям подготовить книгу к изданию. Она все это сделала. Книга, как и предвидел Либкнехт, имела большой резонанс— это была отличная документальная пропаганда против войны, против юнкерско-кайзеровского правительства Германии, против предателей и изменников из парламента и руководства социал-демократической партии. Одна книга стоила сотни речей и докладов — это была пропаганда фактами, голыми, наглядными, и касалась она такого популярного в народе человека, каким был Карл Либкнехт.
Была и еще немаловажная работа, которую Либкнехт доверил жене и которую вместе с ней отчасти выполняли и дети.
Энергичный и неунывающий, полный самых разнообразных познаний, общительный и мягкий, веселый и мужественный, Либкнехт вскоре снискал симпатии даже своих тюремщиков. Не устоял перед его обаянием — и перед настойчивостью Софьи! — и сам начальник тюрьмы: он разрешил ему то, чего почти никому из заключенных не позволял, — собственное освещение и получение газет.
Как умел радоваться Карл! Как счастлив был, что день для него продлился, наконец, на несколько часов! Он не должен был больше писать «почти наугад», он мог читать книги и газеты далеко за полночь и действительно набросился на них, как голодающий на хлеб.
Жена регулярно присылала в тюрьму «Дейтшен Тагесцейтунг» и еженедельное приложение к ней — «Берлинер Тагеблатс». Приложение Либкнехт отправлял затем обратно. По разработанной им системе, на определенных страницах он подчеркивал определенные буквы. Их надо было найти, выписать и прочитать те фразы, которые должны были обойти тюремную цензуру.
Как только газетное приложение возвращалось домой, его тут же расшифровывали. Кто? Роберт и Вера. Вера делала это быстрей и лучше, чем брат и даже чем сама Софья.
«Спокойно, не сказав ни слова, — вспоминала Софья Борисовна, — брала она приложение и уходила на маленький балкончик в спальной комнате. Там она оставалась до тех пор, пока не расшифровывала все».
И под пальцами десятилетней девочки на листках школьных тетрадей возникали наброски обращений, статей и прокламаций, написанные узником. Потом все это Софья передавала товарищам-спартаковцам, и те использовали кропотливый труд Либкнехта для пропаганды.
Либкнехт очень деятелен в эти бесконечно тянущиеся тюремные годы. Он старается по мере возможности заниматься тем, чем занимался на воле. Возможностей мало, но он предельно использует их. Жена выполняет множество его поручений. Подчас он бывает чересчур требователен к ней, когда речь идет о деловом поручении, но тут же приносит тысячу извинений за свою требовательность.
Первое свидание за решеткой состоялось 8 января 1917 года. Потрясение, которое испытала при этом Софья Либкнехт, не с чем было сравнить. Он стоял по ту сторону «клетки», а по эту были она, дети и надзиратель. Как он ни бодрился, она и, может быть, только она одна, прочла на его лице такую тоску, что, не выдержав, разрыдалась. Очень бледный — как у всех смуглых людей, лицо его было не белым, а серым, — очень исхудавший, в арестантском костюме, который был ему широк, с голодным блеском в глазах. Голодным не только потому, что в тюрьме донимал физический голод, — мучил голод по воле. И эта остриженная наголо голова, на которой еще недавно так красиво вились черные как смоль волосы.
Она задрожала, а дети испуганно прижались к ней. И разговор получился не таким, как надо было, чтобы поддержать в нем дух, о чем она и мечтала, когда ехала сюда. В нем поддержать дух? Все было наоборот — это он всячески старался подбодрить ее; он написал ей вслед за тягостным свиданием нежное, заботливое письмо: «Что страшного в этой решетке? Чем может она нам повредить — мне, тебе, детям? Какая разница между ней и тюрьмой или стриженой головой?.. Я убежден, что при следующих посещениях эти огорчившие вас подробности перестанут вас угнетать… Итак, не унывай! Вы все держались до сих пор молодцами, и я этим гордился. Не теряйте же этого настроения. А когда станет тяжело, стисните зубы, и все, все будет хорошо, все пойдет лучше и скорее, чем кажется». «Дитя мое, меня часто берет сомнение — достаточно ли ты закалена, чтобы противостоять этим ежедневным нападкам (в прессе) на все то великое, благородное и святое, что отличает наше время; достаточно ли ты сильна, чтобы переносить изо дня в день торжество трусов, ничтожеств, скотов и лакеев, чтобы терпеть все низкое и жалкое. Теперь это самое трудное. Но я уверен, что ты не обнаружишь слабости… Логический анализ событий, их причин и следствий служит в этом отношении лучшей опорой, ибо он переводит нас из бурной атмосферы действующих страстей в спокойный круг разумного созерцания».
«…Меня особенно интересуют условия развития так называемых идеологий, — пишет он в другом письме, — например, искусства, в том числе, конечно, и живописи. От того времени, когда ты сдавала свой докторский- экзамен, у меня осталось дилетантское воспоминание о развитии перспективы трехмерного пространства из перспективы двухмерных плоскостей — византийской живописи. Вот, следовательно, тема, которую я намечаю для тебя на особой записке…» Он, не задумываясь, прибегал к помощи жены. И не только потому, что она была искусствоведом, и не только потому, что была культурным и всесторонне развитым человеком; главным образом потому, что она была так духовно близка ему, так едина с ним, что только она и могла помочь ему, если уж он, сидя в тюрьме, вынужден был прибегать к чьей бы то ни было помощи.
Это не значит, что Софья Либкнехт была такой же революционеркой и социалисткой, как ее муж. Нет. Карл даже называл ее самым аполитичным существом; и действительно, она многого не понимала в политике, мало разбиралась в социальных законах, она способна была задать детски наивный вопрос в письме к Розе Люксембург: «Каким образом одни люди могут распоряжаться другими людьми? К чему все это?» Роза «при чтении громко расхохоталась» и ответила с иронической нежностью, как отвечают малому несмышленому ребенку, который, однако, способен понять многое, недоступное взрослым: «Птичка моя, вся культурная история человечества, которая, по скромным оценкам, продолжается уже двадцать тысячелетий с лишним, основана на том, «что одни люди распоряжаются другими людьми», что глубоко коренится в материальных условиях жизни».
И, несмотря на это, Софья во всем и всегда понимала Либкнехта. Свойство подлинной любви, для которой правота любимого есть объективная правда.
В связи с чем заинтересовали Карла Либкнехта «условия развития так называемых идеологий»?
— В предвоенные годы, — рассказывала мне Софья Борисовна Либкнехт, — мой муж не раз говорил о своей начатой в Глаце работе «Законы общественного развития». Материал к этой книге, хранившийся в пяти пакетах, привезенных из Глаца, он крайне редко брал в руки в свободные часы, которых у него почти никогда не было; но всегда он надеялся, что труд этот будет завершен и станет известен людям в законченном виде. В Люкау он вновь принялся за эту работу. Он получил разрешение работать несколько часов «для себя», потом мы добились возможности освещать камеру и доставлять ему некоторое количество книг из дому и из библиотеки. Почти в каждом письме он упоминает об этой работе… Но однажды он написал: «С моей главной работой произошла заминка. Основная ее часть, в первоначальном наброске, уже давно готова, но еще несколько хаотична. Теперь надо приводить ее в порядок, объединять, разрабатывать…»
У каждого человека — политика, пропагандиста, ученого, теоретика — есть затаенная душевная мечта, своя любимая работа, выходящая за рамки его обычных занятий, труд, в котором он максимально раскрывает себя, свое мировоззрение, свою идеологию. Постоянная занятость иной раз долгие годы мешает взяться, наконец, за такой труд, и его откладывают все дальше и дальше, на неопределенное время, и не всегда, не каждый успевает в течение жизни завершить его.
Таким заветным трудом были для Либкнехта «Законы общественного развития». Большой исследовательский философский труд человека, обладающего незаурядной эрудицией и острым аналитическим умом, писался на восемьдесят процентов по памяти. Тех пяти пакетов, которые удалось вывезти из Глаца, Либкнехт так и не смог получить в Люкау. Ему пришлось полагаться на свою фотографическую память и заново читать те книги, которыми можно было пользоваться, сидя в тюрьме.
«Заминка», о которой писал жене Либкнехт, произошла по вполне естественным причинам — огромный по замыслу исследовательский труд писался в немыслимых для творчества условиях. Холод, голод, полная духовная изоляция — с этим Либкнехт еще кое-как справился бы. Но задачи, поставленные исследователем, были так обширны и универсальны, а возможности пользоваться насущными справочными и другими источниками так ничтожны, что разработать полностью хоть одну какую-либо конкретную тему просто не было физической возможности. Ко всему Либкнехт лишен был даже настоящей информации о происходящих в мире событиях, полностью оторван от всей интеллектуальной жизни общества, был изолирован от почвы, куда уходил всеми своими корнями, — от жизни народа.
И все-таки некоторые главы ему удалось почти завершить. Другие же, пожалуй основные, разделы написаны небрежно, так, как может писать человек, «выкладывая» материал, уверенный, что впереди у него еще много времени, что он еще вернется к этому материалу и приведет его в законченный вид и с точки зрения содержания и с точки зрения стиля.
У Карла Либкнехта впереди не оказалось времени. Выйдя из тюрьмы, он сразу же возглавил ноябрьскую революцию в Германии, затем борьбу против предателей этой революции. А потом его не стало.
Жизнь Либкнехта оборвалась внезапно. И в такой момент, когда он и думать забыл о своей книге. Работа так и осталась незавершенной. Нельзя и не нужно подвергать ее критическому разбору. Можно говорить только о тех главах, которые ему удалось почти закончить, — о главах, выражающих эстетические взгляды Либкнехта.
Увидела ли эта книга свет? Да, она была опубликована в 1922 году в Мюнхене, под названием «Этюды о законах общественного развития». Подготовила ее к печати Софья Либкнехт, и это стоило ей немалых трудов.
Из этой книги на русский язык переведена только одна глава из четырех глав третьего раздела — «Отдельные явления культуры». Это раздел, посвященный религии, искусству, морали, политике.
Глава написана в форме трактата, состоящего из параграфов и пунктов. Речь идет о сущности и задачах искусства, о форме и создании формы, о своеобразии художественного изображения действительности, о трагикомическом, трагическом и комическом, о проблемах романа и драмы, о тенденциозности поэзии, о народе и искусстве. Когда читаешь эту главу, кажется, что написана она сегодня.
Вот как понимает Либкнехт смысл изобразительного искусства и место художника в жизни народа. Художник, который творит только для удовлетворения своего внутреннего стремления к творчеству, не может считаться художником — он своего рода «потребитель» искусства, а не его творец; творение художника, которое не способно воздействовать на общество, не может рассматриваться как произведение искусства; ибо искусство всегда — инструмент художника, всегда — средство воздействия на общество, сознает это или не сознает сам художник.
«Ни произведение искусства, ни художественное творчество не являются самоцелью» — вот основная мысль автора. Искусство должно активно вторгаться в жизнь, развивает он свою мысль, оно явление социальное по своему происхождению, задачам и целям.
Рассуждая о форме, Либкнехт пишет: «Форма без содержания, как понятие, немыслима. Форма только свойство содержания и неотделима от последнего: вернее, она само содержание, рассматриваемое в определенном плане, под определенным углом зрения».
В исследовании о тенденциозности поэзии он противопоставляет свои взгляды на поэта — поэта-борца, поэта — для общества — всем буржуазным и ревизионистским теориям, говорящим о независимости искусства и поэзии от политики и государства, от классовости и общества. Он выступает как новатор и провозвестник, утверждая, что изображение народа в литературе и живописи самая важная задача искусства; что искусство должно служить народу, создаваться для него и о нем.
Круг вопросов, затронутых в «Этюдах о законах общественного развития», поразительно многообразен: философия, право, литература, искусство, естествознание, экономика… И Либкнехт смотрит со страниц своей незаконченной книги в новом качестве: в качестве мыслителя, исследователя, страстного и увлеченного.
В его тюремном сундучке Софья Либкнехт обнаружила множество синих тетрадей и в них заметки, посвященные проблемам исторического материализма и литературоведения; праву наций на самоопределение и тактике революционного пролетариата; политическим партиям и политическим деятелям Германии; стачечной борьбе и вопросам естествознания.
Не верится, что письма о природе писал человек, проводивший дни в каторжном, отупляющем труде, не видевший ничего, кроме неба да нескольких звезд по ночам. А письма о музыке! Тонкий ценитель и знаток, сам неплохой пианист, он пишет о музыкальных произведениях с такой свободой и легкостью, как будто ничем иным, кроме музыковедения, не занимался всю жизнь. Он любил и отлично знал античных авторов и классиков немецкой, русской, английской, французской, итальянской литературы.
Маленькие синие тетрадки… Трогательно мелькают в них, среди политических, научных и прочих заметок, две даты, написанные синим карандашом, вкрапленные то в самый текст, то на еле заметную полоску чистых полей: 18 января и I октября. Даты свадьбы и дня рождения жены. В сутолоке жизни, по свойственной ему рассеянности, Либкнехт постоянно забывал эти даты и знал — жена воспринимает его забывчивость как невнимательность, знал, что ее это обижает.
Чтобы вдолбить себе в память эти даты, он постоянно писал их на всем, что попадалось под руку. Писал и в тюрьме. И все равно всякий раз, забывая о них, приходил в ужас и горько каялся…
В тюрьме он читал невероятно много — когда? Понять это невозможно! С шести утра до восьми вечера сначала сапожные заготовки, потом бумажные кульки, с восьми вечера — до какого часа? — огромная работа по «Этюдам», статьи, прокламации, воззвания. Когда же было еще и читать? Но он прочитал за годы заключения великое множество книг.
В тетрадках выписки из Гёте, Гомера, Шиллера, Шекспира. Он много занимался Лессингом и историей философии, историей Германии и всемирной историей, он читал поэтов; у Геббеля — автора «Нибелунгов» — нашел отличную, понравившуюся ему «житейскую» эпиграмму и тут же записал ее: «Легко помешать образованию болота, но раз оно образовалось, то никакой бог не может воспрепятствовать появлению в нем змей и гадов».
«Мои умственные занятия очень разнообразны. Недавно… я наткнулся на «Шварцвальдские деревенские рассказы» Ауэрбаха. Интересное знакомство составил для меня английский моралист Самюель Смайле, книгу которого «Долг» я здесь нашел…»
Он читал немецких поэтов и прозаиков, романтиков и критиков, драмы Клейста и народные сказания. Он читал Тика — прародителя немецкого романтизма — и Шекспира, разумеется, на английском языке. Он прочел Фонтане[7] и написал о нем: «…Это горькая пилюля для идиотов-националистов и для расовых фанатиков, которых Фонтане превосходно изображает в своем романе «Перед бурей»! ведь не только в жилах княжеских родов, говорит он, течет кровь всех европейских и нескольких азиатских народов, но и население Бранденбурга, этого «сердца Пруссии», равно как и восточной Эльбы и Саксонии, — почти чисто славянское (вендское), и притом снизу доверху, вплоть до высшей аристократии».
Он читал Достоевского, который «…снова произвел на меня подавляющее впечатление», и не в первый раз перечитывал «Одиссею».
Во многих письмах, когда он узнавал, что кто-либо из его детей собирается пойти в оперу, он давал полный музыкальный и идейный разбор произведения.
Ему много было отпущено судьбой, но та же судьба позаботилась, чтобы у него не было времени на использование всех ее даров; чтобы он воспользовался только тем, что стало для него самым главным, — способностью самозабвенно, самоотверженно бороться за освобождение рабочего класса.
Он был поэтом, стихи писались и посылались из Люкау жене отнюдь не для публикования. Трудно в подстрочном переводе вкусить прелесть и музыку его стихов, но достаточно ознакомиться с мыслями поэта, чтобы понять, что и в этой области он был более чем одарен:
О буря, мой товарищ, Твой слышу громкий зов! Но не могу ответить: Я все еще в цепях! Мой дух — такая ж буря, Он — часть тебя самой, — И снова день настанет, Когда я разобью Проклятые оковы И с ревом понесусь По вольному простору; Помчусь вокруг земли, Все страны облечу я, Обвею всех людей, Взметну сердца и души: Ведь, буря, я как ты.«Взметать сердца и души» — это он умел, даже находясь в тюрьме.
Он ценил теплое человеческое отношение, особенно дорого оно ему было в годы мучительного сидения в Люкау. Он был до слез тронут и по-мальчишески рад, когда в день рождения ему принесли в его темную, мрачную, холодную камеру кучу поздравительных писем, открыток и телеграмм.
Поздравления шли из самых разных мест, от самых разных людей и организаций. Счастливый, он сообщал в письме к жене: «…от семейства Цеткин, Адольфа Гофмана и друзей, профессора Радбруха, барышень Канторович-Левине, Оскара Кона и Отто Браке; затем — от Алисы, Гертруды и Тео (сводные сестры и старший брат), от Лу и Отто и их детей (семья другого брата), от Вимса и Курта (младшие братья) и, наконец, от вас… От А. Г. и нескольких единомышленников мне доставили две розы… Очень тронули меня также Пауль Гофман и та, не названная тобой особа, которая прислала мне вишневое варенье… Телеграмма Клары была для меня исключительно сердечной радостью; напиши ей об этом, поблагодари и передай мои пожелания».
Было еще одно поздравление, быть может, самое дорогое — открытка со штампом тюрьмы в Бреславле, от другой узницы — от Розы Люксембург: «Милый Карл!.. Я не сомневаюсь в том, что Вы крепки, бодры и веселы. Всего, всего хорошего. До свиданья в лучшие времена. Сердечный привет.
Роза Люксембург».
Никто из друзей и товарищей не забывал его. Он и сам почти в каждом письме передавал всем им приветы, он и сам был очень заботлив по отношению к тем, кто, как и он, страдал. Он справлялся о здоровье Клары Цеткин, которое его крайне беспокоило, постоянно просил жену «не забывать» Розу, заботиться о ней.
«Как поживает Роза? Видела ли ты ее последнее время? Каждый раз, когда ты у нее бываешь или пишешь, передавай сердечный привет от меня. Она должна быть здоровой».
А Роза Люксембург к тому времени, отбывая в тюрьме один срок наказания, получила, неведомо за что, дополнительный срок. И в третий раз ее перевезли в другую тюрьму, в другой город. Она писала оттуда Софье Либкнехт: «…Я, как Вы знаете, принимаю все превратности судьбы с необходимым веселым спокойствием духа». И тоже постоянно тревожилась: «Что Карл пишет? Когда Вы его снова увидите? Большой привет ему от меня…», «…Теперь уже год как Карл сидит в Люкау. В этом месяце я часто об этом думаю, и как раз год назад Вы были у меня в Вронке и подарили мне красивую елку…» А потом — строки, ставшие трагическими… Близился день рождения Софьи Либкнехт, Роза печалилась, что не может в этом году ничего подарить ей, — пришлось попросить приятельницу в Берлине купить букет орхидей от ее имени «Может быть, мне удастся по крайней мере в будущем году самой принести Вам цветов к этому дню и совершить с Вами прогулку в Ботанический сад и в поле».
День рождения Софьи Либкнехт — 18 января. «В будущем году», за три дня до этой даты, Роза Люксембург была зверски уничтожена…
1917 год. Никогда еще не было такого насыщенного событиями года! Событиями небывалыми в истории человечества: в России произошла революция.
Роза Люксембург писала из тюрьмы: «Я опасаюсь, что вы все недостаточно оцениваете, недостаточно глубоко воспринимаете тот факт, что там одерживает победы наше собственное дело…»
Клара Цеткин воспевала русскую революцию, как подвиг пролетариата, совершенный под руководством партии большевиков, несшей незапятнанное знамя социализма.
Карл Либкнехт неистово метался по тюремной камере.
«Газеты я мог просмотреть лишь поверхностно. Великий революционный процесс, и социальный и экономический, происходящий в России и охвативший ее от самых низов и до поверхности, процесс, выражением которого является политическая революция, затрагивающая весь строй государства и его правительственный механизм, этот процесс не только не завершается, а находится в самом начале, имея перед собой безграничные перспективы, гораздо большие, чем во время Великой французской революции. То, что я узнаю об этих событиях, до того отрывочно и поверхностно, что я должен довольствоваться догадками. Ни в чем не ощущаю я так сильно моей нынешней духовной изоляции, как в вопросе о России».
Горечь и боль оттого, что в такое время, когда вся душа его, весь его пыл революционера стремились к деятельности, он вынужден сидеть за решеткой, прорвались в нескольких фразах другого письма: «Я хотел бы прийти на помощь русской революции и миру, отдать им тысячи жизней, если бы они у меня были. Проклятое бессилье! Меня теснят со всех сторон стены…»
Начало русской революции, как искра надежды, вспыхнуло для измученного войной германского народа. То, что произошло в России, окончательно раскрыло глаза на «оборонительную войну против русского царизма». Теперь уже не было человека во всей Германии, который воочию не убедился бы, что все призывы правителей к «защите родины» — не что иное, как наглая шовинистическая ложь.
Немецкие рабочие приветствовали русскую революцию неслыханными до того времени массовыми забастовками — в одном только Берлине одновременно бастовали 300 тысяч человек. Мощные демонстрации требовали немедленного окончания войны. В день поминовения усопших в 1917 году в Берлине было прорвано кольцо полиции, блокировавшее подступы к центру города. Демонстранты на тысячи голосов кричали: «Да здравствует заключенный в тюрьме Либкнехт!», «Долой войну!», «Свободу политическим заключенным!»
А дальше? Дальше некому было повести рабочий класс — не было ни партии, ни народных вождей. Карл Либкнехт и Роза Люксембург — все, кто мог в те пылающие дни возглавить революционное движение пролетариата, были изолированы.
И все-таки имена их, их идеи сделали многое. Вслед за Берлином забастовали почти все крупные промышленные центры Германии; в Лейпциге был избран первый в стране рабочий совет.
Идеи нельзя посадить за решетку. Народ жил этими идеями, все больше и глубже понимал их. Перед глазами был живой пример, живое подтверждение правоты слов Либкнехта и Люксембург: русская революция доказала, что только в борьбе с буржуазией и кайзером можно завоевать мир. Первое слово, сказанное Советами в России, было слово «Мир!». Красное знамя, вспыхнувшее на русском фронте, неудержимо манило немецких солдат; это знамя стало символом доверия по обе стороны фронта.
Газета «Фольксблатт» писала: «Захват власти русским пролетариатом представляет собой самое мощное выступление за мир в условиях этой несказанно кровавой и разрушительной мировой войны… Дело пролетариата стало делом всеобщей революции, захват власти рабочим классом — это единственный возможный путь к миру. Принцип: немедленное предложение мира и немедленное перемирие составили зерно пролетарской политики, и она повела за собой народ… Таким образом, русский пролетариат расчищает путь к миру».
В ноябре 1917 года начались официальные переговоры с советской делегацией о перемирии. В феврале германское правительство снова бросило в наступление многие десятки тысяч солдат. Фронт был сломлен. За несколько дней немецкие войска оккупировали всю Латвию, Эстонию, значительную часть Украины и угрожали Петрограду.
23 февраля на заседании Центрального Комитета РСДРП (б) Ленин потребовал немедленного принятия немецких условий мира, сказав: «Если вы их не подпишете, то вы подпишете смертный приговор Советской власти через 3 недели».
И только 3 марта 1918 года на совершенно кабальных условиях для России был подписан мирный договор.
«Невероятно, неслыханно тяжело подписывать несчастный, безмерно тяжелый, бесконечно унизительный мир> — писал Ленин, — когда сильный становится на грудь слабому..» Но — «Уже просыпаются народы, уже слышат горячий призыв нашей революции, и мы скоро не будем одиноки, в нашу армию вольются пролетарские силы других стран».
Будущее подтвердило, что прав был Ленин, когда рассчитывал на помощь немецких пролетариев: через три дня после начала ноябрьской революции в Германии Брестский договор был отменен.
В январе 1918 года в Германии произошла вторая всеобщая стачка, охватившая более миллиона человек.
Стачку подавляли с двух концов: открыто против бастующих выступили полиция и войска — это было подавление извне; изнутри же, тайно, ряды стачечников разлагались социал-демократическими руководителями, с этой целью вошедшими в стачечные комитеты. Эти внутренние гнилостные бактерии были, пожалуй, поопасней и войск и полиции — грязные руки предателей неплохо поработали: правительству и военному суду они предали и тех, кто возглавлял стачку, и тех, кто в ней участвовал. Многие рабочие-революционеры попали в тюрьмы, большинство были признаны «годными» и снова возвращены в окопы, где их ждала смерть.
Бурную революционную вспышку снова задули.
Еще в сентябре предыдущего года группа революционных рабочих создала на предприятиях Берлина систему фабрично-заводских старост. После подавления январской стачки из всех старост и их комитета осталось не больше десяти человек. Но вскоре появились тысячи новых революционных рабочих. Организация крепла, но и контрреволюция не сложила оружия: предательство и аресты вновь и вновь опустошали ряды.
Германская социал-демократия широко пользовалась разгулом реакции — маскироваться уже было не к чему, терпеть оппозицию в своих рядах незачем. И все низовые организации, несогласные с правлением, были исключены из партии. Из этих исключенных создалась новая организация — независимая социал-демократическая партия Германии — НСДПГ.
«Группа Спартака» вошла в эту партию По многим причинам: немыслимо было больше оставаться в числе предателей социал-демократов; новая партия объединяла значительные массы пролетариев, разочаровавшихся в политике Шейдемана и его сподвижников; а главное — НСДПГ была детищем Каутского, и спартаковцы надеялись раскрыть перед членами партии оппортунистическую суть центризма, отколоть от него еще не разобравшихся в политике «независимцев», пролетариев.
7 октября, когда Либкнехт еще сидел в тюрьме, спартаковцы созвали общегерманскую конференцию «Группы Спартака» и бременской леворадикальной группы.
«Сегодня получено известие, — писал Ленин, — о том, что группа Спартак вместе с бременской леворадикальной группой предпринимает самые энергичные меры, чтобы способствовать созданию рабочих и солдатских Советов по всей Германии… Работа германской группы Спартак, которая вела систематическую революционную пропаганду в самых трудных условиях, действительно спасла честь германского социализма и германского пролетариата. Теперь наступает решительный час: быстро назревающая германская революция призывает группу Спартак к выполнению важнейших задач, и мы все твердо надеемся, что скоро германская социалистическая пролетарская республика нанесет решительный удар мировому империализму».
Очевидно, предвидели это и правящие классы Германии. «Ужас» русского примера стоял у них перед глазами. Срочно было создано новое правительство, возглавленное принцем Максом Баденским. Декорации сменились, но сюжет остался прежний. Обман продолжался: в псевдодемократическое правительство для виду были введены два социал-демократа — Эберт и Шейдеман.
Негодуя, Либкнехт писал из тюрьмы, обращаясь к германскому пролетариату: «Позволите ли вы провести себя? Русские рабочие совершенно правильно поступили, прогнав псевдосоциалиста Керенского ко всем чертям. Последуйте же их примеру!»
В растерянности думало новое правительство о том, как изменить политику, как сделать ее более гибкой, чтобы задержать надвигающуюся гибель.
Так возник приказ о политической амнистии.
До Софьи Либкнехт дошли слухи, будто в правительстве идут споры — распространять амнистию и на Карла Либкнехта или оставить его досиживать свой срок. Слышала она, будто склонились к тому, чтобы заменить ему каторжную тюрьму строгим домашним режимом.
Воспрянув духом, она написала мужу о возможности скорого освобождения.
«Твоя надежда на «освобождение» мне мало улыбается, — ответил он, — тебе хорошо известно, что я всегда посылал к чертям все, что похоже на амнистию, и что мне ненавистен поднимаемый в таких случаях шум. Или все, или ничего… будь стойкой, сильной и гордой; пусть будут враги вдесятеро многочисленней и опасней, мы все же будем вместе…»
И он продолжал свою работу — шифрованные или нешифрованные, тайком пересланные на волю воззвания, письма, обращения, в которых за последнее время он все чаще и настойчивей убеждал: наступила пора действовать, действовать и действовать! Так, как это сделали русские пролетарии.
Он писал об этом иносказательно в каждом письме к жене, зная, что она передаст его слова товарищам. И дважды она уже напоминала ему: все уже всё давно поняли, она давно передала все его требования, пусть перестанет беспокоиться.
«Ты мне выговариваешь, что я повторяю все одно и то же… — ответил он, — это настойчивые удары молота, пока гвоздь не будет крепко забит. Это — удары топора, пока дерево не упадет. Это — стук до тех пор, пока спящие не проснутся. Это — удары кнута, пока ленивые и трусы не восстанут и не начнут действовать…»
Лучше чем кто-либо другой знал он, как трудно сдвинуть с мертвой точки руководителей германского рабочего движения, как необорима их инертность и боязнь «крутых мер». Все свои надежды возлагал он исключительно на спартаковцев, на то, что они сыграют роль топора и кнута в партии «независим-цев».
То было его последнее письмо из тюрьмы. То было вообще его последнее письмо…
Он еще планировал свои дальнейшие свидания с женой и с родными; он еще расписывал, когда и кому сможет послать весточку в положенные тюремным кодексом дни; он еще размышлял, не снять ли жене комнату в Люкау, чтобы быть им поближе друг к Другу; он еще считал, сколько осталось до 3 ноября 1920 года.
А его уже ждала свобода. Недолгая, но такая бурная, такая полнокровная и насыщенная, что предложили бы ему на выбор — остаться в тюрьме еще на два года или снова пережить то, что он пережил за последующие три месяца, и потом погибнуть, — он наверняка выбрал бы последнее.
В правительстве и в самом деле шли дебаты — подвести под амнистию Либкнехта или не подводить? И, как ни странно, не кто другой, как Филипп Шейдеман, дал совет рейхсканцлеру принцу Баденскому освободить Либкнехта.
Странно? Нет, дальновидно. Шейдеман лучше других членов правительства видел неотвратимое приближение революции. В стране свирепствовал голод, германский пролетариат вплотную подошел к идеям русского переворота, война потерпела крах — надо было бросить народу «кус». Либкнехт-мученик, Либкнехт-каторжник был при такой обстановке куда более опасен, чем Либкнехт, находящийся на воле.
Шейдеман пояснил свою позицию, ничего не скрывая от коллег: если Либкнехт будет опасен отечеству, что мешает нам снова изолировать его?.. Если же Либкнехт останется в заключении, для миллионов рабочих амнистия превратится в ничто. И,незачем ее было затевать!
Совет Шейдемана показался разумным. Такой «кус», брошенный разгневанному народу, стоил многого. Приказ об освобождении Карла был подписан. Он получил свободу — не из рук правительства: из рук немецкого народа.
Утро последнего дня — 23 октября — началось как обычно: гимнастика, холодное обтирание, бумажные кульки. Приказ, подписанный накануне, до Люкау еще не дошел.
В 10 часов утра Софья Либкнехт с сыном Робертом — Веры и Гельми не было в Берлине, — с тремя близкими друзьями вышли из поезда на вокзале Люкау. Счастливая, ликующая, она почти бежала по улицам городка, и все ей казалось, что остальные идут слишком медленно.
Вот и тюрьма. Вот и начальник. Что? Ничего не знает? Как же так, ей еще вчера совершенно официально дали знать, что приказ подписан!..
Страх, отчаянье, а потом прилив бурной деятельности. Идут минуты, идут часы — это же украдено у его свободы! Телефонный звонок в канцелярию рейхсканцлера, в приемную министра юстиции, к полицей-президенту — никого нет на месте! Звонок в какое-то управление — оттуда ее переадресовали в другое управление; еще звонки и еще. И — господи, наконец-то! — через три часа напряженная телефонная борьба окончилась победой: кто-то из власть имущих неторопливо сказал: «Передайте трубку начальнику тюрьмы».
Начальник расплылся в улыбке, услышав приказ: Либкнехта освободить!
И вот, наконец, он здесь, перед ее глазами — уже не арестант, уже не узник: свободный человек. Человек, у которого было украдено два с половиной года жизни.
Скрывая волнение, он почему-то снял пенсне. И глаза, как у всех очень близоруких людей, тотчас приняли застенчивое, растерянное выражение. При виде этих глаз Софья Либкнехт, державшаяся до сих пор, расплакалась.
Он был очень худ, его смуглое лицо покрылось серой бледностью, веки покраснели от постоянного писания и чтения в темноте. Он дышал сдержанно, с опаской. Как долго голодавший человек боится проглотить, не жуя, первый кусок хлеба, так осторожно, вполгруди вдохнул он первый глоток осеннего воздуха, боясь захлебнуться.
Вот и пожитки — сундучок, книги, кружка, разные мелочи. И рукописи — синие тетрадки, — самое драгоценное для него.
Сундучок нес Роберт. Это было выражением самого большого доверия со стороны обожаемого отца: Либкнехт не променял бы все золото мира на то сокровище, что лежало в сундучке.
Он снова пытался шутить, потому что видел, как набегают слезы на глаза жены, потому что чувствовал, что и сам не может уже глотать подступающий к горлу ком.
Он умел сдерживать чувства, он был неисправимым оптимистом, любил жизнь, и нрав у него был веселый — и потому в конце концов он добился своего: счастливая улыбка озарила лицо той, что шла с ним рядом.
Платформа. Поезд Берлин.
Антгальский вокзал. Два года назад отсюда тайком увозили Либкнехта в каторжную тюрьму Люкау…
Глава 11 «И снова день настанет…»
Он не успел опустить ногу на ступеньку вагона, как чьи-то сильные руки подхватили его, и дальше он уже не ступал на землю. Его несли на руках, бережно и высоко, а под ним бушевало море людей — широкое, бурное, бескрайнее.
Его подняли так высоко, что даже полицейские, сидящие на лошадях, находились ниже его.
Его вознесли так высоко, как не возносили еще в Германии ни одного человека.
Встречать Либкнехта собрались задолго до прихода поезда. Не только простые люди — полицей-президент привлек для «встречи» множество конных и пеших полицейских. Агенты уголовного розыска шныряли среди демонстрантов.
Без четверти пять поползли вдруг слухи — не от агентов ли они исходили? — что поезд с Либкнехтом будет препровожден на Герлицкий вокзал.
На Герлицкий?! Но туда добираться не меньше часа! — затревожились в толпе.
Комитет спартаковцев направился к начальнику вокзала. Какой-то железнодорожный служащий остановил их, сказал тихо:
— Не верьте слухам, их распускают нарочно! «Они» хотят сорвать демонстрацию. «Они» хотят так же тайком привезти Либкнехта, как увезли его… Я точно знаю, что поезд будет здесь, на этом вокзале, и опоздает всего на десять минут.
По беспроволочному телеграфу — из уст в уста — было тотчас же передано: «Ждите, поезд прибудет с опозданием на десять минут».
Заволновавшаяся было толпа успокоилась. Зато беспокойство перешло к полиции — спешенные всадники быстро вскочили в седла, выхватили оружие и в полной боевой готовности выстроились в три цепи. Поняли, что маневр с Герлицким вокзалом провалился.
Внезапно на площади Аксани воцарилась гробовая тишина: солдаты на руках несли Либкнехта. Мгновение — и тишина взорвалась; многотысячное «Ура! Ура Либкнехту!» зазвенело над Берлином.
Его несли высоко над гарцевавшими на одном месте полицейскими. Вид у него был измученный, но счастливый и растроганно-изумленный.
Потом он что-то выкрикнул — трудно было разобрать что: даже его могучий голос не в силах был заглушить ликующие возгласы толпы. По людскому морю пробежала легкая волна и — цепи полицейских были начисто смяты.
Медленно, под крики толпы понесли его к Потсдамской площади, где два с половиной года назад он был арестован. И вся мощная демонстрация, заполнив улицы и переулки, двинулась следом. Самая мощная демонстрация после августа 1914 года.
На Потсдамской площади его поставили на телегу, и хозяин телеги, набрав полную грудь воздуха, трубно заорал:
— Молчите все! Либкнехт будет говорить!
Первые его слова были словами о русской революции. Пламенный призыв к народу — следовать примеру русских, бороться за победу пролетарской революции.
Среди демонстрантов было множество бывших солдат, еще не снявших фронтовые шинели. Когда Либкнехт договорил, они первые закричали те лозунги, которыми некогда, в 1916, он кончил свою речь на этой самой площади: «Долой правительство! Долой войну!» Только сегодня к этим словам они добавили еще два призыва: «Да здравствует революция! Ура России!»
И уже летела по проводам телеграмма из Москвы в адрес русского посла в Берлине Иоффе: «Передайте немедленно Карлу Либкнехту наш самый горячий привет. Освобождение из тюрьмы представителя революционных рабочих Германии есть знамение новой эпохи, эпохи победоносного социализма, которая открывается теперь и для Германии и для всего мира…
Ленин. Свердлов. Сталин».
Революционная процессия в Берлине двинулась с Потсдамской площади на Унтер-ден-Линден — к зданию советского посольства.
С крыльца здания Либкнехт крикнул: «Подымайтесь! Вперед на революционное дело! Ура грядущей Германии, братающейся с Советской Россией!»
И как только он исчез в дверях посольства, полиция бросилась на демонстрантов с обнаженными саблями. Словно при Либкнехте боялись бесчинствовать даже матерые полицейские волки, стянутые сюда со всех районов Берлина; словно понимали — одно его слово, и толпа ринется на них, вырвет из рук оружие, и — кто может знать, что будет тогда?!
Но Либкнехт ушел, и полицейские почувствовали себя вольготно. Свистели сабли, слышалась брань, ржали лошади, цокая копытами. Отступали невооруженные люди, очистилась улица. Но долго еще в городе, то тут, то там, шли демонстранты и выкрикивали революционные лозунги, неслыханные до сего времени в кайзеровской столице.
В советском посольстве был прием в честь Либкнехта. После приветствий ему вручили телеграмму, подписанную Лениным. Взволнованный, он несколько секунд не мог заговорить. Потом сказал:
— Двадцать четыре часа назад я сидел в тюремной камере, а сегодня нахожусь среди товарищей, в помещении, залитом светом, полном цветов и музыки… В эти часы моей свободы я только что успел просмотреть законы и декреты, созданные русской революцией за время ее существования… Это лучший путь к освобождению угнетенных классов, это идеальнейшая программа, которую когда-либо создавали угнетенные классы!
Его пригласили в Москву на празднование годовщины Октябрьской революции. С сожалением он отказался:
— Я знаю, что то были бы самые чудесные минуты в моей жизни! Но я нужнее здесь.
Здесь… Ни минуты отдыха, ни часа развлечений, минимум сна. Долгая неподвижность, вынужденное бездействие накопили в нем массу энергии, и запасы ее казались неисчерпаемыми. Вся воля сосредоточилась на одном — подготовке к революции. Вчерашний узник, он уже на следующий после освобождения день окунулся в привычную атмосферу партийного деятеля. То тут, то там появлялась его невысокая, как у мальчишки тонкая фигура. Непостижимым образом он возникал в разных концах города, казалось, в одно и то же время — только что его видели у входных ворот крупного завода в Веддинге, и в тот же час он оказывался на другом конце — в Панкове. Он беседовал с рабочими — очень важно было знать настроения берлинского пролетариата; он выступал на собраниях — с особенным вниманием прислушивался к тому, что говорят рабочие; он знакомился с организацией революционных старост.
Он возглавил подготовку к революции.
В Берлин в те дни вернулся Вильгельм Пик, и фронт спартаковцев усилился. Оба — и Либкнехт и Пик — инструктировали революционных старост: что необходимо сделать сейчас в первую очередь. Уговаривали, убеждали, доказывали, что пора отказаться от тактики заговорщиков — надо переходить к массовым выступлениям, к выступлениям политическим, к свержению правительства; открыто и активно требовать прекращения войны.
На заседании революционных старост 26 октября Либкнехт потребовал проведения массовой демонстрации не позднее чем через неделю. Вильгельм Пик настойчиво поддерживал его требование. Но руководство независимой партии (оно же руководство революционных старост) резко выступило против подобных мер. Эмиль Барт, видный деятель «независимцев», и его единомышленники в длинных речах доказывали необходимость саботировать подготовку революции. Либкнехт, предупредил, что дальнейшая оттяжка событий приведет к непоправимым последствиям — к движению постараются примкнуть социал-шовинисты, как они уже не раз это делали, и свести его на нет.
Либкнехт вышел победителем: революционные старосты приняли постановление об организации демонстрации берлинских рабочих 3 ноября. Постановление не было осуществлено.
В тот же день Либкнехт выступал еще на пяти собраниях; люди жаждали услышать его и терпеливо часами ждали его прихода, зная, что он должен добежать до них с другого конца города, с другого такого же собрания.
Газеты сообщали, что речи Либкнехта полностью выдержаны в «большевистском духе». Он и в самом деле призывал массы начать, наконец, действовать, он выдвигал лозунги свержения капиталистического строя, установления диктатуры пролетариата, социалистической республики. Это ли не было большевистским духом?
На Всегерманской конференции рабочей молодежи он говорил о необходимости вооруженного восстания, ссылался на опыт русской революции, призывал к созданию Советов рабочих и солдатских депутатов.
Как он все успевал?
Дни бежали, путаясь с ночами; суток не хватало; в неделю не укладывались все намеченные дела; он писал статьи, воззвания, резолюции; говорил, внушал, требовал, он спорил на заседаниях с «независимцами», предавал осмеянию их черепашью политику, клеймил их бездеятельность. Он весь был поглощен подготовкой революции, и в редкие, чрезвычайно редкие минуты одиноких раздумий бичевал себя за то, что мало делал, мало успевал, малых добился результатов.
Он торопился, словно знал, что жить ему — считанные недели…
31 октября он обратился к рабочим и солдатам стран Антанты с призывом поддержать Российскую Советскую Республику, выступить на борьбу против мирового империализма. Он писал в листовке: «…Друзья! Товарищи! Братья! Поднимите оружие против ваших господ!..»
Этот день, 31 октября, и вечер были богаты событиями.
В Лихтенберге — предместье Берлина — состоялось важное собрание революционных старост, как бы завершающее сеть заседаний, начавшихся пять дней назад. Пять дней невозможно было выявить позиций старост в вопросе о восстании, пять дней нельзя было добиться определенности. Последнее, заключительное заседание должно было, наконец, поставить все точки над «и», которых так добивалась ничтожная группа спартаковцев, затерянная среди «независимцев».
Берлинская уголовная полиция пронюхала о заседании. Странные фигуры вертелись в районе, довольно неумело искали: спрашивали прохожих на улицах и служащих в окрестных гостиницах, не видал ли кто-нибудь Либкнехта.
Либкнехт в это время сидел в ресторане с группой товарищей. Вошли три женщины, сели неподалеку. В полупустом зале слышно было каждое слово. Разговор шел о том, что хозяин их дома здесь, неподалеку, получил приказ от полиции искать и следить, не войдет ли в дом Либкнехт. Были описаны его приметы, но хозяин и без того знал, о ком речь. Полицейские сказали, что каждый, кто укажет Либкнехта или его сообщников, получит денежное вознаграждение.
Либкнехт переглянулся с Отто Франком, но оба продолжали сидеть, будто разговор их не касался.
Заседание все не начиналось. Люди входили робко и рассаживались подальше друг от друга. Несколько полицейских ввалились в помещение, кое-кто остался стоять у дверей, кое-кто уселся за столики. Было совершенно очевидно, что заседание состояться не может.
Не сговариваясь, стали постепенно расходиться. Либкнехт вышел с Франком, и задворками они стали выбираться из этого района. К 12 часам ночи дошли до предместья Альт Стралау. Вокруг шныряли сыщики, останавливались у ворот домов, шептались с дворниками.
Впервые в жизни пришлось Либкнехту прятаться и убегать от полиции. Прежде, когда еще не было в «демократическом» правительстве руководителей социал-демократической партии, когда не было еще и самого «демократического» правительства, ему бы и в голову не пришло, что с ним возможно такое. Должно быть, шейдемановцы решили, что как раз настал тот момент, когда Либкнехт на свободе «угрожает общественному спокойствию», и это была первая попытка упрятать его снова в тюрьму.
В эту ночь он не приходил домой.
Он пришел только на следующий день в послеобеденный час и, ничего не рассказывая, предупредил: такое время, дорогая, быть может, не раз еще будет так случаться — ни приехать, ни предупредить, что задерживаюсь, я не смогу…
Где он провел эти тревожные часы? Как избежал новой попытки правительства снова арестовать его?
Либкнехт и Франк решили уйти от сыщиков в людное место. Куда? В гостиницу. Но только подошли к отелю «Под свободным деревом», как услышали слова:
— Знал бы я, где они скрываются, эти негодяи и преступники! Попадись этот арестант Либкнехт в мои руки, уж я бы ему всадил пулю в лоб!
Стало быть, в гостиницу нельзя. Стало быть, и сюда забрались. Надо уходить.
Перед ними было два возможных пути: через Шпрее в Трептов или через Рамельсбургское озеро в Рамельсбург, оттуда — в Берлин. Посовещавшись, выбрали первый путь.
Чтобы переправиться через Шпрее, пришлось воспользоваться чьей-то лодкой, словно нарочно для них оставленной хозяином. Впрочем, лодку-то «предусмотрительный» хозяин оставил, а вот весла упрятал!
Решили использовать лодочную скамью — весло, что и говорить, примитивное! Все-таки после сорока пяти минут блужданий добрались до Трептова.
Огляделись. Вокруг никого. Быстрым шагом пошли в сторону города. Вышли к окружной дороге. Здесь уже не было так безлюдно — вдоль полотна замаячило несколько подозрительных фигур. Пришлось снова скрыться в зарослях огромного Трептов-парка.
Было холодно и по-осеннему сыро. Под ногами шуршали опавшие листья, почти голые ветви деревьев напряженно поскрипывали под налетавшим ветром.
Где-то вдалеке пробило три часа. Город, погруженный в полутьму, казался враждебным и настороженным.
Посреди улицы стоял большой фургон — в таком обычно перевозят мебель. Подошли поближе, засветили карманный фонарик. Так и есть: «Международная упаковка и перевозка мебели» — написано на стенке фургона.
— А не переночевать ли нам туг? — спросил Либкнехт, и утомленное лицо его осветилось лукавой улыбкой.
Внутри фургона лежал мягкий упаковочный материал. Чем не постель? Но перед сном, как известно, надо поужинать. У Франка в запасе оказался кусок засохшего хлеба и с полфунта козьей ливерной колбасы — деликатес военного времени.
Только в семь утра покинули беглецы свой великолепный ночлег. Умылись из уличной колонки и отправились на аэродром. Подле аэродрома, где на авиазаводах работали около сорока тысяч рабочих, Либкнехт и Франк договорились еще вчера встретиться с двумя товарищами — нужно было забросить на заводы листовки. Дело ладилось — помогали рабочие-спартаковцы, и к обеденному перерыву почти каждый рабочий и работница получили по листовке.
А к вечеру, когда Либкнехт был уже дома, стало известно, что владелец заводов объявил розыск распространителей листовок. Распространителями были почти все рабочие заводов, попробуй-ка найди их!..
На следующий день, в девять утра, собрание нелегальных исполкомов Советов рабочих и солдатских депутатов утвердило план выступления берлинского пролетариата: утром 4 ноября начинается всеобщая забастовка, и это должно быть началом борьбы за власть до победного конца.
Но в тот же вечер сроки были снова передвинуты. Конференция революционных старост ознакомилась с планом выступления и должна была решить, какой и когда будет дан сигнал. Почему-то на конференцию пришли «тузы» из независимой партии — Гуго, Вильгельм Литтман и даже Эдуард Бернштейн. И как только были заслушаны отчеты старост о настроениях рабочих столицы, председатель конференции Эмиль Барт, поддержанный всеми партийными «тузами», быстренько провел постановление: срок выступления переносился с 4 на 6 ноября.
Не потому ли, что 4-го правительство и полиция могли бы быть еще застигнуты врасплох — до этого срока оставалось всего тридцать с лишним часов, а через три дня реакция успеет подготовиться к контрнаступлению? Не потому ли так красноречиво убеждали старост пойти на отсрочку и Гуго, и Бернштейн, и Барт?..
Однако события, происшедшие за пределами Берлина, смешали их карты.
Исполком Советов, после того как Барт и компания отменили его решение, снова собрался, чтобы обсудить положение. Совещание проходило на Коперниковской улице, и едва успело начаться, как в помещение влетел возбужденный, насквозь пропыленный человек и сразу же рванулся к Либкнехту.
Человек этот оказался курьером из Киля.
Сначала он взволнованной скороговоркой объявил, что матросы на военных кораблях подняли красный флаг и революция уже в полном разгаре…
Немного успокоившись, рассказал подробности.
За несколько дней до разыгравшихся событий командование флота приказало командирам кораблей вывести в море весь флот и «с честью погибнуть» в бою с английскими кораблями. Восемьдесят тысяч немецких матросов, однако, не пожелали погибать даже «с честью», считая подобную гибель совершенно напрасной. Матросы взбунтовались. Немедленно в казармах и на судах были созданы Советы. По их постановлению кочегары спустили в котлах пар, погасили топки и покинули суда. Экипажи забаррикадировались в трюмах, выход в море был сорван.
Неслыханный бунт на флоте встревожил командование. Восстание матросов напоминало прогремевшее на весь мир восстание на броненосце «Потемкин» в Одессе, и, хотя с тех пор прошло тринадцать лет, событие это не было забыто. В Киль срочно вызвали военные части, начались массовые аресты. Двадцать девять матросов, принявших участие в рабочей демонстрации, были тяжело ранены, восемь — убиты.
«Военное подкрепление» перегнуло палку — вкусившие прелесть борьбы, матросы не сдались: в Киле началось вооруженное восстание.
Матросы высыпали на улицы города, в тысячи глоток кричали: «Долой кайзера! Да здравствует Германская республика! Да здравствует Интернационал!» Вместе с нижними чинами, кочегарами и рабочими Киля они собрались перед зданием штаба, потребовали, чтобы командир дивизиона выслушал их. И командир вышел к толпе и молча, кусая губы» слушал. «Наглость» требований взбесила его, но что он мог поделать перед такой толпой? Толпой, которая, надо же признаться самому себе, вовсе была уже не толпой — организованной и грозной революционной силой.
А требования были такие: отречение от престола членов семьи Гогенцоллернов, отмена осадного положения, освобождение всех осужденных за бунт, равно всех политических осужденных, всеобщее и равное избирательное право.
Быть может, восстание матросов и сделало бы Киль оплотом начавшейся революции — вслед за Килем в Гамбурге, Любеке и других городах взвились красные знамена, создавались Советы, — если бы…
Когда кильский курьер закончил свой рассказ» берлинский исполком Советов предложил Карлу Либкнехту немедленно выехать в восставший район. Собственно, предложение исходило не от всего исполкома — от спартаковцев, входивших в него. «Независимцы» сразу же стали возражать: Либкнехту ни в коем случае нельзя сейчас отлучаться из Берлина, да еще так далеко! Наступают решающие дни, и Карл Либкнехт должен присутствовать здесь! В Гамбурге сейчас находится Гаазе, его и надо отправить в Киль…
«Независимцев» было значительно больше, чем спартаковцев. Они простым голосованием и разрешили спор. Либкнехт остался в Берлине. Гаазе тоже прибыл в столицу. В Киль был направлен… Густав Носке как представитель социал-демократической партии.
Послали пожарника на пожар — он его и погасил. Погасил достаточно хитро: объявил себя губернатором города, назначенным «демократическим» правительством, возглавил Советы, повел от имени Советов переговоры с адмиралами и офицерами флота, организовал добровольческие отряды из младших офицеров и реакционного студенчества и все эти «революционные» мероприятия завершил контрреволюционным союзом с командованием флотом.
Совершенно дезорганизованные рабочие и матросы не успели ни в чем разобраться, как восстание было подавлено. Подавлено большой кровью…
А в Берлине между тем царила полная неразбериха. Новое правительство, обвинив советское посольство в «организации революции» в Германии, потребовало немедленного отъезда из столицы всех дипломатических и консульских представителей РСФСР во главе с советским послом А. Иоффе. Это была первая открытая репрессия против начавшегося движения; это было предупреждение действительным организаторам революции. Это была демонстративная угроза и исполкому Советов, и революционным старостам, и прежде всего спартаковцам.
Революционные старосты метались между Либкнехтом и Бартом — между призывами к действию и призывами к бездействию. Полиция преследовала их по пятам, срывала все заседания. Каким-то образом адреса помещений, в которых назначались собрания старост, немедленно становились известны полиции.
6 ноября была сорвана конференция — предупредили, что сейчас в ресторан, где собрались революционные старосты, явится полиция.
Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов обратился с воззванием к народу: «Рабочие, солдаты, товарищи! Настал решительный час! Нам нужно быть достойными своей исторической задачи…
Вставайте на борьбу за мир, свободу и хлеб!
Выходите из заводов!
Выходите из казарм!
Протяните друг другу руки!
Да здравствует социалистическая республика!»
Листовку подписали Либкнехт, Пик, Франк и другие.
Когда Либкнехт вошел в гостиницу у Новых ворот, где через несколько минут должно было начаться заседание революционного исполнительного комитета, он сразу заметил, что листовка эта лежит уже на столе.
— Случилась беда, — вместо приветствия сказал Отто Франк, — только что мы узнали, что арестован Эрнст Дайминг. Он шел на заседание ЦК «независимцев», и в портфеле у него находился план выступления! Оставаться здесь опасно — давайте перед тем, как разойдемся, быстро обсудим положение…
— Я считаю, что выход есть один, — сказал Либкнехт, — назначить выступление на завтрашнее утро. Это может перепутать расчеты правительства и полиции, это может сбить им все их контрпланы. А сейчас всем нам надо срочно отправляться на предприятия и мобилизовать рабочий класс.
— Давно пора, — тихо бросил кто-то из сидящих, — революция фактически качалась во всей стране, только Берлин отстает.
Из гостиницы выбирались через окно, быстро пересекали двор и по одному расходились в разные стороны.
Домой Либкнехт попал в одиннадцать ночи. В Штеглице было тихо, обыватели спали спокойным сном. Никто не подозревал о том, что должно случиться завтра…
«Завтра… В девять утра… — повторял про себя Либкнехт. — Началось! Все-таки началось!»
Отдыхать он не думал, да и некогда было — через полчаса в его квартире собралось несколько товарищей. Приходили люди, информировали о проделанном за день. В общем сведения о настроениях рабочих были отрадными: к шести часам утра, когда пришел последний агитатор, казалось ясным — берлинский пролетариат к выступлению готов.
Ранним утром 9 ноября все, кто находился в квартире Либкнехта, вышли на улицы Берлина. В городе уже были выставлены пикеты; на стенах домов, на афишных тумбах, на окнах магазинов пестрели листовки. Некоторые из них мирно соседствовали со вчерашним воззванием исполкома Совета, другие были наклеены поверх первых.
Это были листовки, выпущенные в миллионах экземпляров, напечатанные в типографии «Форвертс» — центрального органа социал-демократической партии Германии. Они не призывали народ к революции — социал-демократические лидеры не желали ее; пролетарская революция могла того и гляди смести и их, вместе с кайзером, с монархией.
Листовки взывали к рабочим: не дайте себя спровоцировать на выступление! Не позволяйте дергать себя за веревочку! Поддерживайте в городе порядок и спокойствие, только так вы добьетесь работы, мира и хлеба!..
Ровно в девять со всех концов Берлина к центру двинулись мощные колонны демонстрантов. Возле больницы Шарите к огромной колонне рабочих присоединилась не менее многочисленная колонна солдат. У Бранденбургских ворот стоял окруженный толпой грузовик — на грузовике сидели солдаты, приехавшие из-под Берлина. Грузовик захватили в части, увели из-под носа у офицеров, со смехом рассказывали они. Солдаты прыгали через борт, с земли к ним тянулись сотни рук. Мальчишки, проследовавшие с демонстрантами от самых окраинных районов, радостно визжали. Солдаты обнимались с бастующими рабочими, мальчишки висели у них на ногах, взбирались на плечи.
Демонстранты шли и шли нескончаемой вереницей через весь Берлин; то тут, то там белым дождем сыпались на головы подбрасываемые кем-нибудь листовки «Спартака». Их ловили, жадно читали вслух, не останавливаясь, на ходу.
«Красное знамя реет над Берлином… Берлинский революционный пролетариат, тот самый, который носит рабочую блузу и солдатский мундир, заявляет о своей твердой решимости и непоколебимой воле бороться за следующие требования…»
Требований было много: немедленный мир, отмена осадного положения, тюремные двери настежь! Переход всей военной и гражданской власти к доверенным представителям Советов рабочих и солдатских депутатов; отмена военных судов и роспуск рейхстага и всех парламентов; выборы в Советы по всей Германии с участием всего взрослого населения города и деревни; немедленное установление связи с братскими социалистическими партиями за границей, немедленное восстановление русского посольства в Берлине.
В полдень город был занят рабочими. Восставшие захватили вокзалы, главный телеграф, здания министерств. Грузовики, украшенные красными флагами, развозили отряды вооруженного народа во все районы города, где еще оставались очаги сопротивления. В воинских частях и прямо на улицах разоружали офицеров. Солдаты сдирали кайзеровские кокарды и прикалывали на их место красные банты.
Император Вильгельм II бежал в Голландию. Германия перестала быть монархией.
В одной из колонн — от Фриденау через Шенеберг к центру города — шел Карл Либкнехт. Он вместе со всем «штабом», заседавшим ночью в Штеглице, влился в эту колонну и проследовал с ней через весь город. В полдень колонна подошла к дворцу кайзера. Над дворцом реяло красное знамя.
Либкнехт вбежал в парадный подъезд, взлетел на второй этаж, выскочил на балкон. Красный флаг вился над его головой.
И с балкона кайзеровского дворца Карл Либкнехт провозгласил Германскую социалистическую республику.
А в советской Москве, в Большом театре, шла в это время работа VI съезда Советов. В разгар заседания самокатчик привез известие: Берлин охвачен всеобщей забастовкой, перед императорским дворцом собралась гигантская толпа рабочих, Либкнехт объявил Германию социалистической республикой.
Вслед за этим сообщением одна за другой пришли две телеграммы. Первая гласила: «Привет свободы и мира всем. Берлин и окрестности в руках Совета рабочих и солдатских депутатов… Иоффе и персонал посольства возвращаются тотчас». Вторая извещала, что Филипп Шейдеман, недавний министр кайзеровского правительства, из окна рейхстага объявил «Германскую свободную республику».
— Когда курица поет петухом, это к добру не приводит, — сказал Ленин, прочитав вторую телеграмму.
Убедившись, что революцию уже не остановить, что шутки с восставшим народом теперь будут плохи, что Либкнехт, возглавивший революцию, провозгласил Германию республикой, лидеры социал-демократии, срочно собравшись в рейхстаге, рассудили: нельзя допускать, чтобы лозунг «республика» немецкий народ связывал со спартаковцами; надо немедленно самим объявить республику, почти под таким же названием, как и они, только чуточку скорректировать его.
Так через два часа после социалистической родилась «свободная демократическая Германская республика».
Принц Баденский подал в отставку, пост рейхсканцлера занял Фридрих Эберт. Бывший рейхсканцлер абсолютно доверял новоиспеченному — Эберт клятвенно заверил, что будет управлять страной, придерживаясь старой, имперской конституции.
Отбыв из имперской канцелярии в частную резиденцию принца Баденского, Эберт вместе с Шейдеманом и другими своими приспешниками принялся формировать новое правительство.
— Если мы не пригласим в правительство независимцев, — сказал Шейдеман, — Германия будет большевистской, а в Берлине засядет Либкнехт со своими друзьями. Более того, надо пригласить в правительство самого Либкнехта. На любых условиях…
— Да, — вздохнул Эберт, — к сожалению, это так. Надо быть слепым и глухим, чтобы не видеть, за кого сейчас стоят массы! Мы и так опоздали на два часа, надо теперь проявить большую оперативность. Ну, а избавиться потом от Либкнехта будет куда проще…
Либкнехт шел по улицам революционного города. Навстречу ему кивали красные флаги, проносились грузовики с вооруженными отрядами; раздавались громкие радостные возгласы. На каждом углу собирались толпы и слышались знакомые голоса товарищей. Они говорили о ближайших перспективах.
Либкнехт направлялся к рейхстагу. В пять часов вечера он вошел в восемнадцатую комнату. Здесь было уже довольно людно — собрались члены комитета революционных старост, центрального и районных комитетов независимой партии; была тут и группа спартаковцев.
Навстречу Либкнехту из-за стола встал председатель НСДПГ Эмиль Барт. Лицо его выражало трудно скрываемое смущение, и слова, которые он сказал, звучали натянуто и фальшиво:
— Куда же вы девались! Мы здесь с одиннадцати часов обсуждаем образование правительства.
— Я был там, где должен был быть, — на улице, с народом.
— Тем не менее, — раздражился Барт, — революция победила, и правительство должно быть образовано. Этот вопрос и дискутируется сейчас здесь.
Барт преувеличивал — никакой дискуссии не было. Через минуту Либкнехт понял, почему не было: ждали Шейдемана, без него ничего не хотели (и не могли!) решать.
Либкнехт внимательно осмотрел собравшихся. Всякие тут были — и люди и людишки. Последние дожидались, по-видимому, очереди на получение какого-нибудь «портфеля» в образуемом правительстве. Нюхом чуяли, что именно здесь, где разглагольствовал Барт, можно будет поживиться.
Время от времени в восемнадцатую комнату входили все новые делегации Советов депутатов и довольно агрессивно требовали немедленного создания коалиционного правительства. Слышались угрозы: если правительство не будет образовано конференцией делегаций Советов, солдаты сами образуют свое правительство.
«Вот они — эбертовские «советские депутаты»! — подумал Либкнехт. — Все, как один, правые социал-демократы!»
Но нет, вон там стоит группа, по-видимому не имеющая отношения ни к Эберту, ни к правым, однако и они твердят то же самое: если не создать коалиционное правительство, то мир заключать нельзя, значит не прекратится на фронте кровопролитие и — зачем же тогда нужна революция?
Эти твердили не понимая. Этих сумели уговорить, задурить им головы. С этими следует побеседовать, попытаться разъяснить происходящее.
Он подошел к группе и сказал:
— Вас вводят в заблуждение, революция как раз тогда и окажется напрасной, если вы все — рабочие и солдаты — согласитесь безоговорочно сотрудничать в правительстве с социал-демократами. Такое правительство только на руку контрреволюции: не пройдет и недели, как от вас сумеют избавиться. Да еще каким способом!
Постепенно вокруг Либкнехта сгрудились все присутствующие, кроме Барта и еще нескольких руководителей «независимцев» — те куда-то исчезли. Подходили и новые делегации. И вдруг какой-то солдат громко сказал:
— Это все агитация! Не слушайте Либкнехта! Он сознательно задерживает формирование правительства объединенных революционных сил, чтобы как можно дольше не заключать перемирия! Разве вам не известно, что Либкнехт..
Возмущенные возгласы пресекли дальнейшие разглагольствования солдата. На него набросились те, для кого имя Либкнехта было священно. Ему сделали соответствующее внушение, и это внушение чуть не закончилось общей потасовкой.
Либкнехт успокоил разошедшиеся страсти. Сдержанно, терпеливо снова и снова пытался объяснить положение вещей. Помешал Барт: вошел и очень возбужденно объявил, что наконец-то прибыл Шейдеман и что надо начинать серьезную работу — пусть все идут в зал заседаний.
Зал заполнился мгновенно. Большинство представителей Советов составляли социал-демократы, меньше было «независимцев» и совсем мало спартаковцев. Либкнехт сразу же оценил соотношение сил и внутренне собрался весь, понимая, какой бой придется выдержать. В глубине души он понимал и другое — скорее всего бой будет проигран.
Ровно в половине седьмого на трибуну взошел Шейдеман. Солидно откашлявшись, заговорил:
— Я буду говорить от имени социал-демократической фракции рейхстага. Мы должны образовать правительство, способное вести переговоры о заключении мира. И мы желаем, чтобы в это правительство вошел коллега Либкнехт…
Шейдеман сделал многозначительную паузу и искоса поглядел на коллегу Либкнехта. Лицо Карла было непроницаемым, только правая щека едва заметно подергивалась. Не видя реакции, которую ожидал, Шейдеман повторил:
— Ибо надо немедленно начинать переговоры о заключении перемирия по всему фронту.
— Нет, — внятно сказал, поднимаясь со своего места, Либкнехт, — нет. В правительстве Эберта — Шейдемана я отказываюсь участвовать.
Сначала наступило неловкое молчание, словно человек в порядочном обществе сказал что-то неприличное. Потом гул и возгласы, и одобрительные (их было немного) и резко осуждающие (почти сплошь).
Шейдеман взмахом руки навел тишину и — будто не слышал второй части ответа Либкнехта — мягко, почти заискивающе, стал уговаривать «дорогого коллегу» согласиться на лестное предложение.
Когда Шейдеман кончил, один за другим с мест начали вскакивать делегаты и, не выходя к трибуне, кричали: Либкнехт своим отказом сам предает революцию! Либкнехт знает, что его имя может способствовать переговорам о мире и быстрейшему его заключению! Нет причины, по которой он имел бы право отказываться…
— Вы все, замолчите, — раздался чей-то громовой голос, — я буду говорить! Я пролетарий, рабочий и сын рабочего, я спартаковец! Вам нужен Либкнехт, потому что вы боитесь, что все, что Шейдеман и Эберт захватили до этой минуты, все может свестись к нулю, если сам народ потребует введения Либкнехта в правительство! Потому что вы знаете: если уж это случится от имени и по настоянию народа, на меньшее, чем Либкнехт — глава правительства, мы, революционные пролетарии, не согласимся! Поэтому вы так поспешно решили опередить нас, поэтому вам нужен Либкнехт приглашенный и согласившийся. И тогда… тогда вы будете хозяевами положения. Так слушайте, что я скажу от имени пролетариата: Либкнехт прав, что не входит в соглашательское правительство, прав и тысячу раз прав! Вот и все…
Это был первый громкий голос поддержки. Карл Либкнехт с интересом и радостью слушал выступавшего; голос этого человека здесь, в такую минуту, был для него голосом рабочего класса. Лукаво усмехнувшись, блеснув глазами, Либкнехт снова заговорил:
— Шейдеман выступил от имени социал-демократической фракции. Я буду говорить от имени спартаковцев. По поручению «Союза Спартака» я выдвину некоторые условия, и если правительство на них согласится, ну что ж, тогда и я в такое правительство войду.
Шейдеман оживленно кивнул, лицо его расплылось в улыбке. Но уже следующие слова порывом ветра согнали эту улыбку, а заодно стерли и маску добросердечия с лица Шейдемана.
Либкнехт перечислил все, что было уже опубликовано в листовке «Союза Спартака», и добавил:
— Создание Красной армии для защиты революции, немедленная организация революционного трибунала, который произнесет свой приговор над главными виновниками войны, над теми, кто способствовал затяжному ее характеру, а также над капиталистическими заговорщиками и контрреволюционерами.
Собрание заинтересованно молчало. Сквозь зубы Шейдеман процедил:
— Я сомневаюсь, что моя фракция согласится на эти условия. Но я доложу о них. Ответ вы получите вскоре.
Ответ так и не был получен.
А «новое правительство» торопилось объявить о своем существовании: газета «Форвертс» взывала: «Солдаты! Возвращайтесь спокойно в казармы. При отсутствии порядка немыслима безопасность народного правительства!»
Но в этот день впервые за долгое время легально вышла газета спартаковцев «Роте фане». На первой полосе ее была «шапка»: «Над Берлином реет красное знамя!», дальше шла подробная информация о революционных победах за день: приступом взят полицей-президиум, из Моабитской тюрьмы выпущены все политические заключенные, освобождены военнопленные солдаты…
10 ноября вихрем революции была освобождена Роза Люксембург. И с этой минуты до смертного часа Либкнехт и Люксембург были главными редакторами «Роте фане».
В это воскресенье, 10 ноября, на 5 часов дня в цирке Буше было назначено собрание Берлинского Совета рабочих и солдатских депутатов. Предстояло создать правительство и исполком Советов.
Лидеры социал-демократов не дремали: еще накануне вечером срочно собравшееся правление партии приняло меры, чтобы обеспечить при выборах большинство голосов за правительство Эберга — Шейдемана. Методы, какими это достигалось, были достаточно нечистоплотными, а лучше сказать — мошенническими: члены правления зарегистрировали в качестве депутатов Совета надежных социал-демократов из числа правых и наиболее оппортунистических профсоюзных активистов. Партия выбросила лозунг «За единство всех социалистических партий!» и агитировала за срочные выборы в Национальное собрание.
Вот почему в цирке Буше состав собрания оказался почти сплошь социал-демократическим. Спартаковцы были еще слишком слабы и малочисленны, чтобы успеть столько, сколько успели социал-демократы и «независимцы», — за такое короткое время спартаковцы физически не могли выступить на множестве собраний. Они, правда, писали листовки и воззвания, в которых разъясняли свою программу, призывали делегатов не выбирать в правительство и Центральный исполнительный комитет Советов никого из тех, кто готов сотрудничать с буржуазными партиями и реформистами. Но всего этого оказалось недостаточно — рабочие массы были сбиты с толку и не понимали, кому верить, за кем идти.
Собрание началось речью Эберта.
Как всегда, он призывал прежде всего установить спокойствие и порядок. Он всячески варьировал идею «братства» всех социалистических партий и направлений, говорил, что пора покончить со старым спором между враждующими «братьями» в рабочем движении, что каждый должен поддерживать создание коалиционного правительства социал-демократов и «независимцев».
Речь вызвала бурю восторженных аплодисментов.
Но тут выступил Либкнехт:
— Единство на основе программы Эберта и Шейдемана — это измена революции. Я вынужден испортить вам ложкой дегтя бочку меда, которую тут разлил перед вами господин Эберт. Я вынужден охладить ваш неумеренный восторг: контрреволюция уже действует, она здесь, среди нас. Для революции представляют опасность не те люди, которые до вчерашнего дня держали власть в своих руках, а те, кто сегодня идет с революцией, но позавчера еще был с ее врагами. Будьте осторожны, выбирая людей, которые войдут в ваше правительство…
И как раз в эту минуту — не случайно! — трибуну окружили солдаты так называемого «караульного отряда», завербованные эбертовцами. Дело чуть не дошло до перестрелки. Солдаты один за другим лезли на трибуну, хором кричали с мест: «Единство, единство! Паритет, паритет!» Они угрожали оружием, когда на трибуну в прениях выходил кто-нибудь из противников Эберта и сторонников Либкнехта. И солдаты, которых натравили на спартаковцев, грозили Либкнехту, направляя на него свои винтовки.
Результатом этого собрания Советов, больше похожего на черносотенное сборище, было то, что в исполнительный комитет не попал почти ни один из действительно революционных старост. Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Вильгельм Пик и другие спартаковцы были вычеркнуты из списка кандидатов.
Новое правительство «народных уполномоченных» состояло из Эберта, Шейдемана, Ландсберга — от социал-демократов, Гаазе, Дитмана, Тарта — от независимых; причем эти последние — руководители НСДПГ — безоговорочно поддерживали жульнические мероприятия Эберта и Шейдемана.
В тот же день — 10 ноября — глава нового правительства Эберт заключил тайное соглашение с верховным командованием. Как выяснилось позже из показаний генерала Тренера, целью этого тайного соглашения между ним и Эбертом было свержение Советов.
«…мы заключили союз для борьбы с большевизмом. О восстановлении монархии нечего было и думать. Нашей целью 10 ноября было как можно скорей установить упорядоченную правительственную власть и опору этой власти — военную мощь и Национальное собрание. Сначала я советовал фельдмаршалу не вступать в вооруженную борьбу с революцией, так как при существующих в войсках настроениях такая борьба была обречена на неудачу. Я предложил ему, чтобы верховное командование действующей армии связалось с партией социал-демократического большинства, поскольку в настоящее время нет другой партии, которая пользовалась бы достаточным влиянием в народе, особенно в массах, и была бы способна восстановить государственную власть совместно с верховным командованием. Правые партии полностью отсутствуют, а союз с крайне левыми исключается… Прежде всего мы установили тайную телефонную связь между главным штабом и имперской канцелярией, с которой мы обычно вели переговоры по прямому проводу с 11 вечера до 1 часа ночи. Сначала речь шла о том, чтобы отнять власть у рабочих и солдатских Советов в Берлине. Для этой цели был составлен план операции, по которому в Берлин предполагалось ввести десять дивизий. Эберт дал на это согласие, а для более подробных переговоров об операции — с военным министром тоже надо было договориться — в Берлин направили одного офицера. «Независимые» потребовали, чтобы войска были введены в город без боеприпасов. А Эберт согласился на то, чтобы их снабдили патронами. Мы выработали программу, которая предусматривала чистку Берлина и разоружение спартаковцев. Это тоже было согласовано с Эбертом…»
Сказав: «Контрреволюция среди нас», Либкнехт предвидел все черные дела, которые еще совершит Эберт, хотя, разумеется, понятия не имел о том, что он уже совершил. Кто, как не Либкнехт, знал всю степень предательства Эберта?! Большим контрреволюционером вряд ли мог быть даже сам кайзер Вильгельм.
Эберт учел и неопытность масс, и то доверие, которое они, по старой памяти, питали к социал-демократии, и то, что обманутый народ вполне созрел, чтобы попасться на удочку посулов, на которые столь щедры социал-демократы. И хотя крушение старого режима было полным, а народное восстание очень мощным, общественный переворот в стране так и не произошел: изменилась только форма государственного правления, а не его содержание.
Социал-демократы куда больше склонялись к пути прусского милитаризма, чем пролетарской революции. И на этом пути им надо было прежде всего смести Советы и заменить их буржуазным парламентом.
Сделать это, казалось, не так уж трудно: усилиями социал-демократических дельцов в Советы вошли многие члены партии Шейдемана — они-то и должны были сыграть роль бродила в разложении революционной власти.
Народ требовал демократических прав, не понимая, что менее всего правительство Эберта способно дать ему эти права. Горстка руководителей «Союза Спартака» день и ночь, при каждом возможном случае пыталась разъяснить рабочим и солдатам, что ожидает их, если у власти останутся те, кто ее захватил; большинство же, хорошо обработанное ставленниками и соратниками Эберта, твердило одно: демократическое правительство, содружество партий.
«Группа Спартака» преобразовалась в «Союз Спартака» — слова эти давно уже стояли под «Политическими письмами» и листовками спартаковцев — и приступила к созданию единой организации во всех землях и провинциях страны.
Второй номер «Роте фане» — единственной столичной газеты левых — смог выйти только через девять дней после первого. Газета печаталась в бывшей типографии реакционной «Берлинер локальцейгер», захваченной рабочими 9 ноября, и владельцы газет обратились с жалобой к Эберту, требуя вернуть им собственность. Эберт пытался то так, то эдак, но обязательно «мирным» путем — другой путь был ему невыгоден — удовлетворить требования своих фактических хозяев; и, пока шли переговоры, ничем для Эберта не кончившиеся, «Роте фане» не могла печататься.
Наконец вышел в свет второй номер газеты — органа «Союза Спартака», и на следующий же день на помещение редакции был совершен налет. Двести вооруженных бандитов ворвались в здание, разбежались по всем комнатам и все время повторяли два имени: Либкнехт и Люксембург.
К счастью, в тот час их на месте не оказалось. Налетчики, нещадно ругаясь, ушли ни с чем.
В тот же день пытались арестовать исполком Советов и провозгласить Эберта президентом. Но и эта попытка на сей раз не удалась.
Из номера в номер помещались в «Роте фане» статьи Либкнехта и Люксембург. То, что невозможно было сделать устно, они пытались совершить с помощью печатного слова. Они пробовали раскрыть глаза рабочим, но те упорно и стойко зажмуривались.
Революционный вихрь, уничтоживший монархию, мало приблизил победу пролетариата, писала «Роте фане», «единство всех социалистов» — всего только лживый лозунг, за которым скрываются все то же юнкерство и та же буржуазия. Революция, сделанная руками рабочего класса, по сути своей оказалась буржуазной реформой. Всего только несколько часов, в день 9 ноября, находилась власть в руках народа; она уходит с каждым днем, а тем временем враги революции накапливают силы и мощь. Чтобы спасти революцию, нужно бороться за свои права, занимать новые позиции, свергнуть буржуазию и ее ставленников, а не идти с ними рука об руку. Только тогда может быть гарантировано господство рабочего класса, а вместе с ним мир.
Так писали Либкнехт и Люксембург в своих статьях. Они вскрывали замыслы врагов революции— расправа с «Союзом Спартака», единственной опорой пролетариата. Они пытались спасти революцию. И если бы сила их убеждения и энергия сами по себе были способны сделать это — германская революция была бы спасена.
Но… Рабочий класс Германии слишком долго считал социал-демократическую партию своей партией, слишком плотно сомкнулся с ней во время войны на позициях социал-шовинизма, десятилетиями верил, что парламентские формы и есть единственно правильные формы борьбы. Невозможно было в такой короткий срок убедить массы, что социал-демократия — враг, а та горстка социалистов, которая называет себя «оплотом рабочего класса», и есть подлинные борцы за свободу пролетариата. Окончательно довериться «Союзу Спартака» — для этого нужно было время.
Речь, произнесенная Либкнехтом в предместье Берлина в огромном «Юнион фестзале»: «Чего хочет «Союз Спартака»?» — надолго запомнилась тем, кто ее слышал.
Легкой, быстрой походкой взбежал он на эстраду, открытым, проницательным взглядом обвел зал и заговорил таким сочным, таким юношеским страстным голосом, что никто не мог поверить: этому человеку под пятьдесят.
— Чего хочет «Союз Спартака»?.. Чтобы социальная революция была доведена до конца! Буржуазия еще держится на развалинах своего бывшего величия, классовая борьба пролетариата не прекращается… Сейчас еще железо горячо, будем же ковать его сейчас! Сейчас или никогда! Либо мы снова увязнем в старом болоте прошлого… либо мы будем продолжать борьбу до победы и до освобождения — освобождения всего человечества от проклятия рабства… ради этого и должен германский пролетариат установить диктатуру!
Он говорил, и, пока его слушали, готовы были идти, куда он укажет. А потом — потом слушали других, давно известных, давно привычных социал-демократов, поддавались их убеждениям и — и продолжали бездействовать.
Но он был опасен. Он мог, наконец, увлечь за собой всю пролетарскую массу, потому что его не только слушали, ему не только верили — его любили, им гордились.
Он был опасен, потому что мог взрастить целую плеяду подобных себе, особенно теперь, когда он был на гребне своей популярности. И тогда заговорили бы многие, заговорили бы так, как Либкнехт, и чем больше стало бы его приверженцев, тем опасней становились он сам, «Союз Спартака», «совращенные» им пролетарии.
Вся ненависть контрреволюции сконцентрировалась на вожаках «Союза Спартака», на Либкнехте, Люксембург, Пике, Меринге, Цеткин, Иогихесе. Не было такой газеты, за исключением нескольких разбросанных по стране печатных органов левых, которая не поливала бы спартаковцев помоями, не стремилась бы оболгать, оклеветать их перед народом. Самая фантастическая ложь, самая гнусная клевета сочинялись с беспардонной наглостью. Они де и террористы, и по их вине в стране голод, они, спартаковцы, мечтают развязать самую кровавую войну, где немцы должны стрелять в немцев.
Эти лживые наветы изо дня в день вдалбливались в головы народа, и кто может знать, сколько голов не устояло перед ними!
К концу ноября договор Эберта с верховным командованием начал приводиться в действие: к Берлину стягивались войска. Гвардейские части маршировали по улицам с развевающимися кайзеровскими знаменами. Офицерство совещалось с комендатурой Берлина о плане выступления. Выступление должно было ликвидировать Советы и провозгласить Эберта президентом республики. Момент казался подходящим — буржуазные газеты, публикующие сенсационные сообщения о спартаковцах, вызывали беспокойство у населения.
Ликвидация Советов входила в договор с Эбертом; предоставление ему президентского поста — подарок за верность императору и отечеству.
Вот когда немцы должны будут стрелять в немцев!
Контрреволюционное воззвание об убийстве вождей «Союза Спартака». Гигантскими буквами: «Убейте Либкнехта!»
Расчеты были довольно точными — Эберт запретил вооружение рабочих, Гаазе обосновал это запрещение теоретически: «когда условия созреют, социализм в Германии может прийти без потрясений». Что мог противопоставить до зубов вооруженным, вымуштрованным кайзеровским войскам рабочий класс?
И все-таки расчеты подвели. Не последнюю роль сыграли и призывы к убийству Либкнехта и Люксембург — революционеров, чьи имена стали символом преданности идее в глазах берлинского пролетариата.
Плакаты, красочные и броские, с огромными разноцветными буквами, кричали:
«Рабочие! Граждане!
Отечество близко к гибели, спасите его!
Ему угрожают не извне, а изнутри: угрожает спартаковская группа. Убейте ее вождей! Убейте Либкнехта!
Тогда вы получите мир, работу и хлеб!»
Расчеты подвели: на сей раз заговор против Советов удалось предотвратить.
Заговорщики внушали солдатам, что их поведут спасать демократию, защищать народное правительство, бороться с контрреволюцией. Но им ни слова не сказали о «борьбе» с Советами рабочих и солдатских депутатов.
Не сказали эбертовцы, но сказали спартаковцы. Солдаты не верили, не хотели верить и покорно шли за своими офицерами. Отряды ждали около цирка Буше, где на этот раз заседал союз кадровых офицеров, объявивший себя добровольческой охраной правительства Эберта; солдаты обстреляли демонстрантов Красного солдатского союза — так приказал комендант Берлина Отто Вельс; но, когда их повели в зал заседаний исполкома Советов, объявив, что это приказ самого Эберта, солдаты отступили и отказались стрелять.
На следующий день «Союз Спартака» организовал демонстрацию протеста в Трептове и десятитысячную манифестацию трудящихся Берлина в Шульцендорфском лесу.
Либкнехт с грузовика обратился к народу. Вокруг него тесно сгрудилась группа вооруженных солдат и матросов, чтобы защитить его, в случае если найдется негодяй, который откликнется на призыв «Убей Либкнехта!». Стрелять в Либкнехта из толпы было в этот момент очень удобно.
Либкнехт выкрикивал призывы, и демонстранты повторяли их:
— Вся власть рабочим и солдатским депутатам! Долой правительство Шейдемана — Эберта, виновное в кровопролитии! Немедленное разоружение офицеров и унтер-офицеров! Отто Вельса — вон! Да здравствует Интернационал, да здравствует Социалистическая Русская Республика Советов!
На десятке других трибун выступали другие ораторы и призывали народ к тому же, к чему звал его Либкнехт. Затем огромное шествие направилось к центру города — к коменданту Берлина.
На том дело и кончилось, хотя не было, казалось, более благоприятного момента с самого начала революции для захвата власти трудящимися: комендант Отто Вельс куда-то спрятался, охранные отряды берлинского полицей-президента Эмиля Эйхгорна заявили о своей солидарности с демонстрантами; на многочисленных рабочих собраниях в этот день говорили, что правительство «народных уполномоченных» идет не по тому пути, что только спартаковцы подсказывают правильный выход. Но ничего больше не произошло. Не был арестован ни один член правительства, не были проведены новые выборы в Советы, не были разоружены берлинские монархические отряды.
Ничего не произошло — демонстранты постояли возле здания комендатуры, пошумели и разошлись.
А 16 декабря на Первом общегерманском съезде Советов депутаты сами подписали свой смертный приговор. И в этот день бастующий Берлин был полон демонстрантами — четверть миллиона берлинцев вышли на улицы. И опять требовали разоружения контрреволюции, борьбы за социализм, советской власти.
А Либкнехт и Люксембург на съезд не делегировали: у них были только гостевые билеты, не дававшие им права выступать с трибуны съезда. Организаторы съезда, правые социал-демократы, отказали им в мандатах на том основании, что они «не представляют никакое предприятие».
Они представляли большее — весь народ. И им предоставили право говорить с народом… у входа в здание, где заседал съезд.
На съезде, где спартаковцы и передовые «независимцы» составляли ничтожно малую группу, была принята резолюция: созвать Национальное собрание, после выборов которого прекратить деятельность Советов и лишить полномочий прежних депутатов.
Советы — единственное ощутимое олицетворение ноябрьской революции — сами себя похоронили. Буржуазно-парламентские иллюзии, десятки лет внушавшиеся немецкой социал-демократией народу, победили.
Берлин в эти и последующие дни представлял собой пестрое зрелище. На улице толпился народ, слышались громкие взволнованные разговоры. Иногда возникали бурные споры, заканчивающиеся потасовкой. Можно было видеть, как на импровизированную трибуну — тумбу или урну, закрытую портфелем, взбирался юноша-спартаковец и жарко доказывал: надо гнать в шею правительство народных предателей, как правильно было бы его назвать; надо идти за «Спартаком» — только он и представляет истинно народные интересы.
Можно было увидеть и услышать, как какой-нибудь старый кадровый рабочий, выслушав горячую речь юноши, пожимает плечами и говорит приятелю или даже постороннему человеку, случайно оказавшемуся рядом: «Социал-демократия — моя партия, десять лет в ней состою… уж они-то знают, что надо делать; если надо терпеть, мы потерпим, дольше терпели… а тут — гражданская война! Куда уж нам — потрепались на фронте, пролили — хватит! — крови за кайзера и отечество… теперь, что же, избивать друг дружку… холод, голод — нет уж, пора дать народу покой!»
Покой… Народ его получил, только не тот, что ждал…
Стены домов густо, как обоями, были облеплены разноцветными плакатами: «Спартак» ведет нас к гибели, порядок даст нам хлеб!», «Порядок или большевизм!», «Порядок или голод!», «Порядок или смерть’», «Долой «Спартак»!», «Долой большевиков!» Это социал-демократическое руководство вдалбливало рабочим и обывателям, что в тяжелой, голодной, беспокойной жизни сегодняшней Германии виноват «Спартак», действующий по примеру русских большевиков, которые тоже привели страну к голоду и разрухе.
В эти дни Либкнехт выступал на десятках собраний. Высокий, уже седеющий, с худым лицом аскета, с горящими глазами; длинная цепь испытаний, выпавших на его долю в последние годы, наложила заметный отпечаток на это лицо. И все-таки никто не мог сказать бы о нем — Либкнехт постарел; не мог сказать, потому что он и теперь казался молодым, физические немощи не убивали в нем ни энергии, ни огня. И, пожалуй, в дни революции страсти в нем было даже больше, чем в годы юношеского горения и зрелой деятельности.
Либкнехт был символом всего честного, самоотверженного, мужественного, благородного; всего, что отличает истинного борца за свободу, за счастье людей от простого смертного.
Устали он не знал. И, может быть, только жена, постоянно живущая в тревоге и волнении за него, может быть, только она видела, понимала, догадывалась, какого нечеловеческого напряжения нервов стоит ему такая жизнь.
Впрочем, дома он теперь бывал мало, часто не приходил и ночевать. И не только потому, что иной раз не успевал до полуночи попасть в Штеглиц, — приходилось по возможности скрываться, надо было путать следы: он знал, что его выслеживают.
И Роза Люксембург теперь не часто возвращалась к ночи домой. То ночевала в квартире знакомых, то оставалась у кого-нибудь из товарищей.
Либкнехт старался прятать от домашних письма, получаемые в эти дни. Работница одного из военных заводов предупреждала, что в районе Шпандау, на размещенных там предприятиях, неизвестно кто распространяет листовку, в которой призывают к убийству Либкнехта и обещают «премию» в размере 20 тысяч марок. Работница писала: «Ради нас, рабочих, которые вас так любят и ценят, берегите себя! Мало ли есть продажных гадов на свете — может, кто и польстится на эти деньги…» Ему писали и о том, что за ним установлена слежка, и о том, что все контрреволюционеры, и особенно Эберт с его подпевалами, счастливы будут избавиться от него. Его просили быть поосторожней на собраниях и на демонстрациях, на митингах и заседаниях, потому что ходят слухи, что кто-то намерен именно так, в толпе, чтобы замести следы, стрелять в него.
Не было в этих заботливых письмах преувеличений. Он и сам уже знал, и про слежку, и про объявленную ценность его головы, и про то, что предпринималась не одна попытка арестовать его. Он понимал, должно быть, и то, что в конце концов с ним сумеют расправиться, и делал из этого выводы: пока жив, надо как можно больше успеть.
24 декабря была предпринята новая попытка контрреволюционного переворота. Сигналом к ней должно было послужить разоружение Народной морской дивизии, сочувствовавшей идеям «Союза Спартака».
Революционно настроенные матросы, ничего не подозревая, шагали по Берлину. Вот они прошли Бранденбургские ворота; на лицах улыбки, шаг четкий, маршевый. И вдруг откуда ни возьмись отряд генерала Лекки. Солдаты внезапно набросились на мирную демонстрацию матросов, и началась бойня. И так же внезапно — на этот раз внезапно для убийц — гигантская толпа народа окружила нападающих такой плотной стеной, что отряд потерял возможность маневрировать. Будто кто-то бросил клич — со всех районов Берлина стекались рабочие, толпа все густела и густела, и в конце концов вооруженный до зубов отряд должен был бежать от невооруженных пролетариев.
Вторичная попытка осуществить план Эберта — Тренера сорвалась.
«Кровавым сочельником» был назван этот день.
Народное возмущение поднялось так дружно и было так велико, что даже лидеры «независимых» сочли за благоразумное выйти из правительства. В противном случае им грозила полная утрата популярности и доверия у народных масс. Их место в правительстве занял Густав Носке и другие правые социал-демократы.
Не более как красивый жест со стороны «независимцев» — Эберт и сам вот-вот собирался выставить их из числа «народных представителей».
Возмущение рабочих рвалось наружу. И опять-таки не было у «Союза Спартака» физической возможности осуществить в этот весьма подходящий день организацию масс и, воспользовавшись царившими среди всего населения Берлина и даже воинских частей настроениями, свергнуть правительство предателей и захватить власть в руки пролетариата.
Но рабочие и сами начали действовать: самочинно завладели редакцией «Форвертс» — с недавних пор органа правительства — ив этом помещении начали выпускать свою газету «Красный Форвертс».
29 декабря берлинцы хоронили матросов, павших во время кровавого «разоружения» морской дивизии. Провожали погибших тысячи жителей Берлина. А вслед им неслись с тротуаров проклятья.
Буржуазия проклинала и убитых матросов и тех, кто в колонне шел за гробами. Проклинали идущих по дороге, тех, кто хотел освободиться от стоящих на тротуарах и толком не знал, как это сделать.
На плакатах, которые несла похоронная процессия, растянувшаяся через весь город до самого кладбища, были написаны слова, звучавшие в эти дни в Берлине как пароль: «Долой правительство Эберта — Шейдемана!»
А рядом у серых мрачных домов бегали мальчишки и наклеивали на стены «обращение к германскому народу»:
«Брутус, ты спишь!
Проснись!
Проснись, германский народ!
Пойми грозящую тебе опасность — большевизм!
Каждый в бой против «Спартака»!
Германский народ, проснись!»
Обращение это могло бы с успехом появиться и в тридцатые годы, когда к власти пришел Гитлер. Когда германский народ надолго поразил тяжелый смертельный шок. Когда революция была на многие годы забыта и самое слово это только шепотом повторялось в глубоком подполье немногими уцелевшими коммунистами.
Борьба с вооруженными выступлениями контрреволюции стала хорошей школой для трудящихся. Недовольство социал-демократическим правительством росло, все чаще возникали забастовки, все больше предъявляли бастующие политических требований. Даже в независимой партии начались серьезные разногласия между частью членов этой партии и ее руководством, в сущности ничем не отличавшимся от Шейдемана. Внутри партии образовалась оппозиция из левых «независимцев».
Вспоминая эти дни, Клара Цеткин писала: «По своему содержанию и историческому смыслу революционная борьба все время продолжала развиваться по восходящей кривой».
Но при всей этой благоприятной для революции обстановке пролетариат оставался беспомощным: роковым образом сказывалось отсутствие массовой революционной партии.
Еще в начале декабря в «Роте фане» была напечатана статья Либкнехта «Вооружить революцию!». Он писал, что контрреволюция во главе с Эбертом возлагает надежды на сплоченные кадры возвращающихся на родину фронтовых отрядов. Он писал, что только часть солдат приняла активное участие на стороне революции, в целом же войска попали под различные контрреволюционные влияния, которые разожгли в них шовинизм — этот жизненный эликсир милитаризма. Милитаризм в действующей армии не разбит, он возрождается, он уже возродился. На это и рассчитывает контрреволюция. Слово «порядок» — такое магическое для немцев — используется во все часы жизни и имеет неотразимое действие. Революционную силу масс этим словом «порядок» сдерживают и парализуют, вместо того чтобы развивать и стимулировать. Над революцией нависла угроза. «Массы пролетариата должны немедленно вооружаться; тогда революция будет вооружена и готова отразить любой удар, разрешить любую задачу».
Призыв Либкнехта не был воплощен в действие. Слишком долго руководство «Союза Спартака» надеялось, что ему удастся вывести на революционный путь большинство рядовых членов социал-демократической партии и партии «независимцев». Ошибка была очевидна: надежды не оправдались. Революционный пыл, охвативший поначалу действительно большинство членов этих партий, с помощью провокаций и пропаганды Эберта — Шейдемана постепенно угасал.
Ошибку надо было исправлять. Пока не поздно. И — если еще не поздно.
«Союз Спартака» обратился с призывом к другим революционным группам — создать свою массовую пролетарскую партию. Беспринципность руководителей «независимцев» стала настолько циничной и очевидной, что дальнейшее пребывание спартаковцев в одних рядах с ними было уже невозможным.
В конце декабря 1918 года в Берлине, на Циммерштрассе, 77, в полупустой просторной комнате вокруг большого стола собрались Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Франц Меринг, Вильгельм Пик, Лео Иогихес, Герман и Кете Дункер и еще несколько человек. Все те, кто был руководителем и создателем «Союза Спартака» — ядра будущей Коммунистической партии Германии. Не хватало только Клары Цеткин — после долгого тюремного заключения она тяжело заболела и находилась между жизнью и смертью.
Во главе стола стоял Карл Либкнехт. Рядом с ним сидела Роза Люксембург в черной юбке и белой, наглухо закрытой кофточке, с измученным лицом и огромными горящими глазами.
В сущности, это было не заседание — жаркая беседа группы единомышленников, группы борцов за свободу, от которых — как они думали — все еще зависит спасение революции. Здесь не было ни одного, кто не болел бы душой за великое дело, ни одного, кто не понимал бы всего значения вопроса, по которому они собрались.
Либкнехт, склонившись над столом, чтобы своими близорукими глазами лучше видеть сидящих, страстно доказывал: нужно немедленно и публично и сегодня же размежеваться с «независимцами», основать свою, решительную и непримиримую, сплоченную и единую по духу, с ясной программой, целями и средствами, отвечавшими интересам мировой революции, партию. Такой партией может быть только марксистская коммунистическая партия. В сущности, доказывать было некому. Доказывал он тем, незримым, кто соберется на учредительный съезд, а не тем, кто сегодня договаривается о его созыве.
Роза Люксембург, откинувшись на спинку стула и подперев рукой тяжелую от массы волос голову, внимательно смотрела на говорившего и время от времени вставляла веские замечания: очень важен вопрос о союзе с крестьянством, который должен стать одним из главных пунктов программы… не забыть вопрос о профсоюзах… отчетливо о тактике… надо создать единый фронт для защиты революции…
Единодушно решили созвать учредительный съезд, на котором решить вопрос о создании Коммунистической партии Германии, 30 декабря.
Основной доклад поручили сделать Либкнехту.
Учредительный съезд собрался в разгар гражданской войны, которую Эберт в союзе с белыми генералами начал в Берлине против революционных рабочих, солдат и матросов. Он продолжался три дня.
Либкнехт сделал доклад о кризисе НСДПГ и необходимости создания коммунистической партии.
— …Нашу программу и наши принципы мы давно уже применяем на практике, — говорил он, — остается только формально закрепить их…
Он говорил, что НСДПГ — дитя войны, что с самого начала она состояла из самых различных элементов, что она плод распада социал-демократической партии, распада, который и теперь еще продолжается. И вся ее борьба, еще в парламенте, носила и носит до сих пор характер не целеустремленный, не классовый, а постоянно лавирующий, без теоретически ясных положений, без программы действия. Представление независимой партии о революции, весьма ограниченное вначале, стало беспринципным в разгар революционных действий. Спартаковцам с ними больше не по пути. Пришло время организационно отмежеваться от партии, возглавляемой оппортунистами и ревизионистами. Дальнейшее пребывание спартаковцев в этой партии означает солидарность с контрреволюцией. Действовать нужно сегодня и сегодня же образовать новую самостоятельную партию, решительную и непримиримую.
Роза Люксембург выступила с докладом о программе партии. Центральной задачей ее выдвигалась задача борьбы за социалистическое преобразование общества, за диктатуру пролетариата.
Съезд принял резолюцию, в конце которой говорилось:
«Общегерманская конференция «Союза Спартака» шлет братский привет борющимся пролетариям всех стран, призывает их к совместной борьбе за мировую революцию и постановляет: разрывая организационные связи с НСДПГ, «Союз Спартака» образует самостоятельную партию под названием Коммунистическая партия Германии…»
Ленин писал об этом историческом событии: «..когда «Союз Спартака» назвал себя «коммунистической партией Германии», — тогда основание действительно пролетарского, действительно интернационалистского, действительно революционного III Интернационала, Коммунистического Интернационала, стало фактом».
Но руководство Коммунистической партии Германии не имело ни опыта, ни ясного представления о тактике в демократической революции. Разрабатывать эту тактику уже не было времени.
«Величайшая беда и опасность Европы, — писал Ленин в ноябре 1918 года, — в том, что в ней нет революционной партии. Есть партии предателей, вроде Шейдеманов, Реноделей, Гендерсонов, Веббов и К°, или лакейских душ вроде Каутского. Нет партии революционной».
Такая партия родилась в Германии. Но невозможно массовую марксистскую партию создать в несколько недель. Нужно было время, а оно было утрачено.
Коммунистическая партия родилась в Германии. Но революция была при смерти. Она начала умирать в день своего рождения.
Глава 12 «Trotz alledem!» «Несмотря ни на что!»
О последние дни он почти не бывал дома. Софья Либкнехт жила в Штеглице, на Бисмаркштрассе, 75, с Гельми и Робертом. Веру отправили к друзьям, в Голландию.
Солдат, из тех, что в ноябре примкнули к спартаковцам, был оставлен в семье Либкнехта для охраны. От чего? От всего, что можно было ожидать в это смутное время, в дни бешеного преследования коммунистов, беззастенчивого разгула контрреволюции.
Изредка Карл забегал домой; в остальные дни солдат лаконично передавал: «Кланяется. Все у него в порядке, сказал, чтоб не ждали и не волновались».
Солдат поддерживал с ним постоянную связь через товарищей.
Софья Либкнехт жила в вечном страхе и тревоге — квартира то и дело подвергалась налетам полиции. Днем и ночью семью Либкнехта терроризировали угрозами: как только хозяин разыщется, можно будет с ним прощаться. Не раз, независимо от времени суток, врывались черносотенцы, площадно ругаясь, грохоча сапогами, стуча прикладами ружей. Сыновья уже перестали пугаться — насупленные, сдерживая дрожь отвращения и ужаса, они покорно вставали с кроватей, предоставляя возможность «искать» под матрацами «скрывающегося преступника» — отца.
В Берлине, да и во всей стране, творились страшные вещи. Со времени Исключительного закона против социалистов не было такого преследования инакомыслящих. Только тогда кайзер и его правительство преследовали социал-демократов за то, что они возглавляли рабочее движение, а теперь социал-демократы преследовали рабочих за участие в революции. Во времена Бисмарка не снился такой отвратительный террор, и никогда еще не было при кайзере такого циничного разгула реакции.
Только четырнадцать лет спустя повторилось подобное: девятнадцатый год Эберта был генеральной репетицией тридцать третьего — гитлеровского.
Рождение коммунистической партии внесло смятение в ряды эбертовцев: коммунисты — это уже опасно. «Новое правительство» отлично знало, что именно коммунисты — или большевики, что одно и то же, — сумели довести до конца революцию в России. С коммунистами надо было бороться сразу и любыми средствами, пока они не успели как партия окрепнуть, пока не перетянули на свою платформу пролетарские массы Германии. Революцию следовало добить безотлагательно, пока она не ожила и не осознала свои силы.
Густав Носке, бывший губернатор Киля и член эбертовского правительства, по внешнему облику схожий с бандитом с большой дороги — короткое грузное туловище, пудовые кулаки, печать вырождения на лице, — садист по убеждению и палач по призванию, охотно взял на себя роль душителя. На узком, закрытом заседании правительства, когда обсуждался вопрос о плане окончательного разгрома ноябрьской революции, кто-то спросил Носке, не возьмется ли он возглавить это «высокопатриотическое дело»? Пожав плечами и грубо хмыкнув, Носке, не задумываясь, ответил:
— Почему бы и нет? Кто-нибудь из нас должен же взять на себя роль кровавой собаки!..
«Кровавая собака Носке» — так и вошел этот выродок в историю.
Разумеется, громить надо было прежде всего оплот революции — берлинский пролетариат. Носке назначается главнокомандующим войсками «по наведению порядка». В столице объявлено осадное положение.
Осадное положение? Давно ли боролись против него вместе со спартаковцами и «независимцы»? Давно ли его ставили в вину кайзеровскому правительству?
А теперь осадное положение объявили «народные представители» и направлено оно было против революции.
Но нельзя же, в самом деле, за здорово живешь начать стрелять в людей, идущих по улицам, или врываться к ним в дома и убивать там! Это стало возможным через четырнадцать лет — недоделки Эберта исправил Гитлер. Но у Эберта и Носке было более сложное положение: революция все еще держалась на гребне, и неизвестно, надолго ли хватило бы у народа терпения и веры в правительство. Поэтому следовало действовать под маркой «наведения порядка». А чтобы наводить порядок, надо было вызвать беспорядки — спровоцировать их, а затем усмирить.
Повод был выбран удачный: 4 января правительство сместило берлинского полицей-президента, левого «независимца» Эйхгорна и назначило на его место правого социал-демократа Евгения Эрнста.
Эйхгорн отказался выполнить приказ об устранении от должности, мотивируя тем, что он поставлен на пост полицей-президента исполнительным комитетом и подчиняется только ему. В исполнительном комитете подавляющее большинство было на стороне правительства, но правительство не пожелало даже выполнить такой формальности — получить санкцию исполнительного комитета, которая вне сомнений была бы дана. Правительство предпочитало бойню, а бойня могла быть только в том случае, если бы рабочие поддержали эйхгорновское требование. Правительство рассчитало правильно: рабочие поддерживали Эйхгорна и возмутились произволом, совершенным над ним. В тот день была выпущена листовка о созыве на 5 января массовой демонстрации. «Удар, нанесенный Эйхгорну, метит в германский пролетариат, в германскую революцию», — писалось в листовке.
Экстренное совещание революционных старост и Центрального правления берлинских организаций «независимцев», на котором присутствовали от компартии Либкнехт и Пик, постановило организовать на следующий день в 2 часа демонстрацию протеста ЦК компартии присоединился к решению призвать рабочих к массовой стачке и демонстрации Совместное воззвание старост, «независимцев» и компартии появилось в обеих газетах — «Роте фане» и «Ди фрайхайт». Никто не знал о том, что войска уже стянуты к Берлину На всякий случай было решено, что на демонстрацию должны явиться и отряды вооруженных рабочих, созданные на предприятиях, к сожалению, в очень небольшом числе.
5-го, в воскресенье, полумиллионная демонстрация вышла на улицы Берлина Из колонн то и дело раздавались возгласы «Долой кровавых собак Эберта — Шейдемана!», «Да здравствует Либкнехт!», «Да здравствует Люксембург!» С балкона полицей-президиума Либкнехт произнес речь, разоблачавшую контрреволюционные действия правительства, и требовал разоружения контрреволюции. Отряды революционно настроенных солдат стали раздавать оружие рабочим.
Между тем ЦК компартии не считал возможным призывать к вооруженному восстанию рабочий класс не подготовлен, оружия ничтожно мало, военный порядок не организован и невозможно в течение нескольких часов организовать его, а главное — только очень незначительная часть армии присоединилась к революции.
Демонстранты, однако, вооружились стихийно. «Вооружение» выглядело игрушечным С таким оснащением соваться в драку с прусской армией равносильно было самоубийству.
Бряцая оружием, прошли колонны по берлинским улицам — и разошлись А Эберт, Шейдеман, Носке потирали руки, рабочие к восстанию совершенно не подготовлены, успех их исключается, однако преждевременное выступление, безусловно, состоится. Правительство добилось, чего хотело.
Вечером 5 января семьдесят революционных старост (всего одна пятая — коммунистов, остальные — члены независимой партии) собрались, чтобы решить сложный вопрос: организовать и возглавить восстание или попытаться убедить массы в его преждевременности и вероятности плохого исхода.
Пока шли бурные дебаты, прибежал активист одного завода и взволнованно сообщил, что народ по собственной инициативе начал действовать: снова захвачено помещение «Форвертс» и несколько других газетных предприятий Берлина. Теперь уже поздно было думать о том, чтобы отложить восстание; теперь надо было сделать все возможное, чтобы оно сразу же не захлебнулось в крови.
С мест один за другим подымались представители предприятий и районов. Представитель Народной морской дивизии авторитетно заявил, что находящиеся в Берлине войска примут сторону восставших, что по решению революционных старост они готовы обратить оружие против правительства. Представитель от рабочих Шпандау заверил, что все средства вооружения, которыми располагают артиллерийские склады, по телефонному звонку будут доставлены в город. О настроении народа нечего было и говорить. И роковое решение было принято: начать борьбу против правительства вплоть до его свержения, поддержать отряды, занявшие газетные предприятия, призвать рабочих к генеральной стачке.
Роковое решение, которое обрекло на гибель завоевания ноябрьской революции.
Через несколько минут все, что говорилось на заседании старост, стало известно в имперской канцелярии — там ликовали.
Была уже поздняя ночь, когда революционные старосты разошлись выполнять собственные постановления. И, только выйдя на улицу, поняли они, что восстание уже началось.
Весь вечер агенты Эберта подстрекали рабочих к действию. Они же руководили захватом газетных предприятий и телеграфного бюро Вольфа. Разумеется, все это делалось от имени спартаковцев, чтобы затем обвинить их в призыве к вооруженному выступлению.
Рано утром выступило уже множество рабочих отрядов — тысячи человек. Возводили баррикады на улицах и во дворах, добывали где возможно оружие. Сотни людей, спровоцированные теми же агентами, ринулись к саперным казармам и устроили там осаду. У дома военного министерства произошло первое вооруженное столкновение. Здания, которые неизвестно для чего занимались рабочими отрядами, руководимыми подосланными правительством людьми, — никакого стратегического значения эти здания не имели — приходилось оборонять. Силы, таким образом, бессмысленно дробились, и это было очень удобно для их уничтожения.
Революционный комитет не разработал плана действий, и нельзя было понять, что же делать дальше. Рабочие отряды, никем не руководимые, не были даже связаны между собой.
В манеже — штаб-квартире революционного комитета — было шумно, пестро и людно. Приходили депутаты от полков и ставили условия: если им гарантируют, что нынешнее правительство, которому они подчинены, более не правительство, они готовы присоединиться к революции. Приходили представители рабочих и требовали оружия — оружия у комитета не было. Из Шпандау поступили тревожные вести: не только по первому телефонному звонку не было выслано оружие — саперы воспротивились выдаче его из артиллерийских складов, — но шпандауские рабочие сами запросили помощи. Берлинский гарнизон и морская пехота поддержать восстание отказались.
У здания манежа стояла тесно сгрудившаяся толпа и ждала указаний и руководства. А революционный комитет заседал. Сутки, вторые, третьи. Решались важные вопросы, шли жаркие споры; людям на площади надоело ждать, и на второй день их стало заметно меньше, а к третьим суткам площадь начала пустеть.
Центральное правление независимой партии высказалось против свержения правительства — правление тоже заседало, здесь обсуждались меры по ликвидации выступления. Обсудили и решили, предложить революционному комитету вступить в переговоры с правительством и уладить «конфликт» между ним и рабочими.
Пятьдесят членов революционного комитета из семидесяти проголосовали за переговоры. Переговоры длились четыре дня. А тем временем…
Тем временем на улицах Берлина избивали тех самых рабочих, с которыми революционный комитет собирался «улаживать конфликт».
Густав Носке ввел в Берлин белогвардейские войска. Уже не слышно было ружейной перестрелки — гром пушек и стрекот пулеметов заглушили ее. Город в тайном приказе был разбит на семь районов, в каждом районе разместились войска, во главе каждого войска стоял «преданный отечеству» генерал.
Берлин утопал в крови. Здания, в которых оборонялись рабочие отряды, обстреливались из минометов и пушек. Парламентеров убивали на месте, шквальным огнем рушили баррикады. В столичных моргах стало тесно — трупы «неизвестных» привозились сотнями. Через два месяца после своего рождения германская революция была расстреляна.
В тот день, когда революционный комитет постановил вступить в переговоры с правительством, ЦК Компартии Германии отозвал из него своих представителей — Либкнехта и Пика. И в тот день, когда военные банды Носке заполонили Берлин, когда все первые полосы газет чернели аншлагами «В Берлине все спокойно!», «Спартаковцы разбиты!», когда новый полицей-президент объявил премию за поимку Либкнехта и Люксембург, вожди компартии вынуждены были уйти в подполье.
Эту меру давно уже подсказывал здравый смысл — слежка за ними велась непрерывно? но пока существовала хоть малейшая надежда на победу, пока революция была еще жива, они находились с народом, и было им не до здравого смысла.
В последний раз Либкнехт ночевал дома в ночь на 10 января. А потом начались скитания.
И он и Роза Люксембург непрерывно меняли квартиры, но квартиры были открыты для посетителей: приходили партийные работники, приходили сотрудники «Роте фане». Не так уж трудно было выследить их; до поры до времени им просто везло.
Несмотря на разгром революции, несмотря на физическое уничтожение многих сотен революционеров, расправа с компартией оставалась для контрреволюции задачей номер один. Народ успел поверить в призывы спартаковцев, народу по душе пришлась коммунистическая программа молодой партии. Народ мог еще сплотиться вокруг коммунистической партии, и тогда неизвестно, чем кончилось бы через некоторое время для эбертов и носке их кровавое царствование. Время тут решало многое, время надо было урезать до предела, чтобы коммунисты не успели прийти в себя, чтобы не окрепла партия, чтобы не встала во главе новой революции. Следовало вырвать у народа знамя, с которым он мог выиграть битву.
Все средства здесь были хороши — от клеветы на партию и ее вождей до прямого убийства.
В ночь с 10 на 11 января была организована специальная экспедиция из двадцати четырех человек, вооруженных ручными и станковыми пулеметами. Экспедиция предназначалась не для уличных боев, не для осады занятого революционными рабочими здания — пулеметы понадобились, чтобы… арестовать и убить Либкнехта и Люксембург. Не первая то была попытка, но на сей раз бандитам дали твердый приказ: «задание» выполнить во что бы то ни стало.
Месяца за полтора до этого комендант Берлина Фишер создал при комендатуре шпионскую сеть спецназначения, так сказать, «для внутреннего употребления». Среди подобранных Фишером матерых шпионов и предателей был некий Гассо Тишка — тип, лишенный каких бы то ни было нравственных устоев. 9 декабря Фишер по поручению Шейдемана направил Тишку в погоню за Либкнехтом, которого следовало доставить живым или мертвым, а лучше мертвым. Тишка свою миссию на первый раз не выполнил — найти Либкнехта в тот день не удалось. Более того, пришлось арестовать самого Тишку, чтобы не выплыла наружу тайная шпионская организация Правда, через три дня его выпустили, да еще выплатили «в возмещение убытков» пять тысяч марок. Но с тех пор шпион затаил злобу против Либкнехта и мечтал о дне, когда будет, наконец, возможно расквитаться с ним. Тишка участвовал в экспедиции, снаряженной в ночь на 11-е. Тишка твердо решил — уж теперь-то он свое возьмет. Но ему снова не повезло: ни Либкнехта, ни Люксембург в доме, на который указал один подонок, прельстившийся наградой, так и не обнаружили.
Тишка был не одинок. Свора наемных убийц и шпиков рыскала по Берлину в поисках коммунистических вождей. Призывы к убийству руководителей «Союза Спартака» раздавались на улицах, кричали с плакатов и страниц газет — как архиреакционных, так и социал-демократических. Клеветали в прессе на все голоса: Либкнехт и Люксембург попрятались, заботясь о своей шкуре, народ же, который они втянули в кровавую авантюру, брошен на произвол судьбы, и соратники их должны теперь отвечать перед правительством своими жизнями.
Начальник берлинской полиции, «успокаивая» население, оповестил через прессу всех берлинцев, что полиция занимается ловлей «главных» спартаковцев, а за квартирой Либкнехта установлено постоянное наблюдение.
Но был и тайный шпионаж, быть может сыгравший роковую роль в гибели Либкнехта и Люксембург: в совершенно секретном приказе Густав Носке установил слежку за всеми телефонными разговорами на всех телефонных станциях Берлина. И об этом последнем приказе ничего не было известно ни тем, кого ловили, ни тем, кто их оберегал.
Штаб гвардейской стрелковой кавалерийской дивизии — той самой, которая с момента введения в Берлин стала главным отрядом контрреволюционных войск, — должен был выполнить нелегкую задачу: выследить, схватить и уничтожить Либкнехта и Люксембург. Носке не очень-то надеялся на продажных тварей из комендатуры, еще меньше того рассчитывал он на полицию — Носке доверял только своим войскам, уж они-то не подведут главнокомандующего.
Тот трагический день 15 января был хмур и холоден. Жестокий ветер срывал шляпы с голов, гнал их по грязным, не отмытым от пролитой крови тротуарам, в клочья рвал афиши и плакаты. Ветер свирепствовал до позднего вечера, а потом внезапно затих, и на безлюдных улицах гулко отдавались самые негромкие звуки.
В Штеглице, на Бисмаркштрассе, 75, в квартире Либкнехта тоже стояла напряженная тишина. Здесь жили, как уже привыкли жить в эти тяжкие грозовые дни. Жена и два сына, как и прежде, ждали весточки от мужа и отца. Вчера он, махнув рукой на всякую осторожность, дерзко, среди бела дня пришел к ним. Никто не думал, что вчерашнее свидание было последним.
Софья Либкнехт знала, что теперь он скрывается у старых друзей своей матери — в семье адвоката Маркуссон, в Вильмерсдорфе, буржуазном районе в западной части города, где — как предполагалось — менее всего могут разыскивать Карла. Софья знала, что и там не безопасно, но все-таки безопасней, чем дома. Знала, что за их квартирой неусыпно наблюдают. Знала, что в любую минуту может ворваться очередной отряд вооруженных бандитов и учинить очередной обыск, раскидав и перевернув все в доме…
Знала. Одного только не знала она — мужа ей больше никогда не увидеть живым.
У Либкнехта и Люксембург этот день ничем не отличался от многих предыдущих. Звонил телефон, приходили и уходили люди; под утро просматривался перед выходом в свет очередной номер «Роте фане»; совещались с членами Центрального Комитета компартии. Все время возле них находился Вильгельм Пик — таково было тайное поручение ЦК.
Накануне их хотели вывезти из Берлина, но это оказалось невозможным: белогвардейцы, шпионы, полиция и так называемое гражданское ополчение заполнили все улицы и переулки, оцепили все городские предместья.
Либкнехт и Люксембург сидели взаперти, в квартире Маркуссонов, на Маннгеймерштрассе, 43, и каждый занимался своим делом. Как будто не нависла над ними смертельная угроза.
В середине дня берлинцы уже получили номер «Роте фане» и читали последнюю статью Либкнехта — «Trotz alledem!» — «Несмотря ни на что!».
Невозможно сегодня без внутренней дрожи, без глубокого преклонения перед тем, кто писал их, читать эти строки, вылившиеся из окровавленного сердца Карла Либкнехта. Даже если не знать о Либкнехте ничего другого, а знать только одну эту статью и то, как, когда, при каких обстоятельствах она писалась, можно понять, какого Человека потерял немецкий народ.
«…«Спартак повержен!» — ликует газетный хор от «Пост» до «Форвертс»…
«Спартак повержен!»
Да, это так! Революционные рабочие Берлина потерпели поражение! Сотни лучших из них растерзаны! Верно! Многие сотни преданных нам людей брошены в тюрьмы!
Верно! Они разбиты… И победили Эберт — Шейдеман — Носке…
Но есть поражения, которые становятся победой, и победы, более роковые, чем поражения…
Сегодняшние побежденные станут завтра победителями. Ибо поражение послужит им уроком… А путь к победе ведет через поражение.
Но что ждет сегодняшних победителей?
Дело, которому они служили, творя свою подлую, кровавую расправу, — подлое дело… Они уже пригвождены к позорному столбу истории. Мир еще не видел подобных иуд: они не только предали все самое для себя святое, но и собственными руками распинали его…
«Спартак повержен!»
Тише, вы, там! Мы никуда не бежали, мы не разбиты. И пусть они попробуют заковать нас в цепи, — мы все-таки здесь, мы останемся здесь! И победа будет за нами… Волны событий вздымаются все выше и выше — нам ведь не привыкать к тому, что нас то вознесет на вершину гребня, то бросает в бездну. Наш корабль стойко и гордо идет своим курсом к намеченной цели.
А будем ли мы живы или нет, когда удастся достигнуть цели, все равно — жить будет наша программа; она станет господствующей в мире освобожденного человечества. Несмотря ни на что!»
«Будем ли мы живы, все равно…»
Нет, не все равно — ни немецкому пролетариату, ни коммунистической партии не все равно.
Но и предателям социал-демократам, но и военщине и круппам не все равно! Палачи уже отточили топор, жить — считанные часы.
В большом пятиэтажном доме с балконами вечерняя тишина. Улица пустынна. Только патрули белогвардейцев и «гражданского ополчения» циркулируют в разные стороны. Возле дома № 43 — группа вооруженных людей, с ручными гранатами и в касках. Они сгрудились у входных дверей, тесно закрыв собой входы и выходы.
Наверху, в квартире адвоката Маркуссона, пишет что-то Либкнехт. Роза Люксембург, с сильной головной болью, прилегла отдохнуть, впервые за много дней и ночей позволив себе надеть свободный домашний халат.
Внезапно тишина грубо нарушена: топот многих ног, бегущих по лестницам, стук и бряцанье оружия. Потом грохнули двери и истерично зазвенел звонок — должно быть, застряла кнопка.
Было уже начало десятого. Несколько белогвардейцев и двое в штатском ворвались в квартиру. Сразу же набросились на Либкнехта — очевидно, знали не только расположение комнат, но и в какой из них кто находится; скрутили за спину руки и вытащили на улицу. Возле комнаты, в которой дремала Роза, поставили нескольких солдат — чтобы не сбежала. Походя задержали и Пика, объявив, что он арестован.
Никто не предъявил ордера на арест. Но нелепостью было бы сопротивление трех безоружных людей, из которых одна была женщиной.
Либкнехта погрузили в автомобиль, и двое штатских — инженер Линднер и трактирщик Меринг, оба из «гражданского ополчения» — вернулись за Люксембург. В присутствии солдат и «ополченцев» больную женщину заставили одеться, вывели вместе с Вильгельмом Пиком на улицу и увезли на другом автомобиле.
Ехать было недалеко — арестованных везли в аристократический отель «Эден», самый комфортабельный и самый большой отель в Берлине. Сейчас здесь располагался штаб гвардейской кавалерийской дивизии.
Люксембург увели в бельэтаж, где ее допрашивал начальник штаба капитан Пабст. Либкнехта втолкнули в какую-то комнату и тоже начали скоростной допрос; о Вильгельме Пике забыли, и он остался в огромном, роскошно обставленном вестибюле.
В вестибюле полно было офицеров и солдат, они громко переговаривались друг с другом, не обращая внимания на Пика.
— В Моабит? Как же! — посмеивался один.
— Ни он, ни она не выйдут отсюда живыми, — подтвердил другой.
Вильгельм Пик вслушивался до боли в ушах в каждое слово, но больше ничего не услышал — его увели наверх, туда, где находилась Люксембург, поставили в коридоре лицом к стене под охраной двух солдат.
Он слышал, как по лестнице выводили Либкнехта, слышал брань и проклятья, посылаемые ему вслед жильцами отеля. Через некоторое время вывели и Розу. А Пик все стоял, прислонившись горячим лбом к прохладной стене, и напряженно вслушивался. Внезапно отель заполнился нечеловеческим криком. Кричала женщина…
И сразу же после этого стало мертвенно тихо в огромном отеле, так тихо, что Пик услышал чьи-то тяжелые шаги в вестибюле, на первом этаже. Шаги слышались все ближе и ближе, и, наконец, к сторожившим его солдатам подошел кто-то — как потом выяснилось, солдат Рунге — и сказал, что ему велели пристрелить третьего арестанта прямо тут, в коридоре.
Невероятным напряжением воли Пик подавил волнение и ровным голосом заявил:
— Не понимаю, почему меня тут держат? Я корреспондент большой газеты, близкой к правительственным кругам. Я требую, чтобы вы меня отвели к вашему начальнику!
Тон приказа лучше всяких уговоров подействовал на солдат — Пика отвели к капитану Пабсту. И тут он сказал то же самое, выдал себя за известного буржуазного журналиста, пригрозил, что самый факт задержания его чреват для господина капитана крупными неприятностями.
По правде говоря, Пабсту наплевать было на третьего арестанта — главное задание он выполнил. И он отпустил Пика на все четыре стороны.
Между тем, пока Пик стоял у стены в коридоре, происходило следующее.
И Либкнехту и Люксембург после короткого и грубого допроса бросили: в Моабит! Первым вывели Либкнехта. Площадь перед отелем давно уже была пуста, и ни один посторонний не мог видеть того, что здесь произошло.
Едва Либкнехт сделал шаг из дверей «Эдена», как кто-то со страшной силой ударил его по голове. Он качнулся, упал, потеряв сознание. Его ударили вторично. Бил стоявший «на карауле» солдат Рунге.
Солдаты подхватили недвижимое тело и втолкнули его в машину. Автомобиль на предельной скорости помчался по пустынным улицам по направлению к Шарлоттенбургскому шоссе, откуда дорога шла к Моабитской тюрьме.
Мертвая площадь перед отелем, мертвые улицы, полумертвый Либкнехт в машине.
А вокруг него вооруженные револьверами и ручными гранатами офицеры — Горст и Гейнц Пфлуг-Гартунг, Штиге, Липман, Ритген, Шульц — и солдат Фридрих.
Автомобиль мчится по огромному пустынному в этот час Тиргартену. От шоссе во все стороны бегут в темноту безлюдные тропки.
Внезапно машина останавливается.
— Авария! — бросает водитель.
Это сигнал.
Кто-то спросил: «Идти можете?» Либкнехт не понял вопроса — сознание еще не до конца прояснилось.
Двое поддерживали его справа и слева, двое шли спереди и сзади. Он едва волочил ноги, но от него и не требовали быстрой ходьбы. Идти было некуда, только чуть отдалиться от машины, чтобы инсценировать попытку к бегству.
Он сделал шаг. Другой. Третий. На четвертом одновременно раздались два выстрела. Из револьверов. В голову. Он упал.
От офицеров Горста Пфлуг-Гартунга и Липмана не требовалось меткости — они стреляли почти в упор.
Либкнехт был убит этими выстрелами. Но — показалось, ненадежно. На всякий случай Пфлуг-Гартунг наклонился и выстрелил в грудь мертвому.
Все остальное проделали быстро — тело в машину, водитель — за руль, офицеры уселись как попало. Автомобиль помчался к зоопарку — там находился приемный покой «Скорой помощи».
Всего десять минут прошло с того момента, как Либкнехт вышел из дверей отеля, до момента, когда его внесли ногами вперед в приемный покой.
— Примите труп! — крикнул Штиге.
— Чей?
— Неизвестного…
Удовлетворенно гогоча, «транспортная команда» вернулась в «Эден». В вестибюле на страже все так же стоял Рунге. Кто-то из прибывших похлопал его одобрительно по плечу. Другой громко похвастался:
— С Либкнехтом покончено! Лопнула, видите ли, нелопнувшая шина, и совершена попытка к бегству.
Когда Пабсту — любимцу и правой руке Густава Носке — доложили, что «дело сделано, приказ выполнен», он велел вывести Люксембург.
У подъезда «Эдена» стоит автомобиль. За рулем солдат Пешель. В кармане у него похрустывают пятьсот марок, полученных от Пфлуг-Гартунга За что? Пешелю это известно…
Розу ведет обер-лейтенант Фогель. И он и Рунге получили от своего капитана Петри приказ: Люксембург не должна попасть в Моабит живой!
И солдат Рунге ждет, притаившись, новую жертву. Он слышит ее шаги. Настораживается. Изготовился. Не дрогнула рука? Не зачастило сердце? Предстоит убить женщину — немолодую женщину. Преступницу? В чем ее преступление?
Нет, эти вопросы не обременяют тупой мозг солдата. Что ему за дело, кому принадлежит голова, — его дело выполнить приказ, за который, возможно, даже наверняка — и ему, как Пешелю, перепадет немалый куш; пожалуй, даже побольше, чем Пешелю.
Люксембург выходит в вестибюль, проходит к дверям. Голова ее высоко поднята, огромные черные глаза пристально всматриваются в окружающее.
Последнее, что она могла видеть, — пустынная улица и автомобиль у подъезда. Ни единой души на площади.
Через несколько секунд Роза Люксембург была повержена: два сильных удара по голове, и сознание оставило ее. Рунге набил руку на первой жертве; вторую, да еще женщину, да еще больную и слабую, удары должны были сразить наповал. Никому не известно — живую ли ее, в глубоком обмороке, поволокли по земле к машине или только ее труп? Никому это не известно.
Известно другое: два изувера дважды еще обрушили на нее — один револьверную пулю, другой — удар прикладом по голове. Стрелял Фогель. Бил Круль, вскочивший в машину уже на ходу. Затем, пошарив в темноте, он снял с руки убитой золотые часы…
Машина ехала почти по следу первой, в которой провезли Либкнехта. У Ландверканала стояла группа солдат. Автомобиль остановился между мостом Корнелиуса и Лихтенштейнским мостом.
Красную Розу выволокли из машины.
Фогель приказал солдатам:
— В канал ее!
И встало на следующее утро зимнее холодное солнце. И, как всегда, в это утро в семье Либкнехта ждали: что-то принесет сегодняшний день? Ждали: какие сведения передаст солдат?
И, как всегда, вышли берлинские газеты, и газетчики выкрикивали их названия и самое сенсационное сообщение, напечатанное в них.
В квартиру, где Софья Либкнехт в привычном уже напряжении ждала вестей от мужа, ворвался с улицы этот крик Он проник через закрытые окна, влетел в комнату и разорвался в ней бомбой.
— Газета «Пост»! Газета «Пост»! Ночью при попытке к бегству убит Карл Либкнехт!..
Дальше она уже не слышала… А следующей фразой было: «Роза Люксембург умерщвлена разъяренной толпой при перевозке в тюрьму».
Такова была официальная версия о трагической гибели пролетарских вождей. Правительство опасалось народного возмущения и предоставило сообщить о подлом убийстве гвардейской кавалерийской дивизии. В сообщениях говорилось о разъяренной толпе, собравшейся у «Эдена», откуда Либкнехта и Люксембург должны были везти в Моабит; о безуспешных попытках охраны оградить арестованных от бесчинства разъяренной толпы; об автомобильной аварии; о попытке к бегству Либкнехта, тяжело раненного той же толпой; о похищении спартаковцами трупа Люксембург… Говорилось много фантастических небылиц и ни одного слова правды.
Правду в те дни знали немногие. Подозревали — все.
Для друзей и соратников Либкнехта и Люксембург сразу отпала версия о разъяренной толпе: Вильгельм Пик рассказал, чему был свидетелем.
Для жены Либкнехта ясно было: зверская расправа; она знала, что на такое бегство Карл не пошел бы. В те страшные январские дни она жила как во сне[8].
Правительство, напуганное возможными последствиями, обещало учредить строжайшее расследование обстоятельств убийства и наказать виновных. Пугаться было чего: взрыв негодования охватил население столицы. В рабочих кварталах возбуждение дошло до предела, тысячеколонные демонстрации шли к отелю «Эден» и там распадались на необозримые толпы.
ЦК Компартии Германии выпустил обращение к пролетариату, в котором раскрывал обман и ложь официальной версии и называл убийц вождей рабочего класса Германии — социал-демократическое правительство Эберта — Шейдемана.
Коммунистические организации подверглись страшному разгрому. Компартия находилась в подполье. Выступлениями пролетариата столицы руководили не спартаковцы, а партия независимых. «Независимцы» на словах возмущались убийством и в то же время уверяли народ в непричастности к нему правительства.
Между тем вспышка гнева и возмущения, вызванная преступным убийством в рабочем классе, могла перерасти в продолжение революции. Вспышку задули.
Еще одна возможность была потеряна — последняя на многие годы.
Сообщение об убийстве Карла Либкнехта и Розы Люксембург в газете «Миттаг» 16 января 1919 года.
25 января столица хоронила Карла Либкнехта и тех, кто погиб в январских боях. Тридцать три гроба, все в цветах и венках, плыли по заполненным людьми улицам Берлина. Первым — гроб Либкнехта. Гроба Люксембург не было — несли ее огромный портрет. Умная, все понимающая улыбка на лице, живые глаза, казалось, с укором смотрели на толпу людей, которые снова дали себя провести. Глаза говорили: «Я рада была бы своей смерти, я хотела умереть на посту, если бы вам это принесло пользу, если бы наше убийство, наконец, пробудило вас и вы продолжали бы то, за что мы погибли…»
Процессия двигалась к Фридрихсфельде — центральному кладбищу Берлина.
Берлин походил на военный лагерь — войска оцепили центральную часть города; у Бранденбургских ворот стояли две пушки, жерла их были нацелены на шоссе, по которому должна была пройти процессия. На Вильгельмштрассе висел огромный плакат: «Стой! Кто пойдет дальше, будет расстрелян».
Многокилометровые обходы должны были делать люди, идущие на похороны. Первоначальное место сбора внезапно было перенесено. Трамваи не ходили, поезда метро не останавливались на центральных станциях; но люди шли и шли через весь город, и ничто не могло их остановить. Изо всех улочек и переулков вливались в траурную процессию человеческие потоки, и казалось, город не в состоянии вместить в себя больше ни одного человека. Но с каждой минутой процессия пополнялась — не одними берлинцами, из десятков немецких городов приехали делегации проститься со своими героями.
Тридцать два гроба революционеров — жертв январских боев; впереди гроб с телом Карла Либкнехта и большой портрет Розы Люксембург вместо тридцать четвертого гроба. Они плыли над нескончаемым шествием людей, над сумрачными улицами Берлина, над Германией, над угнетенным миром.
Через тридцать лет осуществилось пророчество Либкнехта, обращенное к человечеству в предсмертной статье. 7 октября 1949 года образовалась Германская Демократическая Республика. Немецкий пролетариат пришел к власти, пока в одной только части Германии. Несмотря ни на что!
Несмотря на годы лицемерной и лживой Веймарской республики; несмотря на черную эпоху фашизма — боль и позор немецкого народа; несмотря на эбертов, шейдеманов, носке, гинденбургов, гитлеров…
Несмотря ни на что! Trotz alledem!
«Свидетели, выходите!»
Судебный процесс над убийцами Карла Либкнехта и Розы Люксембург начался 8 мая 1919 года. Через сто двенадцать дней после расправы над вождями германского рабочего класса. Сто два дня прошло с похорон Карла Либкнехта. Труп Розы Люксембург все еще лежал на дне Ландверканала.
На скамье подсудимых сидело девять убийц в военной форме германских гвардейских войск. Десятый убийца отсутствовал. Это выяснилось потом.
Отсутствовали и главные убийцы, судьям это было известно заранее.
Кто же они, эти главные убийцы, устроители, организаторы, руководители изуверской расправы над вождями народа? Расправы, достойной рук Гитлера, предтечей которого они были?
«Рабочие, граждане!
Отечество близко к гибели, спасите его!
Ему угрожают не извне, а изнутри:
угрожает спартаковская группа.
Убейте ее вождей!
Убейте Либкнехта!
Тогда вы получите мир, работу и хлеб!»
Этот гнусный плакат, яркими красками и гигантскими буквами пестревший на улицах Берлина, был выпущен «Антибольшевистской лигой». Таинственная организация раскрыла свои карты, решившись на публичное саморазоблачение, только после того, как власть в Германии захватил Гитлер. Основатель «лиги» — ставленник крупной германской буржуазии Эдуард Штадтлер — напечатал книгу «Об антибольшевизме», в которой бесстыдно и хвастливо описал «деятельность» своей организации.
«Антибольшевистская лига» держала в руках нити почти всех контрреволюционных заговоров, стояла в центре всех событий по подготовке, организации и осуществлению всех вооруженных выступлений против революции. «Лига» занималась активной пропагандой против коммунистов, не брезгая при этом ни явной клеветой, ни призывами к убийствам, ни самими убийствами.
Нагло и откровенно признался Штадтлер в своей книге, что имел прямое отношение к уничтожению спартаковских вождей — коммунистов Либкнехта и Люксембург. Он охотно взял на себя роль «связного» между социал-демократическими правителями Германии и штабом гвардейской кавалерийской дивизии; между организаторами убийства и его исполнителями; между тайными и явными убийцами.
Все сохранялось в строгой тайне. Помощник главы «Антибольшевистской лиги» вел секретные переговоры с адъютантом начальника штаба — Горстом Пфлуг-Гартунгом о встрече «самого» Штадтлера с «самим» Пабстом. Встреча состоялась.
Штадтлер явился в «Эден» к Пабсту и очень быстро достиг полной договоренности.
«Блестящий, энергичный, деятельный солдат», захлебываясь восторгом, пишет Штадтлер, капитан Вольдемар Пабст живо откликнулся на гнусные речи вождя «Антибольшевистской лиги». Сразу же выяснилось, что «политические идеи» их абсолютно «созвучны». Между ними не было никаких разногласий; Пабст остался в восторге от Штадтлера, Штадтлер был покорен Пабстом. Посланец правительства, за спиной которого стояла вся финансово-монополистическая головка Германии, объяснял задачу — глава штаба белогвардейской дивизии с полуслова понимал его: ввод войск в Берлин — только полдела; страна объята восстанием, а Национальное собрание, о котором мечтает Эберт, еще не означает ликвидации революции; нужны решительные действия, нужны решительные люди, которые загорятся этими действиями и сумеют искусно провести задуманное в жизнь; поскольку на «нашей стороне не видно пока вождей, — с горечью констатировал Штадтлер, — нужно, чтобы по крайней мере и противоположный лагерь не имел их. Карл Либкнехт и Роза Люксембург в высшей степени опасны, с каждым днем растет их популярность».
В этом месте «глаза майора Пабста заблестели. Он встал, пожал мне руку и воскликнул:
— Благодарю вас! Вы можете на меня положиться!»
Во главе всей группы палачей Пабст решил поставить своего адъютанта Пфлуг-Гартунга, зная, что, в свою очередь, может положиться на него.
После разговора с бравым солдатом Пабстом Штадтлер был совершенно спокоен — он чутьем угадал в своем собеседнике такого же матерого бандита, каким был сам. В одной из совершенно секретных бесед он передал о своей договоренности Густаву Носке, и Носке с удовольствием потирал руки. Носке вообще любил эти тайные встречи со Штадтлером — тот не раз передавал Носке настойчивые требования главарей германских капиталистов сделать его, Густава Носке, именовавшего себя «кровавой собакой», диктатором в стране. У хозяев Штадтлера был хороший нюх — из Носке вышел бы совсем неплохой Гитлер!
Итак, договоренность между шейдемановцами, у которых, к великому их сожалению, «не видно было пока вождей», и штабом дивизии, который взялся уничтожить вождей «противоположного лагеря», была полностью достигнута. И шейдемановцы после приведения гнусного плана в исполнение не остались в долгу перед своими наемниками: они всеми средствами старались укрыть убийц от глаз народных, они приняли меры к фальсификации расследования дела об убийстве, они обеспечили безнаказанность палачам. Процесс, организованный ими в мае 1919 года, был беспримерным актом беззакония.
Но кое в чем пришлось пойти на уступки разгневанному народу: в расследовании разрешили принять участие двум представителям Центрального Совета и двум — исполкома Совета Берлина; правда, и те и другие не представляли опасности, и участие их не следовало принимать всерьез — представители были правыми социал-демократами и «независимцами», ждать от них каких-либо эксцессов не приходилось.
Тем временем командование дивизии опубликовало в «Форвертс» следующее сообщение: «Медицинское обследование установило, что Карл Либкнехт убит тремя выстрелами сзади. Дело юридической стороной полностью выяснено. Расстрел при попытке к бегству следует признать законным». На этом, по мнению командования, «дело» должно быть прекращено за отсутствием состава преступления.
Между тем вскрытие тела, хотя и произведенное специально подобранными врачами, показало совсем другое. Составляя акт, врачи вынуждены были приблизиться к фактическому положению: на вскрытии присутствовали «представители», при них нельзя было поддерживать совершенно лживую версию, объявленную в «Форвертс». Протокол вскрытия констатировал: в Либкнехта действительно стреляли трижды; один выстрел — в грудь, простреливший легкие, два других — в голову; только стреляли не сзади, а сбоку, слева направо, на расстоянии, не превышающем двадцати пяти сантиметров.
Версия о «попытке к бегству» сильно пошатнулась. Чтобы опровергнуть ее, нужны были живые свидетели.
И они нашлись.
Газета «Роте фане», начавшая после убийства главных редакторов снова выходить легально, в первом же номере бросила клич людям доброй воли: «Свидетели, выходите!» Из номера в номер коммунистическая газета повторяла этот призыв, и изо дня в день очевидцев ареста и убийства Либкнехта и Люксембург становилось все больше. Они приходили в редакцию «Роте фане», в исполком Советов, явились потом в суд, и по мере их показаний как мыльный пузырь лопались вымыслы командования дивизии. Штаб был вынужден взять обратно свое преждевременное заявление, сделанное еще до того, как было произведено медицинское вскрытие.
Нашелся служака, привыкший, по-видимому, к честному ведению следствия, — военно-судебный советник Куртциг, — который по наивности ли или в силу укоренившейся дисциплинированности в самом начале расследования потребовал ареста Пфлуг-Гартунга и Фогеля; в их вине он был убежден.
Куртцига сразу же устранили. Был назначен верноподданный человек — военно-судебный советник Иорнс.
Иорнс приступил к выполнению задачи. Прежде всего задача заключалась в бесконечном затягивании расследования. Расчет был примитивен: пройдет время, утихнет возмущение, притупится острота восприятия, и дело можно будет спустить на тормозах.
Мешала «Роте фане»: упорно из номера в номер газета требовала правды, правды и правды; настойчиво и целеустремленно добивалась одного — раскрыть перед народом картину зверского убийства Либкнехта и Люксембург. (Газете этого не забыли: через несколько месяцев «Роте фане» снова была запрещена.)
Разоблачения коммунистической газеты заставили представителей Центрального Совета и исполнительного комитета раскрыть, наконец, перед общественностью преступный ход следствия. Представители заявили, что выходят из игры, и отказались принимать дальнейшее участие в «расследовании». Они умывали руки, чтобы в глазах рядовых членов своей партии окончательно не погрязнуть в этой вонючей клоаке.
Военный советник Иорнс изо всех сил оправдывал свое назначение — запрещал представителям задавать вопросы подследственным, допускал на допросы только с согласия преступников и т. д. Любое предложение о необходимости арестовать всех обвиняемых Иорнс неизменно отклонял.
Если бы «Роте фане» с помощью простых людей, откликнувшихся на ее призыв, не предприняла поисков Рунге — матерый убийца так и избежал бы суда. Следственные органы утверждали, что не могут обнаружить местонахождения Рунге, что он исчез в неизвестном направлении, а возможно, и убежал за границу. Тогда «Роте фане» поместила портрет солдата Рунге, доставленный в редакцию его братом, и вслед за этим кто-то из читателей газеты обнаружил его. Газета опубликовала адрес — Рунге пришлось арестовать.
Компартия срывала маски с представителей военной юстиции, разоблачала махинации Иорнса, требовала учреждения революционного трибунала, который поведет дело об убийстве.
Рассчитывая на «тормоза», буржуазная печать со второй половины февраля вообще прекратила упоминание о «деле». Но «тормоза» не сработали — народ не забывал своих вождей, память у него была отличная. Никто из простых людей Германии не хотел смириться с безнаказанностью подлых убийц Либкнехта и Люксембург, и когда в марте по всей стране разразилась всеобщая забастовка, одним из требований было — немедленный арест всех убийц. И только в страхе перед всенародным бунтом правительство отдало приказ о задержании восьми офицеров — участников кровавых событий 15 января. Солдат Рунге в это время уже находился в следственной тюрьме.
Наконец был назначен день слушания дела. Режиссура суда, доверенная преданному правительству (и мечтающему о высокой карьере) советнику Иорнсу, была разработана до мельчайших деталей.
Гармония тщательно подготовленного судебного водевиля, неожиданно разрушенная новыми свидетелями, несколько обескуражила и публику, и суд, и правительство. Явственно возникла картина жестокого и коварного убийства, ясными стали и усилия штаба дивизии замазать преступление и выгородить преступников.
Но Норне оставался «на высоте»: он просто пренебрег этими свидетельствами, будто и не слышал ни одного слова. Выпущенный на сцену, он своей заранее заготовленной «обвинительной» речью спас положение. Он не изменил и не собирался менять в этой речи ни одного слова — от результатов его усилий в этом процессе зависела вся его дальнейшая карьера.
Приняв живописную позу, нарочито ровным и спокойным голосом, будто рассказывая в тихой аудитории занятный детектив, Иорнс начал свою речь.
Стрелы красноречия были направлены на критику всех, кто пытался критиковать ход следствия и выступать против военного судопроизводства. Излагая суть дела, Иорнс весь удар направил против солдата Рунге, будто в этом тупом варваре, в его личной ненависти скрывались причины убийства. Представитель обвинения палил сразу из двух стволов — один должен был оправдать убийц, другой — успокоить массы беспристрастием прокурора.
Но второй ствол дал осечку — массы не успокоились: рабочие в знак протеста объявили однодневные забастовки и потребовали учреждения революционного трибунала и нового пересмотра дела.
Эберт, ставший тем временем президентом Германской республики, боялся и трибунала и какого бы то ни было пересмотра дела. Как-никак скандал вышел бы на весь мир. Кто знает, удержался бы он на вершине волны, куда вознесла его кровавая предательская деятельность?..
Но и утвердить приговор он тоже боялся. Подобный акт при монархии был прерогативой короля прусского, теперь это право переходило к президенту республики. Соратники и друзья по партии уговаривали новоиспеченного президента взять на себя право высшего утверждения приговоров и не утвердить решение военного суда.
Таким образом можно еще будет как-то спасти престиж социал-демократического правительства и социал-демократической партии. Быть может, тогда кончились бы народные волнения, пролетариат убедился бы, что правительство защищает его интересы, и в стране наступил бы относительный покой.
Но Эберт не решался отвергнуть приговор — это значило, идти на конфликт с «Антибольшевистской лигой» — с магнатами промышленности Германии. А на ком тогда держался бы сам Эберт и его правительство?
Нет, решил он, лучшее решение — самое мудрое: ждать. Пройдет время, и он сможет найти какой-нибудь для всех приемлемый выход.
Страсти и волнения действительно со временем улеглись. Истерзанный и разгромленный немецкий рабочий класс, лишенный своих вождей, не мог больше идти на открытое выступление. Компартия была полностью обезглавлена — почти все ее руководители либо погибли в январских и мартовских боях, либо надолго были засажены в тюрьмы.
А когда волнения улеглись и волна протестов спала, на выручку пришел Носке; ему-то решительно наплевать было на то, что о нем скажет народ — перед ним народ был бессилен: верховный главнокомандующий силен был армией, и она не раз уже проверялась им в боях.
Носке утвердил приговор. На том основании, что это был приговор военного суда, и право утверждать его логически принадлежало верховному главнокомандующему.
Приговор, по которому явные убийцы были в большинстве оправданы либо с помощью «правосудия» бежали от наказания, остался в силе.
Убийцы же тайные не были ни названы, ни привлечены к ответу — они остались на своих высоких постах. Их укрыла от заслуженной кары юстиция Веймарской республики, под покровительством которой они вскоре развернули активную фашистскую деятельность.
Иорнс выиграл больше всех. Сначала Эберт в благодарность за отлично проведенный процесс выдвинул его на одну из высших юридических должностей Германии — назначил государственным прокурором. Затем Гитлер дал ему еще более высокую должность — председателя верховного суда рейха, где Иорнс выносил сотнями смертные приговоры демократам и революционерам.
Главарь шайки убийц Пабст активно содействовал приходу Гитлера к власти, а сейчас живет на пенсии в Западной Германии.
Двое убийц Либкнехта — Горст Пфлуг-Гартунг и Ритген занимали видные места в шпионском аппарате фашистского государства, уцелели и после краха фашизма, укрывшись один в Ирландии, другой в американской зоне оккупации Германии.
Густав Носке в годы гитлеровской диктатуры получал от правительства государственную пенсию.
Убийцы Карла Либкнехта и Розы Люксембург, как тайные, так и явные, ушли от наказания. В Веймарской республике воцарился «гражданский мир». В Берлине все было спокойно…
«В Берлине все спокойно». Вы тупые лакеи, — писала Роза Люксембург в своей предсмертной статье, — ваше спокойствие зиждется на песке. Революция уже завтра поднимется ввысь и трубными звуками, приводящими вас в трепет, прогремит; «Я была, я есмь, я буду!»
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАРЛА ЛИБКНЕХТА
1871, 13 августа — В городе Лейпциге родился Карл Пауль Фридрих Август Либкнехт.
1890, весна — Карл Либкнехт сдает экзамен на аттестат зрелости при гимназии Николае в Лейпциге.
Конец сентября — Переезд семьи Вильгельма Либкнехта в Берлин.
Декабрь — Карл Либкнехт в Берлине впервые посещает большое открытое народное собрание.
1890–1893 — Карл Либкнехт изучает право и национальную экономику в университетах в Лейпциге и в Берлине.
1893–1894 — Военная служба в качестве вольноопределяющегося в частях гвардейских саперов в Потсдаме.
1894–1898 — Работает референдарием в Арнсберге и Падеборне (Вестфалия).
1899 — Совместная адвокатская деятельность со старшим братом Теодором в Берлине. Начало активной политической деятельности в социал-демократической партии Германии.
1900, май — Брак с Юлией Парадис.
1901, ноябрь — Избрание Карла Либкнехта членом Берлинского собрания городских депутатов.
1906, 1 апреля — Вышла в свет газета «Молодая гвардия» — орган Союза молодых рабочих Германии.
Октябрь — ноябрь — Карл Либкнехт пишет свой труд «Милитаризм и антимилитаризм в связи с международным движением молодежи». Труд этот был издан в феврале 1907 года.
Декабрь — январь 1907 — Во время подготовки к новым выборам в рейхстаг, назначенным на 15 января, Карл Либкнехт выступил на 50–60 собраниях избирателей.
1907, март — Образование временного Международного бюро социалистической молодежной организации во главе с Карлом Либкнехтом.
18–24 августа — На Международном конгрессе социалистов в Штутгарте принимается резолюция Августа Бебеля о борьбе против империализма и войны с поправками, внесенными по совместному предложению Ленина и Розы Люксембург.
24–26 августа — Первый Международный конгресс международной социалистической организации молодежи в Штутгарте. Либкнехта избирают в Международное бюро, которое назначает его председателем вновь основанного Интернационала социалистической молодежи.
9, 10, 12 октября — Процесс по обвинению Карла Либкнехта в государственной измене в имперском суде в Лейпциге.
24 октября —1909, 1 июня — Заключение в крепости в Глаце.
1908, 16 июня — Карла Либкнехта избирают в прусский парламент.
1909, 16–22 октября — Карл Либкнехт принимает участие в качестве гостя на съезде Союза социалистической молодежи Швеции в Стокгольме.
1910, 4–5 сентября — Вторая Международная конференция социалистической молодежи в Копенгагене.
С 10 октября — Агитационная поездка по США, куда Карл Либкнехт был приглашен национальным секретарем социалистической партии США.
1911, 22 августа — Умерла в Эмсе жена Карла Либкнехта Юлия Либкнехт.
1912, 21 января — Карл Либкнехт избирается в рейхстаг от избирательного округа Потсдам — Шпандау — Остевеланд.
15–21 сентября — Партсъезд СПГ в Хемнитце. Карл Либкнехт говорит об «исторической миссии пролетариата по отношению к империализму».
Октябрь — Брак с Софьей Рисе.
17 ноября — По приглашению социал-демократической партии Венгрии Карл Либкнехт выступает на большом собрании-демонстрации в Будапеште против войны.
1913, 18, 19–24, 26 апреля — В германском рейхстаге Карл Либкнехт выступает против Круппа.
14–20 сентября — Партийный съезд СПГ в Иене. Карл Либкнехт называет пролетарскую массовую стачку новым острым оружием в предвыборной борьбе.
1914, июль — Пребывание во Франции. Участие в национальных торжествах 14 июля в Париже. Речь перед шахтерами в Конде сюр л’Эко (северная Франция).
3 августа — Социал-демократическая фракция решила большинством голосов единогласно проголосовать за военные кредиты. Карл Либкнехт подчиняется этому решению по соображениям партийной дисциплины.
10 сентября — Вместе с Розой Люксембург, Францем Мерингом и Кларой Цеткин Карл Либкнехт разъясняет в шведских, итальянских и швейцарских социал-демократических газетах свою точку зрения, осуждающую пропаганду войны ревизионистов Зюдекума, Фишера и т. п. 2 декабря — Карл Либкнехт единственный депутат рейхстага, голосовавший против военных кредитов.
1915, 2 февраля — Социал-демократическая фракция рейхстага исключает Карла Либкнехта из членов фракции за его отказ голосовать за военные кредиты.
Февраль — Карл Либкнехт призван в армию для несения нестроевой службы.
4–6 апреля — Международная конференция социалистической молодежи в Берне. Представители десяти стран постановили издавать журнал «Интернационал молодежи» и создать фонд имени Карла Либкнехта для борьбы против империалистической войны.
14 апреля — Вышел первый и единственный номер теоретического журнала «Интернационал».
Август — Карл Либкнехт направляет приветствие Цим-мервальдской конференции, на которой Ленин заложил основание III Интернационала.
Сентябрь, декабрь — В первых двух номерах журнала «Интернационал молодежи» публикуется статья Карла Либкнехта «Антимилитаризм» (под псевдонимом «Непримиримый»).
1916, 1 января — На общегерманской конференции группы «Интернационал» в Берлине, в адвокатской конторе Карла Либкнехта, принимаются предложенные Розой Люксембург «Тезисы задач международной социал-демократии». Конференция постановила издавать информационный бюллетень.
16 марта — С трибуны прусского ландтага Карл Либкнехт обращается к солдатам всех воюющих стран, призывая их бросить оружие и бороться против общего врага.
23–24 апреля — Нелегальная конференция оппозиционной рабочей молодежи в Иене при участии Карла Либкнехта.
1 мая — Первомайская демонстрация, организованная в Берлине на Потсдамерплатц членами «Группы Спартака». Арест Карла Либкнехта.
28 июня — Военный городской суд Берлина приговаривает Карла Либкнехта к двум с половиной годам тюремного заключения. Окружной военный суд 23 августа 1916 года увеличивает наказание до 4 лет и 1 месяца тюремного заключения, исключение из армии и лишение гражданских прав на 6 лет.
28 июля — Демонстрация протеста и первая политическая массовая стачка в Берлине и Брауншвейге по поводу процесса против Карла Либкнехта.
Декабрь — Водворение Карла Либкнехта в каторжную тюрьму Люкау.
1917, 11 ноября — В письмах к жене Карл Либкнехт приветствует Великую Октябрьскую социалистическую революцию
1918, 7 октября — Приветственное письмо Ленина членам «Группы Спартака».
23 октября — Под нажимом народного движения Карла Либкнехта выпускают из тюрьмы.
23 октября — ПК РКП (б) прислал Либкнехту приветственную телеграмму.
8 ноября — Листовка «Группы Спартака» за подписью Карла Либкнехта призывает рабочих и солдат Берлина свергнуть правительство кайзера и передать всю власть в руки рабочих и солдатских Советов.
9 ноября — С балкона берлинского дворца Карл Либкнехт провозглашает социалистическую республику.
25 ноября — Карл Либкнехт обращается от имени «Союза Спартака» с воззванием к пролетариям всех стран.
28 ноября — Массовый митинг в Берлине. Карл Либкнехт разоблачает предателей революции — правых.
23 декабря — Карл Либкнехт произносит в Берлине речь по вопросу «Чего хочет «Союз Спартака»?».
С 30 декабря 1918-го по 1 января 1919-го — Учредительный съезд, на котором была основана Коммунистическая партия Германии.
1919, 6 января — Авангард рабочего класса Германии был спровоцирован реакцией на вооруженное восстание. Контрреволюционные войска, вызванные в Берлин социал-демократическим правительством, подавили восстание.
15 января — В утреннем выпуске газеты «Роте фане» опубликована последняя статья Карла Либкнехта «Несмотря ни на что!».
15 января — Убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Карл Маркс
Фридрих Энгельс
Август Бебель
Вильгельм Либкнехт
Вильгельм Пик
Родители Карла Либкнехта — Вильгельм и Наталия Либкнехт
Дом в Лейпциге, Брауштрасее. 11, где родился Карл Либкнехт 13 августа 1871 года
Процесс по обвинению в «государственной измене» Вильгельма Либкнехта и Августа Бебеля. 1872 г. Масло
Карл Либкнехт в возрасте 7 лет
Карл Либкнехт в возрасте 14 лет
Карл Либкнехт (крайний слева) с братьями
Гимназия Николае в Лейпциге, в которой учился Карл Либкнехт
Дом в поселке Борсдорф; здесь жили Вильгельм Либкнехт и Бебель, высланные из Лейпцига в период Исключительного закона против социалистов.
Карл Либкнехт, 1888 г
Юлия Парадис — первая жена Карла Либкнехта
Семейная фотография — семьи Либкнехт и Парадис-Карл — стоит справа; в центре: его невеста Юлия Парадис, 1899 г.
Роза Люксембург
Дом в Штутгарте, где в 1907 году проходил Международный социалистический конгресс.
Карл Либкнехт, 1907 г.
Демонстрация у здания имперского суда в Лейпциге во время процесса над Карлом Либкнехтом по обвинению в «государственной измене». 1907 г.
Камера в крепости Глац, где полтора года просидел Карл Либкнехт
Софья Рисс — вторая жена Карла Либкнехта.
Карл Либкнехт. 1912 г.
Вера Либкнехт
Карл Либкнехт со своей семьей. 1913 г.
Международная пресса об отказе депутата рейхстага Карла Либкнехта голосовать за военные кредиты. 1914 г.
Депутат Карл Либкнехт в мундире солдата рабочего батальона на пути в рейхстаг, 1915 г.
Карл Либкнехт со своим старшим сыном Вильгельмом в Тиргартене.
Каторжная тюрьма в Люкау, где сидел Карл Либкнехт
Последнее открытое выступление Карла Либкнехта 4 января 1919 года в Берлине, на Унтер-ден-Линден.
С балкона кайзеровского дворца Карл Либкнехт провозглашает социалистическую республику, 9 ноября 1918 г.
В газете «Роте фане» 31 декабря 1918 года объявлено о создании Коммунистической партии Германии.
Лео Иогихес-Тышка. Один из руководителей «Союза Спартака».
Баррикадные бои в Берлине в январские дни 1919 года.
Карл Либкнехт и Роза Люксембург.
Дом в Берлине — Вильмерсдорфе, Маннгеймерштрассе, 43, где были схвачены Карл Либкнехт и Роза Люксембург
Место убийства Карла Либкнехта в Тиргартене
Похороны Карла Либкнехта и жертв январских боев в Берлине.
Возложение венков в день рождения Карла Либкнехта у дерева, где он был убит. Тиргартен, Берлин.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
В. И. Ленин, Полн. собр. соч., тт. 17, 23, 26, 31, 32.
Карл Либкнехт, Избранные речи и статьи. М., Госполитиздат, 1961.
Карл Либкнехт, Мой судебный процесс. Изд-во Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов, 1918
Карл Либкнехт, Письма. П., Госиздат, 1922.
Карл Либкнехт, Милитаризм и антимилитаризм. М, Госполитиздат, 1960.
Вильгельм Либкнехт, Никаких компромиссов. М, Госполитиздат, 1958.
Вильгельм Либкнехт, Из воспоминаний о Марксе. М., Госполитиздат, 1958.
Август Бебель, Из моей жизни. М., Госполитиздат, 1963.
Роза Люксембург, Письма к Карлу и Луизе Каутским. Изд-во «Красная новь», 1923.
Письма Розы Люксембург из тюрьмы. Изд-во «Пролетарий» Харьков, 1923.
А. Коллонтай, Отрывки из дневника 1914 года Л, Госиздат, 1924.
А. Коллонтай, По рабочей Европе. Изд-во М. И. Семенова. Спб., 1912
Б. Айзин, Судебный процесс Карла Либкнехта в 1907 г. «Новая и новейшая история» № 1. 1960.
О. Бершадская, Из истории революционного содружества русского и немецкого пролетариата. «Вопросы истории» № 9, 1955.
П. Гапонов, Антимилитаристские выступления Карла Либкнехта накануне первой мировой войны. «Вопросы истории» № 2, 1957.
Л. И. Гинцберг, Карл Либкнехт. М., Госполитиздат, 1959.
Е. Драбкина, Черные сухари. Изд-во «Советский писатель».
К. Каменецкая, Убийцы К. Либкнехта и Р. Люксембург перед судом Веймарской республики. «Вопросы истории» № 1, 1949.
Вильгельм Кенен, Ноябрьская революция в Германии 1918 года. М., Госполитиздат, 1958.
М. Кораллов, Об эстетических взглядах Карла Либкнехта. «Вопросы эстетики». М., изд-во «Искусство», 1960.
М Лядов, Из жизни партии. М., Госполитиздат, 1956.
И. Майский, Путешествие в прошлое. М., Изд-во Академии наук СССР, 1960.
П. Манова, О январских боях в Берлине в 1919 г. «Вопросы истории» № 1, 1949.
Письма германских и голландских социал-демократов Карлу Либкнехту (1914–1916 гг.). «Новая и новейшая история» № 5, 1958.
Под знаменем демократии. Очерки белого террора в Германии. М., Изд-во ЦК МОПРа, 1925.
Karl Liebknecht, Leherer und Freund der lag «Neues Leben». Berlin, 1954.
Karl Liebknecht, Vermächtnis für Nation. Dietz Verlag. Berlin, 1962.
Liebknecht contra Rüstungkapital. Dietz Verlag. Berlin 1961
Armirungssoldat Karl Liebknecht ist in Untersuchungshaft zu nehmen! Dietz Verlag. Berlin, 1956.
Wielhelm Pieck, Karl Liebknecht, ein wahrer deutscher Patriot. Dietz Verlag. Berlin, 1961.
Der Hochverratsprozess gegen Karl Liebknecht 1907 vor dem Reichsgericht. Dietz Verlag Berlin, 1957.
Karl-Heinz Leidigkeit, Wielhelm Liebknecht und August Bebel in der deutschen Arbeiterbewegung. Berlin, 1957.
Erich Schumann, Wir gingen mit Karl Liebknecht. Verlag «Neues Leben». Berlin, 1960.
INFO
Яновская Миньона Исламовна
КАРЛ ЛИБКНЕХТ. М, «Молодая гвардия», 1965.
320 с., с 13 л. илл. («Жизнь замечательных лютей». Серия биографий. Вып. 8 (403).
ЗКИ(О92)
Редактор Е. Любушкина
Художник И. Пчелко
Худож. редактор А Степанова
Техн. редактор Г. Обуховская
A02541. Подл. к печ 20/II 1965 г. Бум. 84Х108’/з2.
Печ л. 10(16,8) + 13 вкл. Уч. — изд. л. 15,7 Тираж 65 000 экз.
Заказ 2094. Цена 66 коп.
Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия»»
Москва, А-30, Сущевская, 21.
Примечания
1
В своей книге «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии» (1899–1902) Бернштейн с буржуазных позиций ополчился против основных принципов марксизма, требуя отказа от революционной борьбы рабочего класса, от диктатуры пролетариата, стремился вытравить революционную сущность марксизма и превратить его в реформистское учение.
(обратно)2
У Либкнехта ошибочно сказано, что стихотворение «Порог» посвящено Софье Перовской.
(обратно)3
В русском переводе письмо публикуется впервые.
(обратно)4
В русском переводе письмо публикуется впервые.
(обратно)5
Академик И. М. Майский. Путешествие в прошлое. М., Изд-во Академии наук СССР, 1960.
(обратно)6
ПК — партийный комитет.
(обратно)7
Фонтане — этот истинно прусский поэт XIX века не был немцем — он француз, потомок эмигрировавшей из южной Франции семьи.
(обратно)8
Софья Борисовна Либкнехт через несколько лет после гибели мужа вернулась на родину и жила в Москве с семьей своего племянника. Умерла она на 81-м году жизни 11 ноября 1964 года. Курт и Вилли — младшие братья Карла — живут там, где прожили большую часть своей жизни, в западной части Берлина. Роберт — младший сын Либкнехта — бежал от фашизма во Францию; как и ожидали родные, он стал художником. Вильгельм — старший сын — учился в Вене, оттуда переехал в Москву; он стал филологом и переводчиком и сейчас продолжает работать в Москве Недолго прожила дочь Карла Либкнехта — Вера. Она окончила медицинский институт, вышла замуж, поселилась с мужем в Вене; работала врачом и умерла в 1934 году от туберкулеза.
(обратно)
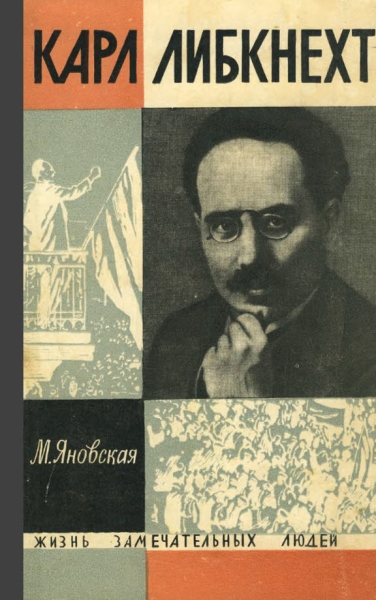

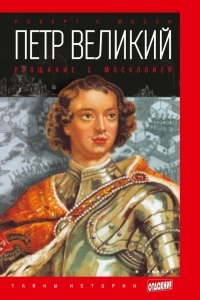

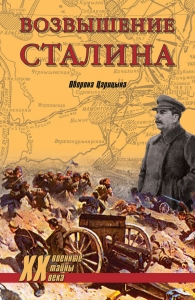
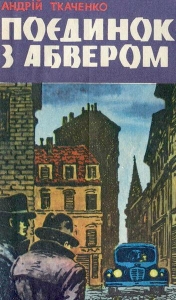
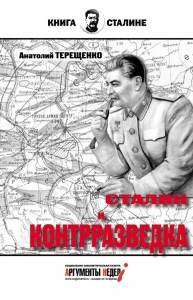

Комментарии к книге «Карл Либкнехт», Миньона Исламовна Яновская
Всего 0 комментариев