Леонид Млечин Примаков
ПРИМАКОВ — ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР Слово о друге
Совсем недавно мы простились с Евгением Максимовичем Примаковым. Для меня его уход стал настоящей личной трагедией. Несмотря на разницу в возрасте, мы дружили с ним четверть века. Я любил очень этого человека. Он в отцы мне годился по возрасту, но был близким другом, старшим товарищем. По работе — удивительный дипломат, потрясающий руководитель, человек с чувством собственного достоинства. При этом никого никогда не унижал, не подводил, никого не сдавал. Назовите мне кого-нибудь из руководителей такого ранга и с такими характеристиками… Трудно.
У Евгения Максимовича было редкое и прекрасное свойство — ненавязчивость. Когда ты очень умный человек, то можешь советовать так, что не чувствуется давления. Если говорить о Примакове как о руководителе, то он удерживал страну в самое тяжелое время. Он ненавидел предателей, но никогда не позволял личностным факторам влиять на работу, он был выше этого.
Я таких людей в политике встречал очень редко. Я его помню еще молодым офицером, когда смотрел по телевидению передачи с его участием. Академик Примаков всегда выступал с блестящим анализом ситуации, особенно по Ближнему Востоку. Он — один из самых образованных людей не только России, но и мира. Это признавали все. С его мнением вынуждены были считаться. У него, несмотря на очень высокие должности, не было врагов, у него были оппоненты. Он умел разговаривать со всеми.
За месяц до его ухода мы встретились у него дома. По приятному поводу: Евгения Максимовича удостоили премии Российского книжного союза «За особые заслуги в просвещении России». И я, как президент союза, вручил ему только что учрежденную Первую премию и золотой знак отличия.
Мы смеялись и шутили и на этот раз. Ему ведь присуще было потрясающее чувство юмора.
И это при том, что и Евгений Максимович, и все близкие люди понимали, что тяжелая болезнь берет свое. Он это чувствовал. В задушевной беседе с патриархом Кириллом незадолго до ухода, поделился со мной Святейший, Евгений Максимович (человек православный, крещенный патриархом) смиренно заметил о своих «перспективах»: «Как Бог даст».
…При первой очной встрече меня потрясло его мужество. Произошла она в Баку, куда меня направили в качестве военного коменданта одного из районов.
Остро помню, как Евгений Максимович безбоязненно вышел к разгоряченной, мягко сказать, толпе, от которой можно было ожидать что угодно…
Примаков сохранил и усилил Службу внешней разведки (я в то время руководил Федеральной службой контрразведки). Но по-настоящему известным и авторитетным он стал в 1996-м, на посту руководителя Министерства иностранных дел России. С приходом его в российскую дипломатию вернулось уважение к своей стране. Основы сегодняшней внешней политики заложены тогда.
Именно он изменил курс российской внешней политики. Отказался от так называемого «атлантизма» — заигрывания с Западом. Примаков задал собственный многовекторный путь. Так, на фоне обострения вокруг Ирака впервые после многолетних уступок Россия заняла твердую позицию, которая противоречила намерениям американцев.
Но свое самое известное политическое решение Евгений Примаков принял, когда был премьер-министром. Узнав о начале натовских бомбардировок Югославии, он развернул самолет над Атлантикой и отменил визит в США.
Именно тогда и в России, и за рубежом его восприняли «удивительной политической глыбой».
Академик, выдающийся востоковед, он проявлял себя ярко всегда и везде. Даже оппоненты называли его одним из самых блестящих умов современности. Он возглавлял правительство России в один из самых трудных периодов.
Август 1998-го. Центральный банк объявил технический дефолт. За месяц доллар подорожал в 2,5 раза. Закрывались банки и малые предприятия. Правительство «младореформаторов» отправили в отставку.
На его место и пришел Евгений Примаков. В буквальном смысле спасать страну. Тогда ему было почти семьдесят лет. Говорят, он шел на работу в Белый дом сквозь забастовку, под стук шахтерских касок. Они, так же как военные, бюджетники и пенсионеры, по несколько месяцев не видели зарплаты.
Экономика — в руинах, в стране сокращалось производство, росли безработица и долги. Задача номер один у нового правительства — пополнить бюджет. Ввели взаиморасчет между предприятиями и государством, взяли курс на борьбу с финансовыми преступлениями, вернули налоговые поступления на спиртные напитки — и ситуация пошла на поправку…
Он с достоинством воспринял решение президента Ельцина об отставке. «Серега, — первым сообщил он мне, — тебе предложат пост председателя правительства. Я поддержал твою кандидатуру».
…Впрочем, в жизни Евгения Примакова была не только политика. Он много писал — книги, стихи, особенно в последние годы любил футбол, театр. Все ли знают, что известные теперь многим стихи «Я твердо всё решил» он написал в двадцать три года.
И уже мало кто знает, что с разрешения Евгения Максимовича в Императорском Православном Палестинском обществе, которым я руковожу и в котором Примаков являлся почетным членом, написана песня на эти стихи. Она звучит на самых важных мероприятиях общества.
Огромное место в его жизни занимала семья — настоящий тыл Евгения Максимовича Примакова.
…Примаков — это мир. Мир, который его потерял, мир, который он создавал, мир, который он любил. И который любит его.
Спасибо тебе, Максимыч, за всё.
10.07.2015
С. Степашин
Вместо предисловия ТЕМНЫЕ ОЧКИ МЕШАЛИ УВИДЕТЬ ЕГО ИСТИННОЕ ЛИЦО
Евгений Максимович Примаков вовсе не был таким, каким его видели на экранах телевизоров. Мрачный человек с одутловатым лицом и в темных очках, который сидел в президиуме или стоял за спиной президента, ничего общего не имел с тем Примаковым, которого знали его друзья и близкие.
Хмурый взгляд и жесткая риторика — дань высокому посту (а он поднимался всё выше и выше по карьерной лестнице). На самом деле Примаков был веселым и энергичным человеком, рассказывал остроумные анекдоты, любил застолье, хранил верность товарищам и писал лирические стихи. Удачливый в карьере, он пережил внезапную смерть обожаемого сына и любимой жены и лишь в солидном возрасте вновь счастливо устроил свою жизнь.
— Примаков обладает редким сочетанием двух качеств: с одной стороны, он серьезный, с другой — компанейский, жизнерадостный, жизнелюбивый, — говорил мне политик, который работал с ним в Кремле еще в горбачевской команде. — А вообще-то он очень сложный человек. Какой он на самом деле, не докопаетесь.
Евгения Максимовича правильнее было бы назвать умеренным реформатором. От него не следовало ждать непредсказуемых решений. Сам стиль его — уравновешенный, срединный. Вот уж кто никогда не был радикалом.
Как руководитель российской дипломатии, Примаков искал золотую середину между великодержавными, ностальгическими тенденциями и тем, что начал во внешней политике Горбачев. Примаков вовсе не стремился к отчуждению от Запада. Никто из тех, кто хорошо знал Примакова, не считал его антизападником, антиамерикански настроенным человеком. Любое его столкновение с Западом диктовалось исключительно защитой интересов России, национального престижа, как он его понимал.
— Он вообще никакой не «анти», — сказал мне ученый, много лет проработавший с Примаковым в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук. — Если вспомнить формулу «деидеологизированная внешняя политика», это как раз адекватно его менталитету. Он не имел, я думаю, каких-то идеологических или региональных пристрастий. И антипатий тем более. Он, пользуясь современной лексикой, государственник.
Все, с кем я разговаривал о Евгении Максимовиче, повторяли: Примаков — прагматик. В первую очередь прагматик. Может быть, только прагматик. Казалось, что мои собеседники иной раз хотели произнести «циник», но воздерживались от этого определения. Хотя едва ли можно обойтись без изрядной доли цинизма, расписывая достижения Саддама Хусейна, Муамара Каддафи или Хафеза Асада, чем Примакову приходилось заниматься в молодые годы. Да и служба в разведке не может не усилить вполне циничный взгляд на человеческие страсти.
По отзывам, Примаков был тверд. И в определенном смысле упрям. Можно ли было на него влиять?
— Его очень трудно было переубедить, — говорил мне его коллега по работе в правительстве. — Если он в чем-то уверен, шел до конца.
Примаков старался пореже мелькать на телеэкране. Воздерживался от публичных выступлений и интервью. Почему?
— Ему не очень хотелось выдвигать себя на первые роли, — свидетельствовали его старые друзья. — Показывать: вот как я умею работать, искать популярности — это не его стиль.
Примаков был крайне осторожен и знал, как опасно стать слишком заметным. Главный талант Евгения Максимовича — организаторский. Он мог с одинаковым успехом управлять любым коллективом — учеными, разведчиками, дипломатами, министрами. Умел командовать — обладал всеми необходимыми для этого качествами. Но умел и слушать людей. А еще умел подбирать кадры. Начальником он был лучшим, чем заместителем. Менеджерские способности проявляются, когда становишься хозяином. А он был прирожденным лидером.
Примаков родился в Киеве, но вырос в Тбилиси, его и считали кавказским человеком — по темпераменту, привычкам, дружеским традициям, умению вести застолья. Многие друзья Примакова — еще со школьной скамьи. И вот качество, о котором говорили все, кто его хорошо знал:
— Если он кому-то поверил, сложились дружеские отношения, тут хоть что случись — даже если человека с грязью смешают, — Примаков всё равно оставался другом. Он дружеские отношения ставил выше любых политических разногласий. И в жизни многих людей сыграл прекрасную роль. Он хранил память об уже ушедших друзьях. И никогда в жизненной суматохе не забывал об их семьях.
Примаков любил друзей, и друзья любили его.
Но приветливость и доброжелательность не следовало принимать за мягкотелость или уступчивость. Вряд ли можно было позавидовать человеку, который встал бы к нему в прямую оппозицию.
Кому или чему Примаков обязан своей блистательной карьерой? Собственным талантам? Влиятельным покровителям и друзьям? Случаю?
— Примаков обладал гениальным даром завоевывать расположение и особенно расположение начальства.
В чем секрет этого дара?
— Он не лез к начальству, не набивался в друзья. Но способен был показать свою полезность, в том числе в выдвижении идей. Секрет успеха — в его деловых качествах и в таких трудно-описываемых способностях, как умение общаться с людьми.
Мои собеседники были очень откровенны. Но остался один вопрос, ответ на который я ищу все эти годы: почему Евгений Максимович Примаков не стал президентом страны?
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЖУРНАЛИСТ
Евгений Максимович родился в Киеве 29 октября 1929 года. Но на Украине прожил считаные дни. Его перевезли в Тбилиси (тогда по-русски город назывался Тифлис), где он вырос и жил до 1948 года, пока не уехал в Москву учиться.
Его появлению на свет сопутствовали непростые семейные обстоятельства. Что заставило его мать срочно покинуть Киев? Можно только предполагать, что за решением Анны Яковлевны проехать с грудным младенцем почти через всю страну и обосноваться в Тбилиси, где она родилась, стояла непростая жизненная драма.
Практически ничего не известно о его отце. Самые близкие друзья утверждают, что Евгений Максимович об отце никогда не заговаривал. Считалось, что тот стал жертвой сталинских репрессий и погиб. Расспрашивать его об этом даже в своем кругу было не принято.
В автобиографии Примаков писал: «Воспитывался матерью, проработавшей последние тридцать лет своей жизни врачом в поликлинике Тбилисского прядильно-трикотажного комбината».
Она и умерла в Тбилиси. Ее похоронили 19 декабря 1972 года.
В мемуарной книге Евгений Максимович уточнил: «Фамилия моего отца Немченко — об этом рассказала мне мать. Я его никогда не видел. Их пути с матерью разошлись, в 1937 году он был расстрелян. Я с рождения носил фамилию матери — Примаков».
Работая в Кремле или будучи начальником Службы внешней разведки, Евгений Максимович мог, наверное, узнать больше о судьбе отца. Какие-то сведения остались даже о тех, кто пропал в годы сталинской мясорубки. Но если Примаков что-то и выяснил, то рассказывать не пожелал.
Семейные дела Евгения Максимовича, разумеется, исключительно его личное дело. Они представляют общественный интерес только в одном смысле: как детство без отца повлияло на его дальнейшую жизнь, на его отношения с людьми, на его характер, взгляды и образ действий?
В Тбилиси Примаковы занимали комнату (четырнадцать метров, без удобств) в коммуналке, на Ленинградской улице в доме номер 10. К его матери — Анне Яковлевне, которая всю жизнь лечила людей, в городе хорошо относились. Акушер-гинеколог Анна Примакова трудилась в Железнодорожной больнице, В 1937 году, в разгар массового сумасшествия, сопровождавшего репрессии, мать Примакова выставили из больницы. Она утроилась в женской консультации Тбилисского прядильно-трикотажного комбината, где ее очень ценили.
Милая, добрая, скромная, интеллигентная женщина, она многое передала сыну. Но растить его в одиночку ей было наверняка непросто. Нет сомнений в том, что Примаков, как и любой мальчик в столь незавидных обстоятельствах, тосковал и страдал от того, что рос без отца.
У его матери были братья и сестры, но они погибли один за другим. Дядю-врача, который жил в Баку, арестовали и расстреляли в 1937-м. В Тбилиси у Примаковых тоже были родственники. Они помогали молодой женщине, оставшейся одной с ребенком. Сестра Анны Яковлевны вышла замуж за известного в городе терапевта Давида Абрамовича Киршенблата.
Примакову повезло, что он оказался именно в Тбилиси, городе с особым теплым и душевным климатом. Тбилиси тех лет был одним из немногих мест, где в какой-то степени сохранились патриархальные нравы и человек не чувствовал себя одиноким, а был окружен друзьями, приятелями, знакомыми, соседями и, таким образом, принадлежал к какой-то группе, клану, сообществу.
Здесь было принято помогать друг другу. Потом все, знающие Примакова, будут восхищаться его умением дружить и верностью многочисленным друзьям. Это качество было заложено с детства. Он понял, как важно быть окруженным друзьями, и научился дорожить близкими людьми.
В Тбилиси он оказался в кругу талантливой молодежи. Кое-кто из тех, с кем он учился в одной школе, с кем гулял по улицам вечернего города, с кем ходил на танцплощадку, добился с годами мировой славы. Рядом жил будущий глава Союза кинематографистов СССР режиссер Лев Кулиджанов. Выдающийся грузинский философ Мераб Мамардашвили (он был на год младше Примакова, но рано ушел из жизни), шутя, говорил:
— Мы с ним за одними и теми же девочками бегали.
Там же, в Тбилиси, рос выдающийся кардиохирург Владимир Иванович Бураковский. Позднее, уже в Москве, они станут с Примаковым близкими друзьями.
Вдова Бураковского, Лилиана Альбертовна, выросшая в Сухуми, рассказывала:
— Воспитание у них с Бураковским было одно — тбилисское. У них был один кодекс чести, очень достойный. В старом Тбилиси люди доброжелательно относились друг к другу. Никого не интересовала национальность соседей и друзей — это было не важно. Тбилиси был интернациональным городом, многоголосым, разноплеменным. Здесь жили грузины, мингрелы, курды, армяне, евреи, турки — очень смешанный город. Было важно другое — как человек относится к жизни, к друзьям, умеет ли он защитить свою честь и не уронить своего достоинства, вести себя, как положено мужчине. Вот критерии, по которым оценивались люди…
Леон Аршакович Оников, который много лет проработал в аппарате ЦК КПСС, был знаком с Примаковым шестьдесят лет. Оников тоже учился в Тбилиси.
— Мы познакомились, когда он учился в третьем классе, а я постарше был. Но поскольку я переехал из периферийной школы и год потерял, то разница между нами стерлась. Вот с этих пор мы друг друга знаем.
Юный Примаков был похож на маму. Его иногда называли самураем: глаза раскосые, лицо худое.
Нечто восточное оставалось во внешности и в характере Примакова, пока он был молодым, а потом исчезло, возможно, от долгой московской жизни.
— Тбилиси — это кузница дружбы, там высока культура дружеских отношений, — рассказывал Леон Оников. — Мно-гонациональность Тбилиси — это достоинство города. Грузинам присущи большая деликатность в личной жизни, рафинированность. Русские, жившие в Тбилиси, в дополнение к своим качествам — твердости, открытости — вбирали замечательные грузинские черты. А кроме того, в городе жили греки и персы, пока их Сталин не выслал. Всё это делало нас интернационально мыслящими людьми.
А вот в Москве Примаков столкнется с непривычной для него практикой делить людей по этническому признаку.
Его друзья не любят говорить на эту тему. Отделываются общими фразами вроде такой: «В нашем кругу его национальность никого не интересовала». В этом никто не сомневался, порядочные люди не могут вести себя иначе. Но Москва не состояла из одних только друзей Евгения Максимовича.
— Разговоры о том, что Примаков — скрытый еврей, ходили и по нашему Институту мировой экономики и международных отношений, — рассказывал Владимир Размеров, много лет проработавший в ИМЭМО. — Такие слухи ходят всегда. Даже Иноземцева, предыдущего директора, евреем считали, и Арзуманяна, нашего первого директора, в евреи записали, потому что он якобы брал в институт только армян и евреев. Наша страна антисемитизм и другие «анти», пренебрежительное отношение к «чучмекам» долго еще изжить не сможет. Такие разговоры в нашем обществе неизбежны при наших дрянных привычках. У нас каждый должен расщепить генеалогическое древо руководителя на спички и найти что-нибудь нехорошее. Таких людей полно, в том числе и в нашем институте.
— В первые годы перестройки, — вспоминал бывший член Политбюро академик Александр Николаевич Яковлев, — лидер общества «Память» Дмитрий Васильев распространял на митингах листовки, где говорилось, что в Советском Союзе существует сионистский заговор. Кроме меня, как главного советского еврея, там обязательно фигурировал Евгений Максимович Примаков — под другой фамилией. Забыл какая. Потом и Ельцина включили в этот список.
Озабоченные еврейским вопросом не сомневаются в том, что русская фамилия Примакова — не настоящая, а придуманная. Работая над мемуарами, он счел необходимым рассказать о своем происхождении.
«Антисемитизм всегда был инструментом для травли у тупых партийных чиновников, — писал Евгений Максимович. — Мне всегда были чужды как шовинизм, так и национализм. Я и сегодня не считаю, что Бог избрал какую-либо нацию в ущерб другим. Он избрал нас всех, которых создал по своему образу и подобию…
С моей бабушкой по материнской линии — еврейкой — связана романтическая история. Обладая своенравным характером, она вопреки воле моего прадеда — владельца мельницы — вышла замуж за простого работника, к тому же русского, отсюда и фамилия Примаковых».
Эта тема заслуживает внимания опять же с одной только точки зрения: в какой степени это обстоятельство повлияло на жизнь Примакова?
В Тбилиси национальный вопрос не имел значения. Антисемитизма в Грузии никогда не было. Евреев не отличали от грузин, и многие грузинские евреи себя считали в большей степени грузинами, чем евреями.
Судя по всему, в юношеские годы ему и в голову не приходило, что он чем-то отличается от окружающих его грузинских ребят. Когда Примаков приехал в Москву, он говорил так, как принято произносить слова в Тбилиси, то есть как бы с сильным грузинским акцентом. Потом его речь очистилась и он стал говорить очень интеллигентно, по-московски. Но в минуту крайнего душевного волнения в его словах могли проскользнуть характерные грузинские интонации.
От анонимок и чьей-то злобы это, разумеется, не спасало. Но собственно политическая карьера Примакова началась в перестроечные времена, когда пятый пункт анкеты утратил прежнее значение. Первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, насколько можно судить по его кадровой политике, национальность сотрудников вообще не интересовала. Что касается националистов, которые строят свою предвыборную стратегию на лозунге засилья евреев в правительстве, бизнесе и средствах массовой информации, то Примаков сумел поставить себя так, что к нему не смели цепляться по этому поводу.
Когда Примаков стал министром иностранных дел России, а затем и премьер-министром, левые силы, вне зависимости от того, что они думали на самом деле, публично высоко оценивали его патриотическую позицию — в противостоянии Соединенным Штатам, в борьбе против расширения НАТО, в критике экономистов-либералов и готовности поддерживать отечественного производителя.
Как выразился в ту пору один из губернаторов:
— Евгения Максимовича Примакова мы считаем истинным российским патриотом.
Когда главой правительства был назначен Сергей Владиленович Кириенко, сразу стали говорить и писать, что его настоящая фамилия — Израитель и поэтому, понятно, ничего хорошего он для России не сделает… Примакову таких претензий не предъявляли.
Евгения Максимовича, выросшего в Тбилиси, обошли стороной некоторые проблемы, которые для других оказались губительными. В благодатном климате Грузии, не только географическом, но и душевном, устанавливались гармонические отношения с внешним миром. Тбилисцы оптимистичнее смотрят на мир, чем те, кто родился севернее. Здесь, как заметил один американский советолог, царит средиземноморская атмосфера наслаждения жизнью.
Лилиана Бураковская рассказывала:
— Климат, красота Грузии, богатство природы, а ведь это райский уголок, — всё это имело значение. Южане теплее в человеческих отношениях, может быть, в силу климатических условий. Бесподобный город Тбилиси. Особенно весной — цветущие деревья, фиалки, мимозы. Мы любили с друзьями ходить в горы, смотреть развалины монастырей. А осенний базар! Обилие фруктов, овощей, немыслимые запахи южных трав. Угощали друг друга, приносили друзьям и знакомым домой вино, фрукты. Это так происходило. Вдруг звонят в дверь. Открываешь, стоит незнакомый человек с корзиной фруктов: «Вот, принес, берите, пожалуйста, кушайте на здоровье». Благодаришь, спрашиваешь: «Кто посылает?» — «Не знаю, — отвечает незнакомец. — Какая разница? Пусть у вас будет». В военные и послевоенные годы в Тбилиси тоже жили трудно, но всё же чуть лучше, чем в Москве. Выручала дешевая зелень, кукурузная мука, инжир стоил копейки. А инжир и немного хлеба — это уже обед.
Пристрастие к грузинской кухне Примаков сохранил. Любил сациви — курицу с орехами и пряностями, овощи, приготовленные на грузинский манер. В Грузии принято пить красное вино. Оно было очень дешевое. Никто и не думал о водке. В Москве таких вин в магазинах не было, но друзья иногда присылали. Со временем Бураковский стал предпочитать коньяк, Примаков — водку.
В 1937 году Евгений Примаков пошел в первый класс. Сначала учился в 47-й, потом в 14-й мужской средней школе. Выпускники этой школы всю жизнь вспоминают и замечательных педагогов, и царившую в ней чудесную атмосферу. Жизнь будущего академика состояла не только из учебы. Тбилисская молодежь собиралась компаниями, гуляла, ходила на танцы или в театр. В этих компаниях было много ярких и даже блестящих юношей.
Никто тогда не мог предположить, что со временем Евгений Максимович Примаков станет почетным гражданином Тбилиси, получит символические ключи от города и медаль. И тем более никто не мог представить, что произойдет с Грузией в конце 1980-х — начале 1990-х годов, когда страну начнет раздирать междоусобица.
Примаков не раз говорил, что разочарован происходящим в Грузии, потрясен тем, как изменились люди. Как политик, он не делал Грузии снисхождений, на переговорах был тверд в отстаивании интересов России. Но от своего тбилисского прошлого не отрекся. Татьяна Викторовна Самолис, которая работала вместе с Примаковым в Службе внешней разведки, говорит, что она была восхищена его искренней любовью к Грузии. Причем к тому времени прошло уже больше сорока лет с той поры, как он уехал из Тбилиси в Москву.
— Он многое перенял у грузин, — считает Татьяна Самолис. — До знакомства с ним я даже не представляла, что можно до такой степени впитать в себя традиции народа, среди которого ты какое-то время жил. А он воспринял эту культуру, стал в какой-то степени грузином. А тосты какие произносил, какой он тамада! Без юмора обычный интеллект пресен и скучен. А у него великолепный юмор. Любовь к друзьям, стремление с ними видеться — это тоже грузинская культура.
Война только казалась далекой от тылового Тбилиси. Никто не знал, когда она закончится. Городская молодежь считала месяцы, оставшиеся до призыва. Примаков рассказывал, что с приятелями пытался бежать на фронт. Подростков перехватила транспортная милиция на вокзале.
Евгений Примаков выбрал профессию военного моряка. Наверное, на него, как и на многих юношей, произвела впечатление романтика морских путешествий. Тбилиси — город сухопутный, до ближайшего моря далеко. Но расстояние не помеха, было бы желание. Пятнадцатилетний Евгений Примаков в первый раз надолго уехал из дома, отправился в Баку, чтобы стать морским офицером. В 1944 году он был зачислен курсантом Бакинского военно-морского подготовительного училища Наркомата обороны.
Такие училища были созданы для подготовки старшеклассников к службе в Рабоче-крестьянской Красной армии. Это был своего рода советский кадетский корпус. Курсанты одолевали учебный курс последних трех классов средней школы — восьмого, девятого и десятого, параллельно изучали ряд военных дисциплин и «оморячивались», то есть плавали, осваивали морское дело на Каспии.
«В Баку поехали целой компанией, — вспоминал Примаков. — Все, кроме меня, вернулись домой через несколько месяцев. Я провел в училище два, скажем прямо, нелегких года, прошел практику на учебном корабле “Правда”».
Моряком Евгений Максимович не стал. И это явно к лучшему. Боевых офицеров отечественному флоту всегда хватало, а осенью 1998 года в России нашелся только один человек, который смог возглавить правительство и вывести страну из опасного политического кризиса.
Между прочим, один из курсантов Бакинского военно-морского подготовительного училища, с которым Примаков вместе постигал азы морского дела, сделал блистательную морскую карьеру. Речь идет об адмирале флота, Герое Советского Союза Владимире Николаевиче Чернавине.
Адмирал Чернавин всего на год старше Примакова, но карьеру делал быстрее. В 1985 году он был назначен главнокомандующим Военно-морским флотом и заместителем министра обороны СССР. Вершина примаковской карьеры была еще впереди. Они встретятся через много лет. Чернавин пригласит Примакова на свое семидесятипятилетие и сожалеюще скажет:
— А ведь тоже мог стать адмиралом.
Начальником Бакинского военно-морского подготовительного училища был известный человек — контр-адмирал Михаил Александрович Воронцов, до войны — военно-морской атташе в Германии, во время войны — начальник военно-морской разведки. В его карьере командование училищем оказалось кратким эпизодом, но во всяком случае интересен сам факт, что будущий начальник политической разведки страны постигал азы науки под руководством главного военно-морского разведчика. Курсантом училища был и сын адмирала — будущий дипломат Юлий Михайлович Воронцов, который завершит свою дипломатическую карьеру на посту российского посла в Соединенных Штатах.
В 1946 году Примакова отчислили из училища по состоянию здоровья. Евгений Максимович писал, что у него обнаружили начальную стадию туберкулеза. В Баку примчалась заботливая мама-врач и забрала его домой. Он вернулся в Тбилиси, вылечился и благополучно окончил школу (учились тогда одиннадцать лет). Сомнений в дальнейшем пути не было — ехать в Москву и получать высшее образование.
Примаков выбрал Московский институт востоковедения. Успешно сдал экзамены и был зачислен. Его определили изучать арабский язык. Это не был тогда самый популярный иностранный язык. В первые послевоенные годы советское руководство еще мало интересовалось арабским миром. Внешняя политика Сталина и Молотова замыкалась на Соединенных Штатах и Европе, а в Азии только-только наметился первый крупный партнер — Китай. В 1949 году Мао Цзэдун возьмет власть в Китае, и тогда резко возрастет спрос на синологов, знатоков китайского языка.
Арабисты понадобятся позже, когда молодые египетские офицеры во главе с будущим президентом Гамалем Абд аль Насером свергнут короля, возьмут власть в Каире и назначенный Хрущевым министр иностранных дел Дмитрий Трофимович Шепилов поедет устанавливать отношения с независимым Египтом.
А до тех пор арабоговорящими странами в Москве занимались мало. В только-только разгорающемся арабо-израильском конфликте Советский Союз был еще на стороне Израиля, считая реакционные арабские режимы английскими марионетками… Словом, особых перспектив в 1948 году у арабистов не было.
Юный Примаков был увлечен Москвой и московской жизнью. Учеба давалась ему легко. Он зубрил арабский язык (хотя, как человек от природы способный, зубрежку ненавидел), а заодно учил и английский, что потом ему очень пригодилось. По арабскому языку на выпускных экзаменах получил «тройку», все переговоры на Ближнем Востоке Примаков вел на английском (скажем, с Ясиром Арафатом) или прибегал к помощи переводчика.
На фотографиях того времени можно увидеть симпатичного молодого человека с усиками, с горящими глазами — совершеннейшего грузина, хотя грузинской крови в нем нет. В таком огромном городе, как Москва, вдруг обнаруживаются старые знакомые — кого он знал еще по Тбилиси.
Леон Оников вспоминал:
— Я приехал в Москву в сорок пятом, а он только через три года. Я и не знал, что он здесь. Однажды прихожу к своему ДРУГУ — известному сценаристу Толе Гребневу, открываю дверь и вдруг вижу Женю. Оказывается, они живут в одной квартире. Вот с тех пор мы стали неразлучны…
В Институте востоковедения у Примакова появились новые друзья и множество знакомых. На курс старше учился Вадим Алексеевич Кирпиченко, будущий заместитель Примакова в Службе внешней разведки. В своей книге воспоминаний «Разведка: лица и личности» генерал-лейтенант Кирпиченко напишет, что Примаков поставил рекорд по количеству друзей: «Через несколько недель пребывания в институте его уже знали все и он знал всех. Быть всё время на людях, общаться со всеми, получать удовольствие от общения и не уставать от этого — здесь кроется какая-то загадка. Скорее всего, это врожденное качество, помноженное на кавказское гостеприимство и южный образ жизни…»
Среди его институтских приятелей были Юлиан Семенов, автор популярных романов, Герой Советского Союза Зия Буниятов, будущий академик Академии наук Азербайджана. Бу-ниятов станет значительной фигурой в конфликте вокруг Нагорного Карабаха и полностью отдастся борьбе со своими армянскими оппонентами. О Буниятове Евгений Примаков вспомнит через много лет, когда в январе 1990 года Горбачев отправит его в Баку, куда введут войска, для того чтобы прекратить армянские погромы и попытаться восстановить порядок. Анализ ситуации покажет, какую провокационную роль сыграла в этой трагической истории националистически настроенная интеллигенция.
В 1951 году, на третьем курсе, Примаков женился на девушке из Тбилиси. Потом привез жену в Москву, и они не расставались до самой ее смерти. Прожили вместе тридцать шесть лет.
Его жена Лаура Васильевна Харадзе училась в Грузинском политехническом институте, после свадьбы перевелась на электрохимический факультет Московского химико-технологического института имени Д. И. Менделеева. Лаура выросла в артистической семье. Ее тетя, Надежда Васильевна Харадзе, профессор Тбилисской консерватории, была примадонной Тбилисского оперного театра.
Но и сам Примаков не был чужд искусствам. Он писал стихи, о чем тогда знали только близкие, и участвовал в студенческой самодеятельности, пел забавные куплеты. Примаков занимался в научном кружке и вел, как было положено в ту пору, общественную работу. Герман Германович Дилигенский, который со временем станет профессором и главным редактором академического журнала «Мировая экономика и международные отношения», помнил Примакова совсем молодым.
— Он был одним из руководителей лекторской группы при Московском обкоме комсомола. Тогда много молодых людей, студентов и аспирантов, по комсомольской путевке ездили в трудовые коллективы читать лекции. Он руководил международной секцией. И видно было, что он действительно руководит, командует. Он делал это очень умело. Он прирожденный лидер. Он стремится к этому, и он способен быть лидером…
В год, когда умер Сталин, Примаков окончил институт, получил специальность «страновед по арабским странам». После института поступил в аспирантуру экономического факультета МГУ. Жилья своего не было, они с Лаурой ютились в общежитии в зоне Б на четвертом этаже, маленького сына Сашу, родившегося в 1954 году, отправили к его бабушке в Тбилиси.
В аспирантуре Примаков подружился со Степаном Арама-исовичем Ситаряном, который со временем станет заместителем председателя Госплана СССВ Счастливые аспирантские годы пролетели быстро, но по истечении положенных трех лет диссертацию он не защитил. Зато написал первую свою книжку — «Страны Аравии и колониализм». Примаков стал кандидатом экономических наук в тридцать лет, уже работая на радио. Тема диссертации: «Экспорт капитала в некоторые арабские страны — средство обеспечения монопольно высоких прибылей».
Окончив аспирантуру, искал место преподавателя политэкономии, а в сентябре 1956 года нашел работу на радио. Первая должность — корреспондент. Примаков вовсе не был уверен, что поедет когда-нибудь на Арабский Восток. В те времена за границу мало кого пускали. Он знал профессоров-востоковедов, которые никогда не были в странах, о которых так увлеченно рассказывали.
Как бы то ни было, Примаков на многие годы связал себя с Арабским Востоком. Его всегда подозревали в особой любви к арабскому миру и к некоторым арабским лидерам.
А что значит любить Восток? Я спрашивал об этом бывшего сотрудника Примакова по Институту востоковедения доктора исторических наук Алексея Всеволодовичу Малашенко:
— Это интимное ощущение. Это когда тебя тянет на Восток под любым предлогом. Когда ты ищешь работу, связанную с Востоком. И когда у тебя есть выбор — ехать в Иран или во Францию, — ты едешь в Иран. Любовь к Востоку — это прежде всего знание восточных языков. Европейскому человеку писать этой загадочной вязью не просто, но если уж ты этому научился, то приобрел нечто большее, чем просто знание еще одного иностранного языка…
— А что именно дает изучение Востока?
— Во-первых, это привносит профессионализм в твою жизнь. Если ты занимался Востоком и учил восточный язык, если уж потратил столько сил и времени, ты и к своей работе относишься очень серьезно, и от других требуешь того же. Нельзя быть специалистом по Ближнему Востоку, не зная арабского языка. Чтобы его выучить, надо потратить много времени. Нельзя быть специалистом по исламу, не прочитав Коран. А это огромный труд. Эту великую книгу непросто прочесть. А уж понять… С моей точки зрения, у востоковедов выше работоспособность и выше преданность делу, которым занимаешься. Это как раз и воспитывается во время изучения арабских закорючек и священных книг.
Такого же мнения придерживается журналист и писатель Всеволод Владимирович Овчинников, который посвятил жизнь Китаю и Японии и работал вместе с Примаковым в «Правде»:
— Для меня знание восточного языка — это какой-то ценз. В оценке характера, личности человека. То есть восточный язык — это не путь для того, кто хочет в жизни легкого восхождения. Уж раз ты решился на это дело — ты уже личность. Это так же как играть на скрипке. Не всякий сможет играть, как народный артист СССР Леонид Коган, но уже пройти сам путь, который требует не только таланта, но и упорства, педантичности, трудолюбия, это само по себе многое о человеке говорит. По себе чувствую, что восточный язык изменил мой менталитет. Я в школе любил схватывать «пятерки», ничего не уча, презирал зубрил, бравировал этим. Изучение китайского, затем японского языка заставило меня быть немцем в гораздо большей степени, чем раньше, то есть быть педантичным, просчитывать жизнь наперед — а через две недели какие будут пиковые ситуации? Думаю, что, конечно, такое чувство испытано и арабистами, потому что восточный язык — это нелегкий путь в жизни. Раз человек себе такую стезю избрал, значит, он уже не пенкосниматель…
— Неужели изучение Востока и в самом деле накладывает какой-то отпечаток на человека?
— Для этого надо работать на Востоке всю жизнь, — считает Алексей Малашенко. — Если ты занимаешься Арабским Востоком как политолог, это, конечно, не означает, что у тебя обязательно сформируется арабский менталитет. Но вот я сам занимаюсь исламом всю жизнь и чувствую, что ислам мне всё ближе и ближе. Это идет от востоковедческого менталитета, который есть и у Евгения Максимовича. От того, что он долго работал на Востоке корреспондентом, у него сознание не изменилось. Примаков — европейский человек, но любовь к Востоку всё равно остается. Пересадили кусок Востока в тебя, и он в тебе подспудно живет. А в какой-то момент эта тяга, это чувство вдруг проявляются. Но конкретизировать это невозможно. Это не математика и не физика. Восток тянет к себе. Омут…
— Что еще вырабатывает общение с Востоком?
— Спокойствие, умение ждать, умение адекватно реагировать на то, что говорит другой человек и что он думает, умение проникать в слова, умение выжидать, умение говорить иносказательно, то есть по-восточному.
В сентябре 1956 года Примакова взяли в Комитет по телевидению и радиовещанию и определили в Главное управление радиовещания на зарубежные страны. Примаков, как многие международники, аспирантом подрабатывал на иновещании, в арабской редакции. Здесь для него и нашлась вакансия.
Иновещание было частью советской внешнеполитической пропаганды. Работавшие там журналисты писали комментарий на нужную тему, показывали текст начальству, после чего комментарий переводился на иностранный язык и дикторы зачитывали его слушателям в далеких странах. Работа на иновещании считалась хлебной, но неблагодарной. Там всегда неплохо платили, но журналисты в определенном смысле были лишены плодов своего труда. То, что они писали, нельзя было прочитать или услышать на русском языке. Их творения предназначались для граждан других стран.
На иновещании начинали очень многие известные журналисты, но со временем они находили себе другую работу. За исключением, пожалуй, одного Валентина Сергеевича Зорина, который стал и доктором наук, и профессором, и известным тележурналистом, оставаясь сотрудником иновещания.
Примаков проработал на радио шесть лет и постепенно рос в должности. В двадцать шесть лет возглавил вещание на страны Арабского Востока, в его подчинении было семьдесят человек. Потом повысили — сделали заместителем главного редактора редакции информации на зарубежные страны. Жилье они с Лаурой снимали. В 1959 году работнику Гостелерадио СССР дали свое жилье — комнату. В том же 1959 году приняли в партию, и он мог рассчитывать на дальнейшую карьеру.
— Чем занимался молодой Примаков в свободное время? — спросил я у Валентина Зорина.
— Тем же самым, что делают все молодые люди во все времена, — ответил он. — Уверяю вас, Евгений Максимович не вел жизнь анахорета. Мы, как молодые журналисты во все времена, говорили о том, что старики нас зажимают. Обсуждались и более серьезные проблемы, но в узком кругу друзей. А это было трудное время — начало пятидесятых, когда за некоторые суждения можно было оказаться там, куда Макар телят не гонял. В узком нашем кругу царило полное доверие, и мы говорили откровенно. Говорили, что так дальше нельзя… А потом начался период шестидесятников. Зря его сейчас пинают ногами. Ничего из того, что есть у нынешнего поколения, не было бы, если бы не существовало шестидесятников. А Евгений Максимович — типичный шестидесятник…
Мы ходили в театры и обсуждали спектакли. Мы книгочеи. Мы черпали свои знания не в адаптированном телевизионном варианте, а из книжек. Прочтя хорошую книгу, хотелось поделиться, о чем-то поспорить. Так что это не было сообщество сухарей, которые с утра до ночи обсуждают служебные проблемы. Все дела обсуждали — личные, семейные.
Привычка к общению, потребность в общении была такая, что оно было систематическим, встречались если не ежедневно, то несколько раз в неделю. Мы были подвижнее, мобильнее, особенно с тех пор, как оперились и у некоторых из нас появились свои машины. Евгений Максимович лих-х-хой водитель. Я, во всяком случае, если оказывался с ним в одной машине, пытался уговорить его, чтобы я сел за баранку, а не он. Словом, проблемы, как съехаться, не было, а потребность в общении была… На футбол вместе ходили.
— И такой серьезный человек, как академик Примаков, любил футбол?
— «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей…» Мы с ним в молодости много времени уделяли футболу. Вы спрашивали, о чем мы говорили… Проблемы «Спартака»: почему тренер поставил того, а не другого игрока — это было темой нашего серьезного обсуждения.
— Примаков болел за тбилисское «Динамо»?
— Он разрывался между тбилисским «Динамо» и московским «Торпедо»…
В годы службы на радио Примаков приобрел еще одного друга, с которым они особенно сблизятся, когда оба окажутся в «Правде», — это Томас Анатольевич Колесниченко.
— Мы познакомились в 1956 году, — вспоминал Колесниченко. — Он работал на радио, в арабской редакции, а я в журнале «Современный Восток». Я писал ему на радио, он писал нам в журнал, и мы на этой, можно сказать, деловой почве познакомились и сразу подружились. Когда получали гонорар, шли в ресторан «Балчуг» рядом с радиокомитетом, не нынешний пятизвездный отель, а такой заброшенный, маленький ресторанчик. Мы могли там посидеть, отметить приятное событие. Но у нас, конечно, этим не ограничивалось общение, а сразу же появились общие интересы, общая компания. Он очень хорошо умел дружить. Помню, когда он приезжал из первых зарубежных командировок, собирал нас, каждому дарил рубашку.
Известный журналист Егор Владимирович Яковлев вспоминал, что первый в своей жизни холодильник купил только потому, что денег ему одолжил Примаков. Принес свою сберкнижку и сказал:
— Вот у меня есть столько-то, половину могу тебе отдать, а половина мне нужна, чтобы семью содержать.
Это оттуда, от грузин — верность друзьям. Друзьям дозволено то, что другим нельзя. Друг имел право сказать в глаза всё, что хочет, и он не обижался.
— Я как-то заметил ему, что мне не понравились слова одного нашего общего знакомого, — вспоминал Леон Они-ков. — Примаков остановил меня: «Он может, он друг». Я это запомнил. Друг вправе сказать всё, что считает нужным, это на дружбе не отразится.
Ну, конечно, объединяла любовь к застольям. Томас Колесниченко:
— Когда он стал главой правительства, мы очень переживали, что редко видимся. Такого раньше не было. Даже когда он был министром, мы встречались регулярно, почти каждую неделю…
Когда Примаков покинул Белый дом, его тесное общение с друзьями возобновилось.
Став министром иностранных дел и потом главой правительства, Примаков недолюбливал журналистов, считая, что многие из них пишут недостоверно. Но когда-то сам Евгений Максимович был очень заметным журналистом.
— Он удивительно быстро учился и умел в очень короткий срок вникнуть в суть проблемы, которой он до сих пор не занимался, — говорил Валентин Зорин. — Очень хваткий ум, очень четкое мышление и умение увидеть суть. У нас не было принято одарять друг друга комплиментами. Я писал статью, показывал ему. Он, проглядев ее, говорил: «А чего ты написал пять страниц, когда хватило бы полутора?» И быстро отчеркивал в рукописи: «Вот это нужно, остальное — шелуха». То есть мгновенно разбирался в тексте, хотя тогда он был востоковедом, а я американистом, а статья была посвящена Америке. Это не мешало мне почти всегда, если только не взыгрывало самолюбие, соглашаться с его оценкой. Мы были тогда друзьями, а я влюбчив — не только в женщин, но и в друзей. Мне он казался выдающимся, замечательным человеком. Если вспомнить отношение к нему коллектива, тех, кто с ним работал, то это было уважение и восхищение. Главным редактором вещания на арабские страны он был назначен, будучи самым молодым в этом коллективе. А там работали умудренные востоковеды, арабисты. Его назначение они приняли с удовольствием и с огорчением с ним прощались.
— Как выглядел тогда Примаков? — спросил я Томаса Колесниченко.
— Он был худой, — ответил Колесниченко. — Веселый, всегда улыбающийся, в хорошем настроении, дружелюбен необычайно. Коммуникабелен, обаятелен. Он очень всем нравился, особенно женщинам…
В те далекие времена молодой Примаков, как человек с Кавказа, был вспыльчив и горяч. Он был утонченно внимателен к женщинам и был готов драться, если ему казалось, что кто-то бросил косой взгляд на его женщину.
Но как выяснилось, Примаков нравился отнюдь не всем.
В 1958 году его включили в группу журналистов, которые освещали визит Никиты Сергеевича Хрущева в Албанию. Первого секретаря ЦК КПСС сопровождали министр обороны маршал Родион Яковлевич Малиновский, член президиума ЦК Нуритдин Акрамович Мухитдинов (бывшего руководителя Узбекистана Никита Сергеевич забрал в Москву, считая, что в руководстве страны должен быть представитель Средней Азии, его же использовал для контактов с исламскими странами) и множество помощников. Поездка за границу, да еще в свите Никиты Сергеевича, была большой честью. Но после Албании Примаков попал в невыездные. Было такое понятие — люди, которым запрещался выезд за границу. Причем официально это не признавалось, и невозможно было получить объяснение: почему меня не пускают? Просто говорили: поездка нецелесообразна. Невыездной — значит неблагонадежный…
— Были мы молодые, уверенные в себе, — рассказывал Валентин Зорин. — Примаков стал неугоден сектору радиовещания идеологического отдела ЦК КПСС, потому что отстаивал то, что считал правильным, а не делал то, что ему говорили. Так что жизнь далеко не всегда ему улыбалась…
Эта история не красит иновещание. Ушел Примаков, потом Виталий Журкин, еще один будущий академик и директор Института Европы.
— Примаков всегда умел ладить с начальством. А что тогда случилось?
— Это тоже миф, что Примаков подлаживается под каждое руководство. Он подошел тому руководству, которое взялось за серьезную ломку старого. Ему не нужно подстраиваться ради карьеры. Он может отстаивать только то, во что сам верит.
«Я весьма осязаемо почувствовал скверное отношение ко мне заведующего сектором ЦК, — писал Примаков. — Может быть, ему не понравилось мое выступление на партсобрании, может быть, были какие-то другие причины, но я фактически оказался невыездным. “Рубили” даже туристические поездки.
Тогда же была запущена легенда о моем происхождении. Мне даже приписали фамилию Киршенблат. Позднее я узнал, что в других “файлах” мне приписывают фамилию Финкельштейн — тут уж вообще разведешь руками, непонятно откуда».
Ведь как забавно бывает в жизни. Человек, который выдавил Примакова с иновещания, заведующий сектором радио, со временем уступил свое место в аппарате ЦК Александру Николаевичу Яковлеву, тот станет другом Примакова и приведет его к Горбачеву в Кремль. Формально Евгения Максимовича не уволили, он ушел сам. И вот счастливый случай. Валентин Зорин позвонил своему однокашнику — Николаю Николаевичу Иноземцеву, который был тогда заместителем главного редактора газеты «Правда» и занимался как раз международной тематикой:
— У нас есть талантливый парень.
— Приводи, — ответил Иноземцев. — Только попозже, когда я полосы подпишу.
Полосы в «Правде» в те времена подписывались часов в двенадцать ночи. Зорин и Примаков приехали в редакцию в полночь. Просидели до двух часов ночи. Примаков понравился Иноземцеву. Николай Николаевич сказал:
— Я вас беру. Но в силу некоторых аппаратных причин сразу принять вас на работу в «Правду» я не в состоянии. Вам надо несколько месяцев где-то пересидеть.
— Где?
— В Институте мировой экономики и международных отношений, — придумал Иноземцев. — Вы же кандидат наук. Я позвоню директору — Арзуманяну и договорюсь, а вы подайте на конкурс — этому никто воспротивиться не сможет.
Иноземцев пришел в «Правду» с должности заместителя директора этого института. Но еще не знал, что через несколько лет сам вернется в институт уже директором и это будут его звездные годы.
Заодно Иноземцев вызвал заведующего отделом кадров «Правды»:
— Запросите соответствующие органы о возможности использовать Примакова в качестве нашего собственного корреспондента в одной из капстран.
Такой запрос отправлялся в отдел ЦК КПСС по работе с заграничными кадрами и выездам за границу. Этот отдел решал, кому можно ездить, а кому нельзя. На каждого выезжающего, кроме высших чиновников государства, отдел ЦК, в свою очередь, посылал запрос в Комитет госбезопасности. Чекисты, покопавшись в архиве, давали один из двух вариантов ответа: в благоприятном случае — «компрометирующими материалами не располагаем», в неблагоприятном, напротив, сообщали о наличии таких материалов, ничего не уточняя.
В принципе окончательное решение принимали в отделе ЦК. Он имел право пренебречь мнением КГБ и разрешить поездку за рубеж. На практике в аппарате ЦК никому не хотелось брать на себя такую опасную ответственность. Спрашивать КГБ, какими именно «компрометирующими материалами» он располагает, в отделе тоже не решались. И люди становились невыездными, не зная, в чем они провинились…
В сентябре 1962 года Примакова приняли в Институт мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Ростислав Александрович Ульяновский, в ту пору заместитель директора Института востоковедения Академии наук, в свое время предложил Примакову защитить кандидатскую диссертацию и тем самым сыграл важную роль в его судьбе. Если бы Евгений Максимович вовремя не обзавелся кандидатской степенью, всё пошло бы иначе. А Ульяновский вскоре займет важный пост, станет заместителем заведующего международным отделом ЦК КПСС и будет курировать Ближний и Средний Восток.
Определили Евгения Максимовича на должность старшего научного сотрудника только что образованного сектора экономики и политики слаборазвитых стран. Руководил сектором будущий член-корреспондент Академии наук Виктор Леонидович Тягуненко. В секторе придерживались традиционных догм, далеких от реальности, но Примаков там, к счастью, не задержался. Когда выяснилось, что у КГБ нет претензий к Примакову и он является выездным, его в декабре того же года взяли на работу в центральный орган ЦК КПСС газету «Правда».
— Что касается этого деятеля из сектора ЦК, — сказал довольный Иноземцев, — то «Правда» вне пределов его влияния.
Примаков тогда и не предполагал, что Николаю Николаевичу Иноземцеву суждено сыграть очень важную роль в его жизни.
— Какие планы строил тогда Примаков и кем он мечтал стать? — спросил я Валентина Зорина.
— Имейте в виду, что рубрика «Если бы директором был я» появилась в «Литературной газете» много позднее, — ответил тот. — Интересы Евгения Максимовича тогда не сводились к карьере. Это происходило как-то само собой. Ясно было: как попашешь, так и пожнешь. У него было несколько этапов в жизни, и каждому делу он отдавался, совершенно не думая, что это всего лишь ступенька в карьере.
— Мечтал ли в те годы Примаков о большой политической карьере?
— Если и мечтал, то хранил это в себе.
Евгений Примаков работал в «Правде» сначала обозревателем, а вскоре стал заместителем редактора отдела стран Азии и Африки.
В 1950-е годы в редакции «Правды» существовали два иностранных отдела — собственно международный и отдел социалистических стран. Потом, в соответствии с веяниями времени, был создан и отдел стран Азии и Африки, заместителем редактора которого стал Евгений Максимович. В этом отделе трудились всего четыре-пять человек, чуть меньше, чем насчитывалось корреспондентов за рубежом, причем была ротация: поработав несколько лет за границей, корреспондент возвращался в редакцию, а на его место отправлялся кто-то из сотрудников отдела.
И Примаков, и другие правдисты-международники были молодыми людьми. Они много работали, но одновременно и наслаждались открывшейся перед ними увлекательной жизнью.
Всеволод Овчинников вспоминает:
— В свободное время мы ходили через дорогу в Дом культуры, где продавали пиво и бутерброды с кильками. Конечно, в нашем буфете на спиртное было табу. Но существует известный анекдот о том, как среди ночи кто-то с девятого этажа в «Правде» бросил пустую бутылку. Она упала на голову милиционеру, который ходил внизу. Приехал наряд из дежурной части. Милиционеры стояли внизу и ко всем выходящим из редакции принюхивались, чтобы выяснить, кто выбросил бутылку. Но водкой пахло ото всех, только от тети Паши, лифтерши, пахло портвейном…
Примакова привел в газету Иноземцев. Но это не было назначением по знакомству. Евгений Максимович был настоящим специалистом по Арабскому Востоку.
Томас Колесниченко рассказал историю, как Примаков чуть не погорел на этом:
— Он писал комментарий на радио. Как раз тогда в Москву прибыла какая-то важная делегация из Каира, велись закрытые переговоры. Примаков не имел никакого отношения к этим переговорам. Вдруг его вызывает руководитель иновещания:
— Как вы могли в комментарии раскрыть наши планы? Ведь идут такие серьезные переговоры!
Примаков изумился:
— Побойтесь Бога, я понятия не имею о переговорах! Начальник, конечно же, не верит:
— Что вы мне говорите? Вы же пишете в комментарии — надо то, надо это. Как раз эти идеи и выдвигаются.
Примаков клянется:
— Да я здесь ни при чем. Я просто считаю, что так надо сделать.
Оказывается, его идеи совпали с разработками ЦК или МИДа, проходившими под грифом «совершенно секретно». Он об этих разработках и не подозревал, никакой информации о переговорах не получал, а просто дошел своей головой до того, что там целый отдел сидел-писал, скрывая это от других. Так что его чуть было не наказали за высокий профессионализм, знание арабских проблем и анализ политики египетского президента Насера…
— В «Правду» международников подбирали из числа страноведов, регионоведов, — рассказывал Всеволод Овчинников. — И Примаков, и я не были профессиональными журналистами в том смысле, что мы не получили журналистского образования. Страноведов в редакции переучивали на журналистов. Это, видимо, была правильная линия, потому что в «Правде» собрались самые сильные арабисты, сильные дальневосточники, хорошие индологи. «Правда» проигрывала «Известиям» только среди американистов — у них был Станислав Кондрашов, а у нас равновеликой фигуры не было. В редакции существовала некая кастовость: дальневосточники и ближневосточники держались отдельно. Ближневосточ-ники считали, что никто кроме них, профессионалов-арабистов, не в состоянии понять, что происходит в арабском мире, и в то же время особого интереса к другим регионам не проявляли, считали, что они пуп земли. У Максимыча не было ни этой фанаберии, ни этой ограниченности. Он с большим интересом расспрашивал меня о Японии, о Китае, интересовался парадоксальными противоречиями между этими странами. И, рассказывая ему об этом, я чувствовал, что в коня корм. Когда слушатель хороший, то по характеру дальнейших вопросов понимаешь, что он действительно интересуется и разбирается. И главное — он не считал зазорным проявить свое незнание в чем-то, спросить, причем по делу спросить. Он умел слушать. Это очень ценное качество. Одно дело, когда говоришь и чувствуешь, что у человека в одно ухо вошло, в другое вышло. А можно так реагировать на услышанное, что говорящему приятно и он понимает, что не зря сотрясает воздух. Вот Евгений Максимович как раз очень хороший, тонкий слушатель и умелый, говоря милицейским языком, раскалыватель людей. Он умел разговорить человека, помочь ему раскрыться. Или заставить его раскрыться. Потом, когда я вернулся из загранкомандировки в редакцию, а он уехал, я чувствовал себя в ближневосточной тематике, как на минном поле. Для меня всё это было совершенно ново. Теперь уже я его подробно обо всём расспрашивал, когда он приезжал в Москву на короткое время. И многому у него научился. Потом мне пришлось и государственные визиты освещать — в Египет, в Сирию, Ливан, и я даже спекулировал именем Примакова в этих арабских странах, потому что, когда имел дело с арабскими журналистами, с государственными чиновниками, одно его имя открывало многие двери и вызывало доверие…
Когда в 1965 году Примаков приехал в Египет, Арабский Восток бурлил. Это был благодатный материал для журналиста. Освободившись от чужой власти, арабский мир всё никак не мог оформиться. Государства соединялись и раскалывались. Делился Йемен. В феврале 1958 года Сирия и Египет объединились и образовали Объединенную Арабскую Республику. Это было сделано с далеко идущими целями. Президент Гамаль Абд аль-Насер провозгласил, что в новое государство могут вступить все арабские страны (рассчитывал на присоединение в ОАР Ирака). В Советском Союзе объединению двух стран не обрадовались. В Сирии набирала силу коммунистическая партия во главе с Халедом Багдашем, поэтому появилась возможность влиять на политику Сирии. Насер хотел управлять государством единолично, а кончилось это тем, что сирийские офицеры совершили переворот и Сирия вышла из Объединенной Арабской Республики.
Переворот в Сирии и отказ сирийцев от объединения с Египтом были сильнейшим ударом по политике и престижу Насера. Впрочем, мало кто сомневался в том, что объединение было искусственным, в его основе лежало только страстное желание Насера руководить всем арабским миром. Но пока Насер был жив, Египет назывался Объединенной Арабской Республикой. Гамаль Абд аль-Насер сохранял это название, потому что не мог признаться ни себе, ни другим, что идея его провалилась.
Арабские политики в результате кровавых переворотов свергали предшественников, с которыми только что обнимались, и новые люди появлялись у власти. Они ненавидели друг друга и время от времени воевали между собой. Смена лидера, как правило, влекла за собой резкую перемену политического курса. Арабский мир не мог решить, каким путем ему идти. Консервативные режимы тянулись к богатому Западу, к Соединенным Штатам в первую очередь. Молодые и радикально настроенные лидеры, напротив, искали помощи у Советского Союза. Во-первых, не хотели иметь дело с западными странами, бывшими колонизаторами. Во-вторых, социалистическая система казалась им более справедливой. В-третьих, Советский Союз был готов помогать им на безвозмездной основе и снабжать оружием.
Приехав в Каир, Примаков погрузился в этот бурлящий мир, где традиционная восточная экзотика смешивалась с еще более экзотической политикой.
Валентин Зорин рассказывал:
— Он, ко всему прочему, азартный репортер. И проникнуть туда, где стреляют, было для него не только профессиональной необходимостью, но и внутренней потребностью. У него был азарт. Президентом Египта был самый знаменитый в те годы ближневосточный политик Гамаль Абд аль-Насер, о котором Примаков будет много писать — с симпатией и уважением. Насер был главным партнером и любимцем Советского Союза на Ближнем Востоке, потому что пытался построить арабский социализм.
Между тем Ближний Восток неуклонно двигался к новой войне. Арабские лидеры всё чаще говорили, что настало время силой восстановить законные права палестинских арабов и разгромить Израиль. Советская печать повторяла их слова, хотя дипломаты прекрасно знали реальное отношение Насера к палестинцам.
Арабские страны не признавали Израиль, требовали уничтожить еврейское государство, а его территорию вернуть арабам. О создании самостоятельного палестинского государства тогда не говорили. Часть территории, которую ООН в 1947 году решила отдать палестинским арабам, прихватила Иордания, а другую часть — сектор Газа — присоединил к себе Египет.
Палестина, эта узкая полоска земли, имеет значение, которое нельзя объяснить обычными экономическими или политическими терминами. Святая земля не таит в себе особых богатств. Но ни одна территория столь скромного размера не оказала такого огромного влияния на историю человечества — ведь здесь зародились три мировые религии…
Поставки советского оружия Египту шли полным ходом. Весной 1967 года президент Насер перебросил войска на Синайский полуостров поближе к границам Израиля и потребовал убрать миротворческие силы ООН, которые символически разъединяли два государства. Возникло ощущение, что Насер готовится к наступлению. В арабских странах только и говорили о том, что пора сокрушить Израиль. Премьер-министр Сирии Зуэйн заявил о необходимости нанести удар первыми. Накануне шестидневной войны арабский мир считал, что Израилю пришел конец.
Все эти драматические события происходили на глазах корреспондента «Правды» Евгения Примакова. Писал он в газету то, что соответствовало официальной линии. Но многое знал из того, что тогда скрывалось от советских людей. Остальное описал позднее. В первый день шестидневной войны Примаков продиктовал в Москву репортаж о том, как на его глазах над Каиром сбили вражеский самолет. И египтяне кричали от восторга. А оказалось, что самолет был не израильским, а египетским: неумелые зенитчики сбили своих.
Двенадцатого мая 1967 года Анвару Садату, тогда главе египетского парламента, сделавшему остановку в Москве по пути из Пхеньяна в Каир, заместитель министра иностранных дел Владимир Семенович Семенов сказал, что израильские войска нависли над сирийской границей. Война может начаться через пять дней.
Прилетев в Каир на следующий день, прямо из аэропорта Анвар Садат отправился в резиденцию Насера. Египетскому президенту уже передали советское предупреждение по другим каналам. 13 мая представитель КГБ СССР в Египте информировала руководителей египетской разведки, что израильские войска концентрируются на сирийской границе. Одновременно советский посол передал ту же информацию Министерству иностранных дел Египта.
На египетского президента эта трижды повторенная информация произвела сильное впечатление, хотя потом выяснилось, что эти сведения не имели под собой оснований. Начальник Первого главного управления (внешняя разведка) КГБ генерал-лейтенант Александр Михайлович Сахаровский объяснял позднее, что у его подчиненных были сомнения в полученной информации, но они всё же сочли своим долгом поделиться ею с египтянами.
Девятого июля, уже после проигранной войны, египетский президент, выступая, объяснил:
— У противника имелся план вторжения в Сирию, о чем открыто заявляли израильские политики и командиры. Данные наших сирийских братьев и надежная информация, которой мы сами располагали, не оставляли сомнений. Наши друзья в Советском Союзе сообщили нашей парламентской делегации, которая находилась в Москве, что речь шла об определенном замысле. Мы не могли остаться безучастными.
Насер аккуратно перекладывал часть вины за неудачную войну на Советский Союз. Но его собственные действия привели к тому, что война оказалась практически неизбежной. Особенно когда президент Египта распорядился удалить войска ООН с Синайского полуострова и из сектора Газа. Солдаты в голубых касках находились на разделительной линии между египетскими и израильскими войсками, установленной после синайской войны 1956 года. Само их присутствие играло сдерживающую роль. Уход войск ООН означал, что две армии окажутся друг против друга.
Насер был убежден, что это заставит Израиль перебросить войска с юга (от сирийской границы) на север и обезопасит Сирию. В Москве действительно боялись, что Израиль ударит по Сирии, чтобы покончить с палестинскими боевиками, которые действовали с сирийской территории. Но в Москве не ожидали решения Египта убрать войска ООН.
В тот же день Насер заявил, что закрывает Тиранский пролив для израильских судов и для иностранных судов, доставляющих в Израиль грузы стратегического назначения. Иначе говоря, Египет блокировал важнейший израильский порт Эйлат, имевший выход к Красному морю.
Историкам и по сей день неясно, хотел ли Насер воевать. Но он сделал всё, чтобы война началась. Он словно сознательно провоцировал Израиль. Возможно, Насер пребывал в уверенности, что еврейское государство, боясь осуждения со стороны мирового сообщества, не решится нанести удар первым. Руководители Израиля казались ему людьми нерешительными: они всё время что-то обсуждали, советовались с депутатами, прислушивались к мнению общественности и прессы. Нет, эти люди не рискнут начать войну… А в такой выигрышной ситуации, наверное, думал Насер, можно получить многое из того, что раньше казалось невозможным.
Двадцать третьего мая премьер-министр Израиля Леви Эшкол сказал в кнессете, что попытки помешать проходу израильских судов через Тиранский пролив будут рассматриваться правительством Израиля как акт агрессии. Эти слова были адресованы не только депутатам кнессета, но и египетскому руководству. В отсутствие дипломатических отношений объясняться приходилось либо путем публичных деклараций, либо через посредников.
Двадцать пятого мая советский посол в Каире получил срочную телеграмму министра иностранных дел Андрея Андреевича Громыко с поручением посетить Насера или министра иностранных дел Махмуда Риада и передать следующее: «В Советском Союзе вызывает удовлетворение решительная позиция арабских государств, сплотившихся вокруг Объединенной Арабской Республики и создавших общий фронт в защиту Сирии перед лицом империалистического заговора… Правительство СССР считает оправданным требование правительства ОАР о выводе войск ООН из района Газа и Синайского полуострова. Такое требование является бесспорным правом Объединенной Арабской Республики. Мы считаем эту меру сильным шагом, который произвел соответствующее положительное действие».
Послание Громыко свидетельствовало о том, как плохо советские дипломаты понимали ситуацию на Ближнем Востоке.
Двадцать четвертого мая Египет заявил, что приступает к минированию Акабского залива и приводит в боевую готовность флот и авиацию.
Двадцать пятого мая египетская военная делегация во главе с министром обороны Шамсом Бадраном вылетела в Москву. Египтяне провели в Москве четыре дня. Принимали их не только министр обороны маршал Андрей Антонович Гречко и министр иностранных дел Громыко, но и глава правительства Алексей Николаевич Косыгин, чтобы подчеркнуть, что Советский Союз поддерживает Египет.
Провожавший египетского министра Бадрана маршал Гречко в здании правительственного аэропорта произнес тост «на посошок» и заявил, что, если Израиль нападет на Египет и Соединенные Штаты поддержат израильтян, «мы будем с вами». Эти ободряющие слова советского министра обороны звучали для египтян как самая сладкая музыка.
Двадцать шестого мая президент Насер выступал перед руководителями Всеарабской федерации профсоюзов.
— Если разразится война, она будет тотальной, — сказал он. — Мы готовы к войне и уверены в победе.
Скорее всего, Насер совершенно не предполагал, что затеянный им конфликт закончится войной. Он был убежден, что всё останется в рамках дипломатических дискуссий. Он даже считал, что одержал победу без боя, поэтому на публике вел себя воинственно.
Двадцать девятого мая Насер выступал в парламенте:
— Западные державы умаляют наше достоинство и отказываются признавать наши права. Мы научим их уважать нас. Мы противостоим не Израилю, а тем, кто стоит за ним, тем, кто создал Израиль. Наша страна и наши союзники закончили приготовления к освобождению Палестины.
Председатель Организации освобождения Палестины Ахмед Шукейри заявил, что, когда арабы разгромят Израиль, уцелевшим евреям позволят вернуться в те страны, откуда они приехали. И с садистской ухмылкой добавил:
— Но мне кажется, что никто не уцелеет.
Двадцать седьмого мая премьер-министр Израиля Леви Эшкол сказал советскому послу, что хотел бы с кратким визитом приехать в Москву и обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Он намеревался объяснить советским руководителям, что Израиль заинтересован в мирном урегулировании возникших проблем. Эшкол был уверен, что сумеет убедить Москву в своей искренности и войны удастся избежать.
Двадцать восьмого мая в Москве решили принять Леви Эшкола — при одном условии: если не возражают президент Египта и сирийское руководство. Насер в тот же день ответил, что он не против приезда израильского премьер-министра.
В ночь на 2 июня советский посол Дмитрий Степанович Чувахин получил указание немедленно встретиться с Эшко-лом. Через час израильский премьер-министр принял посла и получил приглашение в тот же день прилететь в Советский Союз. А еще через пару часов советское руководство отменило приглашение — невиданное в дипломатической практике дело! Дело в том, что премьер-министр Сирии Зуэйн и находившийся в Москве сирийский президент аль-Атаси попросили ни в коем случае не принимать израильтянина. Так была упущена последняя возможность избежать войны.
Пятого июня началась новая война на Ближнем Востоке, которая закончилась полным поражением арабских армий.
Советские военные были уверены, что если Египет и не сокрушит Израиль, то по крайней мере продемонстрирует свою силу и преимущества советского оружия. Это укрепит престиж и влияние Советского Союза на Ближнем Востоке. Получилось наоборот.
Египетская армия, несмотря на значительное превосходство в силах, была разгромлена. У нее было много хорошего советского оружия, египетские офицеры учились в Советском Союзе, но не смогли оказать сопротивления наступавшим израильтянам. Победа Израиля явилась тяжелым ударом по арабской гордости.
Вечером 9 июня Гамаль Абд аль-Насер выступил по телевидению. Он взял на себя ответственность за поражение, заявил, что уходит в отставку, и назначил своим преемником вице-президента Закарию Мохиэддина.
Примаков считал, что Насер искренне решил уйти в отставку. Другие историки полагают, что египетский президент не собирался уходить, но ему нужно было, чтобы его попросили остаться. После чего он умело организовал обращенный к самому себе народный призыв взять назад заявление об отставке и вернуться к власти. Начались митинги, на которых каирцы уговаривали Насера остаться. И он «согласился» с мнением народа. Он принял на себя еще и обязанности премьер-министра и генерального секретаря правящего Арабского социалистического союза, показав, как мало доверия он испытывает к своим соратникам и коллегам.
В Москве 19 июня политбюро обсуждало ситуацию на Ближнем Востоке.
«Настроение у всех какое-то гнетущее, — записал в дневнике первый секретарь ЦК компартии Украины Петр Шелест. — После воинственных, хвастливых заявлений Насера мы не ожидали, что так молниеносно будет разгромлена арабская армия, в результате так низко падет авторитет Насера. На него ведь делалась ставка как на лидера «арабского прогрессивного мира». И вот этот «лидер» стоит на краю пропасти, утрачено политическое влияние; растерянность, боязнь, неопределенность.
Армия деморализована, утратила боеспособность. Большинство военной техники захвачено Израилем… Нам, очевидно, придется всё начинать сначала: политику, тактику, дипломатию, оружие. Недешево будет обходиться всё это для нашего народа, страны».
Советские руководители не рискнули выразить свое раздражение потерпевшим позорное поражение арабским союзникам. Напротив, они выступали в роли психотерапевтов, утешая Насера и других египетских и сирийских политиков. Советский посол сообщил Насеру, что Москва бесплатно компенсирует ему всё потерянное в войне вооружение, включая авиацию. Это был роскошный подарок за счет советских людей.
Двадцатого июня в Египет вылетела советская делегация во главе с председателем президиума Верховного Совета СССР Николаем Викторовичем Подгорным. Тогда он был третьим человеком в стране и держался с Брежневым на равных.
Задача перед ним ставилась такая: «Оказать руководству Объединенной Арабской Республики и лично президенту Насеру морально-политическую поддержку, укрепить его веру в Советский Союз и другие социалистические страны как испытанных и надежных друзей арабских народов, а также обсудить практические меры по ликвидации последствий агрессии Израиля».
Насер свалил всю вину на своего ближайшего соратника первого вице-президента Египта маршала Абд аль-Хакима Амера, которого еще недавно называл своим вторым «я». Но в политике друзей не бывает. В Египте стали говорить, что настоящие виновники поражения — агенты ЦРУ, проникшие на высшие посты в армии. Иначе бы могучая египетская армия ни за что не отступила бы перед сионистами. Маршала Амера, который, как и Насер, тоже был Героем Советского Союза (подарок Хрущева), принесли в жертву.
Семнадцатого сентября 1967 года заместитель министра иностранных дел Владимир Семенов записал в дневнике: «Три дня тому назад покончил самоубийством Амер. По официальному сообщению, он дважды предпринимал такую попытку — в первый раз опиумом, во второй — цианистым калием… Почему это было сделано, сказать пока трудно. Он был предан суду военного трибунала, ряд высших офицеров, в том числе командующий ВВС, оказались агентурой ЦРУ и жена брата Амера, кажется, тоже. Идут слухи о новой отставке Насера, но египетское информационное агентство их опровергает. Посол Виноградов экстренно вылетел в Каир».
На переговорах с советскими гостями Насер сказал:
— Если вы не поможете, я не смогу больше бороться. Ситуация в стране очень сложная. Я тогда уйду в отставку. А на мое место придут проамериканские политики. Они-то смогут решить проблему…
Советская печать получила указание масштабно поддержать арабские страны и разоблачать преступления Израиля. После шестидневной войны в советском обществе появилась когорта людей, которые посвятили себя борьбе с мировым сионизмом, понимая под этим борьбу с евреями. Среди них были как истинные фанатики, так и просто зарабатывающие себе этим на жизнь, благо платежеспособный спрос всё увеличивался — в газетах, журналах, на радио и телевидении. Даже в антиамериканской пропаганде соблюдались определенные правила, накануне встреч на высшем уровне она вообще затухала. И только накал антиизраильской и антисионистской пропаганды никогда не спадал.
Примаков видел триумфальные выступления Насера перед египтянами, которые восторженно встречали своего вождя, и его трагедию, когда Египет потерпел сокрушительное поражение в шестидневной войне 1967 года. И в 1967 году, и позднее Примаков писал антиизраильские статьи и книги. Израиль тогда неизменно именовался агрессором. Современная история трактует события тех лет иначе.
Корреспонденции в «Правде» были далекими от истинного положения дел, но Примаков видел, что для Египта поражение в войне обернулось еще и тяжелыми экономическими проблемами, в том числе и потому, что был закрыт Суэцкий канал. Египет потерял нефтяные скважины на Синайском полуострове, которые давали 60 процентов всей необходимой ему нефти.
Египтяне были благодарны Советскому Союзу за то, что Москва встала на сторону арабов и разорвала дипломатические отношения с Израилем. Это усилило влияние Советского Союза в третьем мире и на Ближнем Востоке. Египет еще в большей степени стал зависеть от Советского Союза, потому что начал стремительно перевооружаться. Все мысли Насера были только о военном реванше. Армия съедала все деньги. Но Гамаль Абд аль-Насер уйдет из жизни раньше, чем увидит, как египетские вооруженные силы впервые смогут успешно противостоять израильской армии в октябре 1973 года…
После его смерти в сентябре 1970 года политические симпатии Советского Союза постепенно перешли на Сирию. Она получала советскую помощь по полной программе. Но холодно-расчетливый президент Хафез Асад ничем не походил на горячего и искреннего Насера. Впрочем, к этому времени Примаков уже вернется в Москву и из «Правды» перейдет в Институт мировой экономики и международных отношений.
Арабский мир, живой и непосредственный, нравился Примакову. Среди дружелюбных и гостеприимных людей он чувствовал себя вполне уютно. И симпатию к арабскому миру Примаков сохранит навсегда.
Осенью 2006 года издательство «Российской газеты» выпустило его объемную книгу «Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина XX века — начало XXI века)». Я воспринял ее как итоговый труд, это историческая и одновременно мемуарная книга. Евгений Максимович излагает историю современного Ближнего Востока, которая совершалась не только на его глазах, но и с его участием.
От каких-то прежних оценок он отказался. Но в основе своей взгляд Евгения Максимовича на причины ближневосточного конфликта, мне кажется, не изменился. Характерно, что если Примаков пишет об «ошибках и заблуждениях» арабских властителей, то в отношении Израиля тон его куда суровее — «кровавые расправы над арабским населением», «кровавая война израильской военщины»…
Его арабские собеседники описаны доброжелательно, с неизменным сочувствием, хотя некоторые из них запятнали себя расправами с гражданами своих стран. Израильских политиков он судит более строго. А такой известный и уважаемый в мире израильский политик, как лауреат Нобелевской премии Шимон Перес, вообще вызывал у Примакова только отрицательные эмоции. Возможно, потому что познакомились они еще в 1970-е годы, когда Перес спросил, как совместить слова советских представителей о стремлении к миру с поставками оружия арабам, которые не признают права еврейского государства на существование и сулят «сбросить израильтян в море».
Может быть, Евгению Максимовичу больше импонировали жесткие и даже супержесткие политики. Во всяком случае, подходящими партнерами для переговоров он считал не либералов вроде Шимона Переса, а занимавших в разное время пост главы правительства Менахема Бегина и Биньямина Нетаньяху, которые в Европе, Соединенных Штатах и в самом Израиле считались крайне правыми и неуступчивыми.
Когда Примакова назначили министром иностранных дел России, его политические симпатии и антипатии оказались предметом тщательного изучения. Его позицию трактовали упрощенно: враг Запада, друг Востока.
— И арабисты, и китаисты, и вообще востоковеды отрешаются от европоцентризма, что очень важно, — говорил Всеволод Овчинников. — Всем кажется, что цивилизация состоит из трех составных частей — древнегреческое искусство, римское право и христианская мораль. А за пределами этого только варварство. Человек, который знает культуру Ближнего, Дальнего Востока, более сбалансированно относится к культуре вообще. Он понимает, что невозможна унификация, что человечество может идти по пути симфонизма, когда каждый народ — инструмент, который играет роль в общем оркестре. Поэтому я нетерпим — думаю, Евгений Максимович тоже — к попыткам унифицировать понятие общечеловеческих ценностей. Нельзя навязать всему миру одну западную модель, культивировать индивидуализм. Арабским народам, где шариатская этика играет большую роль, чужд культ индивидуализма, присущий западной либеральной модели. Потому что система восточных ценностей предполагает приоритет общих интересов над личными, приоритет дисциплины над вседозволенностью, гармонии над плюрализмом.
Томас Колесниченко вспоминал:
— Примаков был корреспондентом в Каире, а я — редактором отдела международной информации в «Правде». Я заезжал в Каир, и тогда происходили незабываемые встречи — до сих пор их помню. Мы бедную Лауру, его жену, выпроваживали и до утра сидели, разговаривали. А утром вместе передавали в редакцию статью. Это тоже было для него характерно. Знаете, когда сидишь корреспондентом в стране, возникает чувство собственника: ты тут хозяин и никто другой об этой стране писать не имеет права. Честно говоря, у меня такая черта тоже была, когда работал собкором «Правды». А он щедрый был всегда, делился талантом. Знал, что лучше его никто не напишет, поэтому и не боялся конкуренции. Всегда мне предлагал вместе писать. Приятно было отправить из Каира материал за двумя подписями. Эта традиция писать вдвоем сохранилась. Когда он вернулся из Каира, мы вместе стали работать в редакции. Придумали серию небольших фельетончиков, которые подписывали псевдонимом Прикол — сокращение от Примаков — Колесниченко. Мы писали фельетоны чуть ли не каждую неделю. Они стали популярны, их заметили. Всё кончилось, когда один из заместителей главного редактора, который был откровенным антисемитом, вдруг заявил: «Что это за Прикол такой появился в «Правде»? Что за еврей? Убрать!..» С тех пор наши фельетоны перестали печатать.
Втроем — Примаков, Игорь Беляев и Колесниченко — написали книжку о шестидневной арабо-израильской войне. Дружеские отношения в молодости переплелись с творческими.
— Помню историю с матушкой Александрой, — продолжал Томас Колесниченко. — Примаков поехал в Иерусалим и там, по-моему, в русской церкви встретил матушку Александру, вдову композитора Александра Константиновича Глазунова. Глазунов в 1928 году уехал из России. Жил в Париже, там и похоронен. И Примаков написал великолепный очерк о Глазунове и о его жене. Глазунов просил перенести его прах в Россию. Примаков поставил этот вопрос в своем очерке, который мы отправили на просмотр в отдел культуры ЦК — такая уж была практика. Уже пора сдавать полосу, на которой стояла статья, а ответа нет. Я позвонил в ЦК одному человеку. Не буду называть фамилию. Его все знают, он культурой занимался. Зашел в пустой кабинет кого-то из членов редколлегии с вертушкой — правительственным телефоном. Мы еще молодые были, без вертушек. Звоню ему и говорю: «Вот у меня такой вопрос. Я из «Правды». Мы хотим напечатать такой-то материал о Глазунове и поставить вопрос о его перезахоронении на родине». Тот неохотно говорит: «А кто вообще знает, что он там похоронен? Все же думают, что он здесь похоронен». Я пытался объяснить: «Но ведь в энциклопедии написано…» — «А кто читает ваши энциклопедии? Вот вы опубликуете в газете, и тогда все прочитают. И вообще, зачем нам привлекать внимание к тому, что он там похоронен?.. Ну ладно, тут ко мне деятели культуры пришли… Какой у вас номер вертушки? Я вам потом позвоню» — «Знаете, у меня нет номера…» — «Ах, нет?!» И в трубке раздались гудки. Материал Примакова «Матушка Александра» напечатан не был…
Евгений Примаков всю жизнь носил погоны под штатским костюмом — в этом уверены не только за рубежом, но и в нашей стране. Считается, что Примаков начал карьеру разведчика на Ближнем Востоке под крышей корреспондента «Правды». Служба внешней разведки неустанно опровергала эти слухи, хотя и без особого успеха — просто потому что публика не верит официальным опровержениям.
О том, что Примаков не был сотрудником КГБ, свидетельствует еще и то, что некоторое время он был просто невыездным, за границу его не выпускали. И лишь перейдя в «Правду», он получил такую возможность. На постоянную работу за границу Примаков выехал в 1965 году. Его хотели отправить в долгосрочную командировку в Кению в роли советника вице-президента африканской страны. Уже было принято решение ЦК КПСС, без которого советский человек не мог поехать за границу. Но в конце концов поездка не состоялась — изменилась обстановка в Кении, и Примаков не получил визу.
Зато вскоре он отправился корреспондентом «Правды» на Ближний Восток. Он побывал почти во всех странах Арабского Востока — в Египте, Сирии, Судане, Ливии, Ираке, Ливане, Иордании, Йемене, Кувейте. Уйдя из «Правды» и работая в институте, он в первый раз поедет в Соединенные Штаты, побывает в Европе. Начнется другая жизнь…
Надо понимать, что не так уж сложно выявить кадрового сотрудника внешней разведки. Каждый из них должен был исчезнуть из поля зрения друзей и знакомых хотя бы на год, а чаще на два года — это время обучения в разведывательной школе. Через эту школу прошли все, кого брали на работу в Первое главное управление КГБ СССР — внешнюю разведку.
В трудовую книжку начинающему разведчику вписывают какое-то благопристойное место работы, но в реальности человек буквально исчезает, потому что занятия в разведшколе идут с понедельника по субботу. Живут начинающие разведчики там же, на территории школы, домой их отпускают в субботу днем, а в воскресенье вечером или в крайнем случае в понедельник рано утром они должны быть в школе.
При таком обилии друзей многие бы обратили внимание на то, что Примаков куда-то исчез — да не на день-другой, а на целый год! Надо еще и понимать, что по своим анкетным и физическим данным студент Института востоковедения Примаков вряд ли мог заинтересовать кадровиков Министерства государственной безопасности (МГБ существовало до марта 1953 года, когда было создано единое Министерство внутренних дел, а с марта 1954-го уже существовал Комитет государственной безопасности).
Могли Примакова, когда он поехал корреспондентом на Ближний Восток, привлечь к сотрудничеству с КГБ в качестве агента?
По инструкции, существовавшей в Комитете госбезопасности, запрещалась вербовка сотрудников партийного аппарата. Что касается центрального органа партии — газеты «Правда», то рекомендовалось воздерживаться от оформления сотрудничества с правдистами и использования корпунктов «Правды» в качестве крыши для разведывательной деятельности.
Виктор Григорьевич Афанасьев, который многие годы был главным редактором «Правды», писал в своих воспоминаниях: «Россказни о том, что в “Правде” было много людей в синих погонах, не соответствуют действительности. За двадцать лет моей работы в газете был только один случай, когда корреспондента “Правды” выслали из страны пребывания за “недозволенную деятельность”».
Другое дело, что практически каждый корреспондент, работавший за границей, поддерживал те или иные отношения с резидентурой советской внешней разведки — как минимум делился информацией. Иногда отношения с резидентурой не складывались.
«Стоило Владимиру Большакову, который был корреспондентом “Правды” в Австралии, сказать пару нелестных слов в адрес посольских гэбистов, — продолжал Виктор Афанасьев, — как в августе 1976 года он был отозван в Москву. Ему инкриминировали связь с женщиной — агентом ЦРУ. Допускаю, что “связь с женщиной” в далекой Австралии и могла, как говорится, иметь место, но абсолютно убежден, что Володя Большаков как агент ЦРУ — чушь собачья… Ровно десять лет я потратил, чтобы реабилитировать Большакова. Брал его в заграничные поездки, добился для него разовых командировок, но в каждом случае представлял в ЦК личное письменное поручительство».
Так был ли Примаков связан с разведкой, когда он работал на Ближнем Востоке?
Академик Яковлев, бывший член политбюро и бывший посол в Канаде, ответил так:
— Он был связан, как весь народ наш был связан. Когда я был послом в Канаде, это происходило так. Идешь на встречу с канадским министром, вернешься, обязательно резидент или оба (то есть еще и представитель военной разведки присоединяется) сразу начинают расспрашивать. Им хочется послать шифровку в Москву раньше, чем я свою телеграмму в МИД отправлю. И они, наверное, к моей информации свою присобачивают. Мы с Примаковым на эту тему не говорили, но могу себе представить, как было дело.
Примаков был корреспондентом «Правды». Корреспондентов везде пускают, вот его после какой-то интересной беседы наши чекисты и расспрашивали… Вовсе он не агент и не в кадрах. Но не хотел ссориться с резидентом, или вообще были товарищеские отношения. Резиденты народ не глупый. Это же не контрразведка, а разведка…
Как правило, журналисты-международники старались дружить с КГБ. Это давало какую-то гарантию. Стать невыездным было легко, а вернуть право съездить за границу — невероятно трудно.
Я работал во внешнеполитическом еженедельнике «Новое время», где в советские времена редакторы двух ведущих отделов были невыездные. Оба позволили себе в большой компании сказать что-то «политически незрелое», это разозлило чекистов, и в зарубежные командировки их не пускали.
У обоих были высокопоставленные знакомые, у одного друг стал помощником самого председателя КГБ Юрия Владимировича Андропова, но никто не хотел рисковать собственной карьерой и просить за невыездного товарища.
Тесное общение с резидентурой имело свои плюсы. КГБ мог и помочь. Если были добрые контакты с комитетом, то резидент получал указание встретить прилетевшего из Москвы человека, помочь ему, дать машину с водителем, переводчика. Например, приезжающим в социалистическую ГДР начальник представительства КГБ или его заместитель разрешал съездить в капиталистический Западный Берлин — сходить в кино, что-то купить в хорошем магазине. Иногда нужным людям, которые вовсе не являлись агентами, даже давали перед поездкой за рубеж в качестве добавки к командировочным небольшую неподотчетную сумму в долларах — личный подарок от председателя КГБ.
Словом, как и очень многие корреспонденты, Примаков, вероятно, помогал нашим разведчикам. Но в кадрах КГБ (до назначения в 1991 году начальником внешней разведки) он не состоял и среди «добровольных помощников» госбезопасности тоже не числился.
Почему же Примакову упорно приписывают службу в КГБ? Возможно, потому, что он выполнял в 1970-е годы некоторые деликатные миссии за границей. Это действительно были особые задания, но не разведки, а ЦК КПСС.
«Я выполнял ответственные поручения политбюро, — писал Примаков. — Как правило, меры безопасности и связь поручалось обеспечивать Комитету госбезопасности».
О своем участии в тайной дипломатии Евгений Максимович рассказал в книге «Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина XX века — начало XXI века)».
В 1970 году он ездил в Бейрут для встречи с лидером Народного фронта освобождения Палестины Жоржем Хабашем, который прославился громкими терактами. Это он придумал захватывать самолеты и превращать пассажиров в заложников. Это ему мир обязан таким количеством трагедий. Примакову поручили передать Жоржу Хабашу рекомендацию советского руководства отказаться от захвата самолетов.
Такие же деликатные миссии Евгений Максимович выполнял в других странах. Он рассказал, как летом 1971 года, уже когда он стал заместителем директора Института международной экономики и международных отношений Академии наук, его пригласил генеральный директор ТАСС Леонид Митрофанович Замятин:
— На заседании секретариата ЦК возник вопрос, почему нет информации от Примакова по Египту. Мне поручено направить тебя на месяц на Ближний Восток в качестве специального корреспондента ТАСС.
После смерти Насера в Египте происходили большие перемены. И Примаков, встретившись и побеседовав с целым рядом своих близких знакомых, сделал вывод, что новый президент страны Анвар Садат расстается с наследием своего предшественника и стремится сблизиться с Вашингтоном. Советский посол в Каире не согласился с выводами Евгения Максимовича:
— Вы приехали на несколько дней и делаете сногсшибательные выводы, а я на неделе пять раз встречаюсь с Садатом и, поверьте мне, лучше вас знаю обстановку.
Посол даже отказался отправить шифровку Примакова в Москву:
— Я не хочу дезинформировать руководство.
Евгений Максимович улетел в Бейрут и оттуда отправил свои шифртелеграммы.
Примакову благоволил влиятельный референт Брежнева Евгений Матвеевич Самотейкин, в прошлом сотрудник Министерства иностранных дел. Самотейкин в меру возможностей поддерживал самостоятельно мыслящих людей, поручал им готовить записки на самые деликатные внешнеполитические темы, что позволяло ему предлагать своему шефу оригинальные идеи. В июле 1971 года он попросил Примакова набросать предложения относительно перспектив советской политики на Ближнем Востоке. Примаков в осторожной форме рекомендовал «некоторые инициативные шаги в отношении Израиля», с которым Советский Союз разорвал дипломатические отношения после шестидневной войны. Евгений Самотейкин передал записку Примакова Брежневу, и тот ее одобрил.
Активным сторонником налаживания секретного канала связи с еврейским государством был председатель КГБ Юрий Владимирович Андропов. КГБ не раз предпринимал попытки самостоятельно, в обход Министерства иностранных дел, заниматься внешней политикой. Особые отношения КГБ установил с правительством ФРГ, когда канцлером был Вилли Брандт. Пытался комитет наладить доверительный канал связи с государственным секретарем США Генри Киссинджером, но эту акцию сорвал министр иностранных дел Громыко, который конкуренции не терпел и ревниво относился к любым попыткам вторжения в его епархию. Что касается Израиля, то в данном случае Громыко не возражал против активности КГБ. Отсутствие дипломатических отношений исключало участие Министерства иностранных дел.
Тайные контакты были поручены Примакову, организационную сторону взял на себя КГБ. Миссия была важной, утвержденной решением политбюро от 5 августа 1971 года. Евгения Максимовича напутствовали и Андропов, и Громыко.
Евгений Максимович был заместителем директора академического института, то есть не занимал государственной должности, считался представителем общественности. Это исключало демарши со стороны ряда арабских стран, если сведения о тайном канале с Израилем стали бы достоянием гласности. Что касается Египта, то контакты осуществлялись не только с согласия его руководства, но и по его просьбе.
С августа 1971-го по сентябрь 1977 года Примаков не раз тайно приезжал в Израиль или встречался с израильскими представителями в столице Австрии. Его собеседниками были руководители страны — премьер-министр Голда Меир, министр обороны Моше Даян и министр иностранных дел Аба Эбан, потом новая команда — премьер-министр Ицхак Рабин, министр иностранных дел Игал Аллон, министр обороны Шимон Перес. Затем — Менахем Бегин.
Израильтян, конечно, прежде всего интересовало, кого представляет Примаков, каковы его полномочия. Он отвечал, что «направлен в Израиль с неофициальной и конфиденциальной миссией советским руководством», но не имеет полномочий обсуждать вопрос о восстановлении дипломатических отношений.
Идея состояла в том, чтобы убедить Израиль покинуть занятые в ходе шестидневной войны 1967 года территории — сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Взамен предлагались гарантии безопасности Израиля, но Примаков понял, что израильтяне считают внешние гарантии пустой бумажкой, которая не спасет их в случае нападения арабских стран. Голда Меир напомнила Примакову, как легко в 1967 году были выведены с Синайского полуострова войска ООН, разъединявшие Израиль и Египет, когда этого потребовал президент Насер.
Андропов и Громыко предложили согласиться с идеей израильтян «расширить консульскую секцию посольства Нидерландов в Москве». Дело в том, что после разрыва дипломатических отношений интересы Израиля в Советском Союзе представляло голландское посольство. Имелось в виду, что в составе консульской секции посольства в Москве появятся израильские дипломаты и это упростит диалог. Но остальные члены правительства отвергли предложение председателя КГБ и министра иностранных дел.
Будучи корреспондентом «Правды», Примаков стал единственным советским представителем, который контактировал с курдами на севере Ирака. Он даже участвовал в подготовке соглашения о мире, подписанного руководством курдов и правительством в Багдаде. Примакова отправили к курдам для того, чтобы создать прямой канал общения, узнать, что происходит у курдов, чего они хотят и можно ли их убедить сотрудничать с правительством.
Курды, которые живут на территории четырех стран — Турции, Ирана, Ирака и Сирии, многие годы были для Москвы борцами за правое дело. Курдские восстания приравнивались к национально-освободительному движению. В 1945 году в Советском Союзе нашел убежище лидер иракских курдов Мустафа Барзани — после того как была подавлена попытка курдов создать свое государство на территории шахского Ирана — Мехабадскую республику. Барзани был военным министром этой непризнанной республики. Спасаясь от шахской армии, он и его бойцы перешли советскую границу и двенадцать лет жили в нашей стране.
В 1959 году Барзани вернулся на родину — новые власти в Багдаде обещали предоставить иракским курдам равноправие. Барзани был даже назначен вице-президентом страны. Но уже в 1961 году снова вспыхнула война. Барзани обосновался на севере страны, откуда руководил борьбой против правительственных войск. Сменявшие друг друга иракские режимы высказывались за мирное решение курдской проблемы, но все эти заявления так и оставались всего лишь словами.
В 1963 году власть в Ираке перешла к местному отделению всеарабской партии БААС («Возрождение»). Эта партия, сыгравшая важнейшую роль в истории Ближнего Востока, была основана в Сирии весной 1947 года.
В Советском Союзе события в Багдаде назвали «государственным переворотом, носившим ярко выраженный фашистский и проимпериалистический характер». В Ираке арестовывали коммунистов, и ЦК КПСС заявил:
«Чудовищные злодеяния иракского режима потрясли прогрессивных людей во всём мире. Это свидетельствует о том, что иракские власти глумятся над элементарными принципами человечности и демократии, открыто бросают вызов иракскому народу, всей мировой прогрессивной общественности».
На улицах Багдада устраивались публичные казни «врагов народа». Многотысячные толпы проходили мимо виселиц с качавшимися на них трупами. Когда правительственные войска атаковали курдов, Москва запротестовала и предложила всему миру осудить иракский режим. Курды составляли примерно треть иракской компартии. В конце того же года баасистов свергли, но в 1968 году партия БААС вновь пришла к власти.
Однако этот режим перестал быть в глазах Москвы фашистским. Название партии БААС перевели на русский язык. Название в Москве понравилось: Партия арабского социалистического возрождения. Ирак стал получать советскую помощь и кредиты, затем оружие.
Власть еще в 1966 году вступила в переговоры с курдами. Именно в этом году собственный корреспондент «Правды» Примаков получил указание отправиться на север Ирака. Поездку он начал с Багдада, где взял интервью у нового президента генерала Абд аль-Саляма Мохаммада Арефа. Тот позволил Примакову беспрепятственно отправиться на север. Ночью его привели в землянку Барзани. Тот обнял советского журналиста со словами:
— Советский Союз — мой папа.
Барзани был очень откровенен с Примаковым. Поэтому шифровки Евгения Максимовича высоко оценили в Москве и попросили вновь отправиться в Иракский Курдистан. Постепенно его поездки превратились в посредническую миссию. Примаков встречался и с Саддамом Хусейном, который еще не был человеком номер один в Ираке, но в ту пору отвечал за отношения с курдами.
«С 1966 по 1970 год, — вспоминал Примаков, — я был единственным советским представителем, который регулярно встречался с Барзани. Летом жил в шалаше, зимой — в землянке».
В одной из поездок в качестве переводчика с Примаковым был молодой дипломат Виктор Викторович Посувалюк, будущий заместитель министра иностранных дел.
Курдам обещали предоставить автономию, право избрания собственных властей, участие в правительстве. Договорились, что вице-президентом Ирака станет курд. 10 марта 1970 года Мустафа Барзани подписал соглашение, рассчитывая на обещанную автономию. 11 марта новый президент Ирака генерал Хасан аль-Бакр зачитал текст соглашения по радио и телевидению.
Но Барзани так и не дождался обещанного. На границе с соседним Ираном целенаправленно создавался «арабский пояс», чтобы изменить демографическую ситуацию, туда переселяли иракцев-арабов. А исконных жителей правительственные войска выселяли из Иракского Курдистана сотнями тысяч. В 1974 году лидеры курдов сочли, что их обманули, и вооруженная борьба возобновилась.
Попытка примирить иракское руководство с курдами не могла увенчаться успехом. Короткие периоды затишья сменялись новыми атаками на курдов. Став президентом Ирака, Саддам Хусейн травил курдские деревни химическим оружием. Саддам Хусейн, как и многие арабские лидеры, был непримирим и нереалистичен, поскольку влияние традиций и эмоций на него сильнее доводов рассудка. В этом отражается и свойственная исламским экстремистам привычка противопоставлять себя остальному миру.
Президент Туниса Хабиб Бургиба с горечью говорил:
— У нас, арабов, эмоции подавляют разумные действия, эмоции оправдывают инертность. Мы, арабы, кричим, наносим оскорбления, мы погрязли в ругани, мы проклинаем и думаем, что таким образом мы выполняем свой долг. За всем этим стоит комплекс неполноценности.
В 1983 году Юрий Владимирович Андропов, который стал генеральным секретарем ЦК КПСС, и министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко предприняли попытку помирить союзников СССР — Ирак и Сирию. В Багдаде и Дамаске побывал Евгений Максимович Примаков, тогда директор Института востоковедения Академии наук. В результате в Москву конфиденциально прибыли министры иностранных дел Ирака и Сирии. Переговоры не переросли в договоренности, тем более в соглашения.
Дело в том, что еще 28 июля 1979 года Саддам Хусейн объявил, что раскрыл заговор среди своего ближайшего окружения, причем заговорщики получали помощь от враждебной Ираку «иностранной державы». Выяснилось, что враждебная держава — это Сирия.
Президент Сирии Хафез Асад протестовал и требовал представить доказательства. Он отправил в Багдад министра иностранных дел и начальника генерального штаба, чтобы доказать, что Сирия ничего не предпринимала против Ирака. Они вернулись, получив от иракских братьев кассету с записью показаний одного из арестованных. Других доказательств не было. Президент Сирии предложил передать спорное дело на рассмотрение Лиги арабских государств. Саддам Хусейн не захотел. Он не признавал чужих авторитетов.
Действительно ли сирийцы как-то пытались повлиять на иракские дела? Это сложная, запутанная интрига. Президент Ирака Ахмад Хасан аль-Бакр желал объединения с Сирией. Аль-Бакр должен был стать руководителем единого государства, а Хафез Асад — его заместителем. А Саддаму Хусейну предназначалось кресло номер три — почетное, но безвластное. Ясно было, что престарелый и не очень здоровый аль Бакр не станет заниматься практическими делами, следовательно, вся власть в едином государстве окажется в руках Асада. Саддама это, конечно, не устраивало.
Между тем обстановка в Сирии была неспокойной. 60 процентов населения Сирии — сунниты. Хафез Асад был выходцем из небольшой общины алавитов, исповедующих причудливую смесь различных верований. Если Саддам Хусейн доверял только своим родственникам и землякам из Тикрита, то Асад повсюду расставлял алавитов, многие из которых были связаны с ним родственными узами. Алавиты составляют всего процентов десять — двенадцать населения. Но именно алавиты занимали ключевые позиции в правящем аппарате, армии и спецслужбах. Две трети офицеров, все командиры дивизий были алавиты. Они же руководили политической работой в войсках и ведали закупками оружия.
Радикально настроенные исламисты не раз восставали против алавитского господства. В 1982 году в городе Хама они убили несколько десятков курсантов военного училища. Тогда в город вошли части специального назначения во главе с младшим братом президента Рифаатом Асадом. Войска подавили восстание исмаилистов артиллерией. Погибло, по разным источникам, около десяти тысяч человек.
Подозрительный Хафез Асад считал, что восставшим в Хаме помогали иракцы. Саддам действительно распорядился дать деньги и оружие организации «Братья-мусульмане», которая пыталась свергнуть Асада. Сирийские газеты писали, что обнаружено много иракского оружия и на границе с Ираком перехвачены транспорты с оружием. На допросах арестованные признавались, что получали указания из Багдада.
Асад публично сказал о Саддаме:
— Палачу иракского народа мало того, что он убил десятки тысяч собственных граждан. Он намерен и в Сирии заниматься любимым делом — убивать и взрывать. С тех пор как он пришел к власти, он снабжает оружием сирийских преступников.
Сирия была главным партнером Советского Союза на Ближнем Востоке, но и Саддама в Москве тоже поддерживали. Решили помочь им помириться. В июле 1983 года директор Института востоковедения Примаков полетел сначала в Багдад, затем в Дамаск.
Саддам Хусейн и Хафез Асад прислали в Москву своих министров иностранных дел — Тарика Азиза и Хаддама. Переговоры проходили в одном из гостевых особняков на Ленинских Горах. Помирить Сирию и Ирак оказалось труднее, чем усадить за стол переговоров Египет и Израиль.
Два министра вообще не хотели беседовать друг с другом, разговоры шли через посредника — в этой роли чаще всего выступал Евгений Примаков. Мириться не желали именно сирийцы. Примаков потом рассказывал коллегам, как он не выдержал и прямо спросил сирийского министра:
— Вы согласны, что необходимо обеспечить взаимодействие Сирии и Ирака? Пожалуйста, ответьте «да» или «нет».
— Нет! — сказал сирийский министр.
— Почему? — удивился Примаков.
— Потому что в Ираке диктатура, фашистский режим.
Так этот диалог описан в книге Олега Алексеевича Гриневского, который в ту пору руководил отделом Ближнего Востока в Министерстве иностранных дел. Сам Евгений Максимович писал, что ему всё-таки удалось посадить за стол переговоров Тарика Азиза и Хаддама.
«Вечером я зашел к ним и увидел, как они мирно играют в бильярд, — писал Евгений Максимович. — Казалось, что это неплохое предзнаменование». Министры попросили о встрече с кем-то из советских руководителей. Побеседовать с ними мог бы Громыко. Но он отдыхал в Крыму и, судя по всему, не желал портить себе отпуск. Тайные переговоры на Ленинских Горах окончились ничем. Примаков считал, что с помощью Громыко можно было найти путь к соглашению…
Из-за вражды с Ираком сирийский президент Хафез Асад больше других арабских лидеров беспокоился о собственной безопасности. Во всех поездках его лимузин сопровождали грузовики с солдатами и сотрудники службы безопасности в легковых автомобилях. Армейские подразделения располагались вдоль дороги, по которой он ездил. Асад знал, что агенты Саддама охотятся на него…
Так что все миссии Примакова на Ближнем Востоке были тяжелым испытанием. Сам он не чувствовал неприязни к арабским политикам, что сильно мешало и мешает другим европейским и американским дипломатам.
И тогда, и потом Примаков исходил из того, что на Ближнем Востоке надо иметь дело с теми лидерами, которые есть. Отказываться сотрудничать с ними по моральным соображениям? Ждать, пока их свергнут и появятся другие? Наивно. Следующий вождь может быть точно таким же…
— И еще об одной черте Примакова я хотел рассказать, — это кураж, — говорит Всеволод Овчинников. — Это слово трактуется по-разному, но я понимаю кураж как готовность и желание принять вызов на невыгодном для себя плацдарме, проявить себя в том, что вроде бы не является его чашкой чая, как говорят англичане. Помню такой случай. Приехал наш главный редактор после заседания политбюро. Созвал всех международников-начальников и говорит: необходимо срочно в номер, то есть через час пятьдесят минут, дать статью о наркоме иностранных дел Георгии Васильевиче Чичерине, какой-то был юбилей… Объем статьи — двести строк. Это четыре машинописные странички, не бог весть что, но всё-таки это статья для «Правды». Главный на нас посмотрел и спросил: «Кто возьмется?» Мы все, как школьники, потупили взор. Примаков говорит: «Я сделаю». Он, конечно, знал, как и все мы, кто такой Чичерин, но одно дело знать, другое — на-писать. Когда я пишу не на свои темы, я перелопачиваю в пять раз больше материала, чем нужно. Но он сделал статью ровно через час пятьдесят минут. И это очень характерно для его менталитета. Когда я видел его на высоких постах, отмечал, что он с удовольствием проявляет кураж, оказавшись в совершенно новой для себя ситуации…
— В те годы в «Правде» не просто было трудиться, — рассказывал Томас Колесниченко. — Работа над газетой заканчивалась поздно, дежурные редакторы уезжали из редакции после полуночи. Если не дежурил, то можно было освободиться часов в девять, но не раньше.
— Дежурства — еще не самое тяжелое в работе правдиста, — говорил Всеволод Овчинников. — Ощущение, что ты сапер, который не вправе ошибиться, создает значительно большее эмоциональное напряжение. Каждое слово в центральном органе партии читалось под микроскопом.
Однажды был курьезный случай. Заместитель главного редактора написал передовую о борьбе за мир, и у него вылез «хвост» — лишних девятнадцать строк. Овчинников пришел к нему и сказал:
— Надо сократить девятнадцать строк.
Заместитель главного редактора недовольно ответил:
— Ну сколько вас учить? Это же можно мгновенно сделать. Овчинников предложил:
— Может быть, по хвостам, по концам абзацев пройдемся, сократим по строчке?
Тот быстро глянул на гранку:
— Да зачем возиться! Сколько надо сократить? Девятнадцать строк? Вот этот абзац мы выкидываем, и всё прекрасно встает.
Выходит газета, а через два часа Овчинникову звонят из редакции: приходи. Что такое? В передовой «Правды» написано примерно так: американский империализм по колено в крови, душит свободные народы. И дальше с нового абзаца: именно такую политику последовательно проводит Советский Союз. То есть получилась не просто глупость, а, можно сказать, идеологическая диверсия.
Что делать? Газета уже вышла. Тираж московский уже разошелся. Для провинции — газета еще в сорока городах печаталась — поправили. Но самое страшное — это московский тираж, его читает бдительное начальство. Правдисты ждали грозного звонка из ЦК и опасливо смотрели на белый телефон с государственным гербом на наборном диске.
— Ни одного звонка не было — вот парадокс! — говорит Овчинников. — То есть никто не обратил внимания. Передовые статьи читали по диагонали, знали, что в них всё правильно… Человеческий глаз равнодушно скользит по строчкам. Но могло кончиться хуже. Кое у кого так и бывало.
— Зато у правдистов, — заметил я, — было всё-таки приятное ощущение, что они работают в первой газете страны!
— В материальном плане правдисты жили хуже «Комсомолки», «Известий», «Труда», — возразил Овчинников. — Наши главные редакторы считали: раз работаешь в «Правде», тебе уже и этого хватит. У нас за рубежом были худшие корпункты, худшие машины, потому что в редакции царила очень суровая финансовая дисциплина. Например, «Комсомольская правда» пробивает себе дачный поселок в хорошем месте, а «Правда» получает участки на шестидесятом километре Киевского шоссе. Наши главные редакторы не желали заниматься бытом коллектива, считалось, что это дурной тон. Если хочешь каких-то льгот, иди в другое место. В этом смысле правдистов обходили привилегиями…
Примаков сначала жил в коммунальной квартире, потом получил собственную квартиру в доме хрущевской постройки. Один раз Томас Колесниченко встречал его из командировки. И они попали в другой дом — совсем как в фильме «Ирония судьбы…». Стояли рядом два дома одинаковых. Подъехали к подъезду, поднялись на этаж, видят — не туда. Забыли, в каком доме он живет… Евгений Максимович позвал на новоселье практически всех международников из «Правды». Многие в первый раз оценили, какой он замечательный тамада. Впредь на всех неофициальных встречах редакционный коллектив единодушно избирал его тамадой.
— Примаков в «Правде» высоко котировался и как хороший специалист, и как хороший журналист, — рассказывает Всеволод Овчинников. — Ведь это не совсем одно и то же. Можно отлично разбираться в своем регионе, в сложнейших проблемах, но другое дело, как ты это сумеешь подать читателю. Кроме того, была в нем такая японская черта (хотя он ничего общего с японцами не имел) — стремление к консенсусу, к поискам гармонии. Вокруг него всегда складывалась атмосфера взаимной доброжелательности и баланса интересов и компромиссов. Он распространял вокруг себя дух согласия.
Овчинников привел такой пример. Отдел писем «Правды» был одним из самых сильных. Получали тогда со всей страны шестьсот тысяч писем в год, две тысячи писем обрабатывали в день. Там работали энтузиасты, и это был орган, в котором маленький человек мог найти защиту от властей. Одной из самых ершистых сотрудниц этого отдела, у которой постоянно вспыхивали конфликты и с начальством, и с власть имущими на более высоком уровне, была Татьяна Викторовна Самолис. И вот именно Татьяну Самолис Примаков, когда ушел в разведку, взял пресс-секретарем.
— В газете он стремился всегда хорошо писать, — вспоминал Томас Колесниченко. — Спрашивал мое мнение о своих статьях: «А ты читал?» До сих пор помню его материал «Многоэтажный Дамаск». Дело в том, что в этом городе в то время дома не могли быть выше мечети. Но несколько этажей, как правило, уходили в землю, и вокруг них устраивали лентой небольшие садики. Со стороны трудно было определить, сколько этажей в таком доме. С этого он сделал заход, потом перешел к анализу политики Сирии, и очень удачно всё это получилось. Столько лет прошло, а я статью помню. Ему было очень приятно, когда я говорил о «Многоэтажном Дамаске».
Сирия — первая из арабских стран, попавших под власть военных: с тех пор как в 1949 году последовали один за другим несколько военных переворотов. Франция в подмандатной Сирии поощряла набор в армию представителей национальных и религиозных меньшинств. Основная часть населения, арабы-сунниты, не хотела, чтобы их сыновья шли в армию и служили колонизаторам. Значительную часть офицерского корпуса составили алавиты и друзы. Они постепенно заняли высокие посты и принимали своих единоверцев в военные академии.
В марте 1963 года алавитские и друзские офицеры вместе с активистами сирийской ветви партии БААС совершили переворот. Они привели к власти генерал-лейтенанта Мохаммада Амина Хафеза, надеясь, что он будет номинальной фигурой.
Но генерал одолел молодежь и сконцентрировал в своих руках всю власть. Он стал главой государства, военным губернатором, председателем Национального военного совета и премьер-министром Сирии. В сентябре 1965 года он сместил алавита генерал-майора Салаха Джедида с поста начальника Генерального штаба. Но генерал Джедид не смирился с отставкой. Вместе с молодыми и честолюбивыми офицерами-алавитами он 23 февраля 1966 года сверг Хафеза. Пролилось много крови.
Насер сразу же сказал советским дипломатам, что переворот — дело рук его врагов, правых сил. В Каире находился первый заместитель министра иностранных дел спокойный и невозмутимый Василий Васильевич Кузнецов. «Мудрый Вас-вас», как говорили в МИДе, внешне походил на Громыко. Но коллеги высоко его ценили.
В Дамаск командировали собственного корреспондента «Правды» на Ближнем Востоке Евгения Примакова. Аэропорт был закрыт. Попробовал на машине пересечь границу со стороны Ливана. Сирийцы не пропускали иностранцев. Примаков сел на чехословацкий самолет, который летел из Бейрута в Багдад через Дамаск, хотя его предупредили, что остаться в сирийской столице ему не удастся. И верно: его решили немедленно отправить из Дамаска назад. Но счастливую роль сыграло примаковское умение заводить друзей. Он попросил разрешения позвонить одному из своих сирийских знакомых. Оказалось, что тот только что стал руководителем спецслужб Сирии. За Примаковым немедленно прислали машину.
Евгений Максимович первым из иностранцев встретился с главой правительства Сирии Юсефом Зуэйном.
«Во время баасистской демонстрации, — вспоминал Примаков, — я был приглашен на трибуну, где познакомился с Хафезом Асадом, в то время командующим военно-воздушными силами страны. Асада окружала группа прибывших с ним автоматчиков, которые напряженно вглядывались в шеренги проходивших мимо демонстрантов, — новая власть, судя по всему, еще не чувствовала себя в безопасности».
Примаков подробно изложил свои впечатления о поездке в ЦК. В апреле 1966 года сирийская делегация во главе с премьер-министром Юсефом Зуэйном приехала в Москву. Сирия становилась не менее важным партнером, чем Египет. В сближении с Сирией Примаков сыграл заметную роль.
Первым из иностранцев Примаков познакомился в Судане с Джафаром Мохаммадом Нимейри. 25 мая 1969 года во главе группы офицеров он совершил переворот и стал председателем Революционного совета. Нимейри был неограниченным властителем государства, пока в апреле 1985 года не свергли его самого. Примаков летал в Оман, готовя почву для установления дипломатических отношений с этим небольшим, но влиятельным государством.
И с председателем исполкома Организации освобождения Палестины Ясиром Арафатом Примаков был знаком с давних времен. Он мог запросто сказать Арафату:
— Помнишь, как мы сидели в Дамаске в маленькой комнате на твоей походной кровати накануне «черного сентября» в семидесятом году?
Глубокие познания и широкие связи в арабском мире помогли Примакову и в академической карьере, и в государственной.
— Он хотел быть журналистом и именно журналистом, — говорил Томас Колесниченко, который работал рядом с Примаковым до последних дней своей жизни. — Но в отличие от нас, и это предмет его гордости, он был журналист фундаментальный. Он уже пришел в газету кандидатом наук. Работая в «Правде», писал докторскую и защитил ее. Докторов наук в газетах немного.
Примаков много публиковался и помимо «Правды». Из-под его пера вышли монографии «Анатомия ближневосточного конфликта», «История одной сделки» (о египетско-израильском договоре), «Восток после краха колониальной системы». Главную свою книгу тех лет — «Египет: время президента Насера» — он написал в сотрудничестве с правдистом Игорем Беляевым.
Томас Колесниченко рассказывал забавный эпизод. В «Правде» работал тогда еще заместителем главного редактора Виктор Григорьевич Афанасьев, доктор наук, профессор, приехавший из провинции. Потом он станет главным редактором «Правды» и академиком — на два года позже Примакова. Как-то спускается по лестнице Примаков, а навстречу идет Афанасьев, несет большую стопку книг. Увидел Примакова, говорит:
— Помоги мне донести книги.
Дал ему книги и спрашивает из вежливости:
— Ну, как дела?
Примаков весело рассказывает:
— Да вот, завтра диссертацию защищаю.
— Кандидатскую? — одобрительно спрашивает Афанасьев.
— Нет, докторскую.
Афанасьев немедленно перешел на «вы» и тут же забрал у него книги:
— Дайте, пожалуйста.
Евгений Максимович Примаков стал доктором наук в сорок три года, для гуманитария это было рано.
Он был человеком с сильной волей. Кто защищался, знает, что перед защитой докторской диссертации не спишь, не ешь, масса дел, последние приготовления, волнуешься. А что Примаков? Он потом рассказывал:
— В одиннадцать защита. Я знал, что в десять мне надо быть в институте. Я в девять утра лег поспать и думаю — через полчаса надо проснуться. Прилег, заснул, ровно через полчаса проснулся и поехал на ученый совет…
— Неужели Примаков никогда не впадал в грусть-тоску, как все мы, грешные?
— У него иногда было такое выражение лица — как будто он в себя ушел, — говорил Всеволод Овчинников. — Но я не хочу сказать, что недовольно-отрешенное.
— Ему действительно был свойствен мажорный взгляд на мир? Или он себя заставлял?
— Он не был меланхоликом. Мажорный взгляд на мир?.. Думаю, это сильно сказано. Скорее это то, что я говорил о его «японской!» черте: инстинктивный поиск гармонии, согласия, причем это изнутри идет как часть мироощущения и мировосприятия. Он умел вокруг себя создавать атмосферу согласия и единства.
— Значит, он не был напористым? Он не из тех, кто добивался своего во что бы то ни стало?
— Он был очень упорный. Я бы даже сказал, упрямый. Когда Евгений Максимович был моим начальником, я пытался заволынивать какие-то вопросы, но он к ним возвращался. Его можно было убедить, что его предложение не нужно или преждевременно — это другое дело. Но если ты его убедить не сумел, он добивался своего. Он был упрям…
Когда Примаков вернулся из командировки в Каир, заместитель главного редактора «Правды» Николай Николаевич Иноземцев уже ушел из газеты и возглавил Институт мировой экономики и международных отношений. Примаков приехал к нему повидаться.
Иноземцев решительно сказал:
— Хватит тебе сидеть в «Правде». Тебе надо переходить в науку. Иди ко мне первым заместителем.
Не каждый мог решиться уйти из «Правды». Работа в первой газете страны сулила как минимум постоянные командировки за рубеж. Каждая публикация в «Правде» была заметной. Но Иноземцев сделал Примакову предложение, от которого тот не мог отказаться. Как выяснилось потом, это был верный шаг. Евгений Максимович рассказывал, что его приглашал заместителем и Георгий Аркадьевич Арбатов, бывший работник ЦК и директор только что созданного в системе Академии наук Института США и Канады. Примаков выбрал более крупный Институт мировой экономики и международных отношений. Тем более что с Иноземцевым он уже работал.
— Когда он уходил в институт, его не отговаривали: мол, зачем ты уходишь из «Правды»?
— Никто не отговаривал, — отвечает Всеволод Овчинников. — Считалось, что он пошел на повышение. Потом я однажды вел номер, и вдруг в газету заглянули Иноземцев и Примаков. Зашли ко мне. Я, как дежурный, сидел в кабинете заместителя главного редактора. «Вот что вы чувствуете, оказавшись снова в своем бывшем кабинете?» — спросил я Иноземцева. Он иронически посмотрел на меня и говорит: «Чувствую то же, что и Женя Примаков». — «Так что же?» — «Испытываю удовольствие от того, что уйду отсюда через десять минут». И Примаков тоже довольно улыбнулся.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ АКАДЕМИК
Тридцатого апреля 1970 года Примакова утвердили заместителем директора Института мировой экономики и международных отношений Академии наук по международно-политическим исследованиям, де-факто — первым замом. Ему было всего сорок лет, для его возраста — прекрасная научная карьера.
ИМЭМО считался самым влиятельным и солидным институтом в сфере общественных наук. Институт марксизма-ленинизма был формально ближе к ЦК КПСС, но бесполезнее: за идеями, справками и информацией обращались всё-таки в ИМЭМО.
Институт мировой экономики и международных отношений появился в 1956 году. Его первым директором назначили экономиста Анушавана Агафоновича Арзуманяна, усилиями которого институт и появился. Арзуманян приходился свояком члену президиума ЦК и первому заместителю председателя Совета министров Анастасу Ивановичу Микояну, которого в домашней атмосфере и убедил в полезности создания такого научного учреждения.
Влиятельный Анастас Иванович знал, как действовать. Ему предстояло выступать на XX съезде партии. С кремлевской трибуны слова Микояна прозвучали как руководство к действию:
— Мы серьезно отстаем в деле изучения современного этапа капитализма… Наши экономисты, изучая экономику Советского Союза и стран народной демократии, часто скользят по поверхности, не доходят до глубин, не делают серьезного анализа и обобщений, избегают освещения особенностей развития отдельных стран. Да, по существу, и кому у нас заниматься серьезной разработкой этих вопросов? Был у нас до войны Институт мирового хозяйства и мировой политики, да и тот ликвидирован, а единственный в системе Академии наук экономический институт не справляется да и не может справиться с делом глубокого изучения экономики и стран социализма, и стран капитализма.
Микоян, разумеется, заранее обсудил это предложение с Хрущевым. Никита Сергеевич прислушивался к Микояну. После съезда партии отдел науки ЦК получил указание подготовить проект постановления о создании в системе Академии наук Института мировой экономики и международных отношений. Вопрос решался на секретариате ЦК, докладывал секретарь ЦК по идеологии Дмитрий Трофимович Шепилов. Человек образованный, профессор Шепилов искренне поддержал идею.
Двадцать первого марта 1956 года секретариат ЦК принял решение создать новый институт. 3 апреля решение секретариата утвердил президиум ЦК. В реальности в тот день президиум не собирался. Вопрос был не таков, чтобы ради него собирать главных руководителей партии и государства. Решение приняли опросом, то есть сотрудники общего отдела обошли несколько членов президиума, которые, зная одобрительную позицию Хрущева и Микояна, поставили на бланке свою подпись. Институту вменили в обязанность «информировать директивные органы о новых процессах в экономике и политике капиталистических стран». Историю создания института детально описал Петр Петрович Черкасов, доктор исторических наук, который сам двадцать лет проработал в институте, в книге «ИМЭМО: портрет на фоне эпохи».
Первый директор института Анушаван Арзуманян был колоритной личностью. В 1920-е годы он стал одним из руководителей комсомола Армении. Хотел получить высшее образование, поступил в Институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова, отучился год, и его отозвали на партийную работу. Еще три года проучился в Аграрном институте красной профессуры, и опять его затребовали в Ереван. Он заведовал отделом в ЦК компартии Армении, был первым секретарем одного из райкомов. В 1937 году его, как человека почти образованного, сделали ректором Ереванского государственного университета, а всего через несколько месяцев арестовали. Но не расстреляли. Когда союзным наркомом внутренних дел стал Лаврентий Берия и некоторые дела пересмотрели, чтобы показать стране — с перегибами покончено и справедливость восторжествовала, Анушавана Арзуманяна в апреле 1939 года выпустили. На прежнее место ректора не вернули, но дали возможность преподавать в университете.
Во время Великой Отечественной войны Арзуманян ушел на фронт. Политотдельские кадровики преподнесли ему подарок, сами не понимая его ценности. Опытный партработник и преподаватель получил назначение лектором в политотдел 18-й армии. Должность невысокая, военной карьеры Арзуманян не сделал, но обзавелся важными знакомствами. 18-й армии предстояло стать знаменитой, потому что в ней служил Леонид Ильич Брежнев. Эта слава распространилась и на его боевых товарищей — работников политотдела 18-й…
Демобилизовавшись, Арзуманян поехал в Баку. Ему предложили поработать в Азербайджанском университете имени С. М. Кирова, где он защитил написанную еще до войны диссертацию и стал кандидатом экономических наук. Здесь он встретил будущую жену — Айкуш Лазаревну Туманян. Ее старшая сестра была женой Анастаса Микояна.
Удачный брак принес не только семейное счастье. Арзуманян сразу стал делать карьеру, его назначили проректором Азербайджанского университета по научной работе, а в 1952 году перевели в Москву, в Институт экономики Академии наук СССР, заведовать сектором общих проблем империализма и общего кризиса капитализма. На следующий год сделали заместителем директора.
Анушаван Арзуманян, надо понимать, и убеждал Микояна, что необходим институт, который будет напрямую работать на аппарат ЦК и правительство. Руководители партии и государства иностранных языков не знали, за границу практически не ездили, о мировой политике и экономике имели весьма смутное представление. Оказавшись у власти после смерти Сталина, быстро поняли, что разбираться надо.
Первый директор ИМЭМО ввел в практику написание информационных записок непосредственно для ЦК, аппарата правительства и Министерства иностранных дел. Сам Арзуманян направлял свои записки лично Хрущеву и Микояну. К его мнению прислушивались, он входил в число доверенных лиц. Арзуманяна привлекли к написанию доклада Хрущеву на сессии Верховного Совета СССР в ноябре 1957 года. Потом одно задание следовало за другим.
Анушаван Арзуманян, судя по отзывам, трезво оценивал положение, но высказывал правду-матку с осторожностью, понимая, что кругозор у руководителей страны неширокий. Нами Микоян, невестка Анастаса Ивановича, вспоминала, как приезжала сестра Ашхен Лазаревны с мужем — Арзуманяном. Нами спросила его, действительно ли к 1980 году будет построен коммунизм, как обещал Хрущев и как записано в программе партии.
В семейном кругу Арзуманян ответил честно:
— Конечно, нет, это нереально. Но Хрущев не хочет слушать, и мы вынуждены писать так, как он хочет.
Работа на первого человека в стране щедро вознаграждалась. В нарушение всех правил кандидата (даже не доктора!) наук Арзуманяна летом 1958 года избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР. Через четыре года избрали действительным членом академии. Более того, Арзуманяну дали возможность создать в академии отделение экономических наук, которое он же и возглавил. Как академика-секретаря отделения экономических наук его включили в президиум Академии наук. Таким образом, имея весьма скромные личные заслуги перед наукой, он сделал фантастическую карьеру. Анушаван Арзуманян стал и депутатом Верховного Совета. Вишневого цвета значок на лацкане пиджака открывал многие двери. Ему не хватало только партийного звания. Но он не дожил до XXIII съезда, на котором мог бы войти в состав высших партийных органов.
В декабре 1965 года (через год после отставки Хрущева) Анастас Иванович Микоян ушел на пенсию. Но его уход из большой политики Арзуманяну, скорее всего, не повредил бы, потому что в годы войны он служил под непосредственным руководством Брежнева. А Леонид Ильич поддерживал соратников по политотделу 18-й армии. К тому же Арзуманян благоразумно взял к себе в институт отставного полковника Сергея Степановича Пахомова, который был в политотделе 18-й армии заместителем Брежнева.
Так что за карьеру ему бояться не надо было. Но судьба распорядилась иначе. 18 июля 1965 года Арзуманян, страдавший от высокого давления, скончался от инсульта.
После его смерти, в мае 1966 года, новым директором был назначен Николай Николаевич Иноземцев.
Это был человек неординарный. Призванный в армию в 1939 году, он прошел всю войну офицером-артиллеристом. Его младший брат в 1941-м ушел в ополчение, полк попал в окружение под Смоленском, и он пропал без вести — то есть, скорее всего, погиб… После демобилизации Иноземцев поступил в Институт международных отношений, окончил курс на два года раньше положенного, остался в аспирантуре. Потом его взяли в главный партийный журнал «Коммунист». Два года работал в Китае — преподавал в Пекинском дипломатическом институте. Оттуда его вытащил Арзуманян и поставил заведовать сектором международных отношений. Так в 1957 году Иноземцев пришел на работу в Институт мировой экономики и международных отношений, с которым будет связана его жизнь. Через два года он стал заместителем директора, а еще через два года его перевели в «Правду» заместителем главного редактора. Тут они с Примаковым и познакомились.
Николай Иноземцев защитил докторскую диссертацию на тему «Внешняя политика США в эпоху империализма» и был избран членом-корреспондентом Академии наук. Через два года после возвращения в институт его избрали действительным членом академии — в сорок семь лет. Он был самый молодой в ту пору академик.
Институт мировой экономики и международных отношений с самого начала отличал хороший моральный климат. Здесь больше занимались делами, чем интригами. Арзуманян умел находить для института замечательных специалистов. Подбирал людей умных, широкообразованных, полных интересных идей, — вне зависимости от биографических данных. Если у человека было сомнительное — по тем временам — прошлое, Арзуманян всё равно брал. В институте работали вернувшиеся из сталинских лагерей. Арзуманян презирал антисемитов и не обращал внимания на пятый пункт анкеты. Эта тенденция сохранилась и при Иноземцеве. Он сумел привлечь в институт талантливых молодых ученых, которые нигде не могли устроиться в силу печальных обстоятельств своей биографии.
Иноземцев многому научился у Арзуманяна. Тот брал его с собой, когда ходил в ЦК. Они вместе писали разного рода документы для партийного аппарата. Иноземцев четко усвоил, каковы пределы свободомыслия, что власть стерпит, а что совсем непозволительно.
Иноземцев дорожил Примаковым. Они проработали вместе практически двадцать лет. В этой связке Николай Николаевич был старшим. К этому времени Иноземцев уже накопил опыт общения с партийной элитой. Чтобы чего-то добиться, надо было знать, как разговаривать с начальством. И Примаков многое воспринял от Иноземцева. Тоже научился играть на нескольких досках. Умел протащить какую-нибудь прогрессивную идею так, чтобы не напугать начальство, облечь в необходимую по тем временам догматическую форму, но при этом сказать то, что хочешь сказать.
В институтских трудах и записках (особенно закрытых, для начальства) и в то время содержался достаточно точный и объективный анализ. Но везде цитаты из Ленина, ссылки на недавние выступления генерального секретаря, партийные формулы. Без них любая статья была обречена… Эту науку о том, как добиваться своего, избегая необходимости называть вещи своими именами, Примаков постиг в ИМЭМО.
В институте люди прекрасно знали, чего хотят, но вынуждены были помалкивать, держать язык за зубами, сдерживать себя и действовать в существующих рамках. Иначе надо было уходить в диссиденты. Академик Иноземцев дружил с главным режиссером Театра имени Маяковского Андреем Александровичем Гончаровым. Однажды Гончаров ему позвонил:
— Николай Николаевич, приезжайте к нам на спектакль, будет Демичев. Надо спасать постановку.
Кандидат в члены политбюро Петр Нилович Демичев был секретарем ЦК по идеологии, а затем министром культуры. Его считали человеком незлобивым, вполне приличным, то есть по собственной воле он гадостей не делал, но партийную бдительность по долгу службы проявлял.
После первого акта почетных зрителей зовут в кабинет главного режиссера. Чай, шампанское, пирожные… Режиссер спрашивает гостей о впечатлениях. Иноземцев знает, что следует сказать в присутствии Демичева:
— О рабочем классе пьеса, Петр Нилович, надо поддержать…
Николай Иноземцев входил в группу партийных интеллектуалов, которая годами писала речи и доклады Брежневу. У каждого из помощников генерального секретаря были свои приближенные, те, кому они доверяли работать над брежневскими речами. Старшим (неформально, разумеется) помощником Брежнева считался Георгий Эммануилович Цуканов, инженер по специальности. Он, как и Леонид Ильич, окончил Днепродзержинский металлургический институт. Георгий Эммануилович был практиком, здравомыслящим человеком и недолюбливал идеологических подручных Брежнева. Во всяком случае, в аппарате отзывались о нем с уважением. Цуканов опирался прежде всего на Иноземцева.
Смысл работы над докладами для генерального секретаря состоял в том, чтобы вложить в выступления Брежнева хоть какие-то новые и оригинальные идеи. Это был единственный способ воздействовать на партийное руководство, по существу, навязать ему разумные мысли, ведь в аппарате каждое слово Брежнева воспринималось как руководство к действию.
В работе над партийными документами шла битва буквально за каждое слово. Вопрос стоял так: удастся отвоевать еще несколько слов или не удастся? Всякая удача означала шаг вперед, сулила чуть больше свободы.
Иноземцев и его коллеги интеллектуально подпитывали политическое руководство страны, заставляли серое вещество лучших ученых работать на политбюро. Говорят, что пользы от этого было немного. Но ведь можно посмотреть иначе: сколько еще глупостей могли сотворить наши лидеры, если бы не советы, прогнозы и информация академиков-международников?..
Академик Александр Яковлев вспоминал позднее, как они с Николаем Иноземцевым в промежутках между работой над очередным докладом для Брежнева гуляли на бывшей сталинской даче и с горечью говорили о том, что происходит в стране. Почему они бились за то, чтобы написать ту или иную фразу? Чтобы дать возможность кому-то на местах, опираясь на этот тезис, прозвучавший из уст Брежнева, сделать какое-то важное, настоящее дело, а не заниматься рутиной. Кое-что удавалось. Представители этой группы пытались воздействовать прямо на генерального секретаря, и тот чуть поддавался, потому что ощущал разницу между ними и кондовым партийным аппаратом, уважал умных и талантливых людей. Но поддавался только чуть-чуть, потому что не хотел ссориться с аппаратной массой.
Поначалу Брежнев достаточно активно участвовал в этой работе — читал, вносил поправки. Иноземцев был доволен — руководитель партии готов с ними согласиться. Но пока все члены политбюро не поставят своей визы, Брежнев документ одобрить не отваживался. А получить согласие главных догматиков страны было непросто.
Члены политбюро озабоченно писали на проектах выступлений: «А как этот тезис согласуется с положениями марксизма? Как это согласуется с тезисом Ленина о том, что?.. Я бы советовал ближе к Ленину».
И Брежнев, не желая ссориться с товарищами, говорил Иноземцеву и другим:
— Все замечания — учесть.
Вдова Иноземцева профессор Маргарита Матвеевна Максимова вспоминала:
— И вот, когда всё написано, вдруг надо всё переделать. А как переделать, чтобы сохранить идею? Вот это было мучительно. Конечно, Иноземцев собрание сочинений Ленина всё исчеркал, чтобы найти у Ленина что-то и против догматиков. У Ленина же всё можно найти… Но иногда у него просто опускались руки. Несчастный человек…
Третья жена Иноземцева — Маргарита Максимова — во время войны окончила Индустриальный институт в Горьком и работала инженером на артиллерийском заводе. Ее взяли в комсомольский аппарат, вместе с мужем она находилась в командировке в Восточной Германии, а потом занялась наукой. Они познакомились в институте. Третий брак Иноземцева оказался счастливым.
ИМЭМО занимался политическим и экономическим прогнозированием. Здравые оценки развития западной экономики, ясное дело, не совпадали с партийной пропагандой, которая обещала на политзанятиях скорый крах мирового капитализма.
«Один из читателей нашего журнала, — вспоминал Примаков, — отставной генерал НКВД пожаловался в ЦК на то, что во всех сценариях развития экономики до 2000 года фигурирует “еще не отправленный на историческую свалку” капиталистический мир. Нас обвинили в ревизионизме, и пришлось писать объяснительную записку в отдел науки ЦК».
Иноземцев и Примаков верили в научно-технический прогресс. Думали — это рычаг, который двинет страну вперед. Институт писал записки в правительство с предложениями дать предприятиям свободу, отменить монополию внешней торговли, позволить производителям самим выйти на внешний рынок, но эти идеи не воспринимались.
Институт, где собрались экономисты высокой квалификации, готовил закрытые для обычной публики прогнозы развития мировой экономики. Они рассыпались в ЦК, в аппарат Совета министров, Госплан (здесь-то концентрировались компетентные читатели). Разумеется, делалось всё, чтобы тексты были приемлемы для партийного аппарата, но факты и цифры разительно расходились с тем, что писали газеты и говорили сами партийные секретари. Усиливающееся отставание советской экономики становилось всё более очевидным. Замаскировать этот разрыв было невозможно.
Авторы же искренне надеялись, что заставят советских руководителей задуматься, подтолкнут их к радикальным реформам в экономике. Для правительства институт готовил конкретные разработки, опираясь на зарубежный опыт. И это вызывало недовольство и раздражение.
Анатолий Сергеевич Черняев, много лет проработавший в международном отделе ЦК КПСС, вспоминает, что на Иноземцева писали доносы Брежневу. Доносчики доказывали, что Иноземцев и компания — ревизионисты, не верят в будущую революцию и уверены, что капитализм и дальше будет развиваться. Одно из таких писем Демичев разослал другим секретарям ЦК. Не захотел списать донос в архив, чтобы самого не обвинили в покровительстве «ревизионистам». Письмо, как положено, изучали в отделе науки и учебных заведений ЦК.
Отделом руководил редкостный мракобес Сергей Павлович Трапезников. Его ребята и не упустили бы случая вонзить зубы в Иноземцева. Но вмешался старший помощник генерального секретаря Георгий Цуканов и списал донос в архив с пометкой «автор необъективен».
Конечно, глядя из сегодняшнего дня, видишь, что Иноземцев и его сотрудники были наивны. Политическая и экономическая системы реального советского социализма не подлежали реформированию. Военно-промышленный комплекс не желал перемен. Всё ограничивалось речами, лозунгами и призывами.
Брежнев придавал особое значение своим выступлениям. Он жаждал аплодисментов, не дай бог сухую речь произнести! Поэтому требовал цветистых оборотов, эмоций. И дорожил теми, кто умел ярко писать. Работа над речью или статьей генерального секретаря не вознаграждалась ни деньгами, ни вообще чем-либо материальным. Но желающих участвовать в ней было хоть пруд пруди.
Помощник генерального секретаря Андрей Александрович Александров-Агентов, после того как была сочинена очередная статья для Брежнева, отозвал в сторону одного из авторов и с ненаигранной похвалой сказал:
— Имейте в виду. Это больше, чем медаль или орден. Это признание в партии! Теперь для знающих людей вы тот самый человек, который писал статью самому генеральному секретарю…
Иноземцева приглашали иногда на заседания правительства — министрам полагалось прислушиваться к представителям науки. Однажды председатель Совета министров Алексей Николаевич Косыгин разозлился на директора института:
— О какой инфляции вы говорите? Инфляция — это когда цены растут, а у нас цены стабильные. Нет у нас инфляции!
Иноземцев не терпел окрика. Всегда отвечал вежливо, корректно, но наотмашь:
— Когда у населения есть деньги, а в магазинах нет товаров, потому что их раскупают стремительно, это и есть признак инфляции. Денег больше, чем товаров…
Косыгин недовольно оборвал его:
— Хватит с нас ваших буржуазных штучек…
Выступал Иноземцев и на пленуме ЦК (Брежнев отблагодарил его еще и высоким партийным званием кандидата в члены ЦК). Выступление на пленуме было большим событием, знаком высокого расположения, многие члены ЦК ни разу не были допущены на трибуну. Иноземцев, обращаясь к фактическим руководителям страны, убеждал их в необходимости научно-технического прогресса. Говорил без бумажки, убежденно и умно. После этого к нему подошел помощник генерального секретаря язвительный Александров-Агентов и сказал:
— Николай Николаевич, после вашего выступления стало ясно, что мы стоим перед дилеммой: либо выводить из состава ЦК интеллигенцию, либо делать ЦК интеллигентным.
Второй вариант оказался невозможным…
Институт Иноземцева подготовил для пленума ЦК материал по научно-техническому прогрессу, надеясь, что это подтолкнет развитие страны. Сотрудники института привели огромное количество примеров того, как стремительно развивается производство на Западе. Показали, что наша страна совсем не движется вперед, что сильно отстали промышленность, наукоемкие отрасли производства. Все эти справки и доклады мешками возили в ЦК. Пленум так и не состоялся…
Иноземцеву и Примакову хотелось реализовать все те идеи, которые вырабатывал институт. В политике отстаивали разрядку напряженности и сокращение вооружений. В экономике — постепенные реформы. Они осторожно говорили о возможности внедрения элементов рынка в народное хозяйство страны, напоминали об опыте нэпа, подчеркивали достижения экономических реформ в Польше и Венгрии.
Составляя записки в ЦК по самым разным проблемам, старались показать, как тяжело стране участвовать в гонке вооружений, убедить, что просто необходимо интегрироваться в мировую экономику.
В институте стала активно разрабатываться военная тематика — это была первая попытка объективного анализа военных дел вне системы Министерства обороны. Иноземцев собрал у себя в институте отставных генералов, бывших разведчиков и преподавателей военных академий, склонных к научной работе. Им не нужно было подстраивать свои исследования под мнение вышестоящего генерала, они стали размышлять свободнее и масштабнее. Примаков и ведал в институте международно-политическими и военно-политическими исследованиями.
Евгений Максимович был единомышленником и другом Иноземцева. Пока Николай Николаевич работал на генерального секретаря, институтом руководил Примаков. Он замещал Иноземцева, когда тот уезжал в отпуск или командировку. У них сложились хорошие, доверительные отношения. Но к директору Примаков относился с пиететом, обращался исключительно на «вы» и по имени-отчеству.
Иноземцев много раз предлагал перейти на «ты»:
— Да брось ты, Женя, эти церемонии.
Примаков соблюдал политес. Восточное воспитание.
Когда он только пришел в институт, академические коллеги настоящим ученым его не признали, считали всего лишь способным журналистом. Пренебрежительно говорили, что Примаков защитил докторскую диссертацию по книге — причем написанной в соавторстве с журналистом Игорем Беляевым. Примаков и Беляев, тоже правдист, написали объемную книгу «Египет: время президента Насера». Иноземцев действительно в свое время предложил: почему бы вам не защититься по книге коллективно — ведь «технари» так делают? Но докторские диссертации — в отличие от книг — в соавторстве не пишутся. Ученый обязан продемонстрировать творческую самостоятельность. Примаков и Беляев всё правильно поняли, разделили свой труд, представили диссертации в новом виде, и оба успешно защитили докторские…
Разговоры о некомпетентности Примакова вскоре прекратились. Все увидели, что он умелый организатор, а в академическом институте это редкость, потому что, как мне говорили его коллеги, «гениев много, а работать никто не умеет и не хочет». Он знал ближневосточный конфликт во всех его подробностях, во всех его скрытых и открытых нюансах, понимал подводные течения и взаимосвязи, со многими политиками, игравшими ключевую роль на Ближнем Востоке, был знаком лично.
Важно было и то, что Примаков пришел в институт, имея опыт работы за границей, причем в разных странах. В советские времена далеко не все ученые-международники видели страны, о которых писали. Многие доктора наук из Института мировой экономики и международных отношений за границей никогда не были. Во-первых, тогда вообще мало ездили; во-вторых, хватало и невыездных ученых, которых КГБ по анкетным данным или же из-за «сомнительных» высказываний не разрешал выпускать из страны.
Владимир Размеров, ведущий научный сотрудник ИМЭМО, вспоминал:
— Будучи сотрудником института, занимавшегося внешней политикой, я умудрился стать невыездным. Это случилось в связи с чехословацкими событиями 1968 года. В Восточном Берлине в тесной компании я сказал всё, что думал о Брежневе и о вводе войск в Чехословакию. Министерство госбезопасности ГДР, которое не упускало такого случая, записало мои слова и переслало в Москву, в КГБ. Если бы не Иноземцев и Примаков, меня бы из института выгнали. Но они меня отстояли. Потом Примаков меня из невыездных вытащил — взял под свою ответственность в командировку в Польшу. Когда он стал директором института, он окончательно сделал меня выездным: я смог ездить и на Запад…
Невыездной — это было суровое клеймо. И никому не объясняли, почему его не выпускают в командировку за рубеж. Конечно, облеченный доверием партии руководитель такого крупного учреждения, как академический институт, мог кое-что сделать для своего подчиненного, например, попросить выпустить его под свое личное поручительство. Да только не каждый директор был готов рисковать. А вдруг ненадежный работник останется на Западе? Не зря же у КГБ к нему претензии. Тогда сам потеряешь и должность, и партбилет. Примаков рисковал, и не раз…
В Институте мировой экономики и международных отношений работал Георгий Ильич Мирский, один из лучших знатоков исламского мира. Они с Примаковым вместе учились. Евгений Максимович называл его «самым большим авторитетом». Мирский был у Примакова тамадой на банкете по случаю защиты докторской диссертации. При этом Георгий Ильич был невыездным тридцать лет. Писать об исламских странах ему позволяли, а посещать их — нет. Пускали его только в социалистические страны.
Люди, которые работали с Примаковым в институте, называли его по имени-отчеству или Женя — кто поближе. Это не панибратство. Это отражало и теплое отношение коллег, хотя он бывал и строг. В институте высоко оценили его личные качества.
— Было в нем такое человеческое качество общения, — продолжал Владимир Размеров. — К нему все были расположены, как правило. Он на вид такой пасмурный, а на самом деле открытый. Добрый человек. Моя история это показывает. Я ему не нужен был. Подумаешь, один из многих сотрудников. А ведь потрудился, вытаскивая меня из дыры, в которую я попал.
Это не значит, что Примакова любили все. В любом коллективе есть люди, которые органически никакое начальство не принимают. Или за что-то обиделись на начальника. Иногда причиной было научное соперничество: человек считает себя выше руководителя и не понимает, почему должен ему подчиняться.
Примаков публично и как бы с сожалением говорил: мое любимое дело — это работа. Он не рисовался. Это действительно так. Примаков сам писал главы в солидных трудах, которые готовил институт, внимательно читал и редактировал рукописи, высказывал замечания и спокойно относился к замечаниям коллег.
Рассказывал один из сотрудников института:
— Мы вместе работали над большой книгой. Я выловил «блохи» в примаковских главах и его критиковал. Он учел замечания, хотя был недоволен моими придирками. Я в ответ ожидал полного разгрома моих глав. Но этого не произошло, более того, он подбросил мне несколько хороших идей, которые немного оживляли дохлую, надо сказать, тему. Речь шла о большом институтском труде, в который по инерции включили главу о радужных перспективах социалистического содружества. Вышел труд в августе 1989 года — накануне крушения Берлинской стены и полного распада европейского социалистического лагеря…
Николай Иноземцев ценил Примакова и как организатора, и как аналитика. Примакову тоже хотелось, чтобы институт давал практическую отдачу, чтобы это замечалось и поощрялось. Он возглавил разработку метода ситуационного анализа. Это мозговая атака: собираются лучшие специалисты и предлагают варианты решения какой-то актуальной проблемы. Например, анализ ситуации на рынке нефти. Какие факторы повлияют на цены? Будет ли расти добыча? Как поведут себя Иран, Ирак, Саудовская Аравия?.. Обсуждение проходило за закрытыми дверями и не предназначалось для публикации, поэтому можно было высказываться свободно. Это было роскошью для настоящих ученых.
Примаков приятельствовал с Марком Фрейзером, как именовали в ИМЭМО британца, долгие годы работавшего на советскую разведку. Потом он получил свою фамилию назад, и его стали звать Доналд Мональдович Маклейн (в нашей печати его называли Маклином).
Доналд Маклейн работал на советскую разведку вместе с Кимом Филби. Добывал первоклассную информацию, поскольку служил в британском посольстве в Париже до вступления в город немцев в 1940 году, потом — в центральном аппарате Министерства иностранных дел. В мае 1944 года его перевели в британское посольство в Вашингтоне. В октябре 1950 года Маклин возглавил американский отдел в Министерстве иностранных дел Великобиртании.
Но американцам удалось расшифровать телеграммы советской разведки. Анализируя их, они установили личность советского агента. Когда стало ясно, что арест неминуем, Доналд Маклейн получил сообщение, что спасение возможно — его примут в Москве. Плохо понимая, что его ждет в сталинском Советском Союзе, он решил бежать. Опасаясь, что один он не справится, попросил сопровождать его другого советского агента — Гая Бёрджесса. В пятницу вечером, 25 мая 1951 года, Доналд Маклейн и Гай Бёрджесс покинули Англию. Когда они добрались до Москвы, судьба обоих англичан решилась на заседании политбюро ЦК:
«1. Считать целесообразным принять в советское гражданство Маклина Д. и Бёрджесса Г. (под другими фамилиями) и разрешить им проживать в Советском Союзе.
2. Поселить Маклина и Бёрджесса в г. Куйбышеве и обязать Куйбышевский обком ВКП/б/ (т. Пузанова) предоставить им квартиры по 3–4 комнаты каждому. Обязать МГБ СССР за счет секретных сумм оборудовать указанные квартиры, а также выплачивать Маклину и Бёрджессу по 4000 рублей в месяц в течение пяти лет до приобретения ими специальности.
3. Разрешить привлекать Маклина и Бёрджесса к эпизодической работе в Издательстве иностранной литературы.
4. Обязать МГБ СССР обеспечить соответствующее наблюдение за Маклином и Бёрджессом».
Потом обоим разрешили обосноваться в столице. Но это немногим улучшило их жизнь. Гай Бёрджесс получил паспорт на имя Джима Андреевича Элиота. Его гомосексуальные пристрастия, склонность к выпивке и авантюризму раздражали чекистов, которые за ним приглядывали. Советской жизни он не выдержал. Попросил у КГБ разрешения вернуться в Англию, но этого никто не хотел. Он недолго прожил в Москве и умер, можно сказать, от тоски.
Доналд Маклейн, более спокойный по характеру, работал в Институте мировой экономики и международных отношений, писал книги и тихо возмущался социалистической действительностью. Жена от него ушла к Киму Филби, потом уехала из Советского Союза. Маклин поначалу сильно пил, но избавился от этого порока. Доктор исторических наук, он участвовал в проводившихся Примаковым ситуационных анализах.
Когда после арабо-израильской войны в октябре 1973 года на Западе разразился энергетический кризис, Примаков возглавил работу по его изучению. В результате появился труд под названием «Энергетический кризис в капиталистическом мире». Ситуационные анализы узловых проблем современности проводились в ИМЭМО постоянно.
А первый был проведен 16 октября 1970 года, когда выяснялись варианты развития событий после подписания договора с ФРГ. За два месяца до этого, 12 августа 1970 года, канцлер Федеративной Республики Вилли Брандт подписал с Косыгиным договор, нормализовавший отношения между двумя странами. ФРГ и Советский Союз признали нерушимость послевоенных границ и договорились решать спорные вопросы только мирным путем.
Послевоенная Европа жила в страхе перед советскими танками. Московский договор, подписанный Брандтом, помог европейцам расслабиться. И Москва несколько успокоилась, убедившись в том, что Федеративная Республика не готовится к военному реваншу. Восточная политика Брандта сделала жизнь в Европе более спокойной и разумной.
Но в Западной Германии сплотились силы, которые пытались торпедировать договор. Политбюро интересовал главный вопрос: будет ли договор ратифицирован бундестагом, где существовала сильная оппозиция правительству Брандта? Вот тогда ученые института попытались понять, как будут развиваться события в ФРГ. Всё обошлось, московский договор был ратифицирован…
В академической характеристике Примакова говорилось, что он «является автором методики краткосрочного прогнозирования развития политических ситуаций и под его руководством была создана и внедрена в практику научно-исследовательской работы такая эффективная форма исследований, как ситуационный анализ». В 1975 году Примакова включили в обширный список ученых, награжденных по случаю 250-ле-тия Академии наук. Ему вручили орден Трудового Красного Знамени. В 1979-м к пятидесятилетию он получил орден Дружбы народов. И в 1984 году — орден «Знак Почета» за участие в энергетической программе Академии наук СССР.
Вместе с Примаковым метод ситуационного анализа разрабатывали кандидат технических наук Владимир Иванович Любченко, который был энтузиастом применения математических методов, и Владимир Израилевич Гантман, руководитель сектора теоретических проблем исследования и прогнозирования международных отношений. В 1980 году группу ученых во главе с Примаковым выдвинули на Государственную премию. Но Любченко из списка пытались выкинуть. Примаков проявил характер и настоял на том, чтобы и его коллега получил заслуженное признание.
Примаков был автором и редактором закрытых работ — то есть докладов и справок, снабженных грифом секретности и предназначенных исключительно для руководства страны. Сотрудники института, опираясь на западные оценки состояния советской экономики, рисовали близкую к истине картину. Сила института состояла в том, что мировые дела сравнивались с нашими, и тогда становилось ясно, почему страна живет так плохо.
— Глаза на то, что происходит у нас в экономике, первым мне открыл Иноземцев, когда он был директором института, — рассказывал Томас Колесниченко.
Колесниченко только приехал из Африки и еще не видел Америки.
— Он такие вещи мне рассказал — для меня это был просто шок!
Иноземцев объяснял, насколько наша страна отстала от Запада и что происходит в нашей экономике. И его заместитель Примаков вскоре знал не меньше директора. Примаков много читал, ездил, но главным образом интеллектуальной энергией его питал институт. Там он мог получить любой материал на любую тему — мировая политика, экономика, рабочее движение. В институте существовал информационный отдел из ста двадцати экспертов, которые готовили огромное количество рефератов, сводок и справок. Даже если просто читать то, что производил институт за год, и то можно было стать энциклопедически образованным человеком.
За годы работы в институте Примаков перестал быть только специалистом по Ближнему Востоку и невероятно расширил свой научный кругозор. В институте изучали не только политику, но и экономику. Он читал справки и рефераты обо всех современных экономических теориях, что очень ему пригодилось, когда он возглавил правительство…
Институт сотрудничал с элитой мирового научного сообщества. Это было общение на высочайшем интеллектуальном уровне, чрезвычайно полезное для Примакова. Когда в Москву приезжал крупный государственный деятель, его подчас привозили в ИМЭМО поговорить о важнейших проблемах современности. Это тоже была полезная школа для будущего министра иностранных дел Примакова. Равно как и круглые столы в стране и за рубежом, где он знакомился с крупнейшими политологами и экономистами.
Евгений Максимович часто возглавлял научные делегации за границу, его хорошо принимали. Он быстро устанавливал контакты в мировом научном мире, умел произнести тост, разрядить обстановку, пошутить, никого не обижая.
Американский журналист Строуб Тэлботт, еще один специалист по России, который при президенте Билле Клинтоне стал первым заместителем государственного секретаря, вспоминал:
«Арбатов познакомил меня с другими учеными, проповедовавшими политику открытых дверей по отношению к иностранцам. Карьера одного из них впоследствии пересечется с моей. Евгений Примаков был тогда директором главного академического института СССР по Востоку. До этого он работал корреспондентом «Правды» в Каире, был признанным арабистом, и считалось, что у него тесные связи с КГБ».
Пройдет время, Примаков и Тэлботт столкнутся по ключевым вопросам мировой политики…
Иноземцев и Примаков переориентировали институт на оперативный политический анализ. Некоторые ученые упрекали их за пренебрежение серьезной академической наукой. Другие полагали, что они правы — важнее донести до руководства страны реальную информацию о положении в стране и мире.
— Так оно и было, — вспоминали старые сотрудники ИМЭМО. — Серьезное академическое изучение идет само собой, сидит себе ученый и корпит над своей монографией. А одновременно быстро анализируется текущая ситуация. У нас это называлось «задание», это был коллективный труд. Иногда это были «инициативные записки», а в основном сверху, из ЦК, шли задания — и их было очень много.
Приносило ли это какую-то пользу?
Судя по всему, лишь одна десятая научного продукта шла в дело, девять десятых пропадали.
Карен Нерсесович Брутенц, бывший первый заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС, вспоминал в своей книге «Тридцать лет на Старой площади»:
«Приходили, естественно, и интересные материалы. Но они полностью игнорировались, если расходились с заранее принятыми установками. Руководство считало, что оно по определению владеет истиной в последней инстанции. Эту убежденность укрепляло наличие особых источников информации, которые были недоступны ни работникам аппарата, ни тем более ученым. Наука скорее была нужна руководству для оснащения доводами уже одобренных позиций..»
Примаков стал видной фигурой в среде партийной интеллигенции, которая пыталась подтолкнуть руководство страны к разумному курсу. Работа в институте нравилась Примакову. Но в какой-то момент он почувствовал, что ему тесно в кресле заместителя директора. Ему хотелось развернуться.
В конце 1976 года в институте заговорили о том, что Примаков уходит. Генеральный директор ТАСС Леонид Митрофанович Замятин, принадлежавший к окружению Брежнева, предложил ему должность своего первого заместителя. С номенклатурной точки зрения это было значительное повышение — должность приравнивалась к первому заместителю союзного министра, да еще в таком идеологически важном учреждении, да еще под крылом Замятина.
Виталий Никитич Игнатенко, который сам многие годы руководил ТАСС, вспоминал:
— Примаков почему-то решил со мной посоветоваться, стоит ли ему идти. Он пришел ко мне — я был тогда заместителем генерального директора — и спросил в лоб: «Как ты считаешь, надо мне сюда идти?» Я представил себе, как такой блестящий ученый, душа общества — он был красивый, представительный — придет сюда, сядет, начнет с утра до вечера читать ленты информационных сообщений, быстро-быстро постареет… Может быть, он станет когда-нибудь генеральным директором, но зато не будет ученого Примакова. И я очень деликатно ему сказал: «Наверное, всё-таки наука лучше».
— Ему предложили пойти первым заместителем генерального директора ТАСС, — говорил Колесниченко. — Мы все, его товарищи, были в таком восторге.
А Иноземцев твердо сказал:
— Я против. Я не отпущу. Вот если бы его позвали директором ТАСС, тогда да. Женя — готовый директор.
Назначение в ТАСС не состоялось. Зато Примаков действительно очень скоро стал директором академического института. В 1977 году умер Бободжан Гафурович Гафуров, который десять лет, с 1946-го по 1956-й, был первым секретарем ЦК компартии Таджикистана. После XX съезда его сняли с поста первого секретаря. Поскольку он предусмотрительно сделал себя членом республиканской Академии наук, то его перевели в Москву директором Института востоковедения АН СССР. Гафуров написал несколько работ по истории таджикского народа и ислама и был в 1968 году избран в большую академию.
После смерти Гафурова в директора прочили Георгия Федоровича Кима, известного историка-востоковеда, члена-корреспондента Академии наук СССР. Он давно работал в институте и имел основания полагать, что его утвердят. Но якобы наверху была произнесена фраза, что двух академиков Кимов советской науке не надо… Потому что был еще академик Максим Павлович Ким.
В реальности утвердить Георгия Федоровича Кима на пост директора института отказался секретарь ЦК Михаил Васильевич Зимянин. По распределению обязанностей в аппарате ЦК он курировал отдел науки и учебных заведений. Почему-то за Зимяниным в бытность его редактором «Правды» утвердилась репутация порядочного человека и либерала. Возможно, кто-то другой на его должности вел бы себя еще хуже. Но либералом Зимянин никогда не был. Он откровенно сказал:
— Там кореец нам не нужен.
В конце декабря 1977 года Примаков был назначен директором Института востоковедения. Ветераны вспоминали, что, когда шушукались и называли возможные варианты, фигурировал и Примаков. Нельзя сказать, что ждали именно его, но и ничего удивительного в том, что он пришел, не было — специалист по Востоку, к тому времени член-корреспондент Академии наук, заместитель директора крупнейшего института.
Примаков настоял на том, чтобы его давнишний друг Ким был назначен его первым заместителем. Примаков так всё устроил, что возникло ощущение сдвоенного директорства. Ким стал не номинальным, а полноценным первым заместителем. Примаков тактично себя повел, и у Георгия Федоровича не было оснований обижаться. Они работали слаженно.
Примаков пришел в уважаемый институт с хорошими традициями и сильным коллективом. Институт востоковедения был основан в 1930 году в Ленинграде, а в 1950-м переведен в Москву. С 1960-го по 1970-й именовался иначе — Институт народов Азии. Здесь изучали культуру, литературу, философию, религии, языки стран Востока. Политикой интересовались меньше. Ею занимались коллеги в Институте Дальнего Востока, созданном в 1966 году, в разгар конфронтации с Китаем, с одной целью — изучать происходящее в Пекине.
Примаков изменил институтскую жизнь. По словам академика Нодара Симонии, Примаков показал себя очень независимым в действиях и суждениях человеком. Но в нем совершенно не было самодурства, кичливости и нетерпимости к критике. Когда Примаков в первый раз приехал в институт, его встречала целая бригада институтского начальства. Ловили его взгляд, следили, как поведет себя новый хозяин, вычисляли, какие у него слабости. При Гафурове установилось восточное почитание директора. Ждали чего-то подобного. Но Примакову это было не нужно. Когда он зашел пообедать в институтский буфет, это произвело сильнейшее впечатление на коллектив. Буфет академического института по тем временам был, конечно, лучше вокзального, но хуже школьного…
Говоря по-современному, Примакова назвали бы демократом-технократом. Было, впрочем, и настороженное отношение, как и несколько лет назад в ИМЭМО: пришел журналист, а не ученый. Но эти сомнения он быстро развеял, показал, что давно уже не просто журналист. Он наладил механизм, который исправно работал. Даже когда Примаков отсутствовал, работа не останавливалась. Особенно радовалась институтская молодежь. Появился человек, к которому можно обратиться и он поможет. Постепенно в институте привыкли, что есть начальство, отнюдь не глупое начальство, которое во всё вникает и во всём разбирается. Если он за что-то брался, то знали: это будет сделано. Если Примаков что-то говорил, обещал, можно было в его словах не сомневаться.
У него в институте были противники, те, кто его не любил, но ни один из них не мог сказать, что Примаков непрофессионал. Примаков тоже приспосабливался к коллективу. Он-то привык к дисциплине, которая существовала в ИМЭМО, и вызывал сотрудников на совещание к десяти часам, а в Институте востоковедения никто раньше одиннадцати не приходил. Как-то утром на совещание из всего коллектива явился только один сотрудник, самый молодой. Но директор никого не наказал. Это был повод для воспитательной работы.
— Если я что-то говорю, это должно быть сделано…
При нем в институте не было того, что часто случается в таких коллективах: склок, свар, зависти, интриг. Как умелый администратор, он этого не допускал.
И в Институте востоковедения Примакову ставили в вину то, что он мало занимается фундаментальными исследованиями. Он действительно интересовался в основном текущей политологией.
Сотрудники Института востоковедения рассказывали:
— Те, кто занимался традиционной тематикой, возможно, не очень были им довольны. Но фундаментальные исследования не пострадали. При Примакове ничего не было разрушено. А сектор науки, который исследовал современность, пошел в гору. Расширились научные связи, вырос авторитет института, люди стали работать активно. И нет ничего плохого в том, что наверх отправляется аналитическая записка и особенно — если она учитывается. Другое дело — кто там был наверху и как эта записка использовалась.
— Исследования ислама, Ближнего Востока — это при нем всё пошло вверх, — вспоминал доктор исторических наук Алексей Малашенко. — Надо еще иметь в виду, что это были восьмидесятые годы — агитпроп бдит, атеистическое воспитание еще существует. И при этом мы получили возможность достаточно объективно изучать ислам. Примаков выделил средства, ставки. Именно в эти годы наше исламоведение получило сильный импульс. Он эти исследования поощрял, патронировал, давал возможность работать. При нем не было никаких скандалов. В те времена писать об исламе было сложно, но необходимо — сначала исламская революция в Иране, затем революция в Афганистане.
В 1982 году Примаков, как директор Института востоковедения, выступал на коллегии Министерства иностранных дел, рассказывал о сложной и запутанной внутренней ситуации в Афганистане, не очень понятной и дипломатам. Говорил об авантюризме затеянной в стране аграрной реформы — в Афганистане вовсе нет революционной ситуации. Коллегия МИДа зло реагировала на неортодоксальные суждения директора академического института. А вот сам Громыко со многим солидаризировался, словно понимая бесперспективность афганской кампании.
Примаков обратил внимание на роль в Афганистане исламского духовенства. В апреле 1983 года ЦК КПСС примет постановление «О мерах по идеологической изоляции реакционной части мусульманского духовенства». Но это уже не поможет. Те, кто ввел войска в Афганистан, поссорились с мусульманским миром, способствовали возрождению религиозных чувств мусульманского населения Советского Союза и стремлению исповедующих ислам народов к государственной самостоятельности.
Исламская революция поначалу обрадовала советских руководителей. Международный отдел ЦК ее приветствовал, считая, что Тегеран теперь станет надежным союзником в борьбе против Запада. Особенно приятно было, что Соединенные Штаты лишились в Иране своих наблюдательных пунктов, которые располагались на границе с Советским Союзом. Эти станции с гигантскими антеннами находились близко к полигону, откуда запускались советские ракеты, — Тюратам (около Аральского моря), и к полигону, где испытывались противоракеты, — Сары-Шаган (около озера Балхаш).
Американские разведывательные посты в Иране фиксировали момент старта и записывали телеметрические данные, поступавшие на наземный командный пункт. Это позволяло фиксировать длину и диаметр советской ракеты, а также вес забрасываемого груза, то есть определять тип ракеты…
Так что изгнание американцев из Ирана было воспринято как подарок. В Москве предприняли попытку заигрывания с аятоллой Хомейни, но она быстро провалилась. Хомейни, придя к власти, уничтожил просоветскую партию Туде. Москва смолчала, чтобы не раздражать Хомейни. Но вскоре Хомейни дал понять, что ненавидит Советский Союз так же, как и Америку.
— Америка хуже Англии, — говорил Хомейни, — Англия хуже Америки, а Россия хуже их обеих.
Слова аятоллы являлись руководством к действию. Советский Союз именовали «восточным империалистом». На здании напротив советского посольства в Тегеране красовалась надпись «Смерть советским шпионам». Советская колония в иранской столице быстро сокращалась. Новые власти старались выдавить советских представителей из страны.
Примаков создал в Институте востоковедения группу, в которую вошли ученые из разных отделов, и они все вместе изучали ислам. Выпускали аналитические сборники, которые и по сей день представляют научную ценность.
— Когда обсуждалась ситуация в мусульманском мире, всё было предельно откровенно, — рассказывал Алексей Малашенко. — Я не помню, чтобы кто-то чего-то боялся — во всяком случае, когда речь касалась ислама. Другое дело, что через все выступления рефреном проходила сакраментальная фраза — написать мы этого не можем. Публиковать открыто наши труды действительно было нельзя, но кое-что всё-таки выходило в свет. У нас в институте был один сотрудник — феноменальный редактор. Они вдвоем с Примаковым должны были редактировать книжку. В таких случаях редактирует, разумеется, рядовой сотрудник, а директор в лучшем случае бегло просматривает текст и ставит свою подпись. Так принято во всех академических институтах. Вот приходит ко мне этот человек утром и говорит, что он просто потрясен. Он вечером дал Примакову рукопись книги — для порядка, а тот утром вернул рукопись со множеством пометок и замечаний…
В Институте востоковедения у Примакова защитил докторскую диссертацию на тему о «тайных связях сионистов с нацистской Германией» Махмуд Аббас (Абу Мазен). Он был одним из соратников председателя Организации освобождения Палестины Ясира Арафата и в январе 2005 года стал его преемником на посту президента Палестинской автономии.
Никто не думал, что Примаков проработает в институте до пенсии. Говорили, что он пойдет в гору. Видя его энергию и жажду деятельности, в этом предположении не было ничего удивительного. В 1979 году Примаков стал по совместительству профессором Дипломатической академии, затем профессором Московского университета. 15 марта 1979 года его избрали действительным членом Академии наук. Это пожизненное звание — вершина научной карьеры, свидетельство высокого социального статуса и некая гарантия материальных благ. Недаром советские партийные и государственные чиновники всеми правдами и неправдами пробивались в академию. Понимали, что рано или поздно лишатся хлебного места в аппарате, но из академии их не исключат и будут они получать высокую зарплату, смогут пользоваться машиной и академической поликлиникой. И вообще — одно дело пенсионер, тоскующий на лавочке у подъезда, другое — академик…
Примакова избрали академиком, когда ему еще не было и пятидесяти. Некоторые из коллег отнеслись к его избранию весьма скептически, не считая его научный вклад столь уж значительным. Другие отвечали на это, что Примаков, как и Николай Иноземцев, и Георгий Арбатов, и многие другие, стал академиком по праву директорства в крупном академическом институте.
Это одно из правил игры в учреждении, которое называется Академией наук. Академия организована по иерархическому принципу, следовательно, директор должен иметь соответствующие регалии. Кандидат наук, который управляет академиками? У нас это просто немыслимо. Директор института имеет неписаное право быть избранным как минимум членом-корреспондентом. Вот стать полным академиком значительно труднее. Кандидатура Примакова была выдвинута ученым советом Института востоковедения и ученым советом Института мировой экономики и международных отношений.
Каждый, кто защищал диссертацию, особенно докторскую, знает, как непросто организовать эту процедуру: собрать отзывы, подобрать оппонентов, найти выступающих. Когда речь идет о вступлении в академию, всё в тысячу раз сложнее. Важнее всего заручиться поддержкой других академиков — доказать им, что за этого человека нужно проголосовать. Физики, биологи или математики не знают обществоведов, и у них нет ни времени, ни желания изучать научные достижения претендентов. Как правило, они полагаются на мнение человека, которому доверяют. Многие академики-естественники доверяли Иноземцеву.
Иноземцев был интеллигентным человеком, великолепно знал классическую литературу — и русскую, и западную. Вот поэтому его приняли в свою среду такие фигуры, как Капица, Семенов, Басов, Прохоров, Котельников, Энгельгардт, старые академики, убеленные сединами. Они остановили свой выбор на Иноземцеве и с ним считались. Он мог позвонить «старикам» и поручиться за кого-то из кандидатов. И они голосовали за того, кого он указывал. К Иноземцеву хорошо относился и президент Академии наук Мстислав Всеволодович Келдыш.
— Всем нужна была поддержка, — говорила вдова Иноземцева профессор Максимова. — Что значило пройти в академию обществоведам, если естественники в принципе относились к ним весьма критически? Академики смотрели: приличный человек или нет? Плохих людей не пускали, даже когда на них власть давила. Но Примакова знали. Он сам по себе личность, и у него были уже заметные работы по энергетическому кризису, по Арабскому Востоку…
В 1974 году Примакова избрали членом-корреспондентом, а спустя пять лет действительным членом академии по отделению экономики. Почему по отделению экономики? Это понятно: он доктор экономических наук, окончил аспирантуру экономического факультета МГУ, но Арбатов и Иноземцев были докторами исторических наук… Всё объясняется просто: когда-то в системе Академии наук было решено включать международников в отделение экономики.
Ученые-международники пытались обрести самостоятельность, но у них не получалось. Они делегировали для беседы на самом верху человека, которому высшая власть не должна была бы отказать. Весной 1984 года сын члена политбюро и министра иностранных дел Громыко Анатолий Андреевич Громыко, в ту пору директор Института Африки и член-корреспондент Академии наук, побывал у генерального секретаря ЦК КПСС Константина Устиновича Черненко.
Ученые-международники хотели иметь свое отделение. Аргументация такая: чтобы наука более продуктивно помогала внешней политике, ЦК и Министерству иностранных дел, все институты внешнеполитического профиля объединить в один. В реальности это было нужно директорам институтов, чтобы таким образом — через свое отделение — попадать в академию, потому что вакансии давались на отделение. Отделение экономики с международниками местами делилось неохотно.
Отдел науки ЦК сопротивлялся созданию нового отделения в Академии наук. Ставший генеральным секретарем Черненко с уважением относился к Громыко-старшему, поэтому принял Громыко-младшего, внешне удивительно похожего на отца. Черненко выслушал его аргументы и всё записал. Спросил, кто может возглавить такое отделение.
— Арбатов или Примаков, — ответил Анатолий Громыко, который накануне похода в ЦК беседовал с Примаковым.
Академик-секретарь отделения — ключевая фигура для подведомственных институтов. Он утверждает штаты, научные и издательские планы институтов, выбивает для них ассигнования, подписывает назначения.
Через две недели Громыко-младшего вызвал к себе секретарь ЦК Михаил Зимянин. Ему Черненко поручил разобраться с предложением Громыко-младшего.
Зимянин с ходу отверг идею о создании отделения академиков-международников. Особое возмущение у секретаря ЦК вызвали кандидаты на пост главы отделения:
— Как это вы, Анатолий Андреевич, не понимаете простых вещей? Пред лагать Арбатова на пост руководителя отделения? Учтите, жизнь гораздо сложнее, чем вы думаете. Сами должны осознать, что к чему.
Громыко попробовал возразить:
— Есть еще академик Примаков, разве он не смог бы возглавить отделение?
Зимянин посмотрел на младшего Громыко с сожалением…
Мечта международников исполнилась только тогда, когда Зимянина отправили на пенсию, а Александр Николаевич Яковлев стал членом политбюро. В марте 1988 года было наконец создано Отделение проблем мировой экономики и международных отношений. Академиком-секретарем стал Примаков. Когда он ушел в Верховный Совет СССР, то передал секретарство своему старому другу Виталию Журкину, директору Института Европы. В марте 1998 года название изменили — теперь это Отделение международных отношений Российской академии наук. Так точнее.
Директорствуя в Институте востоковедения, Примаков и не предполагал, что очень скоро вернется в Институт мировой экономики и международных отношений. Произошло это в результате цепи драматических и трагических событий.
Последние годы академика Иноземцева сложились трудно. Он испытывал чувство сильного разочарования. Попытки хоть что-то изменить в стране не удавались. Видя, как дряхлеет и теряет интерес к работе Брежнев, говорил, что необходима смена руководства. Надеялся, что более молодые и энергичные люди дело повернут в нужное русло. Однажды отдыхал вместе с семьей Горбачевых в Кисловодске. Михаил Сергеевич еще был ставропольским секретарем. Иноземцев рассказывал Горбачеву, что происходит в мировом сельском хозяйстве, пытался «обратить в свою веру».
Профессор Маргарита Максимова вспоминала:
— Нужно понять то поколение. Они прошли войну, с огромным энтузиазмом взялись строить послевоенную жизнь. Мне слово «патриот» не очень нравится, какое-то оно неуютное, но Иноземцев — такой человек. Было, конечно, и желание сделать карьеру, продвинуться. Но всё отступало на второй план, главное — судьба России. Боль ужасная, переживания — вам не передать, что он испытывал, когда видел происходящее. Он так не вовремя родился…
Это была трагедия человека, который искал пути выхода из тупика и понял, что ничего не получается.
Иноземцев был осторожен, хорошо зная нравы товарищей по партии. Но и это его не спасло. Николай Николаевич был персоной, приближенной к Брежневу. Иноземцева избрали кандидатом в члены ЦК, а потом и членом ЦК КПСС, сделали депутатом Верховного Совета. Всё это были следы брежневского благоволения, закреплявшие его высокое положение. Брежнев его чуть ли не единственного в своем окружении называл по имени-отчеству. Но эта приближенность к генеральному секретарю ни от чего не застраховывала.
Главная работа Иноземцева с Примаковым состояла в том, чтобы давать советы власть имущим. Но к концу 1970-х власть постарела и окостенела. Она перестала слушать своих советчиков. Институтские разработки вызывали раздражение.
Догматики из Академии общественных наук и Московского университета давно называли ИМЭМО «ревизионистским гнездом». Затевались различные комиссии, в основном райкомовские, то есть совсем малограмотные и потому опасные. Они должны были выявить опасный отход института от генеральной линии партии. Иноземцев до поры до времени успешно отбивал атаки с помощью высокопоставленных знакомых.
Но в аппарате ЦК Иноземцева скорее терпели, видя особое расположение к нему генерального секретаря. Единомышленников во власти у него было немного. Вот характерная деталь. В своем кругу его называли Ник Ник. Тогдашний руководитель группы консультантов отдела пропаганды ЦК КПСС Вадим Алесандрович Печенев вспоминал, что на Старой площади Николая Николаевича именовали «Кока-Кола», что, по мнению аппаратчиков, «отражало его проамериканскую ориентацию».
К шестидесятилетию Иноземцева Академия наук написала представление в ЦК с просьбой присвоить ему звание Героя Социалистического Труда. Отдел науки ЦК и секретарь ЦК Зимянин воспротивились. Иноземцев получил не золотую звезду, а орден Ленина. Для знатоков аппаратной интриги это был ясный сигнал: Иноземцев не в фаворе.
Леонид Ильич был совсем плох, и на Иноземцева набросились. Спешили свести счеты. Начались самые настоящие гонения на институт. Проверки, комиссии, выговоры. Устроил всё это отдел науки ЦК КПСС, который тихо ненавидел ИМЭМО и ждал своего часа. Под обвинения подводилась политическая основа.
Однажды явился мелкий чинуша из отдела науки ЦК, потребовал собрать дирекцию — то есть руководителей отделов, ведущих сотрудников института. Иноземцев сказал:
— К нам приехал представитель отдела науки. Послушаем.
Ответственный товарищ заранее предупредил:
— Вопросов вы мне не задавайте. Мнение ваше меня сейчас не интересует. А вот вы выслушайте, что отдел науки ЦК партии думает по поводу вашей работы.
И развернул веер претензий. Почему аппаратчик вел себя так уверенно, выговаривая члену ЦК КПСС? Дело в том, что заведующий сектором экономических наук отдела науки Михаил Иванович Волков приходился свояком Константину Устиновичу Черненко (они были женаты на сестрах). Михаил Волков, не имевший серьезного экономического образования, ненавидел Иноземцева и его институт.
«Этот человек, — писал Вадим Андреевич Медведев, который при Горбачеве возглавлял отдел науки ЦК, — не был способен ни на что другое, кроме как блюсти идеологическую дисциплину, поддерживать теоретическую чистоту. Его указания институтам, в которых сосредоточены были крупнейшие научные силы, в кулуарах вызывали лишь ироническую реакцию, усмешки, но было не до шуток: в руках этих людей были все рычаги управления, в том числе организационно-кадровые вопросы. Секрет могущества Волкова был прост — он состоял в родственных отношениях с Черненко, ему полностью доверял Трапезников. Это и позволяло держать экономические институты под жестким контролем».
Отдел науки ЦК выражал недовольство тем, что в ИМЭМО слабо изучается американский империализм. Почему институт защищает разрядку, которая провалилась? Иноземцева обвиняли в том, что институт не разрабатывает теоретическую базу для борьбы с империализмом, а дает абсолютно антипатриотические, антисоветские рекомендации относительно политики вооружений:
— Ваши записки об ослаблении международной напряженности подрывают нашу обороноспособность. Америка вооружается, а мы хотим себя обезоружить…
Руководил отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС давний помощник Брежнева Сергей Павлович Трапезников. В 1950-е годы он был директором республиканской Высшей партийной школы и одновременно главным редактором журнала «Коммунист Молдавии». В Кишиневе он вошел в команду Леонида Ильича, которая писала первому секретарю ЦК компартии Молдавии речи и статьи.
Перед назначением Трапезникова Брежнев поделился со своим помощником по международным делам Александровым-Агентовым:
— Знаешь, я думаю заведующим отделом науки сделать Трапезникова. Как ты думаешь?
Александров-Агентов признавался потом, что пришел в ужас: Трапезников — безграмотный, примитивный человек.
— У меня в сейфе лежит написанная Трапезниковым от руки бумага, — сказал он Леониду Ильичу, — в которой на одной странице восемнадцать грубейших орфографических ошибок. И этот человек будет руководить развитием нашей науки, работой академиков?
Брежнев нахмурился и прекратил разговор. Не сказал, что, вероятно, подумал: грамотных людей полно, а по-настоящему преданных куда меньше…
Трапезников в начале 1930-х попал в автокатастрофу, долго лечился. Холуи рассказывали, что его травма — следы войны, что Трапезников прошел рядом с Брежневым всю войну… Сергей Павлович не спешил опровергать эту легенду. Ходил он, как больной полиомиелитом, вспоминал заместитель заведующего международным отделом ЦК Анатолий Черняев. Одна рука безжизненно висела, шея, вдавленная в приподнятые плечи, не поворачивалась. Мертвенно-бледное лицо, тусклые неподвижные глаза. Ему не сочувствовали, а тихо ненавидели. Он был редкостным мракобесом. Горестно вопрошал:
— Что же будет с марксизмом, когда мы умрем?
Трапезников стал членом ЦК, депутатом Верховного Совета. Мечтал быть академиком. Но тут возникли трудности. Трапезников выставил свою кандидатуру на соискание звания члена-корреспондента Академии наук. Обществоведы его кандидатуру одобрили. Но 2 июля 1966 года на общем собрании академии против Трапезникова смело выступил академик Игорь Евгеньевич Тамм, выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии:
— Речь идет не о том, что он может быть очень хорошим начальником отдела науки, речь идет о научных заслугах.
Таковых не оказалось. Трапезникова при тайном голосовании прокатили. Президент академии Мстислав Келдыш доложил о результате главному партийному идеологу Михаилу Андреевичу Суслову. Тот распорядился еще раз провести голосование. Трапезникова опять провалили. Через десять лет, в 1976 году, он своего добился — стал членом-корреспондентом Академии наук. Но не остановился на достигнутом — пожелал стать полноценным академиком.
В конце 1978 года академики Алексей Леонтьевич Нарочницкий и Исаак Израилевич Минц выдвинули Трапезникова в действительные члены Академии наук. «Выдающимся вкладом в разработку отечественной истории, — писали два академика, — являются его труды по аграрной истории нашей страны, среди которых особенно большое значение имеет 2-томный капитальный труд “Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос”».
Но академиком Сергей Трапезников всё-таки не стал. Зато попортил немало крови подчиненным ему ученым.
Иноземцева с некоторых пор очень невзлюбил Михаил Зимянин, секретарь ЦК по идеологии. Зимянин, бывший партизан, сделал после войны карьеру в родной Белоруссии: секретарь Гомельского обкома, министр просвещения, секретарь, затем второй секретарь ЦК компартии Белоруссии.
«У Зимянина, — вспоминал хорошо знавший его генерал госбезопасности Эдуард Болеславович Нордман, тоже бывший партизан, — была феноменальная память, цепкий взгляд. Перед ним за многие годы прошли сотни людей. Но и через год, и через пять, и через десять он мог по памяти восстановить все анкетные данные человека, если эта анкета когда-то уже лежала у него на столе».
В 1953 году, после смерти Сталина, Берия настоял на решении поставить кадры коренных национальностей во главе республик СССР. Предполагалось, например, в Белоруссии первого секретаря ЦК Патоличева заменить на Зимянина. Однако Берию сняли, и Зимянину пришлось уехать из Белоруссии. Его определили в Министерство иностранных дел. В 1956 году отправили послом во Вьетнам, через четыре года перевели в Чехословакию. В 1965 году Михаила Васильевича вернули в СССР, назначили заместителем министра иностранных дел. Но тут понадобился главный редактор «Правды», и вспомнили об опытном идеологическом работнике Зимянине.
Когда Зимянина избрали секретарем ЦК, Александр Евгеньевич Бовин, один из тех, кто мастерски сочинял Брежневу речи, поздравляя, выразил надежду, что неприятных сюрпризов по идеологической части не будет.
— Выше головы не прыгнешь! — вяло ответил Зимянин.
«Да он, по-моему, и не прыгал, — писал Бовин. — Наоборот. Стал ходить пригнувшись, ниже головы».
В марте 1981 года Зимянина включили в состав делегации, отправившейся в Софию на съезд болгарской компартии. Возглавлял делегацию член политбюро и первый секретарь ЦК компартии Украины Владимир Васильевич Щербицкий.
«Зимянин, человек холерического темперамента и ужасный матерщинник, — вспоминал помощник Щербицкого, — был вообще-то незлобивым человеком, открытым и простым. Но сама мысль о том, что он представляет руководство Советского Союза, сверхдержавы, превращала его в сноба и шовиниста.
По любому случаю, к месту и не к месту, он высказывал свои безапелляционные суждения. Наблюдая за ним, я вспомнил ту истину, что малые ростом люди зачастую стремятся компенсировать это непомерными амбициями».
Иноземцев и Зимянин оба раньше работали в «Правде», были на «ты». Но после избрания секретарем ЦК у Зимянина проявились качества, которые не были заметны на редакторском посту. Иноземцев поссорился с Михаилом Васильевичем, когда тот потребовал провести нужных людей в академию:
— Сейчас выборы. Так ты обеспечь, чтобы такой-то прошел в академики.
Но называл такие одиозные имена, что просить за них Иноземцев никак не мог. Честно ответил Зимянину:
— Я ради тебя проголосую за этого человека. Но других я за него не могу просить.
Зимянин разозлился, стал кричать:
— ЦК заставит тебя слушаться и исполнять то, что я тебе говорю!
— ЦК — это не один Зимянин! — ответил Иноземцев. — Я не позволял на себя на фронте кричать и не позволю сейчас. Не зарывайся!
Встал и ушел.
Так разговаривать с секретарями ЦК никто не решался.
Атаку на институт Иноземцева организовали по всем правилам. Подключили отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности МВД, прокуратуру. Бдительно проверяли хозяйственные дела, выясняли, не злоупотреблял ли директор служебным положением. В книге Петра Черкасова эта история описана во всех деталях.
Всё началось с того, что сотрудник административно-хозяйственного отдела института обвинил своего начальника, заместителя директора по общим вопросам, в хищении мебели и другого казенного имущества.
Письмо сочли подходящим поводом для большой проверки. Проводили ее сразу три ведомства — Управление бухгалтерского учета, отчетности и внутриведомственного контроля президиума Академии наук, Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов и Московский комитет народного контроля. Результаты проверки были предрешены. Разумеется, как и в любом большом учреждении, обнаружились различного рода нарушения. Но хуже всего было то, что начались разговоры, будто импортная мебель и строительные материалы пошли на строительство личной дачи Иноземцева.
Заместителя директора института вызвали в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС. Он предстал перед Арвидом Яновичем Пельше, членом политбюро и председателем Комитета партконтроля. И главный инквизитор, очень худой, с неподвижным пергаментным лицом, потребовал от него:
— Вы должны написать о фактах расхищения социалистической собственности в вашем институте. Напишите, кто и сколько воровал, кому и куда вывозилось государственное имущество.
Результатами проверки финансово-хозяйственной деятельности института занялся отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности УВД Севастопольского района Москвы. Заместителю директора и главному инженеру института задавали один и тот же вопрос: а не попала ли всё-таки списанная финская мебель на дачу Иноземцева? Сначала завели уголовное дело на главного инженера института, а затем прямо в своем кабинете арестовали заместителя директора по общим вопросам.
Тут надо сказать, что важную роль в защите института сыграл секретарь парткома Владимир Никитович Шенаев. Один из доверенных людей Иноземцева, он десять лет руководил партийной организацией ИМЭМО. Владимир Шенаев не испугался, а на полную катушку использовал свое партийное положение. Он поехал в райком, потом пошел к прокурору. Шенаев демагогически напирал на то, что сотрудника института арестовали, не поставив в известность партком: это пренебрежение партийной организацией. Прокурор не выдержал и изменил меру пресечения на подписку о невыезде.
Дело приняла к исполнению прокуратура РСФСР, хотя оно и было мелким. Через год, в июле 1982 года, уголовное дело прекратят за отсутствием состава преступления. Прокуратура установит, что никто мебель не похищал. Заместитель директора был виновен всего лишь в том, что «несвоевременно проводил списание мебели, пришедшей в негодность», это деяние, то есть небрежность в оформлении отчетов, не является уголовно наказуемым.
Но слухи, как известно, убивают. Иноземцева с сердечным приступом госпитализировали в новую спецбольницу для высшей номенклатуры на Мичуринском проспекте. Николай Николаевич тяжело переживал разговоры об украденной мебели, о строительстве дачи за счет института. Иноземцев был человеком щепетильным, заботившимся о своей репутации.
А события вокруг института продолжали развиваться.
В апреле 1982 года оперативники КГБ задержали молодых сотрудников института Андрея Фадина и Павла Кудюкина, у которых нашли самиздатовские рукописи. Это уже не списанная мебель, это как минимум политическая близорукость — приютил антисоветчиков под своим крылом. Так это можно было интерпретировать… Арест двух сотрудников был тяжелым ударом для Иноземцева.
Восьмого апреля 1982 года проходило заседание политбюро. Брежнев по состоянию здоровья всё реже приезжает в Кремль. В отсутствие генерального председательствует его доверенный человек — Константин Устинович Черненко. В кратком протоколе заседания говорится:
«Тов. Андропов Ю. В. проинформировал о положении с кадрами в Институте мировой экономики и международных отношений. Он доложил, что в результате тщательной проверки были получены сигналы об антисоветских настроениях научных сотрудников этого института Фадина Андрея Васильевича и Кудюкина Павла Михайловича — оба 1953 года рождения.
При проверке эти сведения получили полное подтверждение. Из добытых по делу материалов установлено, что антисоветская деятельность этих лиц носит организованный характер и что они вовлекли в свою группу ряд других ведущих враждебную работу лиц — Кагарлицкого, Зайченко, Хавкина и других…
Фадин, Кудюкин и др. стремятся теоретически обосновать цуги замены существующего в СССР строя так называемым “демократическим социализмом в интересах всех трудящихся”…
Еще в период 1975–1979 гг. Фадин, Кудюкин и др. были профилактированы и предупреждены о недопустимости подобного поведения. Однако идейно не разоружились и перешли к конспиративным антисоветским методам. КГБ имеет в виду в ближайшее время приступить к реализации дела и привлечению к уголовной ответственности наиболее активных граждан, а по остальным провести соответствующую профилактическую работу».
История с арестом двух молодых сотрудников института вызывает массу вопросов. Почему ей придали такое значение? Почему сам Андропов докладывал о их аресте на политбюро?
В январе 1982 года умер Михаил Андреевич Суслов. Освободился кабинет номер два на пятом этаже в первом подъезде основного здания ЦК КПСС. Все ждали, кто его займет. Брежнев неожиданно для многих выбрал Андропова. Предложение перейти на Старую площадь вызвало у Юрия Владимировича смешанную реакцию. За восемнадцать лет он привык к КГБ, боялся лишиться реальной власти, потому что официальной должности второго секретаря ЦК в партии не было. А Брежнев не уточнил, каким будет объем его полномочий, действительно ли он хочет, чтобы Андропов заменил Суслова, или же ему нужен просто еще один секретарь ЦК. К тому же переход в ЦК затягивался. Андропов не понимал, почему Брежнев медлит, нервничал. Поскольку на Старой площади ему предстояло заниматься в первую очередь идеологией, Андропов и старался показать свой интерес к идеологической сфере, свою непримиримость к любым отклонениям от генеральной линии. И тут подвернулось дело с учеными из института Иноземцева.
Андропов уже уходил из КГБ. Зачем же он это устроил? Демонстрировал свою бдительность?
По этому мнимому делу арестовали двух сотрудников ИМЭМО. Обвиняли их в антисоветской агитации и пропаганде и создании антисоветской организации. Занималось ими следственное управление КГБ. Умельцы из госбезопасности, как в старые времена, шили большое дело, обвиняли в антисоветской деятельности не только самих арестованных, но и всех их знакомых.
Поймать несколько молодых людей с сомнительными рукописями невелика заслуга, а выявить их связи, показать, что в подрывной деятельности замешаны заметные ученые, разоблачить антисоветское гнездо в Институте мировой экономики и международных отношений — значит показать высокий уровень работы. Следователи госбезопасности вызывали их на допрос чуть ли не каждый день. Ни в чем не повинные люди уходили утром в КГБ, не зная, позволят ли им вечером вернуться домой. Им еще не предъявили никакого обвинения, а работу они уже потеряли, потому что КГБ оповестил их начальство.
В мае 1982 года, когда Андропова всё-таки сделали секретарем ЦК, новым председателем КГБ был назначен Виталий Васильевич Федорчук, мрачный и недалекий человек, который почти всю жизнь проработал в военной контрразведке. Его перевели с Украины, где он оставил тяжелый след. «Федорчук вел планомерную работу по искоренению “инакомыслия” и всякой “идеологической ереси”, — писал Виталий Врублевский, бывший помощник Щербицкого. — К этому он был хорошо подготовлен, и его тяжелую руку вскоре почувствовали многие… Снова стали печь дела. Серьезный удар был нанесен по хельсинкскому движению, инакомыслию, национально сознательной оппозиции. Федорчук на том «заработал» орден Ленина. Репрессивные методы КГБ создавали тяжелую атмосферу».
Перебравшись в Москву, Федорчук сразу ухватился за знакомое ему идеологическое дело в Институте мировой экономики и международных отношений, приказал его расследовать. А ЦК КПСС информировал об «обстановке беспринципности среди сотрудников института».
А ведь КГБ и так внимательно приглядывал за институтом. Офицеры госбезопасности сидели в самом ИМЭМО и следили за учеными. По словам академика Яковлева, в пору его директорства в институте было примерно пятнадцать сотрудников госбезопасности. «Соответственно, количество невыездных в институте росло, — вспоминал он. — Из них было человек тридцать профессоров, наиболее талантливых, знающих».
Двадцать шестого июня 1982 года председатель КГБ Федорчук докладывал Андропову, секретарю ЦК: «В ходе следствия по уголовному делу на обвиняемых по статье 70 УК РСФСР Фадина А. В., Кудюкина П. М. и других лиц установлено, что они предпринимали практические шаги по созданию в СССР организованного антисоветского подполья и занимались враждебной деятельностью среди научных работников ИМЭМО АН СССР».
Федорчук, раздувая дело, докладывал о найденных при обысках сотнях экземпляров различных изданий антисоветского, клеветнического и идеологически вредного содержания:
«Как выяснилось в ходе следствия, Фадин систематически передавал другим сотрудникам института… различную антисоветскую литературу для ознакомления.
Указанные лица, зная об антисоветских настроениях Фадина и Кудюкина, не только не давали отпор их “воззрениям” и преступным действиям, но зачастую соглашались с изложенными в антисоветской литературе концепциями и по существу оказывали им поддержку. В этом плане показательным является заявление Кудюкина на допросе 16 июня с. г., что “такую литературу можно было бы безбоязненно предложить 90 процентам сотрудников ИМЭМО”.
Это свидетельствует о том, что становлению на преступный путь Фадина, Кудюкина и других в определенной мере способствовала также обстановка беспринципности и отсутствие должной политической бдительности среди сотрудников Института мировой экономики и международных отношений АН СССР.
По имеющимся оперативным данным, о которых КГБ СССР информировал МГК КПСС, в институте имеют место существенные просчеты в работе кадров, а также в воспитательной работе. Низка трудовая дисциплина и требовательность к сотрудникам со стороны руководства и особенно заведующих отделами и секторами. Имели место нарушения в соблюдении сотрудниками правил работы с иностранцами, чем, как установлено, пользовались Фадин и Кудюкин.
Комитетом госбезопасности продолжаются оперативноследственные мероприятия, направленные на полное вскрытие преступной деятельности обвиняемых Фадина, Кудюкина и связанных с ними лиц».
Справка, подписанная председателем Комитета госбезопасности, создавала базу для масштабного идеологического разгрома в институте. При такой оценке положения дел и самому директору Николаю Николаевичу Иноземцеву головы было не сносить… А ведь самое поразительное состоит даже не в том, что дело было пустое, надуманное, раздутое. Эка невидаль, только этим и занимались. Удивительно то, что столь многообещающее дело рассыпется даже раньше, чем наступит перестройка!
В декабре 1982 года в КГБ подготовили обвинительное заключение. В начале января должен был начаться суд. Но его отменили. А через полгода после смерти Брежнева, в апреле 1983 года, всех выпустили без суда! Что бы это значило?
Став хозяином страны, Андропов председателя КГБ Федорчука немедленно переместил в кресло министра внутренних дел. Может быть, всё дело в том, что новый глава Комитета госбезопасности Виктор Михайлович Чебриков не был таким агрессивным, как Федорчук? Ну, да такие дела — не инициатива председателя КГБ. И началось, и завершалось это дело решением политбюро. Неужели все эти аресты, следствие понадобились только ради того, чтобы сокрушить Иноземцева? Думаю, что важнее всего был другой мотив — самоутверждение Андропова в сложный для себя период перехода из КГБ на Старую площадь. Он желал доказать свою кристальную идеологическую чистоту и продемонстрировать: в борьбе с отступниками снисхождения не будет даже к тем, кого он знал лично.
По сигналу КГБ в атаку на Иноземцева пошел еще и Московский горком партии. Создали комиссию по проверке деятельности института, ее возглавил первый секретарь МГК КПСС Виктор Васильевич Гришин.
Гришин был к тому времени хозяином Москвы уже восемнадцать лет. Он казался малосимпатичным большинству окружающих и нравился только узкому кругу приближенных. И внешность, и манера вести себя выдавали в нем скучного, неинтересного человека. Правда, один из его бывших помощников, покойный ныне Евгений Сергеевич Аверин, очень достойный журналист, рассказывал мне, что Гришин свои обязанности исполнял неукоснительно. Например, никогда не уходил в отпуск, не убедившись, что на овощебазах заложен достаточный запас продовольствия на зиму.
Виктор Васильевич Гришин обещал превратить Москву в образцовый коммунистический город. Под этим лозунгом городской партийный аппарат был выведен из зоны критики. Сотрудникам ЦК рекомендовали не звонить напрямую в московские райкомы, поскольку ими руководил член политбюро. Когда в горкоме узнавали, что какая-то газета готовит критический материал о столице — пусть даже по самому мелкому поводу, главному редактору звонил Гришин и статья в свет не выходила…
Городские партийные чиновники были еще хуже цековских — провинциальнее, малограмотнее, ортодоксальнее. Они обвинили Иноземцева в том, что в институте отсутствует настоящее идеологическое воспитание, поэтому молодежь распространяла самиздат. Члены комиссии, проверяльщики, копали по разным направлениям, штудировали выпущенные институтом труды, беседовали с сотрудниками, изучали личные дела, высчитывали процент «загрязненности кадров» — сколько в ИМЭМО евреев.
В конце июня 1982 года директора Иноземцева и секретаря парткома Шенаева вызвали в ЦК, чтобы познакомить их с результатами работы комиссии. Сам Шенаев подробно описал эту сцену. В кабинете заведующего сектором отдела науки Михаила Волкова находились еще куратор института и второй секретарь Севастопольского райкома. Текст заключения комиссии Иноземцеву и Шенаеву на руки не отдали, а только разрешили прочитать. Обвинительный документ не сулил ничего хорошего. Николай Николаевич, вспоминал Шенаев, был подавлен, с трудом скрывал возмущение и принимал нитроглицерин. Иноземцев позвонил в институт и попросил проверить одно из обвинений. Оказалось, что это чистое вранье. Иноземцев немного успокоился.
Окончательно обсуждался документ в кабинете Гришина, куда пришли Зимянин и другие члены комиссии. Гришин пролистал все восемь страниц и спросил мнение Иноземцева. Тот ответил одной фразой: с оценками комиссии не согласен. Тогда Гришин, соблюдая партийный ритуал, предоставил слово секретарю парткома института. Шенаев стал возражать по каждому пункту обвинений. Зимянин взорвался:
— Кто ты такой, чтобы давать оценку?!
По мнению многих сотрудников института, именно Зимянин руководил атакой на ИМЭМО. Он нервничал и не раз с угрозой прерывал Шенаева:
— Тебе это так не пройдет.
Гришин с удивлением слушал замечания секретаря парткома. Ему, видимо, не доложили, что ситуация непростая. Зимянин хотел одобрить выводы комиссии сразу же, на заседании. Осторожный Гришин распорядился учесть замечания представителей института и вообще дать возможность Иноземцеву доработать документ. В конце концов выводы комиссии удалось смягчить. Но атмосфера в прежде благополучном институте резко ухудшилась. В критической ситуации конформизм и лицемерие брали верх, потому что помогали карьере и личному благополучию.
«В 1982 году, — вспоминает профессор Георгий Мирский, — когда в нашем институте был большой политический скандал, вполне вроде бы приличные и порядочные люди, доктора наук, демократы по убеждениям, самым трусливым и подхалимским образом поддерживали на заседании конкурсной комиссии линию дирекции и парткома, добивавшихся изгнания из института одного из наших коллег, ученик которого оказался за решеткой по обвинению в создании антисоветской организации. Им лично никакие санкции не грозили, но… “партия сказала надо”».
Арестованный Андрей Фадин работал в отделе Мирского. Его решили уволить. Иноземцев вызвал Мирского. В глазах директора института напряженность и тревога.
— Пойми, я был вчера у Гришина, и он мне сказал: «Вы ведь понимаете, Николай Николаевич, как мне тяжело — ведь это случилось в моей партийной организации, в Москве». И генерал из КГБ приезжал. Это гораздо серьезнее, чем вы все думаете.
Мирский спросил директора:
— Николай Николаевич, ты мне можешь объяснить, в чем дело, в конце концов, почему всё это так раздули?
Иноземцев тоскливо посмотрел на него:
— Ну что ты от меня хочешь?
Николай Иноземцев был самолюбивым человеком. Он хотел пойти к Брежневу. Но Леонид Ильич болел. Попасть к нему было трудно. Жена удерживала Николая Николаевича, говорила:
— Не мучь себя, обойдется.
Иноземцев пошел к Андропову. Тот выслушал и обнадежил:
— Николай, подожди. Скоро, я думаю, что-то изменится.
Андропов был вторым человеком в партии. Но палец о палец не ударил, чтобы защитить Иноземцева. Он готовился стать генеральным секретарем. Зачем ему было рисковать, настраивать против себя партийных догматиков?..
Иноземцев был человеком с характером, волей и мужеством. Он был сильной личностью, прошел всю войну от первого до последнего дня. Будущий академик вел дневник на войне, утаив его от политработников и особистов. Вот что сержант Иноземцев записал в дневнике, который издали через много лет после его ухода из жизни:
«Человек, сознательно идущий на верную смерть, должен быть или безразличным теленком с загнанными внутрь инстинктами, или иметь крепкий характер и железную силу воли. Последнее приобретается со временем и дорогой ценой. Но раз приобретенное — остается надолго, если не на всю жизнь».
Он не сломался, не стал каяться и просить прощения. Но травля оказалась для него роковой. 19 июля 1982 года Иноземцев ушел в отпуск. Жил на даче. Но мрачные мысли не отпускали. 12 августа он умер от обширного инфаркта. Не мучился, ушел из жизни мгновенно. Ему был всего шестьдесят один год. Войну прошел, а мерзкие интриги его сгубили. Похоронили Иноземцева на Новодевичьем кладбище.
Но партийный аппарат не остановился, надеясь сокрушить наконец ревизионистское гнездо. Тогда Александр Бовин и Георгий Арбатов при содействии доверенного помощника генерального секретаря Георгия Цуканова проникли к Брежневу. Генеральный секретарь был уже совсем плох, но память об Иноземцеве сохранил добрую и тут же по телефону приказал Гришину оставить институт в покое.
Слово Брежнева было законом. На этом всё закончилось.
Когда начались гонения на Иноземцева, Примаков уже в ИМЭМО не работал. Но все понимали, что Иноземцев был целью номер один. Следующими на очереди были директор Института США и Канады Георгий Арбатов и директор Института востоковедения Евгений Примаков. Это была попытка извести научных либералов, которые из-за близости к Брежневу столько лет оставались практически неуязвимыми. Поняв, что Леонид Ильич уходит, аппарат почувствовал свою силу.
На похоронах Иноземцева Примаков присутствовать не мог. Он возглавлял научную делегацию, которая находилась в далекой Бразилии. Он пришел помянуть Николая Николаевича на девятый день. В коллективе заговорили о том, что неплохо бы ему стать директором ИМЭМО, чтобы варяги не разрушили институтские традиции. Около года директора в институте не было. Продолжались гонения на лучших сотрудников, планы научных исследований пересматривались.
Всё изменилось, когда в мае 1983 года директором института неожиданно стал Александр Николаевич Яковлев. Андропов разрешил ему вернуться из Канады, где тот почти десять лет находился в своего рода ссылке. Яковлеву первоначально предложили пост министра просвещения, который по номенклатурной линии выше. Он благоразумно отказался и выбрал научную работу.
— Когда я работал в институте, то по просьбе Госплана мы подготовили доклад на тему «Что будет с экономикой СССР к 2000 году», — вспоминал Яковлев. — Мы написали, что будет очень плохо, и объяснили почему. В Госплане перепугались до невозможности и вообще пожалели, что к нам обратились.
Но Яковлеву хотелось живой работы, и он ее быстро получил. Как только Горбачева избрали генеральным секретарем, он взял Яковлева в ЦК. В июле 1985 года Александр Николаевич возглавил отдел пропаганды ЦК. Уходя, Яковлев позаботился о том, чтобы директором ИМЭМО стал академик Примаков. Это было не так просто, кое-кто сопротивлялся…
Говорят, что директором ИМЭМО хотел стать сын Громыко. Горбачев был в долгу перед старшим Громыко, но директором в ноябре 1985 года всё-таки сделали Примакова. Когда Примаков ушел из Института востоковедения, замену ему долго искали, пока не уговорили Михаила Степановича Капицу, заместителя министра иностранных дел СССР, китаиста по образованию.
Напрасно говорят, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Примаков вернулся в ИМЭМО, но уже в роли директора. В институте он всех знал. А как отнеслись к его возвращению?
— К нему лучше относились, когда он стал директором, чем когда он был заместителем, — рассказывал Герман Дили-генский, главный редактор журнала «Мировая экономика и международные отношения». — Евгений Максимович принадлежит к числу людей, которые лучше всего себя проявляют, когда становятся полновластными хозяевами. Его талант, его способности — это способности менеджера. Сила его в том, что он может организовать, собрать людей. Он не исследователь-одиночка. Такие люди тоже есть. Он на них опирался. Не помню никого, кто был явно им недоволен. Он был способен и командовать — все необходимые для этого качества у него имелись. Но умел и выслушать людей. У него неплохой вкус в смысле подбора кадров. Примаков знал, как расположить к себе коллектив, он заставлял подчиненных работать, но и заботился о них. Я бывал с ним в заграничных командировках, он был общителен, задушевен в личном общении.
— Насколько точно он представлял себе картину мира? Что было для него важным — его любимый Ближний Восток? — спросил я Дилигенского.
— Многие годы работы в институте, я думаю, обусловили то, что горизонты у него глобальные, — ответил он. — Институт такой. Примаков давно вырос из региональщика в международника широкого профиля. Когда он стал директором, то подчеркнуто отодвигал от себя ближневосточные сюжеты. Занимался больше глобалистикой, разоружением.
— Он подбирал свою команду и повсюду расставлял своих людей? Или умудрялся мобилизовать весь коллектив, не устраивая перетрясок?
— У него не было такого: это моя команда, все остальные не считаются, — сказал Герман Дилигенский. — Не помню, чтобы при Примакове были какие-то привилегированные группы или отделы. Но были люди, которым он доверял. Причем это не связано с личными пристрастиями. Я знаю коллег, которые не имели с ним никаких личных отношений и которых он продвигал. Просто ценил их деловые качества и доверял их оценкам. Но есть люди, которые ушли из института и жаловались на жесткость Примакова.
— Как считали в институте: его стремительная карьера связана с его личными достоинствами или кто-то ему явно благоволил и помогал идти вверх?
— Евгений Максимович обладал гениальным даром завоевывать расположение и особенно наверху. Я думаю, его карьера — результат его личных способностей.
— В чем же был его секрет? В умении говорить, предложить хорошую идею?
— Я думаю, в умении показать свою полезность, в том числе в выдвижении идей. Это и деловые качества, и такие трудно описываемые способности, как умение общаться с людьми, в частности с начальством.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ СОВЕТНИК КРЕМЛЯ
Звездный час, тот единственный шанс, который дает судьба и который так легко упустить, совпал у нескольких наших видных политиков с тривиальной пьянкой в новом доме, построенном Управлением делами ЦК КПСС в престижном районе столицы.
Сейчас уже трудно установить, был ли в тот вечер будущий генеральный секретарь и первый президент Советского Союза действительно пьян или же удержался в рамках разумной достаточности. Тот, кто наливал, молчит. Будущий президент, не отрицая самого факта употребления горячительных напитков по случаю полувекового юбилея старого друга по комсомолу, выражался туманно:
— Как у нас такие даты отмечаются, известно. По-русски — широко, с обильным угощением, дружеским разговором, с шуткой и песней… Нравы того времени были таковы, что выпивать приходилось не так уж редко. Но мое состояние было вполне нормальным.
Пока будущий президент гулял, определялась его судьба. Перспективного политика пожелал видеть генеральный секретарь, чтобы окончательно решить: повышать или не повышать. На поиски бросили весь могучий аппарат ЦК КПСС, но проходил час за часом, а будущий президент как в воду канул.
Через много лет после этой судьбоносной пьянки сразу несколько мемуаристов пожелали рассказать о ней всю правду.
Первым свою версию изложил бывший помощник Горбачева, а потом предавший его активист ГКЧП Валерий Иванович Болдин в книге «Крушение пьедестала».
В 1978 году, пишет Валерий Болдин, крепко выпив и поскандалив с женой, ночью скончался от инфаркта член политбюро и секретарь ЦК по сельскому хозяйству Федор Давыдович Кулаков. На смотрины в Москву привезли кандидата в преемники — первого секретаря Ставропольского крайкома партии Михаила Сергеевича Горбачева.
О причинах вызова в столицу он, наверное, догадывался, но определенно никто ничего не говорил. Отлучаться из гостиницы не возбранялось. Всё же держалось в большом секрете. Посему в решающую минуту кандидат исчез. Ушел утром из гостиницы — и пропал. Брежнев был недоволен, Черненко злился. Речь уже зашла о том, чтобы привести к генеральному секретарю другого кандидата — полтавского секретаря Федора Трофимовича Моргуна, который гостиницу не покидал.
— Неизвестно, чем бы всё кончилось, но знатоки жизни членов ЦК отыскали водителя машины, отвозившего Михаила Сергеевича, выяснили, кто живет в том доме, куда его доставили, и тогда определили, где он может быть, — вспоминал Валерий Болдин, намекая на некую фривольность поведения своего бывшего начальника, вырвавшегося на свободу из-под надзора Раисы Максимовны.
А кто же нашел Горбачева?
Виктор Васильевич Прибытков, бывший первый помощник Черненко, недолго занимавший столь высокий пост и переброшенный при Горбачеве из ЦК КПСС в цензуру (Главлит), горько сожалел о содеянном в книге «Аппарат».
Виктор Прибытков вспоминал, как Черненко гневно сказал ему:
— Если за тридцать минут не найдешь Горбачева, то у нас есть и другие кандидатуры на секретарство!
Исполнительный Прибытков отыскал Горбачева. Но не допросив шофера (версия Болдина), а обратившись к своему приятелю, работавшему в ту пору у Горбачева в Ставрополье. Тот и подсказал, где искать шефа — на квартире одного ставропольца Марата Владимировича Грамова, заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК и будущего председателя Госкомитета по спорту.
«Веселенький» Горбачев успел вовремя попасть на Старую площадь, получил аудиенцию у Черненко, и на следующий день на пленуме ЦК Михаила Сергеевича сделали секретарем ЦК КПСС. Началось его восхождение к власти.
— Если бы я тогда оказался чуть менее расторопным, всё сложилось бы по-иному, — вздыхает Прибытков. — Кто знает, поищи я его чуть дольше, и стал бы секретарем ЦК КПСС совсем другой человек. Черненко потом поминал мне эту историю: ну, вот нашел ты его. Вот так, со смехом…
Сам Михаил Горбачев с этой же исторической пьянки начал свой увесистый мемуарный двухтомник «Жизнь и реформы». По версии Горбачева, не было ни болдинского шофера, ни телефонного звонка Прибыткова. Просто опоздавший на дружескую вечеринку товарищ сказал Горбачеву, что его давно ждут в ЦК. Михаил Сергеевич покинул гостеприимных хозяев и поехал к Черненко.
Конечно же, мемуары политиков — весьма сомнительный с точки зрения познания истины источник. Но тот день был действительно звездным в судьбе Горбачева. Он сделал первый шаг к тому, чтобы стать самостоятельным политиком и изменить судьбу страны. В определенном смысле это был звездный час и для мелких аппаратных чиновников, которые могли бы, наверное, при желании и при благоприятном для них стечении обстоятельств сломать Горбачеву карьеру. И для тех, кто, напротив, уверен, что помог Михаилу Сергеевичу добраться до Кремля.
Некоторые знатоки утверждают, что и Евгений Максимович Примаков сыграл свою роль в том, что Горбачев пришел к власти.
Сын покойного министра иностранных дел Андрея Андреевича Громыко — Анатолий Громыко, член-корреспондент Академии наук, лауреат Государственной премии, в 1985 году был директором Института Африки.
— Примаков обладал аналитическим умом и тонким чутьем, я бы даже сказал, невероятным нюхом на аппаратные игры не только в академии, но и на Старой площади, — рассказывает Анатолий Громыко. — Мы с ним встречались часто. Я всегда помогал Евгению, он — мне…
По словам Анатолия Громыко, в последние дни жизни Черненко к нему в институт приехал Примаков. Разговаривать в служебном кабинете не стал, предложил прогуляться. На Патриарших прудах Евгений Максимович взял быка за рога:
— Анатолий, дело приобретает серьезный оборот. Черненко долго не протянет. Нельзя допустить, чтобы ситуация развивалась сама по себе. Кто придет после Черненко?
Громыко-младший сразу понял: Примаков пришел не просто так, а выяснить, намерен ли Громыко-старший бороться за пост генерального секретаря. Потом в эти разговоры был вовлечен будущий член политбюро Александр Николаевич Яковлев как близкий к Горбачеву человек.
Есть опровергающая версия. В ней активной стороной выглядит сам Громыко.
Считалось, что после Черненко на пост генерального секретаря претендовал член политбюро и первый секретарь Московского горкома Виктор Васильевич Гришин. Возможно, он прикидывал свои шансы как многолетний руководитель самой крупной партийной организации страны.
Но надежду возглавить страну после Черненко питал и министр иностранных дел. Андрей Андреевич Громыко слишком долго просидел в кресле министра и рассчитывал на повышение. Из оставшихся в политбюро ветеранов он, пожалуй, был самым крепким. Когда умер Суслов, именно Громыко хотел занять его место второго человека в партии. Иначе говоря, он не считал, что рожден заниматься одной лишь внешней политикой, и готов был расширить свои полномочия. Но Брежнев его в ином качестве не воспринимал. У Леонида Ильича были свои планы, и в опустевший кабинет Суслова перебрался Андропов.
После смерти Андропова, Черненко и Устинова Громыко считал себя наиболее достойным кандидатом на пост руководителя партии. Андрей Андреевич полагал, что не хуже других способен руководить страной. Он носил, не снимая, почетный значок «50 лет в КПСС», показывая свой солидный партийный стаж. Но Андрей Андреевич не пользовался большой любовью коллег по политбюро. Способность располагать к себе людей не входила в число его главных достоинств.
«Генеральный секретарь Черненко был болен, — вспоминал московский партийный работник Юрий Анатольевич Прокофьев. — Проходило собрание в Кремле в зале пленумов. Собрался очень узкий круг людей, и вместо Черненко с заявлением от его имени должен был выступить Виктор Васильевич Гришин.
Я должен был сидеть в президиуме рядом с Гришиным как первый секретарь райкома партии, а Андрей Андреевич Громыко — рядом с Горбачевым. И вот, когда мы выходили на сцену, Громыко резко отодвинул меня плечом, рванулся из всех сил вперед и уселся рядом с Гришиным. Я, честно говоря, заметался, не зная, куда сесть. Смотрю: место свободное рядом с Горбачевым, я и сел рядом».
Похоже, Андрей Андреевич питал некоторые надежды возглавить страну после Черненко. Бывший председатель КГБ Крючков пишет, как в январе 1988 года ему присвоили звание генерала армии. Подписал указ Громыко как председатель президиума Верховного Совета. Он позвонил Крючкову, поздравил, завязался разговор. Громыко вспоминал Андропова, Устинова. Заметил, что, наверное, скоро уйдет на пенсию:
— Боюсь за судьбу государства. В 1985 году, после смерти Черненко, товарищи предлагали мне сосредоточиться на работе в партии и дать согласие занять пост генерального секретаря ЦК КПСС. Я отказался, полагая, что чисто партийная должность не для меня. Может быть, это было моей ошибкой.
Сыну Андрей Андреевич говорил, что на пост первого человека не претендует:
— Не за горами мое восьмидесятилетие. После перенесенного, как мне сказали врачи, «легкого инфаркта», да еще при аневризме, да еще после операции на предстательной железе думать о такой ноше, как секретарство, было бы безумием. Учти, у меня нет своей партийной или государственной базы, не говоря уже о военной, чтобы побороться за этот пост. Да и не хочется… Гришин, Романов, Горбачев — вот они будут претендовать.
«Я не задавала папе вопросов, была ли у него возможность стать генеральным секретарем партии, — рассказывала дочь Андрея Андреевича. — Как-то, когда папа уже был на пенсии, во время прогулки по лесу кто-то из членов семьи задал ему этот вопрос».
— Чтобы стать генеральным секретарем партии, надо было за это бороться, — ответил Громыко. — У меня уже большой возраст. Если бы я и стал генеральным секретарем, мне потребовалось бы огромное напряжение всех своих физических сил. Моего здоровья хватило бы только на год работы.
Ходят слухи, что он всё же пытался сговориться с председателем Совета министров Николаем Александровичем Тихоновым, который невзлюбил Горбачева и старался помешать его росту. Переговоры держались в секрете и успехом не увенчались. Взаимовыгодный союз с Тихоновым не получился. Тихонов, вероятно, не хотел видеть в кресле хозяина страны министра иностранных дел, считал, что в хозяйстве тот ничего не смыслит.
Громыко понял, что его надежды стать генеральным иллюзорны. Тогда он решил подороже продать свой голос в политбюро, когда будет решающее голосование. Андрей Андреевич исходил из того, что человек — сам кузнец своего счастья, ничего не пускал на самотек и до старости не позволял себе расслабляться.
Громыко сделал ставку на Горбачева. Закулисные переговоры взялся вести его сын Анатолий. Он по-товарищески обратился к Примакову, а тот передал конфиденциальную информацию Александру Николаевичу Яковлеву. Младший Громыко говорил Яковлеву, что отец с уважением относится к Горбачеву, а сам уже устал от МИДа и мог бы поработать в Верховном Совете. Намек был понятен.
А Горбачев колебался. Не спешил с ответом.
Почему он так долго не решался пойти на сделку с Громыко? Опасался, не ловушка ли это, не провокация?.. Положение Михаила Сергеевича в тот момент было настолько шатким, что, казалось, оставшиеся в политбюро старики из чувства самосохранения вот-вот выставят его из партийного руководства. А был такой момент, когда пошли неясные слухи: Горбачева то ли переведут в Совет министров заниматься сельским хозяйством, что поставит крест на его политической карьере, то ли вовсе отправят послом.
Горбачев спрашивал руководителя кремлевской медицины академика Чазова о состоянии здоровья Черненко:
— Сколько он еще может протянуть — месяц, два, полгода? Ты же понимаешь, что я должен знать ситуацию, чтобы решать, как действовать дальше.
Чазов не мог дать точного ответа. Михаил Сергеевич нервничал: ему надо было заключать союз с кем-то из влиятельных членов политбюро. Но для этого нужно было выбрать правильное время.
За несколько дней до смерти у Черненко развилось сумеречное состояние. Стало ясно, что его дни сочтены. Чазов позвонил Михаилу Сергеевичу. Предупредил: трагическая развязка может наступить в любой момент. Для Горбачева и его окружения наступило время действовать.
Вот тогда тайная дипломатия директоров трех академических институтов дала свои плоды. Горбачев передал через Яковлева — а тот дальше по цепочке Евгений Примаков — Анатолий Громыко, что высоко ценит Андрея Андреевича и готов сотрудничать. Иначе говоря, Горбачев принял условия старшего Громыко. После этого они встретились.
«Вечером на даче в Заречье, накануне заседания политбюро, где должен был быть решен вопрос об избрании нового генерального секретаря партии, раздался телефонный звонок, — пишет Эмилия Громыко-Пирадова. — Михаил Сергеевич Горбачев просил папу о срочной встрече. Папа, мама и я сидели в столовой и пили чай. Папа тотчас прошел в прихожую, надел пальто и выехал в город. Вернулся он где-то около двенадцати часов ночи».
Анатолий Громыко утверждает, что в результате этих закулисных переговоров Горбачев и Громыко-старший достигли договоренности. После смерти Черненко Громыко выдвигает Горбачева на пост генерального секретаря, а сам не только не уходит на пенсию, как другие члены брежневского руководства, а, напротив, получает почетный пост председателя Верховного Совета СССР, то есть формально становится президентом страны. Должность безвластная, но она чудесно увенчала бы его блистательную карьеру.
Одиннадцатого марта 1985 года на заседании политбюро, после того как академик Чазов изложил медицинское заключение о смерти Черненко, слово неожиданно взял Андрей Андреевич:
— Конечно, все мы удручены уходом из жизни Константина Устиновича Черненко. Но какие бы чувства нас ни охватывали, мы должны смотреть в будущее, и ни на йоту нас не должен покидать исторический оптимизм, вера в правоту нашей теории и практики. Скажу прямо. Когда думаешь о кандидатуре на пост генерального секретаря ЦК КПСС, то, конечно, думаешь о Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Это был бы, на мой взгляд, абсолютно правильный выбор.
Громыко произнес настоящий панегирик будущему генсеку. Этого оказалось достаточно: в политбюро не было принято спорить и называть другие имена.
Министра иностранных дел поддержал председатель КГБ Чебриков:
— Я, конечно, советовался с моими товарищами по работе. Ведомство у нас такое, которое хорошо должно знать не только внешнеполитические проблемы, но и проблемы внутреннего, социального характера. Так вот с учетом этих обстоятельств чекисты поручили мне назвать кандидатуру товарища Горбачева Михаила Сергеевича на пост генерального секретаря ЦК КПСС. Вы понимаете, что голос чекистов, голос нашего актива — это и голос народа.
Члены политбюро единодушно проголосовали за Михаила Сергеевича.
Потом Громыко, уйдя на пенсию, будет ругать Горбачева. Но Михаил Сергеевич честно выполнил свои обязательства перед Громыко. Он оставил престарелого Андрея Андреевича в политбюро и сделал председателем президиума Верховного Совета СССР. Благодаря этому Громыко еще три года провел на Олимпе, тогда как других членов прежней команды Горбачев сразу разогнал.
Возможно, впрочем, что Громыко-младший, как это нередко случается с мемуаристами, несколько преувеличивает роль и отца, и собственную в приходе Горбачева к власти…
Сам Горбачев нисколько не сомневается, что вся история с пьянкой, долгими поисками, недовольством Черненко не могла остановить его политического взлета. Перемены в стране должны были произойти, он был призван их осуществить. И многие с ним согласятся.
Впрочем, кто может с уверенностью ответить: а что бы произошло, если бы Виктор Прибытков не нашел Горбачева на дружеской вечеринке в новом цековском доме в престижном районе столицы, а Громыко на первом после смерти Черненко заседании Политбюро не предложил избрать его генеральным секретарем?..
Судьба Евгения Максимовича Примакова явно сложилась бы иначе. Вполне вероятно, что он, подобно своему предшественнику академику Гафурову, до конца дней работал бы директором Института востоковедения. При тогдашней партийной власти дальнейший служебный рост Примакова едва ли был бы возможен.
Считалось, что Примаков близок к верхам, что он днюет и ночует в ЦК, что он свой человек в КГБ. Но это далеко от истины. Взаимоотношения с властью были не слишком приятными. В партийном архиве сохранились и такие материалы:
«ЦК КПСС
К директору Института востоковедения АН СССР академику Е. М. Примакову обратился московский корреспондент газеты «Крисчен сайенс монитор» с просьбой взять у него интервью.
Просим ваших указаний».
К обращению приколота записка международного отдела ЦК: «Руководству Института востоковедения Академии наук СССР разъяснено о нецелесообразности данного интервью».
Академик Примаков, директор крупного института, занимавшегося международными делами, не имел права встретиться с корреспондентом влиятельной американской газеты и дать ему интервью без санкции партийного руководства…
Когда Александр Николаевич Яковлев был назначен заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС, возник вопрос о новом директоре Института мировой экономики и международных отношений.
— Я предложил Примакова, — вспоминал Яковлев. — Но не все были согласны с этой кандидатурой. Нет, не все. С некоторой настороженностью отнесся Комитет госбезопасности. В то время все эти назначения согласовывались. Они в КГБ не то что были откровенно против. Они, скажем так, считали, что другие кандидатуры лучше…
Яковлев умел настоять на своем. Весной 1986 года Примаков был назначен директором института. Исторически и биографически Примаков до перестройки принадлежал к либеральному крылу истеблишмента. К этой группе относились и покойный Николай Иноземцев, и Георгий Арбатов. Они были вхожи в коридоры власти, но придерживались иных взглядов, чем партийное руководство. То, что начал Горбачев, было очень близко Евгению Максимовичу.
— Я не могу сказать, что мы с Примаковым до перестройки были внутренние диссиденты на сто процентов, что мы хотели свергнуть это правительство, — говорил Томас Колесниченко. — Этого не было, может быть, еще и потому, что мы много бывали на Западе и видели, что так просто перескочить отсюда туда и заиметь всё сразу не получится. Мы честно работали, не переламывая себя. То, что он писал тогда… Думаю, он может и сейчас под этим подписаться. Если я писал о безработице в Америке — так она была, если писал о жутком одиночестве людей, о том, что отцы и дети расходятся, — всё я там видел. Другое дело, что можно было много положительного писать об Америке, но шла война. Пусть это была холодная война, но война, а на войне как на войне. Они тоже не писали о чем-то хорошем у нас. Они долбали нас. И мы находили возможность прихватить американское правительство за Вьетнам, за всё. Конечно, мы совершенно свободно говорили в дружеском кругу такие вещи, за которые можно было сесть. Ну, если не сесть в тюрьму, то потерять работу точно можно было. Мы же видели этот маразм цековский, бездарность верхов, этот партийный середняк. У того же Примакова не было никаких шансов подняться, потому что он не шел по комсомольской линии. А для карьеры надо было сначала в райкоме комсомола посидеть, затем стать инструктором райкома партии…
Примаков заменил Иноземцева не только в кресле директора, но и в роли советчика и консультанта высшей власти. И весь институт, возглавляемый Примаковым, стал работать на политическую линию нового генерального секретаря. Причем работал с удовольствием — Горбачев нравился научной интеллигенции.
Двадцать шестого февраля 1987 года на заседании политбюро Горбачев заявил о необходимости менять внешнюю политику, активно действовать по всем направлениям:
— От наших институтов — от Примакова, Арбатова — потребовать, чтобы они нам давали подробный объективный научный анализ раз в квартал, через каждые сто дней.
Горбачев не раз сетовал на отсутствие точных прогнозов. На заседании политбюро 6 августа 1987 года он говорил:
— В Соединенных Штатах сто миллионов долларов тратят на экономическое прогнозирование. А у нас? Что у нас получается с анализом экономики? В Минфине — одно, в КГБ — другое, и всё это разовое, нет системы. Вот встал перед нами вопрос о прогнозе экономики Соединенных Штатов. И выколачиваем из Арбатова и Примакова. Скорей, скорей…
Я спрашивал академика Яковлева:
— Почему вы привлекли Примакова к работе своего мозгового центра?
— Потому что он был умным человеком. Вот и всё. Когда человеку доверяешь, знаешь: то, что тебе дадут, будет серьезным исследованием. Его доклады были очень сухи. Факты, жесткие факты. Если вывод, то тоже очень сухой. Я бы не смог писать такие доклады, расцветил бы… Я не отношу его к деятелям митинговой демократии. К числу тех демократов, которые свое «я» считают первостепенным. Он никогда себя не выпихивал на первый план: смотрите, мол, я какой. Он в этом смысле был сдержан. Но твердых внутренних убеждений. Его сбить с какой-то точки зрения — возможно, но при больших усилиях и при серьезных аргументах. А так он мало поддающийся каким-то сиюминутным вещам, какой-то моде…
Примакова стали включать в роли эксперта в делегации, которые сопровождали Горбачева во время поездок за границу. Там были разные люди, писателей и деятелей культуры брали для представительства. Примаков не рассматривал такие поездки как форму отдыха и туризма. На узких совещаниях у Горбачева предлагал свежие и неожиданные идеи, но предпочитал держаться в тени. Евгений Максимович сознательно оставался незаметным для широкой публики и не жаждал громкой славы. Ему нравилось заниматься закулисной политикой.
— Во-первых, он был профессионалом, — говорил Александр Яковлев. — Во-вторых, он не лез в друзья, не старался себя показать, подсуетиться. Другим кажется, если суетиться, на них быстрее внимание обратят. Глупости. Даже Брежнев при всех своих ограниченных интеллектуальных ресурсах и то морщился. Использовал таких людей, но морщился… Так вот, я не видел, чтобы Примаков суетился возле какого-нибудь начальника. Посмотрите телевизионную хронику, газеты — не найдете. Я не припоминаю, чтобы он сказал какое-то слово, которое можно было расценить как подхалимаж в отношении Горбачева. Вот после смерти Иноземцева — да, на заседании, посвященном его памяти, он выступал и не скупился на слова.
Горбачев заметил и оценил Примакова, но приблизил его отнюдь не сразу.
— Поначалу Горбачев относился к нему несколько настороженно, — продолжал Александр Яковлев. — До обидности настороженно. Внешне всё нормально, поручения институту давал, но что-то мешало… Михаила Сергеевича вообще трудно понять. Это вещь в себе. Добраться до души Горбачева невозможно — это человек-луковица. Может быть, всё дело в том, что Примаков был близок ко мне, а Михаил Сергеевич не любил, чтобы в его окружении дружили. И на этом органы безопасности очень хорошо играли. Я однажды в выходной день поехал в Калужскую область, грибы собирал. Вдруг звонок в машину. Горбачев: «А почему с тобой Бакатин и Моисеев? Зачем собрались?»
Генерал Моисеев был начальником Генерального штаба, Бакатин — министром внутренних дел… На самом деле никого рядом не было. Яковлев один за грибами ходил. Михаилу Сергеевичу заговоры снились.
Горбачев долго сомневался насчет Примакова, присматривался, прикидывал, можно ли доверять этому человеку, продвигать его.
— В 1988 году подбирали заведующего международным отделом ЦК, — вспоминал Яковлев. — Михаил Сергеевич попросил меня подобрать две кандидатуры. Я предложил Примакова номером один и Фалина номером два.
Валентин Михайлович Фалин — один из самых известных советских дипломатов. Он был послом в Западной Германии, потом работал первым заместителем заведующего отделом внешнеполитической пропаганды (в открытых документах его именовали отделом международной информации) ЦК, очень нравился Брежневу. Но когда родственник Фалина совершил нечто недозволенное, его изгнали из ЦК, отправили обозревателем в газету «Известия».
— Я знаю точно, — продолжал Яковлев, — что выбрали Фалина, потому что Комитет госбезопасности отдал ему предпочтение. Михаил Сергеевич сказал: вноси представление в политбюро на Фалина.
— А потом всё-таки Горбачев расположился к Примакову? — спросил я.
— Потом всё пошло нормально. Но Примаков — нечестолюбивый человек. Никуда особо не стремился.
— Разве у него не было естественного желания сделать политическую карьеру?
— Может быть, внутри что-то и было. Но если заняться анализом его поступков и высказываний, никогда этого не найдешь. Я знаю, что единственное место, где ему хотелось поработать подольше, — это на посту директора института. В этом я к нему присоединяюсь.
Как только Александр Яковлев занял кабинет на Старой площади, он стал постоянно привлекать Примакова к работе над документами, которые стали идеологической базой перестройки. Примакова часто можно было видеть в кабинете помощника Яковлева — Валерия Кузнецова, сына расстрелянного в 1950 году по так называемому «ленинградскому делу» секретаря ЦК ВКП(б) Алексея Александровича Кузнецова.
Пожалуй, ни один из руководителей партии и государства последних десятилетий не становился объектом такой ненависти, как Александр Николаевич Яковлев. Никому не приписывалось столько грехов и преступлений. Горбачева, правда, именовали «князем тьмы», но всё-таки не называли предателем, клятвопреступником и давним агентом американской разведки. В этой роли фигурировал Александр Николаевич Яковлев.
Рядом с ним были люди, обладавшие большой властью и сыгравшие в истории страны большую роль, но ненавидят именно Яковлева. И началось это не в перестроечные годы, а значительно раньше, когда в брежневские времена Яковлев занимал неизвестный широкой общественности, но важный в партийном аппарате пост первого заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС. Иначе говоря, был одним из главных функционеров в сфере идеологии.
В ноябре 1972 года в популярной тогда «Литературной газете» появилась статья Яковлева под названием «Против антиисторизма». Две полосы убористого текста стоили ему карьеры. А ведь статья была написана с партийных позиций и должна была укрепить влияние самого автора. Да и руководители «Литературной газеты» рассчитывали на похвалу со стороны высшего начальства. Помню это очень хорошо, хотя был школьником. Мой отчим работал тогда в «Литературной газете», статья Яковлева шла через его руки, они перезванивались.
Поначалу газета «Правда», главный партийный орган, поддержала статью Яковлева. Но потом в политбюро началась невидимая миру схватка, которая закончилась тем, что автора статьи сняли с должности и на десять лет отправили в приятную, комфортную, но ссылку — послом в Канаду. Что же такого написал в 1972 году Яковлев, что ему и по сей день поминают эту статью?
Он попал в болевую точку сложных взаимоотношений между партийным аппаратом, КГБ и так называемой русской партией. К концу 1960-х годов партийный аппарат утратил контроль над духовной жизнью общества. Вера в коммунизм даже в самом аппарате сохранилась лишь в форме ритуальных заклинаний. В правящей элите появились две группы.
Особым влиянием пользовались те, кто считал, что лучшие годы страны пришлись на сталинское правление, когда Советский Союз стал великой державой. Сталин — выдающийся государственник, который противостоял всему иностранному. Поэтому нужно возвращаться к его политике и к его методам — никаких послаблений внутри страны и никакой разрядки в международных отношениях. Поклонники вождя оправдывали репрессии, считая, что Сталин уничтожал врагов государства, хотя в реальности главной жертвой Большого террора стало крестьянство.
Рядом со сталинистами появилась и окрепла другая группа, которую в КГБ именовали «русистами» или русской партией. Она считала, что в Советском Союзе в угоду другим национальностям сознательно ущемляются права русских. В этой группе были люди, искренне переживавшие за Россию, писатели и художники, выступавшие против запретов в изучении истории и культуры. Но тон задавали партийные и комсомольские функционеры, считавшие себя обделенными в смысле постов и должностей.
К началу 1970-х в русской партии стали заметны последовательные антикоммунисты, те, кто отвергал не только Октябрьскую, но и Февральскую революцию. Они считали, что 1917 год устроило мировое еврейство, чтобы уничтожить Россию и русскую культуру. Для этих людей Александр Исаевич Солженицын был врагом России и агентом ЦРУ, а председатель КГБ Юрий Владимирович Андропов — сионистом. Они откровенно говорили, что следует вернуться назад, что стране нужна монархия. И эти речи произносились в присутствии партийных секретарей и офицеров КГБ.
Казалось бы, это идеологические противники. Одни — за советскую власть, другие — против. Но нашлась общая платформа — ненависть к Западу и евреям, презрительно-покровительственное отношение к другим народам Советского Союза. И вот по этим настроениям ударил в своей статье Яковлев. Яковлев выражал мнение той части аппарата, которая боялась откровенного национализма, понимая, как опасно поощрять подобные настроения в многонациональном Советском Союзе. И верно: откровенный национализм в конце концов разрушил Советский Союз. Ведь в других республиках внимательно следили за тем, что происходит в Москве. Если одним можно прославлять величие своего народа, своего языка и своей культуры, то и другие не отстанут.
Для Яковлева взрослая жизнь началась в 1941-м. Его отца, который воевал и в Гражданскую, призвали через две недели после сына. Александра Яковлева зачислили курсантом Второго ленинградского стрелково-пулеметного училища, уже эвакуированного из Ленинграда. Ускоренный выпуск, две звездочки на погонах — и в начале 1942-го отправили на Волховский фронт командовать взводом.
В последнем бою старшего лейтенанта Яковлева тяжело ранило. Четыре пули: три в ногу с раздроблением кости, одна в грудь, прошла рядом с сердцем. Два осколка так и остались в легких и в ноге.
«Еще в полевом госпитале, — писал Яковлев, — я подписал согласие на ампутацию левой ноги от тазобедренного сустава, поскольку у меня началась гангрена, нога посинела. Врачи сказали, что другого выхода нет, я равнодушно внимал всему, да и редко бывал в памяти.
Ногу мне спас руководитель медицинской комиссии, посетившей госпиталь как раз в момент, когда я был уже на операционном столе. Старший стал смотреть историю болезни, спросил:
— Сколько лет?
— Девятнадцать, — отвечаю. Говорит:
— Танцевать надо.
Я вижу, ему начали лить воду на руки, а мне на нос накинули марлю…»
За последний бой старший лейтенант Яковлев получил орден Боевого Красного Знамени, инвалидность и на костылях вернулся в родную деревню. Яковлеву предлагали пойти заведовать кадрами на ткацкой фабрике или спиртоводочном заводе. На фабрике давали дополнительный паек, на заводе — корм для коровы. Но отец, тоже раненый и лежавший в госпитале, прислал письмо: пусть идет учиться.
Поступил в Ярославский педагогический институт. Оттуда молодого коммуниста взяли инструктором в обком партии. В 1953 году из обкома забрали в Москву, в ЦК. Яковлев даже побывал за границей, учился в Соединенных Штатах, в Колумбийском университете, потом в Москве, в Академии общественных наук. Яковлев быстро делал карьеру в отделе пропаганды ЦК. Но его положение было трудным. Он не был брежневским человеком. Ходили разговоры о том, что Яковлев принадлежал к группе своего тезки Александра Николаевича Шелепина, соперника Брежнева. Поэтому Брежнев к Яковлеву относился с прохладцей. Это тоже имело значение, когда разгорелся скандал после публикации знаменитой статьи в «Литературной газете».
Статья Яковлева была ортодоксальной. Он обвинял представителей русской партии в отступлении от классовых позиций, в идеализации дореволюционной России. Поэтому его поддержал сталинский соратник Вячеслав Михайлович Молотов. Встретив его в санатории, сказал:
— Статья верная, нужная. Владимир Ильич часто предупреждал нас об опасности шовинизма и национализма.
Но Яковлеву не простили слова об опасности великодержавного шовинизма. Обратим на это внимание. Выразитель партийных взглядов стал внутри партии мишенью хорошо организованной атаки. Это свидетельство того, какие настроения господствовали уже тогда среди партийного руководства. Эти люди сыграли большую роль в разрушении Советского Союза как социалистического и многонационального государства. А против Яковлева были мобилизованы все, кто поддерживал так называемую русскую партию, в том числе влиятельные члены политбюро и сотрудники аппарата.
Обратились к Шолохову, чтобы он написал в ЦК, что Яковлев обидел честных патриотов. Шолохов написал Брежневу, обратив внимание генсека на то, что «особенно яростно, активно ведет атаку на русскую культуру мировой сионизм, как зарубежный, так и внутренний».
Позиция Яковлева полностью соответствовала партийной линии. Но главному радетелю партийной чистоты Михаилу Андреевичу Суслову не понравилась самостоятельность Яковлева. Кто ему поручал писать статью? Зачем он устроил ненужную полемику? Превыше всего ценились осторожность и умение вообще не занимать никакой позиции.
«Демичев трусливо отступил, “сдал” Александра Николаевича, — вспоминал мой отец. — А ведь Демичев читал статью предварительно, мы в “ЛГ” трижды ставили ее в номер и трижды снимали. Вел статью я — в порядке исключения, старался что-то отшлифовать, обезопасить автора. Да, Яковлев не напрасно волновался, решив опубликовать свою острейшую статью. Расплатился он не так уж сильно — его отправили послом в Канаду, но в тогдашней идеологической ситуации это была серьезная потеря.
На заседании политбюро Брежнев представил дело так, что Яковлев будто бы сам попросился на дипломатическую работу. “Поперед батьки не забегай” — это правило безотказно действовало не только в колхозах».
Годы, проведенные в Канаде, произвели сильное впечатление на советского посла. Он думал: если эти люди сумели так славно устроить свою жизнь, почему мы-то не можем?
Иностранная жизнь влияла даже на самых преданных марксистов. Недаром Сталин никого не хотел выпускать за границу и не любил, когда иностранцы приезжали. Он говорил создателям фильма «Иван Грозный» режиссеру Сергею Эйзенштейну и исполнителю главной роли Николаю Черкасову:
— Иван Грозный был национальным царем, предусмотрительным, он не впускал иностранное влияние в Россию, а вот Петр открыл ворота в Европу и напустил слишком много иностранцев.
В мае 1983 года знакомиться с успехами канадцев в сельском хозяйстве приехал новый секретарь ЦК Михаил Сергеевич Горбачев. И подпал под обаяние Яковлева. Михаил Сергеевич увидел человека острого ума, прекрасно формулирующего свои мысли, и очевидного единомышленника. Они оба считали, что дальше так жить нельзя. Юрий Андропов был тяжело болен, и Горбачев строил далекоидущие планы. Ему нужно было выйти за рамки своей специализации — секретаря по сельскому хозяйству. Он нуждался в новой команде, способной расширить его горизонты.
Яковлева вернули в Москву. Он стал одной из главных фигур в мозговом тресте Горбачева. Яковлев был одним из тех, кто подпитывал его идеями, снабжал информацией, работал над его речами и статьями. Яковлев и привел Примакова к Горбачеву…
Политическая карьера Примакова началась в 1989 году. Четыре года понадобилось Горбачеву, чтобы распознать таланты и человеческие качества Евгения Максимовича.
В мае 1989 года Горбачев поехал в Пекин, чтобы встретиться с патриархом китайских реформ Дэн Сяопином и нормализовать советско-китайские отношения. Это было историческое событие и для России, и для Китая. Примакова Горбачев взял с собой.
Разговор с Дэн Сяопином сам по себе дорогого стоил. Дэн, фактически управляя Китаем, так и не занял ни одного из главных постов в партии и государстве.
— Люди хотели, чтобы я стал председателем партии, — говорил Дэн, — но я слишком стар для этого.
Жизненный путь Дэна — это мечта биографа. Война, революция, взлеты и падения, фантастические успехи и личные трагедии. Казалось, жизненной энергии в нем хватит на века. Он родился в семье отнюдь не бедного человека. Прекрасно учился в школе. В 1920 году отправился во Францию, где вступил в компартию, полюбил круассаны и пристрастился к игре в бридж. В 1925 году Дэн перебрался в Москву, чтобы учиться в Университете имени Сунь Ятсена, это было время ленинского нэпа. В Москве его и других иностранных учащихся-коммунистов хорошо кормили, им выдали пальто, ботинки, плащ, зимнюю одежду. Каждому студенту в Москве давали русскую фамилию. Дэн стал Дозоровым. Его избрали парторгом группы, но в конце 1926 года отозвали в Китай, и для него началась жизнь в подполье.
Он отличился еще во время войны. В 1943 году в зоне, которую контролировали части китайской Красной армии, Дэн впервые начал борьбу за повышение урожая. Он предложил платить премии тем, кто собирал больший урожай. В 1955 году Дэна избрали членом политбюро. Когда Мао Цзэдун приехал в Москву в 1957-м, он показал Хрущеву Дэна:
— Посмотрите на этого маленького человека. Он очень умный, и у него большое будущее.
Когда речь шла о политике, о роли партии, Дэн оставался доктринером. Он поддерживал Мао во всём, поддержал и идею «большого скачка», что закончилось катастрофой для экономики. Но в начале 1960-х Дэн стал задумываться о том, как привести экономику в порядок, и это оттолкнуло от него Мао. Наказание последовало незамедлительно.
В разгар «культурной революции» на митинге в Пекине Дэна заставили каяться в проведении буржуазной линии. Он покорно повторял:
— Мои ошибки — не случайность, а проявление определенного стиля в работе.
Самокритика не помогла. Дэн Сяопин лишился всех постов. Его младший брат, не выдержав издевательств со стороны хунвейбинов, покончил с собой. Хунвейбины измывались и над Дэном. Но его не уничтожили. За пределами Китая не понимали, почему Мао не расстреливал врагов, а лишь заставлял их каяться. Дело в том, что если китаец теряет лицо, он теряет больше, чем может себе представить европеец.
Старшего сына — Пуфана, студента физико-технического факультета Пекинского университета, хунвейбины доставили в свой штаб и стали пытать. Дети Дэна называли этот штаб «фашистским концлагерем». Пуфан не выдержал издевательств и выпрыгнул из окна. У него был перелом трех позвонков. Ему требовалась срочная операция, но одна больница за другой отказывались принимать сына Дэн Сяопина. Время было потеряно, и его парализовало, юноша стал инвалидом…
В октябре 1969 года Дэн Сяопина с женой отправили (подробнее см. книгу В. Усова «Дэн Сяопин и его время») на перевоспитание физическим трудом в провинцию Цзянси. Жили они под присмотром сотрудников госбезопасности. Встречаться и разговаривать с кем-либо им запретили. В ноябре им нашли работу — в мастерских по ремонту тракторов. Дэн слесарил, как когда-то на заводе «Рено» во Франции. Его жену определили в бригаду электромонтеров. Дэн помалкивал и старался сохранить здоровье, чтобы пережить опалу.
Над искалеченным Пуфаном продолжали измываться. Его выкинули из больницы и мучили, пока, наконец, кто-то из высшего начальства не распорядился отправить несчастного юношу к родителям. Они не виделись пять лет… Дэн трогательно ухаживал за ним, переворачивал каждые два часа, чтобы не образовались пролежни, обтирал его полотенцем, потому что в провинции Цзянси жарко и влажно.
Дэн много читал. Часами ходил по двору и думал. Видимо, тогда в нем созрели идеи, которые потом помогут Китаю ожить…
В 1973 году Дэн вдруг появился в Пекине в роли вице-премьера. Его реабилитировали, потому что кто-то должен был заниматься развалившейся экономикой. Но в 1976 году его вновь сняли со всех постов — старая гвардия не принимала его идей модернизации. Смерть Мао открыла Дэну путь наверх.
Разговаривать с Дэн Сяопином было очень интересно, но невероятно трудно. Китайцы не уверены, что разум западного человека способен постичь сложность любой ситуации. Здесь — загадочное для европейца лицо Дальнего Востока, лицо, лишенное в своей застывшей непроницаемости всяких признаков «зеркала души». Показать, что творится в твоей душе — значит нарушить всякие приличия, потерять свое «лицо». Дерево дорожит своей корой, человек — своим лицом, говорят китайцы.
Переговоры с китайцами напоминают тщательно отрепетированную пьесу, в которой нет ничего случайного и в то же время всё выглядит экспромтом. Китайцы помнят каждое ваше слово. В свою очередь, каждое замечание, сделанное китайцами, является как бы частью мозаики, общей картины. У европейцев создается впечатление, будто они ведут бесконечный разговор с неким единым организмом, который всё помнит и, кажется, обладает неким единым, интегральным интеллектом. Это порождает трепет и бессилие перед подобной самодисциплиной и преданностью своему делу. Миллиардный Китай вообще внушает благоговейный страх.
Другая древняя китайская традиция — никогда не показывать, что существует какая-либо необходимость в сотрудничестве с иностранцами. Предложения, с которыми китайцы соглашаются, выполняются с поистине волшебной эффективностью. Другие идеи просто растворяются в непробиваемых облаках приторно-вежливых фраз.
Советская делегация оказалась в Пекине в один из самых драматических моментов в истории страны. Когда КПСС стала разваливаться, пекинские консерваторы заметались, запаниковали. Дэн Сяопин сохранял хладнокровие. Он сделал для себя вывод, что распад социализма в СССР связан с политическими реформами, а не с экономическими. Китай сможет провести свое судно в бурных водах. В отличие от всех иных марксистских лидеров Дэн не считал себя теоретиком, открывателем вечных истин. Он был прагматиком и сторонником постепенных перемен. Он никогда не выражал сомнения в верности марксизму-ленинизму, но считал, что идеология должна развиваться вместе с развитием общества. Он жестко выступал против буржуазной либерализации, считал, что страна может развиваться при однопартийной системе, без свободы печати и свободы слова. Однако он же позволил начаться послаблениям, которые привели к массовым манифестациям на площади Тяньаньмэнь.
Горбачев прилетел в Пекин 14 мая 1989 года. А с 4 мая главную площадь китайской столицы Тяньаньмэнь (Площадь небесного согласия) заняла восставшая молодежь. Это был откровенный протест против власти. Китайские студенты требовали не только экономических, но и политических реформ. Студенческое восстание — необычно для китайцев. К чему шуметь и волноваться, если изменить что-либо ты всё равно не сможешь. Пока над страной бушует буря — бамбук гнется, наступит затишье — он снова выпрямится. Расторопность и приспособляемость позволяют китайцам спокойно встречать любые неожиданности. Кажется, нет ничего на свете, что могло бы разозлить китайца. Он наделен редкой способностью не принимать неприятности близко к сердцу и оберегать себя от того, что могло бы вывести его из внутреннего равновесия.
В 1989 году китайская молодежь брала пример с Советского Союза. Для китайских студентов Горбачев был кумиром и образцом. Разочарованные нежеланием власти вступить в диалог, они решили воспользоваться приездом в Пекин советского гостя и днем 13 мая, накануне его прилета, начали на площади Тяньаньмэнь коллективную голодовку. Сначала их было две сотни человек, через несколько дней — уже три тысячи. Число участников голодовки непрерывно росло. На четвертый день некоторые из них стали терять сознание. Боялись, что кто-то из юношей может умереть.
Приехавшие освещать визит Горбачева телевизионные группы рассказывали всему миру о происходящем в Пекине.
Студенты всячески заманивали к себе Горбачева, просили его выступить перед ними на площади Тяньаньмэнь, гарантируя порядок и безопасность. Официальные власти были, разумеется, против. Окружение Михаила Сергеевича тоже не советовало ему этого делать.
Виталий Игнатенко рассказывал:
— На площади Тяньаньмэнь собралась молодежь. Люди всё прибывали. Когда прилетел Горбачев, возникла идея: а не попросить ли его выйти на площадь, обратиться к студентам? Первый, кто сказал, что этого ни в коем случае делать нельзя, был Примаков.
Неясна была позиция Дэн Сяопина. Он вроде бы поддерживал политиков, которые хотели либерализации. Назначенный им генеральным секретарем ЦК КПК Чжао Цзыян ратовал за создание нового экономического механизма, социалистической рыночной системы. Но генеральному секретарю открыто противостоял премьер Госсовета (глава правительства) Ли Пэн, который был сторонником снижения темпов реформы, использования элементов старой хозяйственной системы и административно-командных рычагов. До событий на площади Тяньаньмэнь Дэн Сяопин придерживался формулы «идти на двух ногах».
Если бы Горбачев поддержал восставших пекинских студентов, это принесло бы ему уважение всех правозащитных организаций в мире, но межгосударственные отношения с Китаем были бы испорчены надолго. А в ходе визита были полностью восстановлены отношения между двумя странами и поставлена точка в территориальном споре, из-за которого когда-то пролилась кровь — и не только на Даманском.
Сразу после отъезда Горбачева в некоторых районах Пекина ввели военное положение. А в ночь с 3 на 4 июня армия и полиция, применив бронетехнику, очистили площадь от студентов. Больше двухсот человек погибли. Дэн пожертвовал своим ставленником генеральным секретарем Чжао Цзыя-ном, который лишился всех постов…
Всеволод Овчинников рассказывал, что в Пекине они встретились с Примаковым в довольно узком кругу — у советского посла в Китае Олега Александровича Трояновского. И там Евгений Максимович поведал о разговоре с Горбачевым, который, не раскрывая карт, сказал, что у него с ним связаны кое-какие планы…
После поездки в Индию Примакова попросили выступить перед аппаратом отдела ЦК по работе с заграничными кадрами и выездам за границу. Заведующий отделом Степан Васильевич Червоненко, очень в ту пору влиятельный, проводил его до лифта, что все отметили. А его заместитель по-дружески предупредил Евгения Максимовича:
— Вас ждет назначение послом в Индию.
Евгений Максимович позвонил министру иностранных дел Эдуарду Амвросиевичу Шеварднадзе и наотрез отказался — индийский климат был противопоказан его жене Лауре Васильевне, страдавшей тяжелым сердечным заболеванием. Шеварднадзе отнесся к его просьбе с пониманием. Но Горбачев уже принял решение выдвигать Примакова.
В мае 1989 года генеральный секретарь связался с Евгением Максимовичем по телефону и заговорил о работе в Верховном Совете. Примаков думал, что речь идет о Комитете по международным делам, и согласился. Но Горбачев предложил куда более важный пост — возглавить одну из палат только что избранного парламента. Анатолий Иванович Лукьянов, считавшийся ближайшим соратником Горбачева, потом говорил, что это он предложил использовать Примакова в Верховном Совете.
Это был, конечно, крутой поворот в его жизни. 10 июня 1989 года новый Верховный Совет начал работу с избрания председателей палат. Горбачев предложил на пост председателя Совета Союза Евгения Максимовича Примакова, ставшего народным депутатом по списку КПСС (сто партийных депутатов получили свои мандаты безальтернативно, посему именовались «красной сотней»).
Примакову задали много вопросов. Отвечал он толково, уверенно. Избрали его почти единодушно при трех воздержавшихся. Горбачев уступил ему председательское место, и Примаков повел заседание дальше.
Евгений Максимович неохотно согласился на пост председателя Совета Союза. И вскоре убедился, что был прав в своих сомнениях. Несколько раз говорил друзьям, что был бы рад поскорее избавиться от этой должности. Чувствовал себя неуютно. Повторял:
— Это не мое.
Самые важные заседания Верховного Совета проводились совместно, их вел или сам Горбачев, или его первый заместитель Анатолий Иванович Лукьянов, общение с которым было лишено приятности. Председатели палат должны были присутствовать при сем, сидеть в президиуме и в случае необходимости ассистировать, то есть в основном помалкивать. Но и когда палаты заседали раздельно и для председателя Совета Союза находилось занятие, эта работа вовсе не вдохновляла Примакова. И многие депутаты были недовольны его манерой ведения заседаний, обижались, говорили, что мрачный спикер их поучает.
Вот как об этом периоде своей жизни рассказывал мне сам Примаков:
— Знаете, из-за чего мне не нравилось работать в Верховном Совете? Из-за телевизионщиков. Я сидел за трибуной, за выступающим. А тогда был всплеск интереса к работе Верховного Совета, так что когда я потом смотрел телевизионный отчет о заседании, то всё время видел себя засыпающим… А действительно, иногда хотелось заснуть. Это очень трудно — высидеть целый рабочий день, не вставая, и слушать. Словно летишь на самолете из Москвы в Токио. Но в самолете можно журнал почитать, тебе виски наливают. Или водки — это еще лучше… А здесь только сидишь. Когда я пришел в Верховный Совет, начиналась его демократизация. Мне казалось, что я могу вести заседание, как в Академии наук: приглашать выступить, затем сделать резюме сказанного и предложить другим обсудить эти идеи. Мне сразу сказали: кто ты такой? Ты должен предоставлять депутатам слово и больше ничего… Вот такая была моя должность на виду — беспрерывное сидение. Кроме того, конечно же была и серьезная законодательная работа, которая проходила без присмотра телекамер. Но я всё равно взмолился, сказал: не могу больше! Хотя это была почетная должность…
Джордж Буш-старший вспоминал, как в конце мая 1989 года в роли президента Соединенных Штатов принимал в Белом доме Примакова:
«В ходе частного обеда в честь председателя Совета Союза Верховного Совета СССР Примакова в моей личной столовой после двух порций шоколадного торта у Брента Скоукрофта глаза стали стекленеть. Нельзя было сказать, что он уснул, но Примаков заметил его усилия и улыбнулся мне. Он всё понял».
Евгений Максимович сам ненавидел протокольные мероприятия и понимал тех, кто от этого страдал. Советник американского президента по национальной безопасности Брент Скоукрофт очень много работал и очень мало спал, поэтому часто засыпал прямо на совещаниях.
Между председателями обеих палат Верховного Совета (партнером Примакова, руководителем Совета национальностей являлся весьма колоритный бывший секретарь ЦК компартии Узбекистана Рафик Нишанович Нишанов) были распределены обязанности. Примаков занимался международными связями Верховного Совета и социально-экономическим законодательством. Тогдашний американский посол в Москве Джек Мэтлок отметил в своих мемуарах:
«Специалист по Ближнему Востоку, Евгений Примаков оставил кресло директора Института мировой экономики и международных отношений и стал председателем Совета Союза нового Верховного Совета, должность, примерно соответствующая спикеру палаты представителей».
Но спикер палаты представителей конгресса США куда более влиятельная персона. В Москве реальная политика по-прежнему вырабатывалась в аппарате Горбачева. Но и в окружении Михаила Сергеевича, и в Верховном Совете мало кто мог прогнозировать, как будут развиваться события в стране.
Американского посла интересовало, как советское руководство будет реагировать на требование трех прибалтийских республик вернуть им независимость.
«Примаков, — пишет Мэтлок, — считал, что экономическая автономия, предоставленная трем прибалтийским государствам с 1 января 1990 года, окажет целительное воздействие. Прибалты убедятся, полагал он, что без остального Союза у них ничего не выйдет, это осознание приведет их в чувство, и крики об отделении утихнут».
В то бурное время возникали и другие сложные проблемы. Томас Колесниченко рассказывал:
— Когда он был председателем палаты, Бориса Ельцина травили, и Примаков мог этой кампании подыграть. Он никогда этого не делал! И судьба это учла — Ельцин стал его уважать. Примаков никогда никому подлости не делал, он на каждой должности оставался человеком.
Впрочем, в столкновении Горбачева и Ельцина Евгений Максимович был на стороне Михаила Сергеевича. На заседании политбюро 3 мая 1990 года Примаков советовал:
— Надо вытащить Ельцина на теледебаты, задать ему «неудобные» вопросы — о Литве, о Курилах.
Председатель КГБ Владимир Александрович Крючков выразил опасение насчет предоставления Ельцину телеэфира:
— Надо быть осторожным, он — популист, может легко вывернуться, а влияние на обывателя у него большое.
Но Примаков считал, что Ельцина можно одолеть:
— Его спросили, собирается ли он привезти в Советский Союз презервативы. Он ответил, что ему это уже не нужно. В любой стране каждый кандидат в президенты провалился бы моментально, признавшись в своей импотенции…
В сентябре 1989 года Примакова избрали кандидатом в члены политбюро. Евгений Максимович отнесся к этому спокойно, хотя это было вознесением на политический ОЛИМП. Когда он после пленума ЦК вышел на улицу, его уже ждала не «чайка», а ЗИЛ с охраной.
Один знакомый профессор встретил его после пленума. Искренне пожал ему руку:
— Поздравляю, Евгений Максимович!
Тот недоуменно переспросил:
— С чем?
— Как с чем? С избранием в политбюро!
— Думаете, что нужно поздравлять?
Как положено по номенклатурным правилам, Примаков полетел в отпуск уже не обычным рейсом «Аэрофлота», а спецсамолетом в сопровождении охраны. Собственный самолет полагался всем членам и кандидатам в члены политбюро. Но газета «Рабочая трибуна» написала о том, что на спецсамо-лете летает официальный борец с привилегиями Евгений Максимович Примаков. В роли председателя Совета Союза он возглавил парламентскую комиссию по привилегиям (секретарем комиссии стала Элла Панфилова, так началась ее политическая карьера). А депутаты и пресса требовали покончить с привилегиями партийно-государственного начальства. Эта история не улучшила отношения Примакова к газетам и журналистам. Он решил, что эта акция организована кем-то из его «доброжелателей»…
На сессии Верховного Совета Примаков подробно доложил депутатам, какие именно привилегии существуют и кто ими пользуется. Речь шла об охране, государственных дачах, медицинском обслуживании и снабжении продуктами. Тогда депутаты требовали всё это отменить, уравнять начальство с простым народом.
Прошли годы, и что же изменилось?
Высших чиновников по-прежнему охраняют и возят на лимузинах со спецсигналами. Они живут на государственных дачах, за которые платят совсем немного. Сохранилась и вся иерархическая система медицинского обслуживания номенклатуры — правительственные санатории и дома отдыха, путевки в которые продаются с большой скидкой. Отменили только столовую лечебного питания. В ней отпала нужда — с началом гайдаровских реформ продукты вернулись в магазины.
Столовая лечебного питания на протяжении многих десятилетий снабжала советскую номенклатуру продуктами хорошего качества. На улице Грановского существовала реальная столовая, которую некогда посещали кремлевские чиновники. Но уже в 1970-е годы там почти никто не обедал, только пенсионеры союзного значения приходили с судками за готовыми обедами.
Основная номенклатура получала там по талонам продукты — любые: готовые, полуфабрикаты и сырые. Там можно было приобрести парную вырезку, зеркального карпа, копченый язык, настоящую докторскую колбасу, фрукты, конфеты и пироги.
Потерять столовую, как и возможность лечиться в системе Четвертого главного управления при Министерстве здравоохранения СССР, было настоящим горем.
В основное здание на улице Грановского пускали только самих чиновников. Жен и детей начальников гоняли хмурые вахтеры. Членам семьи разрешалось отовариваться в двух филиалах, один из которых находился во дворе знаменитого Дома на набережной.
Часов в шесть-семь вечера улица Грановского заполнялась черными «волгами», иногда приезжали «чайки». Высшие чиновники заходили туда с озабоченным видом, а выходили с большими свертками, одинаково упакованными в плотную желтую бумагу и перевязанными бечевкой. Там же находилась парикмахерская. Стригли в ней не очень хорошо, работал всего один мастер, но это считалось весьма престижно — постричься на улице Грановского, а заодно повидать сливки общества и себя показать.
Чиновник, прикрепленный к столовой, вносил в кассу семьдесят рублей и получал взамен маленькую белую книжечку с отрывными талонами на обед и ужин — на каждом талоне стояло число.
Все продукты были сгруппированы в обеденные и ужинные комплексы. Например, на один ужинный талон можно было взять полкило сосисок, полкило докторской колбасы и кусок сыра, а на два обеденных — говяжьей вырезки, которую советские люди старшего поколения не видели много лет, а молодежь не видела никогда.
Министры получали не одну книжечку, а две, что позволяло взять двойное количество продуктов и кормить большую семью. А высшее партийное руководство вообще не показывалось в магазине: достаточно было продиктовать обслуживающему персоналу, что именно нужно, и всё привозили на дом (точнее на дачу) — от свежей клубники до праздничного малокалорийного торта. Этим ведало Девятое управление КГБ…
На долю Примакова доставались еще менее приятные поручения, чем отмена номенклатурных льгот.
Академик Андрей Дмитриевич Сахаров за десять дней до смерти (он скончался 14 декабря 1989 года) принес главному редактору «Известий» Ивану Дмитриевичу Лаптеву письмо. Он просил опубликовать обращение группы народных депутатов. Это был призыв провести двухчасовую забастовку с требованием принять закон о частном владении землей и отменить 6-ю статью Конституции о руководящей роли КПСС. Письмо подписали популярные в ту пору политики — сам Сахаров, а также Владимир Тихонов, Гавриил Попов, Аркадий Мурашев, Юрий Черниченко и Юрий Афанасьев.
Дисциплинированный партийный журналист Лаптев, разумеется, письмо печатать не стал, а доложил в ЦК (через много лет эта история была описана в «Известиях»), Лукьянову, Нишанову и Примакову поручили побеседовать с Сахаровым. Тот попытался убедить руководителей Верховного Совета, что цель забастовки — не менять правительство, а как-то заставить его действовать быстрее:
— Лошадей на переправе не меняют, но их подстегивают. Примаков дал ему отпор:
— Вы говорите — «лошадей подстегивают». Объясните, Андрей Дмитриевич. Вы считаете, что существует такое разделение функций: мы лошади, а вы надсмотрщик, который подстегивает лошадей? Почему вы считаете, что мы находимся в таком положении и нас надо подстегивать, а вы, не участвуя непосредственно в этом процессе, стоите с кнутом и нас подстегиваете, чтобы мы шли побыстрее?
Сахаров объяснил:
— Я говорю, что надсмотрщиком являюсь не я, надсмотрщиком должен быть народ.
Примаков сурово предупредил академика:
— Товарищи, призывая к забастовке, вы встаете на путь обострения и конфронтации. Призывая к забастовке, вы ведете конфронтацию с нами…
Это была одна из последних публичных акций академика Сахарова.
Когда Андрей Дмитриевич скоропостижно скончался, Съезд народных депутатов сформировал комиссию по организации его похорон. Председателем сделали Примакова, как председателя палаты и коллегу-академика. Ему тяжело далась эта непростая миссия. Он плохо себя чувствовал. «Примаков, видимо, простужен, потерял голос и говорил шепотом», — вспоминал физик Анатолий Ефимович Шабад, будущий народный депутат России.
Вдове Сахарова, Елене Георгиевне Боннэр, предложили обычный для высокопоставленных персон ритуал — прощание организовать в Доме союзов, а похоронить на Новодевичьем кладбище. Но в окружении покойного академика возникла другая идея — избежать этого советского ритуала, поэтому попрощаться с Сахаровым во Дворце молодежи, а затем еще под открытым небом, в Лужниках, чтобы могли прийти все, кто пожелает, а похоронить на Востряковском кладбище, где покоятся его родные.
Тут же встал другой вопрос: кто откроет панихиду? По логике — председатель государственной комиссии. Но темпераментный Анатолий Шабад напал на Примакова:
— Считаете ли вы, положа руку на сердце, что вправе это сделать?
Евгений Максимович счел эти слова обидными:
— Я всегда уважал Андрея Дмитриевича и ни в чем перед ним не провинился.
В конце концов предложили открыть митинг ленинградскому академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, прошедшему через сталинские лагеря.
— Я всё равно не могу говорить, — сказал сильно простуженный Примаков.
Сценарий церемонии похорон постоянно менялся, и Примакову досталась незавидная роль вновь и вновь всё согласовывать с городским чиновничьим аппаратом.
— Мы вчера составили один план, потом его поломали, — сетовал он. — Мне пришлось ночью поднимать сотрудников Мосгорисполкома, чтобы всё переделать…
Тогдашний главный редактор «Московских новостей» и народный депутат СССР Егор Владимирович Яковлев вспоминал, что, узнав о смерти Сахарова, попросил раздобыть цветы:
— В зале заседаний Верховного Совета мое место было как раз за стулом Сахарова. Принесли цветы. Мы положили их на пустующий стул Андрея Дмитриевича. В первый перерыв подходит ко мне Евгений Примаков и говорит: «Егор, зачем ты мне устраиваешь спектакль с цветами во время заседания?» Я говорю: «Женя, а не пойдешь ли ты на…?» Он мне ответил теми же словами. Мы с ним старые друзья…
Самое тяжкое испытание на долю Примакова-политика выпало в январе 1990 года. Он впервые должен был принимать решения, когда речь шла в буквальном смысле о жизни и смерти людей.
События в Нагорном Карабахе повлекли за собой кровавые последствия: исход армян из Азербайджана, азербайджанцев из Армении. После армянской резни в Сумгаите, которая осталась безнаказанной, 13 января 1990 года начались армянские погромы в Баку. Они переросли в настоящий бунт, в восстание против слабой и неумелой власти. Выплеснулось долго копившееся недовольство. Это был не только национальный, но и политический, и социальный конфликт.
Руководство республики не могло справиться с происходящим. Горбачев отправил в Баку кандидата в члены политбюро Примакова и нового секретаря ЦК КПСС по национальным делам Андрея Николаевича Гиренко, профессионального партийного работника с Украины. Гиренко прежде руководил Крымским обкомом, а там проблема с крымскими татарами, так что он считался специалистом по национальным делам.
Прилетев в Баку, Примаков и Гиренко сообщили в Москву, что беспорядки продолжаются, местная власть не контролирует ситуацию. Бюро ЦК компартии Азербайджана распространило сообщение:
«В ходе беспорядков и бесчинств, спровоцированных в Баку 13 января, произошли трагические события. От рук преступников погибли люди, главным образом — армяне, имеются десятки раненых. Совершены погромы жилищ… Состоялся чрезвычайный пленум Бакинского горкома партии, в котором приняли участие кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, председатель Совета Союза Верховного Совета СССР Е. М. Примаков, секретарь ЦК КПСС А. Н. Гиренко, первый секретарь ЦК КП Азербайджана А. X. Везиров».
Примаков встречался с активистами оппозиционного Народного фронта Азербайджана, представителями интеллигенции, журналистами.
Восемнадцатого января 1990 года он выступал на митинге, пытался убедить людей, собравшихся на площади, успокоиться и разойтись. Его слушали, но не расходились. Слова не помогали.
Москва требовала прекратить беспорядки и восстановить власть в республике. Но как? Единственной силой, способной решить эту задачу, была армия. Тогда шутили: советская власть в Закавказье — это воздушно-десантные войска плюс военно-транспортная авиация.
Горбачев отправил в Баку войска. А в качестве правового обоснования 19 января президиум Верховного Совета СССР ввел чрезвычайное положение в Баку в связи с «попытками преступных экстремистских сил насильственным путем, организуя массовые беспорядки, отстранить от власти законно действующие государственные органы и в интересах защиты и безопасности граждан».
Тульской воздушно-десантной дивизией командовал полковник Александр Иванович Лебедь, которому еще только предстояло стать знаменитым. В ночь с 19 на 20 января его десантники начали входить в город. Но за год в республике многое изменилось: десантники оказались во враждебном городе.
В Азербайджане восприняли ввод войск как вторжение иностранной армии, как оккупацию. Бакинская молодежь пыталась противостоять вводу войск. Солдаты прорывались через баррикады, через перегородившие дороги грузовики под огнем стрелкового оружия и градом камней. Десантники пустили в ход оружие. В ночном бою погибло около двухсот человек. Тридцать восемь из них те, кто входил в город в броне: их встретили хорошо вооруженные и подготовленные силы. Можно сказать, что этот кровавый эпизод невероятно усилил стремление Азербайджана выйти из единого государства.
В ночь на 21 января собрался Верховный Совет Азербайджана. Он приостановил действие союзного указа об объявлении в Баку чрезвычайного положения и потребовал вывести войска из города. Действия войск Министерства обороны, МВД и КГБ СССР были признаны противоправными.
В кровопролитии стали обвинять и Примакова, считая, что это именно он вызвал войска в Баку и как старший по партийному званию координировал их действия.
Александр Яковлев рассказывал:
— Он очень переживал, когда ему стали инкриминировать бакинские события. Всё развивалось на моих глазах, знаю его телеграммы. Он мне звонил из Баку, рассказывал, просил помочь. Он отказался категорически от координации действий силовых структур. Сказал, пусть это координирует министр обороны или КГБ. Он не профессионал и не будет это делать.
Девятнадцатого января Примаков в ответ на слова Горбачева о том, что принято решение ввести в Баку войска, заявил ему по телефону, что не может руководить военными действиями. Горбачев сказал: через час в столицу Азербайджана вылетают министр обороны Язов и министр внутренних дел Бакатин.
Ночью 24 января в Баку, где еще слышались выстрелы, собрали пленум азербайджанского ЦК. Его вел избранный вторым секретарем республиканского ЦК Виктор Петрович По-ляничко. Он был секретарем Оренбургского обкома, работал в аппарате ЦК в Москве, три года был главным партийным советником в Афганистане. Виктор Поляничко считался твердой рукой. Должность в Баку станет для него последней, в 1991 году Поляничко убьют…
Абдул-Рахман Халил оглы Везиров, который начинал свою карьеру руководителем азербайджанского комсомола, был освобожден от должности первого секретаря ЦК «за серьезные ошибки в работе, приведшие к кризисной ситуации в республике». Его сменил Аяз Ниязович Муталибов, который был главой республиканского правительства, до этого председателем Госплана. Примакову пришлось выступать на пленуме. Он вздохнул с облегчением, когда Горбачев разрешил ему вернуться в Москву.
— Он вернулся из Баку больным человеком, — рассказывал Виталий Игнатенко. — Он, как никто, понимал национальный характер людей, с которыми случилась такая беда, и невероятную ответственность, которую на него возложили. Но в том, что там события не развились в более жесткие и кровавые формы, — заслуга Примакова и тех, кто с ним был.
В марте 1990 года Примаков, к своему величайшему облегчению, освободился от обязанностей в Верховном Совете. Горбачев назначил его членом новой структуры — Президентского совета.
Тогдашний главный редактор «Известий» Иван Дмитриевич Лаптев вспоминал, как поздним мартовским вечером с ним соединился по белому телефону без диска — специальному коммутатору — Лукьянов и предупредил, что будет звонить Горбачев. Анатолий Лукьянов, ничего не объясняя, загадочно сказал:
— Не вздумай отказываться.
И тут же последовал звонок — Горбачев:
— Ты, конечно, понимаешь, что Примаков теперь должен сосредоточиться на работе в Президентском совете. Значит, ему придется уйти с поста председателя Совета Союза. Есть мнение: представить твою кандидатуру вместо него. Как ты к этому относишься?
Лаптев с сомнением покидал «Известия», зато Примаков с охотой ушел из Верховного Совета, рассчитывая на интересную и эффективную работу в Кремле. Но получилось не так, как задумывалось…
Горбачев нуждался в личном мозговом центре, который обсуждал бы ключевые проблемы, генерировал идеи и воплощал их в президентские указы. Но он никак не мог придумать подходящую административную конструкцию.
В стране было правительство, существовал аппарат ЦК — над правительством, а Горбачев хотел создать что-то еще — что было бы и над ЦК, и над правительством. Поскольку Горбачев сам не понимал, чего хочет, то людей в Президентский совет подобрал не очень удачно. Получилась сборная солянка, а не работоспособный коллектив.
Во-первых, в Президентский совет, как прежде в политбюро, по должности вошли глава правительства Николай Иванович Рыжков, его первый заместитель Юрий Дмитриевич Маслюков, председатель КГБ Владимир Александрович Крючков, министр иностранных дел Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе, министр обороны Дмитрий Тимофеевич Язов, министр внутренних дел Вадим Викторович Бакатин.
Во-вторых, Горбачев включил в совет людей из своего окружения — Примакова, руководителя президентского аппарата Валерия Ивановича Болдина, бывшего первого секретаря Киевского обкома Григория Ивановича Ревенко и двух бывших членов политбюро — Александра Яковлева и Вадима Медведева.
В-третьих, опытный аппаратчик Горбачев пригласил в совет двух известных писателей разных направлений — Чингиза Айтматова и Валентина Распутина, двух ученых — академика Станислава Шаталина и вице-президента Академии наук Юрия Осипьяна и двух известных в ту пору депутатов — председателя агрофирмы «Адажи» из Латвии Альберта Каулса и рабочего из Свердловска Вениамина Ярина. Они должны были олицетворять народ.
Министры рассматривали совет как новое политбюро, но не понимали, как обсуждать серьезные (и секретные) материи в присутствии явно посторонних людей. Со своей стороны писатели и академики, которые вошли в Президентский совет на общественных началах, не могли выяснить, что от них требуется — мозговая атака, полезная для главы государства, или просто обмен мнениями.
Бывший помощник президента Георгий Хосроевич Шахназаров вспоминал не без иронии:
— Ревенко, Примаков, Бакатин только после долгих препирательств с Болдиным получили кабинеты. Да и потом им приходилось в основном ждать, пока президент даст поручение, а в оставшееся время сетовать на никчемность своего положения. Кто-то сострил: «Что такое член Президентского совета? Это безработный с президентским окладом».
В словах Георгия Шахназарова крылась, похоже, некая ревность — почему одни люди в окружении Горбачева оставались в чиновничьей должности помощников, а других вознесли в члены Президентского совета? Но Горбачев и сам быстро потерял интерес к Президентскому совету. Его личный интеллектуальный штаб сложился без всяких формальностей. В него вошли всё те же Яковлев, Медведев, Примаков и помощники президента — Анатолий Черняев и Георгий Шахназаров.
Как Горбачев относился к Примакову?
— По-моему, нормально, — вспоминает Бакатин. — Женей называл: «Женя, давай».
— Доступ к Горбачеву у вас был прямой?
— Прямой, простой. Другое дело, что мы не злоупотребляли. Бежать по каждому поводу к Горбачеву — зачем?
В Президентском совете Примаков познакомился с Юрием Дмитриевичем Маслюковым, которого со временем сделает своим первым заместителем в правительстве. Маслюков, председатель Госплана, считался тогда одним из главных прогрессистов и сторонником экономических реформ.
Примаков проработал в Кремле у Горбачева два с половиной года. Это был полезный опыт в смысле понимания того, как функционирует механизм власти. Всё это ему вскоре пригодится. Правда, опытные люди, которые собаку съели на аппаратных интригах, считают, что этим искусством можно по-настоящему овладеть, только если начинаешь с самых низов.
Друг Примакова, бывший консультант Отдела пропаганды ЦК КПСС Леон Оников говорил:
— Когда уйдет наше поколение профессиональных партийных работников, ни один архивариус не поймет, что было на самом деле. Мы унесем с собой аппаратную интригу, знание аппаратных плутней. Евгений Максимович в аппаратных плутнях не участвовал, он же в цековском аппарате не работал, хотя и был кандидатом в члены политбюро.
— Но вот Примаков вошел в президентское окружение и погрузился в аппаратный мир. Как он себя чувствовал в этом море интриг? — спросил я.
— В этот мир он так и не погрузился, — ответил Они-ков. — Аппарат не пускал. Мы не считали тех, кто занимал высокий партийный пост, но не знал, что такое райком, настоящими аппаратчиками, они ничего в этом не понимали. А Горбачев не сумел демократизировать аппарат. Аппарат остался таким, каким был.
Горбачев допустил еще одну ошибку в отношении Примакова. В декабре 1990 года на Съезде народных депутатов предстояло впервые избрать вице-президента СССР. Горбачев рассмотрел много кандидатур. Александр Яковлев вызвал бы яростные протесты консерваторов. Шеварднадзе отпал, потому что в первый же день работы съезда заявил, что уходит в отставку. От кандидатуры Нурсултана Назарбаева, будущего президента Казахстана, Горбачев тоже отказался.
Возникли две другие фамилии: Евгений Максимович Примаков и Геннадий Иванович Янаев, к тому времени член политбюро и секретарь ЦК. Бывший комсомольский функционер, веселый, компанейский человек, он понравился Горбачеву и мгновенно взлетел. Горбачев полагал, что сравнительно молодой Янаев, не примкнувший ни к левым, ни к правым, не встретит возражений у съезда да и ему самому не доставит хлопот. Едва ли Горбачев хотел видеть на посту вице-президента самостоятельную и равноценную фигуру, с которой ему бы пришлось считаться…
Горбачев посоветовался с Вадимом Медведевым.
Вадим Андреевич ответил так:
— Янаев, возможно, будет вам помогать, но он не прибавит вам политического капитала. Я бы отдал предпочтение Примакову.
Горбачев выбрал Янаева и совершил большую ошибку. Примаков — в отличие от Янаева — никогда бы не предал своего президента. Августовского путча не было бы, и, может быть, в каком-то виде сохранился Советский Союз…
В последние дни декабря на Съезде народных депутатов Горбачев сам предложил ликвидировать Президентский совет. Съезд проголосовал «за». Демократическое окружение Горбачева, включая Примакова, осталось без работы.
А в январе 1991 года произошли события, которые в конечном счете решили судьбу Горбачева.
В Москву прилетел первый секретарь ЦК компартии Литвы Миколас Бурокявичюс. В Литве уже были две компартии. Основную возглавлял Альгирдас Бразаускас, будущий президент республики. Другую, которая сохранила верность Москве, — Миколас Бурокявичюс. Ни одного крупного литовского партийного работника Москве на свою сторону привлечь не удалось. Миколас Мартинович Бурокявичюс в свое время дослужился до должности заведующего отделом Вильнюсского горкома, а с 1963 года занимался историей партии, преподавал в педагогическом институте. В 1989 году его вернули на партийную работу, в июле 1990 года на XXVIII съезде сделали членом политбюро. Но важной фигурой он был только в Москве. В Литве за ним мало кто шел.
На бланке республиканского ЦК он написал шестистраничное обращение к Горбачеву с просьбой ввести в Литве президентское правление. Бурокявичюса привели к Валерию Болдину, заведующему общим отделом ЦК КПСС. Секретари Болдина пунктуально записывали в специальный журнал всех, кто приходил к их шефу или звонил ему.
Восьмого января 1991 года Болдина посетили:
11.43 — секретарь ЦК по военно-промышленному комплексу Олег Бакланов.
11.45 — министр внутренних дел Борис Пуго.
11.53 — министр обороны Дмитрий Язов и председатель КГБ Владимир Крючков.
12.07 — секретарь ЦК по оргвопросам Олег Шенин.
12.33 — первый секретарь ЦК компартии Литвы Миколас Бурокявичюс.
Болдин, Бакланов, Пуго, Язов, Крючков, Шенин… Почти весь будущий ГКЧП собрался на Старой площади за пять дней до кровопролития в Вильнюсе. Ровно три часа продолжалась беседа с участием Бурокявичюса.
Шенин ушел раньше, но поздно вечером вернулся. Крючков и Язов тоже ушли. Крючков потом дважды звонил Болдину и в половине десятого вечера опять приехал к нему. И Язов перезванивал. Олег Бакланов и Борис Пуго просидели у Болдина весь день до восьми вечера. Потом Пуго уехал к себе в министерство и в половине десятого позвонил Болдину. Бакланов поздно вечером опять пришел к Болдину и просидел у него еще три часа. Эти люди буквально не могли расстаться друг с другом.
Парламент Литвы провозгласил независимость республики, и Москве стало ясно, что остановить этот процесс можно только силой. Согласие Горбачева было необходимо для проведения военно-политической операции в Литве. Появление Бурокявичюса должно было подкрепить аргументы Крючкова, Пуго и других: «Партия просит поддержки!» Немногочисленная партия ортодоксов действительно просила огня.
Но указ о введении президентского правления в Литве Горбачев не подписал.
Через два дня после длительных переговоров в кабинете Болдина московские газеты сообщат о создании в Литве Комитета национального спасения, который «решил взять власть в свои руки». Состав комитета держится в тайне, от его имени выступает секретарь ЦК компартии Юозас Ермолавичюс.
Специальные группы КГБ и воздушно-десантных войск уже были отправлены в Литву, а корреспондент «Правды» с возмущением передавал из Вильнюса, что в городе распространяются провокационные «слухи о десантниках и переодетых военных, о приготовлениях к перевороту».
Одиннадцатого января внутренние войска министра Пуго взяли под контроль республиканский Дом печати, междугородную телефонную станцию и другие важные здания в Вильнюсе и Каунасе. В ночь с 12 на 13 января в Вильнюсе была проведена чекистско-войсковая операция — сотрудники отряда «Альфа» Седьмого управления КГБ, подразделения воздушно-десантных войск и ОМОН заняли телевизионную башню и радиостанцию. Погибло тринадцать человек.
Министр внутренних дел Литвы, пытавшийся остановить кровопролитие, не мог дозвониться до своего начальника Пуго. Он сумел соединиться только с бывшим министром, Бакатиным. Вадим Викторович позвонил Горбачеву на дачу, чего тот не любил. Михаил Сергеевич сказал, что Крючков ему уже всё доложил, и отругал Бакатина за то, что он преувеличивает значение произошедшего и напрасно нервничает. Погибли один-два человека, говорить не о чем…
Страна возмутилась: пускать в ход армию против безоружных людей — это позор! Председатель КГБ Крючков, министр обороны Язов и министр внутренних дел Пуго в один голос заявили, что они тут ни при чем. Это местная инициатива — «начальник гарнизона приказал».
Все ждут, как поведет себя Горбачев. Поедет в Вильнюс? Выразит соболезнование? Отмежуется от исполнителей? Накажет виновных? Или скажет: «Всё правильно»?
Горбачев не делает ни того ни другого. Он заявляет в парламенте, что всё произошедшее для него полная неожиданность. И тут же предлагает приостановить действие закона о печати, взять под контроль средства массовой информации. Позднее это назовут обмолвкой…
В горбачевском окружении болезненно восприняли поведение своего шефа. Яковлев, Примаков и Игнатенко (в ту пору помощник и пресс-секретарь президента) предложили Горбачеву немедленно вылететь в Вильнюс, возложить венки на могилы погибших, выступить в литовском парламенте. Михаил Сергеевич попросил написать проект выступления, а утром отказался лететь.
Пятнадцатого января у Примакова состоялся неприятный разговор с Горбачевым. Евгений Максимович предупреждал об опасности звучащих повсюду призывов к «жесткой руке», о том, что этому надо противостоять.
Михаил Сергеевич раздраженно ответил:
— Я чувствую, что ты не вписываешься в механизм.
На следующий день Примаков передал ему личное письмо: «После вчерашнего разговора я твердо решил уйти в отставку. Это — не сиюминутная реакция и уж во всяком случае не поступок, вызванный капризностью или слабонервностью. Ни тем, ни другим — думаю, Вы не сомневаетесь в этом — никогда не отличался. Но в последние месяц-полтора явно почувствовал, что либо Вы ко мне стали относиться иначе, либо я теперь объективно меньше нужен делу. И то, и другое несовместимо даже с мыслью о продолжении прежней работы…»
И приложил заявление с просьбой разрешить ему перейти в Академию наук.
Горбачев заявление об отставке отверг:
— Это я буду решать, а не ты!
Виталий Игнатенко вспоминал:
— Во время событий в Литве Примаков ведь пошел против всех. Он часто брал на себя такую ответственность, которая могла ему дорого стоить. Поэтому его влияние было каким-то особенным.
— А было у него влияние на Горбачева? — спросил я.
— Горбачев воспринимал его как человека очень умного и решительного и — главное — честного и принципиального. Он никогда не юлил. Не надо было ему как-то подстраиваться — он оставался при своем мнении до конца. Это, по-моему, нравилось Горбачеву.
— А считается, что Горбачеву нравились угодники.
— Нет, это упрощенное впечатление о Михаиле Сергеевиче. Он тоже очень хорошо знал реальную цену словам и делам. Иначе не стал бы тем Горбачевым, которым он стал…
Примаков, Игнатенко и помощник президента по международным делам Черняев всё-таки дожали Горбачева. 22 января, через неделю после событий в Вильнюсе, он выступил по телевидению. Слишком поздно…
Что же в реальности произошло в Вильнюсе?
Горбачев, как можно предположить, поступил в своей обычной манере. Когда ему на стол положили обращение Бу-рокявичюса и стали убеждать ввести в Литве чрезвычайное положение, он не сказал ни «да», ни «нет». Он не дал санкцию на военно-полицейскую операцию в Вильнюсе, но и не запретил ее.
Будущие члены ГКЧП принялись наводить порядок теми средствами, которыми располагали, — танками и автоматами. Пытались устранить существующую там власть, но безуспешно. И проиграли Прибалтику. В августе 1991 года они повторят этот опыт в Москве.
Тем временем в Персидском заливе начались события, в которых Примаков примет активнейшее участие.
Важную роль в его биографии сыграла первая война против Ирака. Это была одна из тех стран, которые он хорошо знал.
На нефтедоллары президент Ирака Саддам Хусейн создал самые мощные в регионе вооруженные силы. Его почти миллионная армия была четвертой по численности в мире. Он призывал арабские страны рассматривать Ирак как борца за общие интересы. Но ему мешал Египет, который претендовал на право быть лидером всех арабов. Президент Хосни Мубарак не любил Саддама и не хотел предоставлять ему роль лидера арабского мира.
К тому же у Саддама возникли проблемы с деньгами. Он восемь лет вел бессмысленную войну с соседним Ираном. Туда ухнули все заработанные им нефтедоллары, и внешний долг страны составил фантастическую сумму. Саддам решил поправить финансовое положение за счет соседнего Кувейта.
Саддам Хусейн давно хотел оккупировать Кувейт. В Багдаде вообще не признают самостоятельности Кувейта, считают его частью Ирака. Когда в 1961 году Кувейт получил независимость, глава иракского правительства генерал Абд аль-Керим Касем сказал, что самостоятельного Кувейта нет и быть не может, а есть «Кувейтский район провинции Басра». Кстати говоря, Советский Союз, как верный союзник Ирака, тоже не признавал самостоятельности Кувейта и не позволял ему вступить в ООН. В октябре 1963 года Ирак всё-таки признал Кувейт. Но граница между двумя государствами не была демаркирована.
Кувейт — это маленькое и беззащитное государство, богатое нефтью. Иракский президент считал, что за Кувейт никто не вступится. Кстати, Ирак должен был Кувейту, который помогал Саддаму во время войны с Ираном, восемнадцать миллиардов долларов. Саддамом руководила логика уголовного преступника: зачем отдавать долг, когда можно убить кредитора…
Летом 1990 года Саддам обвинил Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты в том, что по их вине упала цена на нефть, поэтому Ирак теряет миллиарды долларов. Кроме того, Кувейт обвинили в том, что он захватил иракские нефтяные поля в южной части пограничного района Румейла (в реальности эти месторождения находятся на территории Кувейта).
«Таким образом, — писал министр иностранных дел Ирака Тарик Азиз генеральному секретарю Лиги арабских стран, — Кувейт дважды нанес вред Ираку. Во-первых, подрывая его экономику в период тяжелых испытаний, а во-вторых, украв его богатства».
Саддам Хусейн заявил, что Кувейт «совершает экономическую агрессию» против Ирака. Он потребовал заплатить ему компенсацию, а заодно списать многомиллиардный долг.
Девятнадцатого июля 1990 года он направил свои войска к границе.
Маленькая страна, разумеется, не могла противостоять иракской армии и обратилась за помощью к арабским братьям. 24 июля в Багдад прилетел встревоженный президент Египта Хосни Мубарак. Когда они с Саддамом остались вдвоем, Мубарак прямо спросил: что означают его военные приготовления? Саддам Хусейн клятвенно обещал Мубараку, что никогда не нападет на Кувейт.
— Всё, что мне нужно, — объяснил Хусейн, — это деньги. Пусть они вернут мне миллиард долларов, который я из-за них потерял.
Успокоенный Мубарак передал кувейтцам, что бояться им нечего. Просто придется дать Саддаму денег. Американскому президенту Бушу-старшему Хосни Мубарак прислал телеграмму с просьбой не вмешиваться, потому что «кризис может быть незамедлительно урегулирован». Страны Организации экспортеров нефти (ОПЕК) 25 июля в Женеве договорились о таком уровне цен на нефть, который устраивал Ирак. Казалось, проблема решена.
Но когда 31 июля представители Ирака и Кувейта встретились в Джидде, иракцы потребовали от кувейтцев не только списать долги, но и передать территории, на которые претендовал Саддам. Правительство Кувейта возмущенно отвергло эти требования. Переговоры прервались. Министр иностранных дел Ирака Тарик Азиз сказал, что диалог продолжится, но буквально через день выяснилось, что Саддам Хусейн просто обманул Хосни Мубарака.
Второго августа 1990 года иракские войска вошли в Кувейт. Там было создано марионеточное правительство, которое «попросило» принять Кувейт в состав Ирака. 8 августа Совет революционного командования удовлетворил «просьбу кувейтских братьев». Кувейт был объявлен девятнадцатой провинцией Ирака. Кувейтские деньги и кувейтская нефть достались Саддаму. Иракцы приступили к разграблению страны.
В середине мая 1990 года государственный секретарь Соединенных Штатов Джеймс Бейкер прилетел в Москву. Потомственный юрист, Бейкер был очень опытным политиком. Он возглавлял аппарат Белого дома, руководил избирательной кампанией Джорджа Буша и в знак благодарности получил возможность осуществлять внешнюю политику страны.
Вечером в доме художника Зураба Церетели собрались Джеймс Бейкер, Эдуард Шеварднадзе и Евгений Примаков. Во время ужина Шеварднадзе признался, что начинает уставать от своей должности. Американец воспринял это как намек на возможность его ухода из министерства. Присутствие Примакова, которого прочили на пост министра, показалось ему символическим. Американских дипломатов вероятная смена караула не обрадовала.
В начале августа Шеварднадзе и Бейкер встретились вновь. В этот момент и началась война. Американцы первыми получили сообщение о том, что иракские войска пересекли кувейтскую границу. Еще накануне, 1 августа, Бейкеру принесли разведывательную сводку ЦРУ, в которой упоминалось, что иракские войска нависли над кувейтской границей. Госсекретарь находился в Иркутске, где вел переговоры с Шеварднадзе.
Поделился информацией с Эдуардом Амвросиевичем, когда они ехали в машине обедать. Шеварднадзе уверенно отверг предположение, будто Саддам готовится напасть:
— Если бы он это замышлял, мы бы об этом знали.
Советский министр не лукавил. Он не имел никаких сведений о военной активности Ирака — ни от внешней разведки КГБ, ни от Главного разведуправления Генерального штаба.
Вечером того же дня советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Брент Скоукрофт отыскал Джорджа Буша в медицинском кабинете Белого дома. У президента после игры в гольф болело плечо, ему делали прогревание.
— Господин президент, — мрачно сказал Скоукрофт, — ситуация ухудшается. Ирак, похоже, готовится к вторжению в Кувейт.
Возникло предложение позвонить Саддаму Хусейну и убедить его воздержаться от применения силы. Но в этот момент доложили из государственного департамента: американское посольство в Кувейте сообщает, что в центре города идет стрельба.
— Ну вот вам и звонок Саддаму, — мрачно заметил Буш.
Через час худшие предположения подтвердились: иракская армия вторглась в Кувейт.
Второго августа Брент Скоукрофт приехал в Белый дом в пять утра. Буш еще был в постели. Когда он встал, ему сообщили, что Кувейт оккупирован. В то же утро Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 660, которая осуждала оккупацию Кувейта и требовала от Ирака вывести войска. Разногласий не было. При голосовании воздержался только представитель одного из непостоянных членов Совета Безопасности — Йемена.
В тот день Шеварднадзе и Бейкер уже заканчивали переговоры. Устроили заключительную пресс-конференцию и вели последнюю беседу в узком составе. Шеварднадзе очень удивился, когда без приглашения появилась пресс-секретарь Бейкера Маргарет Татуайлер. Она передала Бейкеру какую-то записку. Тот прочитал и взволнованно сказал:
— Господа, на пульт связи государственного департамента поступило сообщение о том, что Ирак перешел границу Кувейта.
— Этого не может быть! — решительно сказал Шеварднадзе. — Нам об этом ничего не известно.
И раньше иракские войска переходили границу, но быстро возвращались на свою территорию. Советский министр не верил, что Саддам решился начать войну. Он считал иракского президента жестким, властным, но умным человеком. Зачем ему совершать политическое самоубийство?
Шеварднадзе с Бейкером расстались в иркутском аэропорту. Американский государственный секретарь улетел в Монголию, Шеварднадзе вернулся в Москву. Вот тут министру подтвердили, что иракские войска атаковали Кувейт.
Тогдашний помощник министра иностранных дел Сергей Петрович Тарасенко рассказывал мне, что МИД запрашивал военных:
— Что в действительности происходит вокруг Кувейта? Что показывают разведывательные спутники — в самом ли деле иракские войска уже оккупировали Кувейт?
Военные ответили, что у них нет такой информации. А уже даже журналисты сообщили, что Кувейт захвачен.
Практически весь мир выразил протест против иракской агрессии. Но Саддам Хусейн дипломатических протестов не боялся. Он был уверен, что Соединенные Штаты и Советский Союз окажутся по разные стороны баррикад.
Государственный секретарь Бейкер прервал свой визит в Монголию и прилетел в Москву. Он встретился с Шеварднадзе в правительственном аэропорту Внуково-2. Бейкер предложил советскому министру выступить с совместным заявлением и осудить наглую агрессию Саддама Хусейна.
Советский МИД сомневался, стоит ли это делать: Саддам, конечно, агрессор, но он — союзник и партнер. Советский Союз давно связан с Ираком особыми отношениями, действует договор о дружбе и сотрудничестве. В Ираке находятся три тысячи советских специалистов, их жизнь может оказаться под угрозой. Соединенные Штаты хотят наказать агрессора. Теоретически это верно, но как можно выступать вместе с американцами против своего союзника?
Именно тогда заговорили о том, что советские руководители тоже несут ответственность за то, что произошло. Они же видели, что в Багдаде правит преступный режим, с которым нельзя иметь дело. Саддам убивал коммунистов и вообще оппозиционеров, травил курдских крестьян газами, вел с соседним Ираном восьмилетнюю войну. Но до Горбачева в Москве полагали, что некие высшие государственные интересы требуют закрывать на всё это глаза, поддерживать Саддама и снабжать его оружием…
В феврале 1989 года Шеварднадзе ездил по Ближнему Востоку, встречался и с Саддамом. Иракский лидер произвел впечатление своей фантастической самоуверенностью. Он весьма критически отзывался о советской политике, был недоволен и качеством советского оружия.
Помощник советского министра Теймураз Георгиевич Ма-маладзе записал пренебрежительные слова Саддама: «В ваших самолетах не всё отвечает современным требованиям. Когда же мы обращаемся с просьбой передать ваши изделия для усовершенствования третьим странам, вы либо отвечаете, что изучите этот вопрос, либо говорите, что это невозможно».
Но когда Саддам оккупировал Кувейт, дело решали не личные симпатии и антипатии. Мировое сообщество не может позволить пиратским режимам, государствам-хищникам делать то, что им заблагорассудится. Шеварднадзе связался по спецкоммутатору с Горбачевым, отдыхавшим в Форосе. Президент не возражал против совместного с американцами заявления и поручил Шеварднадзе согласовать позицию с остававшимися в Москве руководителями — премьер-министром Валентином Павловым, министром обороны Дмитрием Язо-вым и председателем КГБ Владимиром Крючковым.
Они были против, как и арабисты в самом МИДе: как можно вместе с американцами выступать против старого друга Советского Союза, которого Москва и вооружила, и всегда поддерживала именно за антиамериканскую позицию?
«У меня были опасения, что Михаил Сергеевич поостережется круто осудить Хусейна, — вспоминал помощник президента по внешней политике Анатолий Черняев. — Но я, к счастью, ошибся. К тому же Шеварднадзе действовал строго в духе нового мышления. Правда, всё, начиная с согласия на встречу с Бейкером в Москве и на совместное заявление с ним, согласовывал с Горбачевым по телефону. Иногда, впрочем, если он звонил ночью, я Горбачева не беспокоил и брал ответственность на себя, уверяя Эдуарда Амвросиевича, что Горбачев поддержит».
Шеварднадзе вместе с женой приехал в аэропорт, чтобы встретить Бейкера, прилетевшего из Улан-Батора. После долгого путешествия государственный секретарь валился с ног от усталости. Но он понимал важность момента. Впервые после Второй мировой войны Америка и Россия объединились, чтобы остановить агрессора. Идеологические разногласия утратили значение, важно было желание осадить Саддама и показать всем другим потенциальным агрессорам, что им это не сойдет с рук.
Шеварднадзе с Бейкером публично осудили Саддама Хусейна и призвали международное сообщество объявить эмбарго на поставки оружия Ираку. Саддам этого не ожидал. Он промахнулся. Он выбрал худшее время для оккупации Кувейта. Чуть позже или чуть раньше всё могло быть иначе.
Соединенные Штаты и Советский Союз потребовали от Саддама Хусейна вывести войска из Кувейта. Американцы сразу заявили, что, если Ирак этого не сделает, придется применить силу. Американцев поддержали не только западные союзники, но и многие арабские руководители, ненавидевшие Саддама.
За малым исключением арабские страны — после некоторых колебаний — выступили против Ирака. Одни согласились предоставить американцам свою территорию для развертывания их войск, другие даже обещали включить свои вооруженные силы в состав коалиции. Небольшие страны региона понимали, что могут стать следующей жертвой Саддама, поэтому глава Объединенных Арабских Эмиратов Сайд ибн Султан и султан Омана Кабус ибн Сайд сказали Бушу:
— Мы должны стоять плечом к плечу.
Важнее всего была позиция Саудовской Аравии. Король Фахд не хотел раздражать исламских фундаменталистов, не желавших видеть солдат в американской форме на священной земле. Но он понимал, что только Соединенные Штаты могут спасти его от иракского нападения, и согласился принять американские войска. Операция по переброске живой силы и техники получила наименование «Щит пустыни».
Американцев попросили не привозить с собой Библии. Посол Саудовской Аравии в Вашингтоне принц Бандар ибн Султан предупредил председателя комитета начальников штабов Колина Пауэлла:
— Нашим таможенникам приказано конфисковывать у ваших солдат Библии.
— Ты шутишь? — поразился генерал Пауэлл.
Они нашли выход: саудовские таможенники, увидев религиозную литературу, отворачивались. Кроме того, посол Бандар сказал, что на земле Саудовской Аравии запрещено проводить религиозные службы для солдат-иудеев.
Колин Пауэлл вновь удивился:
— Ты разрешаешь этим людям умирать, защищая твою землю, но запрещаешь им молиться?
Саудовский посол развел руками. Принц Бандар был сыном саудовского министра обороны и племянником короля Фахда, он учился военному делу в американских военно-воздушных силах и в определенном смысле американизировался, но не настолько, чтобы отказаться от ненависти к евреям. Договорились, что религиозных евреев будут вывозить на американские авианосцы в Персидском заливе, чтобы они могли там помолиться.
А вот алкоголь — по просьбе тех же саудовцев — американские генералы запретили с удовольствием, поэтому дисциплина в войсках коалиции была выше обычной.
По инициативе египетского президента Хосни Мубарака большинство членов Лиги арабских стран проголосовали за отправку арабских сил для обороны Саудовской Аравии.
Саддама Хусейна поддержали Организация освобождения Палестины и Ливия.
Саддам забеспокоился. Он вызвал к себе американского поверенного в делах и сказал ему:
— Передайте президенту Бушу, что он может считать эмира Кувейта историей. Мы никогда не уйдем из Кувейта, чтобы его взял кто-то другой. Мы будем бороться. Вы — сверхдержава, и я знаю, что вы можете нанести нам вред, но вы никогда не поставите нас на колени. Имейте в виду, что мы тоже не будем сидеть сложа руки.
В тот же день, 6 августа, государственный секретарь Бейкер позвонил министру Шеварднадзе, чтобы рассказать о военных планах американцев. Когда Шеварднадзе услышал о переброске войск в район Персидского залива, настроение у него испортилось.
— Вы нас только информируете или просите содействия? — уточнил он.
— А почему бы вам не присоединиться к нам? — неожиданно сказал Бейкер.
Госсекретаря никто не уполномочивал делать такое предложение Москве. Это была импровизация. Более того, президент Буш этого не хотел. Своим помощникам он заявил:
— Мы не должны упускать из вида давнее советское желание получить доступ в порты на теплых морях. Мне не хотелось бы воскрешать эту мечту.
Советник президента по национальной безопасности Ско-укрофт тоже считал, что слова госсекретаря Бейкера были импульсивными, необдуманными:
— Мы десятилетиями старались не допустить советского военного присутствия в регионе, и теперь приглашать их туда было бы преждевременно. Министр обороны Чейни, председатель комитета начальников штабов Пауэлл и я выступаем против советского участия в военных действиях коалиции.
Но американские политики напрасно беспокоились. Горбачев и Шеварднадзе не воспользовались предложением Бейкера. У них были свои основания отказаться от участия в военной операции. Немалая часть советских людей не видела в поведении Саддама Хусейна ничего зазорного и не считала возможным «предавать» союзника. Отдыхавшему на юге Горбачеву пришлось вновь и вновь объяснять своим соратникам, почему он осудил Ирак вместе с американцами:
— Другая реакция была для нас неприемлема, поскольку акт агрессии был совершен при помощи нашего оружия, которое мы согласились продавать Ираку с целью поддержания его обороноспособности, а не для захвата чужих территорий и целых стран.
Восемнадцатого августа американская разведка доложила, что из иракских портов вышли пять танкеров с нефтью. Буш считал необходимым с помощью военного флота остановить танкеры и отправить их назад, чтобы Саддам перестал зарабатывать нефтедоллары. Шеварднадзе попросил пять дней на переговоры с Багдадом. Он считал, что еще можно убедить Саддама уйти из Кувейта и закончить дело миром.
Двадцать четвертого августа разочарованный Шеварднадзе перезвонил Бейкеру и сказал, что Ирак не желает договариваться. На следующий день Совет Безопасности ООН принял резолюцию, позволявшую использовать «все необходимые меры» для обеспечения морской блокады Ирака. Когда американский военный флот ввел полную морскую блокаду Ирака, Саддам лишился возможности вывозить нефть и закупать оружие.
Пятого сентября в Москву прилетел министр иностранных дел Ирака Тарик Азиз.
Горбачев настойчиво внушал ему, что необходимо политическое урегулирование. Тарик Азиз с гордым видом отвечал, что Ирак не боится ни американцев, ни мировой войны, жаловался, что существует настоящий заговор против Ирака, и упрекал Михаила Сергеевича за то, что он напрасно говорит на одном с американцами языке.
Не выдержав, Горбачев сказал:
— Возможно, вы получаете наставления напрямую от Аллаха, но хотел бы всё же дать совет. Нельзя отказываться от поиска политического решения на реалистической основе. Пока вы, чувствуется, не созрели. Но следовало бы учесть, что в дальнейшем ситуация будет ухудшаться.
Девятого сентября 1990 года Горбачев и Буш встретились в Хельсинки. Американский президент прилетел накануне. Самолет болтало, Буш устал и не выспался. Джордж Буш откровенно сказал Горбачеву, что, если Саддам не выведет войска, придется применить силу.
— Я рассчитываю, что вы нас поддержите, — говорил Буш. — Это может оказаться для вас трудной задачей, но, надеюсь, вы справитесь с ней. Журналисты спрашивали меня, буду ли я вас просить послать войска. Я ответил, что у меня таких планов нет, но вам я говорю: если вы на это решитесь, то со мной никаких проблем не будет.
Американские и русские солдаты, сражающиеся вместе, произведут очень сильное впечатление, объяснил Буш Горбачеву.
Скоукрофт вздрогнул, услышав эти слова. «Появления советских войск на Ближнем Востоке следовало всячески избегать, — писал он позднее. — К счастью, Горбачев никак не реагировал на эту реплику президента».
Советский президент объяснил, что память об Афганистане не позволяет ему отправлять советских солдат сражаться за границами родины. Хотя дело было в другом: советские политики чувствовали себя неуютно. Они никак не могли решить: ту ли сторону они поддержали?
Буш спросил Горбачева, не станет ли он возражать, если они будут называть друг друга просто по имени.
— Отлично, Джордж! — довольно ответил Горбачев. Он укорил американского президента за поспешность:
— Мы осудили агрессию Ирака. Но для нас это было трудным шагом, потому что вы сначала послали войска и только потом поставили нас в известность.
Горбачев считал ненужным применение силы: Ирак не собирается нападать на Саудовскую Аравию, поэтому не стоит начинать новую войну. Саддам и так герой в глазах многих арабов.
Горбачев предложил развернутый план: Саддам выводит войска из Кувейта, Соединенные Штаты возвращают домой свои части, расквартированные в Саудовской Аравии, и соглашаются на проведение международной конференции по Ближнему Востоку.
— Применение силы, — настаивал Горбачев, — разрушит всё, что нам удалось достигнуть.
Буш не согласился с ним:
— Если оставить кувейтский вопрос открытым и согласиться на международную конференцию, это будет политическая победа Саддама. Он получит то, что хочет. Он совершит новую агрессию, как только американские войска вернутся домой.
— Если его загнать в угол, — гнул свое Горбачев, — нам это обойдется дороже. Ему надо оставить какую-то возможность показать, что он не поставлен на колени.
— Это всё равно, как если бы Гитлеру предложили удобный для него выход и позволили бы ему остаться во главе Германии.
— Тогда была другая ситуация, — сказал Горбачев.
— Ситуация та же, личность другая, — ответил Буш.
На следующей встрече Михаил Сергеевич больше не настаивал на своей позиции. Убедившись, что он не может переубедить американцев, предпочел согласиться с ними. Возможно, он с самого начала не горел желанием защищать Саддама, но делал это по внутриполитическим соображениям. В Москве на него давили, уговаривали сделать всё, чтобы избежать американского удара по Ираку.
Горбачев и Буш подписали совместное заявление с требованием немедленного и безоговорочного вывода иракских войск из Кувейта. Две державы продемонстрировали единодушие. Горбачев и Буш-старший договорились действовать сообща. Но, видя, что Соединенные Штаты твердо намерены применить силу, раз Саддам и не думает уходить с оккупированных территорий, Горбачев попытался решить кризис самостоятельно. Он считал, что иракский вождь не понимает ситуации, не видит, что дело идет к войне. Горбачев хотел попытаться «привести в чувство» Саддама, объяснить ему, что его ждет. Естественно, его беспокоила и судьба тысяч советских людей, находившихся в Ираке. У него был человек, готовый взяться за такую задачу.
Евгений Максимович Примаков сказал Горбачеву, что главное — позволить Саддаму уйти с достоинством: арабский лидер не может потерять лицо, для него это равнозначно смерти.
Министр иностранных дел Шеварднадзе узнал о поездке Примакова в Ирак, будучи в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Примаков был в пути, когда получил шифротелеграмму от Шеварднадзе, в которой говорилось: встречаться с Саддамом Хусейном аморально. Примаков ответил шифротелеграммой, что аморально не встречаться с Хусейном в то время, когда у него в заложниках находятся тысячи советских людей.
В пользу поездки Примакова высказывался советник Горбачева по военным делам — маршал Сергей Федорович Ахроме-ев, бывший начальник Генерального штаба. Он предупреждал: война может оказаться кровопролитной. Маршал Ахромеев был высокого мнения о вооруженных силах Саддама. Говорил Горбачеву:
— Иракская армия располагает тысячами советских танков — лучших в мире — и накопила боевой опыт за восемь лет войны с Ираном. Американцы с Саддамом не справятся. Это будет второй Вьетнам… Американцы будут нам благодарны, если мы убережем их от новой бойни.
Михаил Сергеевич колебался. С одной стороны, твердо держался за партнерские отношения с американцами. С другой — санкционировал личную дипломатическую миссию Примакова. Надеялся, что это уменьшит давление тех, кто был на стороне Ирака, и доказывал, что нельзя предавать старого друга.
Шеварднадзе возмущался:
— Не может быть у страны две внешние политики!
Но получилось именно так.
Линия Шеварднадзе — стратегическое сотрудничество с американцами ради одной цели: не дать агрессору возможность воспользоваться плодами победы.
Линия Примакова — попытка, используя личные отношения с иракскими руководителями, найти выход из положения до того момента, как будет применена сила.
В 1960-е годы корреспондент «Правды» Евгений Примаков побывал и в Багдаде. Он познакомился и подружился с иракским журналистом Тариком Азизом, который был редактором газеты «Ас-Саура». Азиз, в свою очередь, познакомил советского коллегу со своим другом Саддамом Хусейном.
Пятого октября 1990 года Саддам принял в Багдаде Примакова. Он внушал московскому гостю, что Кувейт — исторически часть Ирака, поэтому он не выведет свои войска. Поскольку Саддам разговаривал с советским гостем один на один, он был откровенен:
— Вы понимаете, что после того, как я отказался от всех результатов восьмилетней войны с Ираном, иракский народ не простит мне безоговорочного вывода войск из Кувейта. Как быть с выходом к морю, спросят меня.
Примаков знал, что заявление с просьбой о возвращении на родину подали в советское посольство 1500 наших специалистов, и попросил их отпустить. Саддам согласился. Остальные советские граждане выехали из Ирака позже.
Вернувшись, Евгений Максимович предложил Горбачеву: а попробуем уговорить Саддама уйти, обещав ему заняться решением судьбы палестинцев. Горбачев поручил Шеварднадзе действовать вместе с Примаковым. Но министр иностранных дел не был согласен с Примаковым: любые обещания Саддаму, любая готовность уступить его требованиям создают у него ощущение, что он на правильном пути, что он сможет настоять на своем, если только проявит упорство.
Спор между Шеварднадзе и Примаковым разгорелся нешуточный. Перешли на личности.
На слова Шеварднадзе: «Так не следует действовать на Ближнем Востоке!» — Примаков вспылил:
— Это меня, который занимается Ближним Востоком со студенческих времен, поучаете вы, окончивший заочно педагогический институт в Кутаиси?
Вмешался Горбачев:
— Евгений, прекрати сейчас же.
Шеварднадзе слов Примакова, разумеется, не забыл.
Советская дипломатия продолжала действовать, как двухголовый дракон.
С санкции Горбачева Евгений Максимович повез в Европу, а потом в Соединенные Штаты свой план мирного урегулирования. Министр Шеварднадзе, раздраженный сверх меры, передал госсекретарю Бейкеру через своего помощника Сергея Тарасенко:
— Примаков направляется в Вашингтон с предложением, на которое можете не обращать внимания.
Евгений Максимович уговаривал и американцев дать Саддаму возможность уйти, сохранив лицо. В частности, обещать ему, что будет созвана международная конференция для обсуждения палестинского вопроса.
Американцы отвечали, что такого рода уступки агрессору неприемлемы:
— Получится, что Саддам Хусейн, оккупировав Кувейт, получил то, что хотел. Он превратится в глазах арабов в величайшего героя, способного навязать свою волю мировому сообществу. Уступки приведут со временем к еще более кровопролитной войне…
Девятнадцатого октября во время встречи в Белом доме Примаков рассказал президенту Джорджу Бушу, что, по его наблюдениям, приближенные Саддама плохо его информируют и иракский президент пребывает в уверенности, будто мир его поддерживает.
Примаков пересказал Бушу слова Саддама: «Я реалист, я знаю, что мне придется уйти из Кувейта, но я не могу уйти просто так. Если передо мной будет выбор — уйти или сражаться, я буду сражаться до смерти».
Евгений Максимович внушал Бушу:
— Не загоняйте Саддама в угол. Ему надо помочь найти путь к политическому решению.
Буш возразил Примакову:
— Я не понимаю, что значит помочь Саддаму найти путь к политическому решению. Как можно договариваться с таким человеком? Я не против продолжения вашей миссии, только если ее цель — дать понять Саддаму, что ему никто не пойдет на уступки.
Примаков понял, что вопрос будет решен военным путем. Это подтвердил посол Саудовской Аравии в Вашингтоне принц Бандар. Он сказал Примакову, что, если война начнется, всё будет решено за несколько часов:
— Знаете, что произойдет с иракскими танками в пустыне, где негде укрыться? Это прекрасная мишень для авиации. Они будут гореть, как спички. Не переоценивайте иракскую армию.
В Лондоне Евгения Максимовича приняла премьер-министр Маргарет Тэтчер. Молча выслушав Примакова, она без всякой дипломатии сказала: если даже Саддам выведет войска из Кувейта, надо сломать ему хребет.
— У Саддама Хусейна не должно быть и тени сомнения в том, что мировое сообщество не отступит и добьется своих целей. Никто не должен даже пытаться вывести его режим из-под удара.
Примаков поинтересовался у премьер-министра Маргарет Тэтчер, когда может начаться война.
— Этого я не могу вам сказать, — отрезала «железная леди», — поскольку операция должна застигнуть Ирак врасплох.
Встреча продолжилась в библиотеке, где Тэтчер превратилась в заботливую хозяйку, угощая Примакова и сопровождавшего его посла Леонида Митрофановича Замятина виски. Примаков опять полетел в Багдад. Саддам принял его в присутствии всех членов Совета революционного командования.
Саддам играл в свои игры. Он объяснил Примакову:
— Я хочу, чтобы ты видел, что среди иракского руководства есть не только ястребы, но и голуби.
Примаков заметил, что предпочел бы иметь дело только с голубями. Вице-президент Таха Ясин Рамадан ответил:
— Тогда придется нам всем уйти отсюда, оставив вас наедине с нашим любимым лидером.
Это был спектакль, а откровенный разговор состоялся, когда остались наедине. Примаков всё-таки предупредил Саддама:
— Вы меня знаете давно и понимаете, что я говорю вам только правду. Если вы не уйдете из Кувейта, по Ираку будет нанесен удар.
Саддам ответил так: «Могу ли я уйти, пока не решен вопрос о выводе американских войск из Саудовской Аравии, пока Ираку не обеспечен выход к морю и не решена палестинская проблема?» Иракский президент всё еще считал, что может торговаться.
Несмотря на все колебания советской политической элиты, Горбачев, выбирая между Саддамом и американцами, считал куда более важными близкие отношения с Соединенными Штатами. А ведь это происходило осенью 1990 года. Горбачева атаковали со всех сторон, и ему оставалось находиться в Кремле всего год. С учетом внутриполитической ситуации ему было бы куда проще и выгоднее осудить американцев и военную операцию против Ирака. Но, как выразился помощник президента Черняев, Горбачев «держался достойно: от американцев нельзя отслаиваться, как бы ни хотелось обойтись без войны. Тогда всё полетит».
Совет Безопасности ООН принимал одну резолюцию за другой. Тон становился всё более жестким. В Багдаде считали эти резолюции просто сотрясением воздуха. Саддам охотно играл в дипломатические игры. Это позволяло ему оттянуть время в надежде, что мир устанет и займется другими проблемами. Иракцы маневрировали, надеясь поссорить Москву с Вашингтоном. Министр иностранных дел Тарик Азиз повторял, что иракские войска вот-вот покинут Кувейт, но Саддам и не думал этого делать.
Совет Безопасности ООН предъявил Саддаму ультиматум: или он уходит из Кувейта, или его уберут оттуда силой. Но иракцы не верили, что американцы решатся нанести удар и что Советский Союз поддержит военную операцию.
Тем временем американские военные методично готовили боевую операцию по освобождению Кувейта. Стало ясно, что затянувшаяся переброска сил позволит приступить к боевым действиям не раньше середины января. В конце февраля погода в регионе испортится, а уже 17 марта начнется священный месяц рамадан, за которым последует хадж — массовое паломничество к священным местам в Саудовской Аравии. Ведение боевых действий в период рамадана исключалось, чтобы не злить арабских друзей. После хаджа начнется невыносимая жара.
Таким образом, получалось, что военную операцию нужно проводить не позднее февраля. 29 ноября Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 678, которая оставляла Ираку на вывод войск время до 15 января 1991 года. Эта дата совпадала с планами Пентагона.
В американском проекте резолюции прямо говорилось об «использовании силы» — если Ирак не выполнит требования Совета Безопасности. Шеварднадзе попросил Бейкера смягчить формулировку. Записали так: государствам — членам ООН разрешалось «использовать все необходимые средства» для освобождения Кувейта от иракских войск. Фактически Совет Безопасности проголосовал за войну против Саддама.
Это и пытался объяснить Тарику Азизу министр Шеварднадзе во время их последней встречи.
Советский министр откровенно сказал, что резолюция Совета Безопасности № 678 позволяет начать против Ирака военные действия, поэтому война будет, и Ираку придется туго, потому что американцы применят современное оружие. Саддам сам навлек на себя военную катастрофу. У него было пять с половиной месяцев, чтобы избежать войны. Кто виноват, что Саддам не понимает иного языка, кроме языка силы? Совершив акт агрессии, он сам вывел себя из-под защиты международного права.
После голосования в ООН президент Буш был готов дать согласие на встречу госсекретаря Бейкера с Тариком Азизом. Это могло стать последней попыткой предотвратить военные действия.
Четвертого декабря Саддам заявил, что отпускает всех оставшихся советских специалистов. Еще через два дня сказал, что позволит уехать всем иностранцам.
Восьмого января 1991 года в Женеве Тарик Азиз наконец встретился с государственным секретарем Бейкером, который сразу сообщил, что прибыл не для переговоров. Он должен вручить письмо Буша Саддаму. В письме говорилось:
«Мы сегодня стоим на пороге войны между Ираком и всем миром. Эта война началась с вашего вторжения в Кувейт; эта война завершится только после того, как Ирак полностью и безоговорочно выполнит требования резолюции № 678 Совета Безопасности ООН. Мы предпочли бы мирное решение. Вместе с тем полное выполнение требований резолюции № 678 Совета Безопасности ООН и предшествующих резолюций является абсолютно необходимым условием. Никакого поощрения за агрессию не будет. Это принципиально, компромиссы здесь невозможны.
Вместе с тем, выполнив полностью эти требования, Ирак получит шанс вернуться в мировое сообщество. Ирак и иракская военная инфраструктура не будут уничтожены. Но если вы безоговорочно не выведете войска из Кувейта, вы потеряете не только Кувейт.
Сейчас решается вопрос не о будущем Кувейта — он будет освобожден, законное правительство восстановлено, а, скорее, о будущем Ирака…»
Письмо в запечатанном конверте Бейкер протянул Тарику Азизу вместе с ксерокопией, которую иракский посланец мог прочитать. Пробежав текст глазами, Азиз возмущенно бросил письмо на середину стола. Оно так и осталось лежать на столе. Посольство Ирака в Женеве тоже отказалось принять послание Буша. Но Бейкер надеялся, что Азиз, который его всё-таки прочитал, объяснит Саддаму, что ему сделано последнее предупреждение.
Государственный секретарь сказал, что Ираку не выиграть этой войны.
— Наша страна знает, на что идет, — гордо ответил Азиз. — Мы принимаем войну.
Но тут же добавил, что готов приехать в Вашингтон для продолжения переговоров. Бейкер покачал головой:
— Поздно. Мы дали вам время. Теперь вы просто пытаетесь отодвинуть срок ультиматума.
Прежде чем встать из-за стола, Бейкер предостерег Азиза от использования оружия массового уничтожения.
— Народ Америки потребует мести, — в жесткой форме произнес государственный секретарь, — и у нас есть все средства, чтобы это сделать.
Тем временем в Москве Шеварднадзе покинул пост министра иностранных дел. В конце декабря 1990 года Эдуард Амвросиевич на Съезде народных депутатов внезапно заявил, что уходит в отставку. Накануне депутаты предложили принять резолюцию, запрещающую руководству страны посылать войска в зону Персидского залива.
— Вчерашние выступления товарищей переполнили чашу терпения, скажу об этом прямо, — заявил Шеварднадзе. — Что, в конце концов, происходит в Персидском заливе?.. Мы не имеем никакого морального права примириться с агрессией, аннексией маленькой, беззащитной страны.
Он ушел, когда до начала военной операции против Ирака оставались считаные дни. В Багдаде отставка Шеварднадзе вызвала взрыв радости. В окружении Саддама решили, что советского министра иностранных дел заставили уйти в отставку генералы — друзья Ирака и теперь линия Москвы изменится.
По просьбе Горбачева Эдуард Амвросиевич еще некоторое время исполнял обязанности министра.
В Вашингтоне опасались, что министром станет Примаков.
Шеварднадзе предложил Горбачеву себе на смену три кандидатуры — Юлия Квицинского, своего заместителя, Юлия Воронцова, представителя в ООН, и Александра Бессмертных, посла в США. Сдавая дела, Шеварднадзе настоятельно советовал Горбачеву остановить свой выбор на Квицинском.
Горбачев тоже рассматривал трех кандидатов на пост министра — это Александр Яковлев, Евгений Примаков и Александр Бессмертных. Яковлев был бы предпочтителен для Горбачева, но его бы наверняка не утвердил Верховный Совет, испытывавший ненависть к архитектору перестройки. Время Примакова еще не пришло. Как раз в тот момент он вел переговоры с Саддамом Хусейном, и его назначение было бы настороженно встречено Западом. Горбачев хотел избежать впечатления, что внешнеполитический курс страны меняется. По этой же причине отверг и кандидатуру Александра Сергеевича Дзасохова, члена политбюро и секретаря ЦК, в недавнем прошлом посла в Сирии.
Кадровый дипломат, которого уважали в МИДе, Александр Александрович Бессмертных казался естественным кандидатом на пост министра: посол в Соединенных Штатах, следовательно, американцы его хорошо знают, человек из команды Шеварднадзе, политически нейтрален, умен и образован. В день, когда назначили Бессмертных, началась война в Персидском заливе. Как он сам шутя выразился:
— Не было у нового министра первой ночи. Поспать не удалось. Пришлось всем этим заниматься.
Тринадцатого января в Белом доме на совещании у Буша решили, что военные действия начнутся 17 января, когда в Кувейте будет три часа ночи, а в Вашингтоне шесть вечера 16 января.
Президент Буш-старший первоначально полагал, что сумеет обойтись авиацией. Президент Египта Хосни Мубарак и другие арабские политики пренебрежительно говорили, что иракцев никогда не бомбили — они сразу побегут. Вся операция займет один день… Но военные тактично объясняли Бушу, что атаками с воздуха войну не выиграть.
Горбачев до последнего момента надеялся не допустить боевых действий. Всех уговаривал повременить, доказывал, что Саддам Хусейн сам уйдет из Кувейта.
Одиннадцатого января 1991 года, за неделю до начала военных действий, Горбачев, разговаривая с Бушем по телефону, выразил легкое неудовольствие:
— Вы только говорите, что учитываете мнение Москвы, а действуете по собственному усмотрению. Нужна полная согласованность. Если надо, я готов встретиться и еще раз обсудить. Наша позиция остается жесткой, но не следует спешить.
Горбачев предложил выработать еще один план и отправить с ним в Багдад нового министра иностранных дел Бессмертных. Буш выслушал Горбачева, но для себя американский президент решил, что больше не будет уговаривать Саддама: если иракский президент предпочитает войну, он ее получит.
В Белом доме составили график, когда оповещать союзников о начале бомбардировок. Нового британского премьер-министра Джона Мейджора, чьи летчики участвовали в первых вылетах, решили предупредить за двенадцать часов. Саудовскую Аравию и Советский Союз — за час до начала операции. Главное, считали американские военные, не допустить утечки информации.
В два часа по московскому времени госсекретарь Джеймс Бейкер позвонил Александру Бессмертных и предупредил, что военная операция в Персидском заливе вот-вот начнется. Министр доложил президенту. Горбачев просил отложить ее хотя бы на несколько часов, но военный механизм уже был приведен в действие.
Американцы в каком-то смысле попали в безвыходное положение. Не начать боевые действия — укрепить Сад дама Хусейна в сознании собственной безнаказанности. Начать — значит навлечь на себя обвинения в агрессии, спровоцировать антиамериканские настроения.
В ночь с 16 на 17 января 1991 года многонациональные силы, размещенные на территории Саудовской Аравии, нанесли первый авиационный удар по армии Ирака, захватившей Кувейт. Началась операция «Буря в пустыне». Пока шла война, в кабинете Горбачева собирались Бессмертных, Примаков, Язов, маршал Ахромеев, еще несколько человек. Обсуждали ситуацию. Язов, опираясь на данные военной разведки и анализ генштабистов, показывал на карте ход боевых действий.
Во время этих встреч в узком составе возможность использования Саддамом оружия массового уничтожения рассматривалась очень серьезно. Считали, что иракский президент прикажет снарядить ракеты боеголовками с химическим оружием. Примаков спросил министра обороны Язова, не может ли Ирак начинить боеголовки ядерным топливом и тем самым пустить в ход «грязную ядерную бомбу», которая подвергнет воздействию радиации большие районы. Язов считал это вполне возможным.
Восемнадцатого января Горбачев разговаривал с президентом Бушем. Изложил ему свой план:
— Мощь иракской армии уже подорвана, зачем продолжать кровопролитие? Надо сделать перерыв и предложить Хусейну вывести войска из Кувейта.
Буш ответил, что Саддам на это не пойдет.
На следующий день, 19 января, Горбачев приказал отправить шифровку советскому послу в Багдаде Виктору Викторовичу Посувалюку с поручением передать Саддаму: если иракское руководство конфиденциально сообщит Москве о готовности вывести войска, Горбачев договорится с Бушем о прекращении боевых действий.
Советский президент получил ответ только через два дня. Буш оказался прав. Саддам Хусейн высокомерно отверг предложение и велел сообщить Горбачеву, что с такими предложениями надо обращаться не к нему, а к американскому президенту.
Горбачев и Примаков надеялись хотя бы уберечь Ирак от наземной операции. Евгений Максимович вновь отправился к Саддаму. Добираться пришлось сложным путем, на машинах, через соседний Иран. 12 февраля в Багдаде, когда город бомбили, Примакова тепло принял Саддам. Они обнялись. Примакову продемонстрировали следы разрушений от бомбардировок. Иракское телевидение снимало каждый шаг советского гостя, эти кадры с помощью американской телекомпании Си-эн-эн увидел весь мир.
Евгений Максимович осуждал действия американцев:
— Бойня должна быть прекращена. Я не говорю, что раньше война не была оправдана, но ее затягивание не может быть оправдано ни с какой точки зрения. Целый народ гибнет.
Эти телекадры не прибавили Примакову симпатии среди американцев.
Примаков уговаривал Саддама немедленно заявить об уходе из Кувейта. Саддам впервые согласился, но обещал дать ответ в письменной форме. Ночью в советское посольство приехал Тарик Азиз и привез совершенно пустое заявление: иракское руководство изучает идеи, изложенные представителем советского президента, и дает указание Азизу вылететь в Москву.
Вечером 13 февраля в вашингтонском Белом доме читали письмо из Москвы. Примаков всё-таки извлек из беседы с Саддамом некоторые обнадеживающие детали. Горбачев сообщал, что пригласил Тарика Азиза в Москву и просил не начинать в эти дни наземную операцию и приостановить бомбардировки. Американцы были убеждены, что эти обреченные на неуспех действия Горбачева продиктованы внутриполитическими причинами — Михаил Сергеевич боролся за свое политическое выживание.
Буш ему сочувствовал: «Мы старались отказать ему как можно более деликатно, чтобы не поставить его в затруднительное положение. Мы испытывали чувство огромной симпатии к нему и понимали его трудности. С другой стороны, мы не могли позволить ему вмешиваться в нашу политику в Заливе в самый решающий момент».
Пятнадцатого февраля Совет революционного командования Ирака заявил, что в принципе готов выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН, то есть вывести войска из Кувейта, если будут выполнены следующие условия — американцы уходят из Саудовской Аравии, а Израиль оставляет все территории, которые должны принадлежать палестинцам.
Семнадцатого февраля на специально отправленном за ним советском самолете в Москву прилетел иракский вице-премьер Тарик Азиз. На следующий день утром он уже был в Кремле. Горбачев нетерпеливо спросил:
— Что вы привезли?
Азиз ответил, что его правительство принимает в принципе резолюцию Совета Безопасности. Иракцы готовы вывести войска поэтапно, если будут выполнены все их условия и ООН отменит все санкции.
Горбачев предложил: пусть Ирак немедленно пообещает вывести войска, тогда он уговорит Буша прекратить бомбардировки. И пусть в Багдаде поторопятся, потому что американцы не намерены заниматься умиротворением.
Азиз улетел в Багдад. Он вернулся ночью 21 февраля. Горбачев, всё еще полный энтузиазма и надежды закончить войну, ждал его в Кремле. Они говорили до трех часов ночи. Азиз заявил, что иракцы готовы отступить, но понадобится на это полтора месяца. Горбачев втолковывал ему, что такая затяжка невозможна. Азиз нехотя согласился сократить срок вывода иракских войск из Ирака.
В реальности Саддам всего лишь тянул время. Удары с воздуха были болезненными, однако он надеялся, что американцы не рискнут вступить с ним в схватку на поле боя. Страдания собственного народа его не беспокоили. Саддам выступил по телевидению с обещанием никогда не капитулировать.
Американцы не хотели позволить ему вывернуться из этой ситуации с почетом и избежать наказания. Буш предъявил Саддаму ультиматум: вывести войска из Кувейта в течение недели — к 23 февраля. Тарик Азиз заявил, что войска будут выведены. Но было поздно.
Двадцать второго февраля Горбачев вечером (по московскому времени) разговаривал с государственным секретарем Бейкером, а потом и с президентом Бушем. Уговаривал не переходить к сухопутной стадии операции, а договориться с Саддамом о порядке вывода его войск из Кувейта.
Анатолий Черняев записал его слова, адресованные Бушу:
— Мы с вами не расходимся в характеристике Хусейна. Его судьба предрешена. И я вовсе не стараюсь его как-то обелить или оправдать, сохранить ему имидж. Но мы и вы вынуждены иметь дело именно с ним, поскольку это реально действующее лицо, противостоящее нам. Речь сейчас идет вовсе не о личности Хусейна и не о методах его действий. Речь идет о том, чтобы перевести решение проблемы в сугубо политическое русло, избежать трагедии для огромной массы населения.
Михаил Сергеевич зря тратил время. Буш считал необходимым наказать Саддама и не желал, чтобы ему мешали. Если бы Саддаму позволили увести свою армию нетронутой, он бы вскоре вновь бросил ее в бой.
— Я не верю Саддаму, — ответил Буш. — Он просто пытается сохранить свое лицо и свою власть. Мы достаточно ждали. Мы были терпеливы. Но всему есть предел, и после того, что он натворил в Кувейте, мы не можем уступать.
Помощники Буша предложили вновь определить крайний срок, после которого начнется наземная операция. Если Саддам воспользуется этим предложением, он спасется.
Под прицелом телекамер Джордж Буш произнес:
— Коалиция позволит Саддаму Хусейну до полудня субботы сделать то, что он должен сделать, — начать вывод войск из Кувейта.
Саддам, как и следовало ожидать, упустил последний шанс сохранить свою армию.
Двадцать третьего февраля, в субботу, Горбачев целый день обзванивал руководителей крупнейших государств, которые участвовали в операции против Саддама, с просьбой отложить начало наземных боевых действий. Но за исключением советского президента все остальные политики убедились, что вести переговоры с Саддамом бесполезно.
За 45 минут до истечения ультиматума Горбачев вновь позвонил Бушу, который играл в волейбол со своими сотрудниками и морскими пехотинцами, охранявшими Белый дом. Буш разговаривал с советским президентом из раздевалки, вытирая пот полотенцем. Горбачев сказал, что иракцы совершенно точно уйдут через четыре дня и надо дать им это время. Буш твердо ответил, что не может изменить срок ультиматума.
Двадцать четвертого февраля 1991 года в четыре часа утра по местному времени в Персидском заливе началась наземная операция. Советский министр иностранных дел Александр Александрович Бессмертных поручил отделу печати МИДа выразить сожаление по поводу того, что «возобладала тяга к военному решению и упущен реальный шанс на мирное урегулирование». Но Горбачев и Бессмертных не стали занимать особую позицию и противопоставлять себя мировому сообществу. Выяснилось, что, вообще говоря, интересы СССР и США на Ближнем Востоке не противоречат друг другу, потому что обе страны заинтересованы в сохранении там мира и стабильности, в решении всех конфликтов политическими средствами.
В феврале 1991 года войскам антииракской коалиции понадобилось два дня, чтобы раздавить армию Саддама. Она не могла оказать сопротивления. В первый же день сдались в плен десять тысяч иракских солдат. Спасаясь от неминуемой катастрофы, униженный Саддам капитулировал. Он испугался, что или американцы доберутся до него и посадят на скамью подсудимых, или его собственные генералы, спасая себя, уничтожат «любимого президента». Впрочем, иракская пропаганда писала только о выдающейся победе великого Саддама Хусейна над Америкой.
Двадцать шестого февраля президент Ирака отправил срочное послание Горбачеву. Он уже не называл Кувейт девятнадцатой провинцией Ирака. Напротив, просил немедленно остановить наступление войск международной коалиции, клялся, что уже вечером его армия уйдет из Кувейта. К тому времени в плен попали семьдесят тысяч иракских солдат и офицеров. Саддам начал войну, располагая хорошо вооруженной миллионной армией. Ее половина находилась на территории Кувейта, от этих частей остались одни воспоминания.
В ночь на 27 февраля советского посла в Багдаде Виктора Посувалюка пригласили в Министерство иностранных дел Ирака. Посувалюк, блистательный дипломат, умница, интеллектуал, был знатоком Арабского Востока. Очень веселый, остроумный, азартный и доброжелательный человек с широким кругозором, он сочинял стихи, писал песни.
Во время войны в Персидском заливе, в часы бомбежек Виктор Викторович находился в сооруженном сотрудниками посольства бомбоубежище в виде огромной трубы. Она не спасла бы от прямого попадания, но от осколков зенитных снарядов предохраняла. Посувалюк никогда не отчаивался, не терял бодрости духа. За личную храбрость он получил тогда орден Красного Знамени. Потом Посувалюк возглавлял ближневосточный департамент министерства, стал заместителем министра иностранных дел России, а в 1999 году после тяжелой болезни безвременно ушел из жизни. Он не дожил и до шестидесяти лет…
Я много раз встречался с ним, поражаясь его познаниям и доброжелательности, брал у него интервью. Виктор Викторович не имел права сказать больше, чем ему было положено в его роли одного из руководителей отечественной дипломатии. Но он не прятался за казенными формулами, не уходил от ответа. Напротив, считал, что дипломатия должна быть понята народом. Он интересно рассказывал о национальном характере своих подопечных, о традициях, исламе…
Я мог его слушать часами. Смею предположить, что ему приятен был мой интерес. Однажды он сделал то, что я счел знаком высокого доверия. Когда я в очередной раз вошел в его скромный кабинет, Виктор Викторович разговаривал по телефону. Дальнозоркий от рождения, я увидел, что на столе перед ним лежит отпечатанная на бланке расшифрованная телеграмма одного из послов. Я работал над книгой о министрах иностранных дел, и мне ужасно хотелось посмотреть, как выглядит подлинный бланк шифротелеграммы. Набравшись наглости, я спросил, нельзя ли взглянуть на шапку телеграммы.
Не колеблясь ни секунды, Виктор Викторович показал мне шифровку. Он не совершил должностного проступка. Содержимое телеграммы было самым тривиальным. Но поступок я оценил.
Никогда не забуду и последний наш разговор. Он был уже болен, сильно похудел, за воротник рубашки можно было кулак просунуть. Рассказал, что у него была тяжелая операция. Но надеялся на лучшее. Я, разумеется, не знал истинного диагноза и верил, что он скоро поправится. Мы беседовали очень долго, пока помощник не напомнил, что прибыл посол одной из арабских стран — ему назначена аудиенция.
— А мы как-то не договорили, — с сожалением произнес Посувалюк.
Я встал, чтобы попрощаться. Он неожиданно задержал меня:
— Посидите еще с нами.
В небольшой комнате отдыха мы уселись втроем. Посол наверняка очень удивился, что на такой важной беседе присутствует посторонний, но как истинный дипломат виду не подал. Принесли чай. Мы поговорили несколько минут на общие темы, и, понимая, что нельзя злоупотреблять гостеприимством, я раскланялся. Пожимая руку Виктору Викторовичу, я не предполагал, что вижу его в последний раз.
Прощание с ним проходило в обычном месте — ритуальном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента. Собрался, наверное, весь наличный состав Министерства иностранных дел. Появился тогдашний глава правительства Сергей Вадимович Степашин, это оценили. Приехал уже отставленный от должности Евгений Максимович Примаков. Он сильно хромал, да и время было для него не лучшее (мы еще к этому вернемся), но не попрощаться со своим недавним заместителем не мог. Это одна из замечательных черт Примакова — верность друзьям и товарищам…
Во время первой войны в Персидском заливе Посувалюк оставался единственным каналом связи Ирака с внешним миром. Тарик Азиз попросил советского посла срочно передать Генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности: Ирак уже начал вывод войск из Кувейта, Ирак принимает все резолюции ООН и гарантирует выплату Кувейту компенсации за нанесенный ущерб.
Джордж Буш-старший и его команда добились своего. Если бы Буш прислушался к сторонникам умиротворения Саддама, Кувейт и по сей день был бы оккупирован иракскими войсками. Вечером 27 февраля Буш сделал заявление:
— Кувейт освобожден. Армия Ирака побеждена. Наши цели в военной сфере достигнуты. Кувейт опять принадлежит кувейтцам, они вновь распоряжаются собственной судьбой. Семь месяцев назад Америка и весь мир сказали: хватит! Мы заявили, что не потерпим агрессии против Кувейта. И вот сегодня Америка и весь мир сдержали свое слово.
Тринадцатого марта 1991 года Верховный Совет разрешил Горбачеву создать вместо распущенного Президентского совета новую структуру — Совет безопасности, своего рода узкий кабинет. В него вошли вице-президент Янаев, новый глава кабинета министров Валентин Сергеевич Павлов, председатель КГБ Крючков, министры обороны — Язов, внутренних дел — Пуго, иностранных дел — Бессмертных, а также Бакатин и Примаков, которому Горбачев хотел поручить внешнеэкономические дела.
Каждую кандидатуру утверждали депутаты. Надо было набрать больше половины голосов. При первом голосовании Верховный Совет не утвердил Примакова и Болдина. Кто-то из депутатов был недоволен бывшим спикером, но в основном, как выяснилось позже, целенаправленно работало против Примакова руководство Верховного Совета. Горбачев доказывал, что Примаков нужен в Совете безопасности. Заставил проголосовать еще раз. Примаков подошел к микрофону и попросил не переголосовывать. Поступок оценили по достоинству. Примаков прошел. Тогда на Евгения Максимовича смотрели как на подозрительного либерала, позже он воспринимался как неисправимый консерватор…
У Александра Яковлева была своя точка зрения на сей счет:
— Он не консерватор, он просто никогда не торопился с выводами. То, что можно сказать сегодня вечером, он предпочитал сказать завтра утром.
— Вокруг Горбачева, условно говоря, были две группы. Одна подталкивала его вперед, другая держала за руки: не надо спешить. С кем был Примаков? — спросил я Александра Николаевича.
— Примаков всегда считал, что надо двигаться вперед. Не так явно, без вспышек. Я был более радикален. Он более осторожен. Он был более осторожным во внешнеполитических делах, чем, скажем, Шеварднадзе. Но в решении принципиальных вопросов не помню, чтобы он оказывался на той стороне, которая говорила: не надо.
— Вы были единомышленниками? Или на дальнейшее будущее России смотрели по-разному?
— Конечно, единомышленниками. По принципиальным вопросам. Иначе бы разошлись. Хотя надо оговориться: он дружеские отношения ставил выше любых политических разногласий. В отношении будущего страны Евгений Максимович занимал достаточно определенную позицию: Советский Союз, пусть в другом виде, в виде конфедерации, но должен жить…
Вадим Бакатин считал, что Примаков не так близок был к Яковлеву, хотя у них хорошие отношения.
— Все мы, перестройщики, не знали, куда идти из нашего развитого социализма. Евгений Максимович, по-моему, курс на радикальные реформы не разделял. Практическая направленность, прагматизм, здравый смысл — вот его философия. Честно говоря, в некоторых вещах у нас с ним не было единодушия. Он был более жестким человеком, чем я. Я был большим либералом в то время. Романтиком. У меня была идеализация Запада. Я одно время искренне считал, что мир поможет нам войти в новую жизнь. Мир жесток оказался, и он никому ничего не хочет отдавать. Везде голая прибыль. Примаков лучше знал этот мир и осторожнее подходил к этим ахам: ах, всё будет хорошо! Не всё…
Формирование Совета безопасности затянулось. Примаков ведал международными экономическими вопросами. Закрепленного за ним круга обязанностей не было. Он сидел в кабинете, который прежде принадлежал Молотову, и писал Горбачеву о проблемах в сфере внешней торговли. Он считал первоочередной задачей подготовить почву для вступления Советского Союза в важнейшие международные экономические институты — Генеральное соглашение по торговле и тарифам (теперь это Всемирная торговая организация), Международный валютный фонд и Всемирный банк — и главное — войти в «семерку» крупнейших экономических держав. Этот вопрос обсуждался на заседании Совета безопасности 18 мая 1991 года. Примаков твердо сказал:
— Без Запада нам не обойтись.
Вадим Бакатин говорил:
— Люди такого высокономенклатурного ранга, как я их наблюдаю, очень умело используют своих помощников, любят, когда им напишут, заготовят. Очень немногие стараются это делать сами. Евгений Максимович из тех, кто всё делает сам. Дает Горбачев задание. Что делает мудрый аппаратчик? Поручит помощнику, тот еще кому-то. Примаков говорил: садимся и будем писать. Мне это нравилось. Я тоже старался писать сам, но у меня хуже получалось.
Примаков, в частности, писал Горбачеву записки о необходимости установления дипломатических отношений с Южной Кореей. Почему все страны имеют посольства в Сеуле, а мы нет? Просто потому, что это Северной Корее не понравится?.. Предлагал улучшить отношения с Японией, привлечь японский капитал к освоению Дальнего Востока.
Евгений Максимович был главным сторонником сближения с Южной Кореей. Возражали многие, ссылаясь на то, что Северная Корея, давний союзник, этого не простит. Примаков доказывал, что нельзя игнорировать существование второго корейского государства. Именно по его приглашению в Москву впервые приехал будущий президент Республики Корея Ким Ён Сам — еще в роли лидера оппозиции. Примаков в марте 1990 года организовал в Кремле первую, «случайную» встречу Ким Ён Сама с Горбачевым. По договоренности, Горбачев как бы невзначай зашел в кабинет Примакова, где находился в то время Ким Ён Сам. Они с Ким Ён Самом, политиком умным и обаятельным, поговорили. Первый шаг к установлению дипломатических отношений с Южной Кореей был сделан.
Но Совет безопасности оказался декоративным органом.
«В это время я не раз посещал Примакова, — писал один из руководителей международного отдела ЦК КПСС Карен Брутенц, — и, к своему удивлению, находил его неизменно свободным. А он, заметив мое удивление, как-то вяло посетовал на то, что обязанности в Совете безопасности не вполне четко разделены, частенько нет никаких поручений, и он сидит без дела (и это тогда, когда страна чуть ли не пылает)».
Положение о Совете безопасности, которое Примаков и Бакатин написали и передали вице-президенту Янаеву, чтобы он доложил Горбачеву, так и осталось у Янаева. Примаков был не очень доволен работой у Горбачева, но, как добросовестный человек, исполнял свои обязанности. Ворчал, но работал. Он занимал формально высокий пост, но не имел реальной власти.
Какую роль играл Примаков при Горбачеве?
Виталий Игнатенко рассказывал:
— Первое: он генерировал идеи — очень острые. Они не всегда находили поддержку — время еще не подошло. Второе: он умел находить необходимых людей и быстро оценивать их возможности. Многих он приводил в кабинет президента. У него крестников очень много. Работа была нервная, неблагодарная, очень запутанная. Разные ведомства нас окружали. Все мы сбегались к Примакову и находили помощь и поддержку, товарищеское участие в наших делах. Причем не только кто-то из молодых сотрудников, а все. И когда надо было принимать серьезные решения — несправедливо увольнялся какой-то человек, никто не мог, да никому и в голову не могло прийти — прорваться в кабинет президента и сказать: «Вы поступили неправильно. Этот человек должен остаться. Он не может быть за стенами нашего здания…» А Примаков мог так поступить. Вставал, шел к Горбачеву и очень решительно говорил…
Свойственная ему решительность проявилась и в драматические дни августа 1991 года.
Двадцатого июня 1991 года министр иностранных дел Советского Союза Александр Александрович Бессмертных вел в Берлине переговоры со своим постоянным партнером государственным секретарем Соединенных Штатов Джеймсом Бейкером. После переговоров вернулся в советское посольство. Вдруг позвонил государственный секретарь со словами, что им необходимо срочно встретиться вновь:
— Я должен вам сказать кое-что важное, но не по телефону, а только лично. Не могли бы вы приехать ко мне?
Бессмертных крайне удивился:
— Джим, в чем дело? Что произошло?
Бейкер говорил как-то неуверенно:
— Повторяю, у меня срочное дело. Очень хотелось бы немедленно встретиться.
Бессмертных решил, что речь идет о какой-то детали, которую они не успели обсудить на переговорах.
— Через несколько минут у меня встреча с министром иностранных дел Кипра. Неужели дело не может подождать? Ну, если очень срочно, приезжайте, поговорим.
Бейкер стал говорить тверже:
— Дело у меня деликатного свойства. Если я поеду, то вслед двинется большое количество машин с охраной, заинтересуется пресса. Если можете, приезжайте вы. Я буду ждать в гостинице. Но желательно не привлекать внимания.
Бессмертных никак не мог решиться:
— Неужели это так срочно? У меня всё же беседа с кипрским министром…
Бейкер настаивал:
— Я бы на вашем месте в принципе отложил все дела и немедленно приехал. Я должен сказать нечто очень важное и срочное. Приезжайте один.
Бессмертных взял у советского посла машину и поехал без охраны, без мотоциклистов сопровождения, тайно. Взял с собой только Георгия Энверовича Мамедова, начальника Управления США и Канады (и будущего заместителя министра), полагая, что разговор пойдет на двусторонние темы.
В гостинице «Интерконтиненталь» американцы никого не подпускали к лифту, чтобы Бессмертных мог сразу же подняться к Бейкеру. Госсекретарь, увидев Мамедова, сказал, что хотел бы говорить один на один. Как только все их оставили, Бейкер сообщил Бессмертных:
— Я только что получил шифровку из Вашингтона. Она, вероятно, построена на разведывательной информации. Речь идет о попытке смещения Горбачева. По нашим данным, в этом примут участие премьер-министр Павлов, министр обороны Язов и председатель КГБ Крючков.
Бейкер, как человек осторожный, на всякий случай не сказал, от кого получена эта информации, хотя знал имя. В полдень того же дня в резиденции посла Соединенных Штатов в Советском Союзе Джона Мэтлока, который прекрасно говорит по-русски, появился мэр Москвы Гавриил Харитонович Попов. Они расположились в библиотеке.
Попов достал лист бумаги, что-то на нем написал и передал послу. Там было написано: «Готовится попытка снять Горбачева, надо сообщить Борису Николаевичу». Ельцин в тот момент находился в Соединенных Штатах.
Мэтлок, продолжая разговор, написал на том же листке: «Я передам. Кто это делает?»
Попов назвал четыре фамилии: «Павлов, Крючков, Язов, Лукьянов».
Как выяснится в августе, Гавриил Харитонович не ошибся… Он разорвал листок на мелкие клочки и сунул себе в карман.
Когда московский мэр ушел, Джон Мэтлок набросал записку и с офицером охраны отправил в посольство. До встречи президента Буша с Ельциным оставалась пара часов. Заместитель Мэтлока в посольстве связался по защищенному от прослушивания телефону с первым заместителем государственного секретаря США Лоуренсом Иглбергером. Тот отправился в Белый дом и доложил о сообщении из Москвы президенту Джорджу Бушу и его советнику по национальной безопасности Бренту Скоукрофту. Одновременно шифротелеграмма из посольства в Москве была доложена Бейкеру, который в тот момент в Берлине заканчивал переговоры с Бессмертных.
Американцы пришли к выводу, что они обязаны предупредить Горбачева. Но стоит ли самому Бушу напрямую звонить Горбачеву — ведь горячую линию связи между двумя столицами обеспечивают связисты КГБ?
— Надо связаться через Бессмертных, — предложил Бейкер. Он и попросил советского министра иностранных дел немедленно приехать. Бейкер сказал Александру Александровичу:
— Мы считаем, что информация настолько важна, что вам следует о ней знать. Ваше дело, что с ней делать. Но с нашей точки зрения, вопрос срочный, и вам надо срочно доложить Горбачеву. Есть ли у вас надежная линия связи?
Бессмертных ответил, что в советском посольстве есть аппарат ВЧ или, как его теперь называют, ПМ — правительственной междугородней связи, но эта связь контролируется КГБ. Тогда Бейкер предложил передать информацию через американского посла в Москве Джона Мэтлока.
Бессмертных позвонил помощнику Горбачева по международным делам Черняеву и, не объясняя сути дела, попросил, чтобы президент принял посла незамедлительно. Черняев доложил Горбачеву. Тот согласился принять посла и попросил Анатолия Сергеевича присутствовать. Он и описал эту встречу: «На Мэтлоке буквально не было лица. Горбачев, не обратив на это внимания, стал выражать сожаление в связи с его предстоящим отъездом, говорил, что очень ценит его деятельность».
Дождавшись, когда ему позволят говорить, Мэтлок сказал:
— Господин президент, я только что получил личную шифротелеграмму от своего президента. Он велел мне немедленно встретиться с вами и передать следующее: американские службы располагают информацией о том, что завтра будет предпринята попытка отстранить вас от власти. Президент считает своим долгом предупредить вас.
Курсант Бакинского военно-морского подготовительного училища с мамой Анной Яковлевной Примаковой.
1944 г.
Двор в Тбилиси, в котором прошло детство Евгения Максимовича
Аспирант Московского государственного университета. 1954 г.
Счастливая семья. 1963 г.
Анна Яковлевна Примакова
С сыном
в редакции «Правды».
1964 г.
Собкор «Правды» в арабских странах и Эфиопии. 1966 г
Одна из первых встреч с Саддамом Хусейном. 1975 г.
С женой Лаурой в Японии. 1986 г.
«Десант», высаженный в Индии перед визитом М. С. Горбачева. 1986 г.
Тарик Азиз (первый слева) в Москве…
С опозданием и без полномочий. Улыбки не отвечают ситуации — США уже запустили механизм «войны в пустыне». 1991 г.
На Кубе. С Фиделем и Раулем Кастро теплые отношения установились сразу, без «притирки». 1994 г.
Президент Ирана Рафсанджани располагал к откровенному разговору
С советником иранского духовного лидера Хомейни по вопросам внешней политики, бывшим министром иностранных дел Велаяти
С президентом Бушем-старшим
Обаятельный, образованный, доброжелательный лидер исмаилитов Ага Хан
Президент Клинтон понимал юмор,
поэтому встречи с ним носили непринужденный характер. 1996 г.
С госсекретарем США У. Кристофером. 1996 г.
Мадлен Олбрайт и Строуб Тэлботт в гостях у Евгения Примакова.
После посещения ими гостеприимного дома Евгения Максимовича произошел перелом в трудных переговорах. 1997 г.
Заседание контактной группы в Бонне 6 марта 1998 года. Министр иностранных дел Германии Клаус Кинкель, который не дрогнул под напором госсекретаря США
С Цзян Цзэминем сразу установился дружеский контакт
С министром иностранных дел Флавио Котти, который впоследствии стал президентом Швейцарии
Прием у папы римского Иоанна Павла II
Посещение вдовы Раджива Ганди
Послание В. В. Путина Саддаму Хусейну с предложением уйти с поста президента Ирака. Если бы он согласился…
Евгений Примаков во время посещения российской миротворческой бригады в боснийском городе Углевик. Март 1998 г.
Горбачев и Черняев рассмеялись, настолько невероятным им это показалось. Джон Мэтлок смутился:
— Я не мог не выполнить поручение президента.
Горбачев поспешил его успокоить:
— Это абсолютно невозможно. Успокойте его. Но я ценю, что Джордж сообщает мне о своей тревоге. Раз поступила такая информация, долг друга — предупредить. И я вижу, насколько далеко мы ушли вперед во взаимном доверии. Это очень ценно.
Поскольку Мэтлок, разумеется, не назвал хорошо известный ему источник информации, Горбачев сам попытался объяснить послу, откуда могли взяться такие тревожные слухи:
— Дело идет к подписанию Союзного договора, к согласию в обществе. Но есть силы, которым это не нравится. Они чувствуют, что теряют власть. Не исключаю, что в их среде ведутся разные разговоры, в том числе и такие, которые подслушал ваш разведчик.
Тем временем в Вашингтоне президент Буш принимал восходящую звезду советской политической сцены — Бориса Николаевича Ельцина, только что избранного президентом России. Буш пересказал ему то, что сообщил Попов. Ельцин не раздумывал ни секунды: нужно предупредить Горбачева. Буша вполне устраивало, чтобы эту информацию Горбачеву пересказал Ельцин. Буш попросил соединить его с Москвой.
В советской столице близилась полночь. Горбачев уже уехал на дачу. Дежурный секретарь из президентской приемной в сомнении обратился к Черняеву: американский президент желает поговорить с Михаилом Сергеевичем. Как быть?
Тот уверенно сказал:
— Соединяйте.
Вызов переключили на президентскую дачу. Но Михаил Сергеевич с Раисой Максимовной вышли погулять. Это был обязательный ритуал — каждый вечер, когда он возвращался на дачу, они делали несколько кругов. Горбачев рассказывал, что происходило в течение дня, Раиса Максимовна внимательно слушала и давала советы. Охрана не решилась их побеспокоить. Михаилу Сергеевичу доложили о звонке из Вашингтона, когда прогулка завершилась. Горбачев распорядился немедленно соединить его с Белым домом, но теперь уже Буш не мог разговаривать.
На следующее утро Горбачев устроил разнос председателю КГБ Владимиру Крючкову и руководителю президентского аппарата Валерию Болдину за то, что они не смогли организовать разговор с Бушем. Болдину велел разогнать дежурных секретарей:
— Идиоты, дармоеды! Один из них меня до сих пор Леонидом Ильичом иногда называет.
Когда разговор с Бушем, наконец, состоялся, американский президент был рад услышать, что нет никаких оснований для беспокойства. Сгоряча он даже выдал Горбачеву источник информации — Попова. Тогда Горбачев и вовсе успокоился: Гавриил Харитонович не может знать больше президента СССР. Наверняка мэр Попов несколько прямолинейно истолковал выступление премьер-министра Павлова на закрытом заседании Верховного Совета 17 июня.
Павлов позволил себе критиковать президента за бездействие и требовал предоставить ему дополнительные полномочия, сравнимые с полномочиями самого президента. Горбачева тоже смутило резкое выступление Павлова, а еще больше то, что премьер-министра поддержали председатель КГБ Крючков, министр обороны Язов и министр внутренних дел Пуго.
Все трое силовых министров, не называя президента, фактически предъявили ему обвинения в антигосударственной деятельности. На следующий день Горбачев появился в Верховном Совете и, как ему показалось, погасил эффект от внезапного бунта силовых министров.
Вернувшись в Москву, Бессмертных спросил Горбачева, передал ли ему Мэтлок информацию о заговоре.
— Да, я всё знаю, — небрежно кивнул Михаил Сергеевич и перевел разговор на темы, казавшиеся ему более важными.
До путча оставалось два месяца.
Увидев московского мэра, Горбачев погрозил ему пальцем:
— Ну, зачем вы рассказываете сказки американцам?
Но еще до этой истории Горбачев получил предупреждение от другого человека, чьему мнению должен был бы доверять. Черняев пишет в книге «Шесть лет с Горбачевым», что это сделал Примаков.
Евгений Максимович говорил Горбачеву:
— Вы слишком доверились КГБ, службе вашей безопасности. Уверены ли вы в ней?
Горбачев назвал на редкость трезвомыслящего и уравновешенного Примакова паникером, недовольно сказал:
— Женя, успокойся. Ты-то хоть не паникуй.
Раз Примаков тоже приходил к Горбачеву с предупреждением о готовящемся путче, значит, окружение президента что-то предчувствовало? Я спрашивал об этом Виталия Игнатенко, который был тогда помощником президента СССР.
— Конечно, мы говорили на эту тему, — сказал Игнатенко. — Но одно дело — сидеть в курилке или у себя в кабинете и рассуждать с приятелями. Другое — прийти к президенту и сказать ему: за вашей спиной заговор. И взвалить на себя колоссальную ответственность, потому что, во-первых, никто не хотел в это верить, а во-вторых, все те, о ком шла речь, с ним же за одним столом сидели. Так что такие предупреждения могли дорого стоить. Мэр Москвы Гавриил Харитонович Попов пришел с этими подозрениями в американское посольство, а Примаков пошел к Горбачеву. И тот и другой поступили очень смело, но степень смелости разная, и разная ответственность за свои слова…
Семнадцатого июля 1991 года Горбачев впервые участвовал во встрече семи наиболее развитых стран в Лондоне. Примаков принял в ее организации самое деятельное участие. А когда Михаил Сергеевич уехал в последний в его президентской жизни отпуск, разъехались и все его сотрудники. Примаков с внуком Женей отдыхал в санатории «Южный» неподалеку от Фороса, где был блокирован Горбачев. О том, что Горбачев отстранен от власти, Евгений Максимович узнал одновременно со всей страной. В болезнь Горбачева не поверил, потому что накануне президент беседовал по телефону со своими помощниками.
Во второй половине дня 18 августа у Примакова в санатории перестали работать спецсвязь и городской телефон. Успокаивали: быстро починят. Но 19 августа с президентом уже не соединяли. В тот день страна проснулась и узнала, что президент Горбачев отставлен от должности, а всем управляет Государственный комитет по чрезвычайному положению. ГКЧП продержался всего три дня. Но эти три дня разрушили нашу страну.
По прошествии нескольких лет августовский путч 1991 года многим кажется чем-то смешным и нелепым, дворцовой интригой, кремлевской опереткой. Одни с трудом вспоминают, что Михаила Сергеевича вроде и в самом деле заперли в его летней резиденции в Форосе, а другие уверены, что он сам, не желая отказываться от морских купаний, послал подчиненных наводить порядок в стране, а потом почему-то на них обиделся и велел арестовать…
Участники ГКЧП, сначала защищаясь, а потом и нападая, утверждали, что Горбачев захотел въехать в рай на чужом горбу. Сам объявить чрезвычайное положение не решился, а им сказал: черт с вами, действуйте!
Да если бы Горбачев когда-нибудь в жизни говорил: «Вы действуйте, а я посижу в сторонке», — он бы никогда не стал генеральным секретарем! Он принадлежит к породе властных и авторитарных людей, которые исходят из того, что всё должно делаться по их воле. Он-то понимал, что именно подвигло членов ГКЧП на внезапные действия.
Накануне отъезда в отпуск, 29 июля, Горбачев встретился в Ново-Огареве с президентом России Ельциным и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Обсуждались самые что ни на есть деликатные проблемы.
Горбачев вспоминал:
«Разговор шел о том, какие шаги следует предпринять после подписания Союзного договора. Согласились, что надо энергично распорядиться возможностями, создаваемыми договором и для республик, и для Союза…
Возник разговор о кадрах.
В ходе обмена мнениями родилось предложение рекомендовать Назарбаева на пост главы Кабинета министров. Он сказал, что готов взять на себя эту ответственность… Конкретно встал вопрос о Язове и Крючкове — их уходе на пенсию.
Ельцин чувствовал себя неуютно: как бы ощущал, что кто-то сидит рядом и подслушивает. А свидетелей в этом случае не должно было быть. Он даже несколько раз выходил на веранду, чтобы оглядеться, настолько не мог сдержать беспокойства.
Сейчас я вижу, что чутье его не обманывало. Плеханов (начальник Девятого управления КГБ) готовил для этой встречи комнату, где я обычно работал над докладами, рядом другую, где можно перекусить и отдохнуть. Так вот, видимо, всё было заранее “оборудовано”, сделана запись нашего разговора, и, ознакомившись с ней, Крючков получил аргумент, который заставил и остальных окончательно потерять голову. Поэтому заявления гэкачепистов о том, что ими двигало одно лишь патриотическое чувство, — демагогия, рассчитанная на простаков».
Замену пока нашли только Павлову, но Крючкова и Язова твердо решили отправить на пенсию. Кроме того, договорились сократить разбухший правительственный аппарат — упразднить некоторое количество министерств и ведомств.
Будущий член ГКЧП премьер-министр Павлов знал, что его ждет. Еще 3 января 1991 года на совещании у Горбачева возникал вопрос о новом главе правительства. Его советники Евгений Максимович Примаков и Вадим Викторович Бакатин предложили кандидатуру Назарбаева. Тогда вопрос отложился. Но премьер-министр Павлов знал, что не усидит в своем кресле. В июне его первый заместитель Владимир Иванович Щербаков пересказал своему шефу конфиденциальный разговор с Горбачевым: президент предлагал ему возглавить правительство. Так что Валентину Павлову тоже было что терять — после подписания Союзного договора он бы перестал возглавлять правительство.
«Переворот готовили заранее, — вспоминал Петр Кириллович Лучинский, который в 1991 году был секретарем ЦК КПСС. — Определенные намеки поступали и в мой адрес. Например, Болдин, один из самых влиятельных помощников Горбачева, мне говорил сухим, едва ли не приказным тоном:
— Вам надо встретиться с Язовым!
Я уклонялся от этого, понимал, что дело нечисто, подозревал провокацию. Ведь я был недавним членом политбюро, мало ли, думал, какие у них существуют проверки… Кто же мог предположить, что один из самых доверенных людей Горбачева — Болдин устроит, по сути, государственный переворот? Другой вопрос, был ли в курсе такой подготовки Михаил Сергеевич? Однозначный ответ на него до сих пор неведом.
Поговорить с Горбачевым по-человечески, задушевно, мне ни разу не довелось. Позже узнал, что близких товарищей у него, по сути, никогда не было. Разве что Раиса Максимовна — пусть земля ей будет пухом… Он вел себя как английский лорд, убежденный, что у Англии не может быть ни друзей, ни врагов, а есть лишь собственные интересы. В отношениях с соратниками он никогда “не опускался” до бесед по душам хотя бы за “рюмкой чая”. Кстати, я знаю, генсек уважал молдавский коньяк, предпочитая его даже “своим” кавказским…»
Председатель КГБ Крючков прощупывал секретаря ЦК по международным делам Валентина Михайловича Фалина, который был недоволен линией Горбачева в немецких делах. Крючков заговорил о «неадекватном поведении» Горбачева, которое «всех беспокоит». Фалин, который ни о чем не подозревал, предложил откровенно поговорить с Горбачевым. Больше Крючков ему не звонил.
Четвертого августа, в воскресенье, Горбачев улетел в Крым. Его провожало всё руководство страны. Вице-президенту Янаеву Михаил Сергеевич сказал:
— Ты остаешься на хозяйстве.
Заместитель генерального секретаря ЦК КПСС Владимир Антонович Ивашко болел и уехал поправлять здоровье в подмосковный санаторий «Барвиха». Его обязанности исполнял Олег Семенович Шенин, отвечавший в ЦК за оргвопросы. Олег Шенин прежде работал первым секретарем Красноярского крайкома. Летом 1990 года Горбачев перевел понравившегося ему Шенина в Москву членом политбюро и секретарем ЦК КПСС. Уходя в отпуск, Михаил Сергеевич просил его присматривать за партийными делами, в сложной ситуации действовать по обстоятельствам.
Горбачев, похоже, не хотел задумываться над тем, что секретарь ЦК по оргделам — его принципиальный идеологический противник. В апреле 1991 года Олег Шенин выступал на партийной конференции аппарата и войск КГБ СССР:
— Если посмотреть, как у нас внешние сионистские центры и сионистские центры Советского Союза сейчас мощно поддерживают некоторые политические силы, если бы это можно было показать и обнародовать, то многие начали бы понимать, кто такой Борис Николаевич и иже с ним… Я без введения режима чрезвычайного положения не вижу нашего дальнейшего развития, не вижу возможности политической стабилизации и стабилизации экономики.
На секретариате ЦК Шенин бросил:
— Надо что-то делать. А то будем висеть на фонарях на Старой площади.
Что не помешало именно Олегу Шенину в марте 1991 года от имени секретариата ЦК поздравить Михаила Сергеевича с днем рождения и произнести речь о его выдающихся качествах. В тот день Горбачев пригласил к себе в кабинет всего полтора десятка человек, угостил шампанским.
Начальник службы охраны Плеханов улетел вместе с Горбачевым — так полагалось. Юрий Сергеевич Плеханов, окончивший заочно пединститут и перешедший с комсомольской работы на партийную, много лет работал у председателя КГБ Юрия Владимировича Андропова. После смерти Юрия Владимировича получил погоны генерал-лейтенанта и стал начальником Девятого управления КГБ (охрана руководителей партии и государства) — Горбачев доверял андроповским кадрам.
В те времена офицеры «девятки» не столько охраняли — не от кого было, — сколько обеспечивали быт высших руководителей, служили своего рода няньками. Охранники следили за порядком на госдаче, доставляли заказанные на спецбазе продукты, вовремя приглашали врача, вызывали портного из ателье — сшить костюм, возили на корт — заниматься спортом. Старшему охраннику из кассы Девятого управления выдавали и наличные — на мелкие расходы подопечного лица. Руководители партии и государства жили, как при коммунизме, деньги им были нужны только для того, чтобы заплатить партийные взносы.
В Форосе Плеханов неожиданно сказал начальнику личной охраны президента генералу Владимиру Тимофеевичу Медведеву:
— У тебя усталый вид. Отдохнуть бы тебе надо.
Медведев удивился: отпуск ему всегда давали зимой, а тут такая забота. Смысл ее станет ясен позднее. Плеханов даже поговорил с Горбачевым, но тот своего главного охранника не отпустил. Через несколько дней Плеханов вернулся в Москву.
Пятого августа Болдин и Шенин позвонили Крючкову и с намеком спросили: читал ли председатель КГБ проект Союзного договора и понимает ли он, что будет означать его принятие? Крючков предложил встретиться в неформальной обстановке и обсудить ситуацию.
Будущие члены ГКЧП собрались в тот же день вечером в особняке Комитета госбезопасности «АБЦ», который находится на улице Академика Варги, дом 1. В служебных документах «АБЦ» значился как «Объект КГБ СССР для обучения иностранцев и приема зарубежных делегаций». Здесь встречались высшие руководители госбезопасности, когда им хотелось отдохнуть и поговорить в неформальной обстановке. Здесь есть сауна, бассейн, комнаты отдыха и хорошая кухня с запасом продуктов и выпивки на все вкусы. Объект круглосуточно охранялся прапорщиками КГБ. Право беспрепятственного доступа имели председатель комитета и его заместители. Остальные должны были заказывать пропуска.
Перед каждой встречей председатель КГБ звонил начальнику внешней разведки генерал-лейтенанту Леониду Владимировичу Шебаршину (объект находился в его ведении), спрашивал, свободен ли гостевой дом, просил всё подготовить.
В восемь вечера приехал без машины сопровождения министр обороны маршал Язов с одним охранником. С его автомобиля в целях конспирации даже сняли проблесковый маячок. Затем приехали Крючков на «мерседесе», Болдин и секретари ЦК Олег Шенин и Олег Бакланов (он же председатель комиссии ЦК по военной политике и заместитель председателя Совета обороны при президенте страны).
Почему Бакланов присоединился к этой группе? Однажды на заседании политбюро Горбачев сказал ему:
— А ты какие деньги жрешь? Один старт твоей ракеты сколько стоит? Плюнул один раз в космос, миллиарды там летают…
На другом заседании политбюро Горбачев сказал:
— Мы тратим в два с половиной раза больше, чем США, на военные нужды. Ни одно государство, кроме слаборазвитых, которых мы заваливаем оружием, ничего не получая взамен, не расходует на эти цели в расчете на душу населения больше, чем мы…
В отсутствие Горбачева они чувствовали себя свободно и откровенно говорили о том, что наведение порядка в стране требует жестких мер и нужно их готовить.
Они разъехались около одиннадцати вечера. На следующий день, выполняя договоренность, Язов вызвал к себе командующего воздушно-десантными войсками Павла Сергеевича Грачева (удостоенного в Афганистане «Золотой Звезды» Героя «за умелое выполнение боевых задач при наименьших потерях среди личного состава») и сказал, что генералу поручается совместная работа с КГБ над одним важным документом. Язов велел Грачеву немедленно ехать в КГБ, потому что Крючков желает с ним познакомиться.
Всё это известно со слов самого Грачева, который после провала путча охотно беседовал со следователями. Маршалу Язову не оставалось ничего иного, кроме как подтвердить его показания. Потом Грачев многое повторил в интервью для документального фильма Александра Стефановича «Жаркий август 1991-го»:
— Крючков сам выходит мне навстречу. Обнял за плечи: «Слышал-слышал, молодец, теперь надо с тобой познакомиться… Хороший командир».
Это происходило около семи вечера. В кабинете Крючкова уже находились бывший начальник его секретариата, а в ту пору заместитель начальника Первого главного управления КГБ (внешняя разведка) генерал-майор Владимир Жижин и полковник Алексей Егоров, помощник первого заместителя председателя КГБ Грушко. Генерал-полковник Виктор Федорович Грушко был любимцем Крючкова. Полковник Егоров, как доверенный человек Грушко, участвовал в разработке планов чрезвычайного положения с декабря 1990 года.
По словам Грачева, председатель КГБ рассуждал так:
— Внутриполитическая обстановка в стране нестабильна. Всё это может привести к хаосу и негативным настроениям отдельных слоев населения. А в дальнейшем — даже к гражданской войне. Эту обстановку надо исправлять. Конечно, в первую очередь политическим путем — это смена руководства. Тем более что Михаил Сергеевич болен, тяжело болен, и возможно, что он через несколько дней подаст в отставку. Но в связи с тем, что его уход разные люди могут расценить по-разному, необходимо выработать план действий политического руководства страны в нестандартной обстановке. С этой целью необходимо проработать проект плана и представить его на рассмотрение политического руководства страны.
Говорил Крючков тихо, спокойно, но в этом тихом спокойном голосе генерал Грачев почувствовал внутреннюю уверенность в себе и своих возможностях.
Грачев уточнил:
— Я командующий воздушно-десантными войсками. Я в политике слабак, меня этому делу не учили. Я могу поехать воевать, обучать солдат… По-моему, это не в мой адрес.
— Нет, в ваш адрес, — подтвердил Крючков. — В случае напряженной обстановки десантники в первую очередь нам потребуются, чтобы вместе с соответствующими органами государственной безопасности стабилизировать обстановку.
Грачев кивнул:
— Ну, если так, я доложу министру обороны.
— С министром обороны всё согласовано.
— А что мне нужно делать?
— Есть хорошая дача. Там отдохнете и заодно поработаете вместе с нашими товарищами.
Грачев, Жижин и Егоров перешли в кабинет генерала Грушко, который объяснил, что им предстоит просчитать последствия введения чрезвычайного положения в стране, а также какие силы для этого понадобятся. Дисциплинированный Грачев всё же позвонил Язову и доложил о поручении председателя КГБ. Министр обороны разрешил ему участвовать в этой работе.
На следующий день Грачев подъехал к посту ГАИ по Ленинградскому шоссе. Там стояла черная «Волга». Два молодых человека предложили пересесть в их машину. Генерала доставили в красивый особнячок. Это был объект Второго главного управления КГБ (контрразведка) под названием «конспиративная дача № 65» в деревне Машкино Химкинского района Московской области. Там уже был накрыт стол. Начали с обеда. Потом один из офицеров КГБ объяснил:
— Павел Сергеевич, нам поручено разработать проект решения политического руководства на случай передачи политической власти от Горбачева другому лидеру нашего государства.
— А кто этот другой?
— Мы сами не знаем.
Выложили на стол охапку бумаг. Грачев спросил:
— А это что такое?
— Варианты перехода власти от одного правителя к другому в различных странах.
— Вы там что, тоже работали?
Ну, они поулыбались, конечно. Пошутили.
— Павел Сергеевич, если мы будем привлекать войска для усиленной охраны объектов, вы можете расписать, что нужно усиливать в городе Москве?
Грачев:
— Вы ж знаете революцию семнадцатого года. Здания правительства, мэрии, банки, вокзалы, телефонные станции, телевизионные помещения… Можно набросать, конечно.
— И состав сил и средств.
— У нас Тульская воздушно-десантная дивизия готова усилить любой объект.
Втроем они подготовили обширную записку с указанием, какие силы для этого потребуются. Грачев предложил вызвать на случай волнений в Москве Тульскую воздушно-десантную дивизию. Чекисты повезли доклад Крючкову, Грачев отдал со-крашенную копию Язову. В записке говорилось, что нет законных оснований для введения чрезвычайного положения, население будет реагировать негативно. Но Крючков сказал, что после подписания Союзного договора вводить чрезвычайное положение еще сложнее.
Четырнадцатого августа Крючков собрал свою команду. Он сказал, что Горбачев не в состоянии адекватно оценить обстановку, у президента СССР психическое расстройство, он собирается подать в отставку, и, вероятно, придется всё-таки вводить чрезвычайное положение. И поручил своим подчиненным вместе с Грачевым подготовить проекты первоочередных документов на случай введения чрезвычайного положения. Крючков продиктовал им несколько формулировок, которые помощники старательно записали.
На следующий день Грачев, Егоров и Жижин встретились в том же загородном особняке и подготовили проекты документов, которые вечером получили первый заместитель председателя КГБ Грушко и генерал Всеволод Ачалов, заместитель министра обороны. Они вместе доработали документы, которые вскоре подпишут члены ГКЧП, — это «Постановление ГКЧП № 1», «Заявление Советского руководства», «Обращение к советскому народу». 16 августа утром Грушко передал все документы Крючкову на окончательное одобрение.
Дальше события развивались так.
Шестнадцатого августа секретарь ЦК Олег Бакланов приехал к Крючкову на Лубянку — тогда, надо понимать, и было принято окончательное решение действовать. Из членов ГКЧП они двое оказались самыми деятельными. Во второй половине дня Крючков сказал своему заместителю Гению Агееву, бывшему секретарю парткома КГБ, что создается Комитет по чрезвычайному положению и Союзный договор 20 августа подписан не будет. Горбачева попросят передать власть ГКЧП. Если он откажется, возникнет необходимость изолировать президента Горбачева. Крючков поручил Агееву подобрать связистов, которые этим займутся и утром 18 августа смогут полететь в Крым.
Агеев отозвал из отпуска начальника Управления правительственной связи КГБ Анатолия Григорьевича Беду. 17 августа тот сформировал группу из пяти сотрудников во главе со своим первым заместителем Александром Сергеевичем Глущенко.
Крючков пригласил к себе и начальника службы охраны КГБ Юрия Сергеевича Плеханова, который должен был обеспечить доступ в резиденцию Горбачева, а при необходимости ее изолировать. Плеханов вызвал начальника специального эксплуатационно-технического управления при хозяйственном управлении КГБ Вячеслава Владимировича Генералова и поручил ему всё организовать на месте.
Из отпуска отозвали начальника 12-го отдела КГБ Евгения Ивановича Калгина, бывшего личного секретаря Андропова. 12-й отдел занимался прослушиванием телефонных разговоров и помещений, а также перехватом сообщений, передаваемых факсимильной связью. Контролеры 12-го отдела, в основном женщины, владели стенографией и машинописью, их учили распознавать голоса прослушиваемых лиц.
Крючков сказал, что накануне подписания Союзного договора готовится крупная провокация, и приказал Калгину и Беде организовать прослушивание разговоров, которые ведутся по телефонам правительственной связи Бориса Николаевича Ельцина, главы российского правительства Ивана Степановича Силаева, вице-президента Александра Владимировича Руцкого, первого заместителя председателя Верховного Совета Руслана Имрановича Хасбулатова, государственного секретаря Геннадия Эдуардовича Бурбулиса, бывшего министра внутренних дел Бакатина. Задача: не только знать, что они предпримут, но и где они в данный момент находятся — на тот случай, если будет принято решение их изолировать.
Кроме того, подозрительный Крючков распорядился организовать слуховой контроль телефонов своих соратников Лукьянова и Янаева, чтобы знать, не попытаются ли они вести двойную игру. Прослушивание разговоров шло с 16 по 21 августа. Этим занимались 3-й отдел Управления правительственной связи и контролеры 6-го отделения 12-го отдела КГБ. Самую интересную информацию по указанию Калгина представляли в письменном виде Крючкову, в его отсутствие — Гению Агееву.
Когда Ельцин вернулся в Москву вечером 18 августа, начали прослушивать все его аппараты — в Белом доме и на даче в Архангельском. 19 августа его телефоны вообще отключили. 21 августа, когда путч провалится, Крючков, вылетая в Форос, прикажет прекратить прослушивание и все материалы, включая магнитофонные записи, уничтожить…
Шестнадцатого августа после разговора с Крючковым министр обороны Язов распорядился выделить военные вертолеты для скорейшей доставки находившегося в отпуске председателя Верховного Совета Анатолия Ивановича Лукьянова в Москву. Будущие члены ГКЧП постоянно беседовали с Лукьяновым, от позиции которого многое зависело. Эти контакты зафиксированы, потому что они велись через оператора спец-коммутатора, пользоваться которым могли всего несколько десятков высших руководителей государства.
Спецкоммутатор очень удобен: достаточно назвать оператору имя человека, с которым хочешь поговорить, и его отыщут, где бы он ни был — дома, на даче, в машине или даже в самолете, — по закрытой космической связи. Но о каждом разговоре операторы спецкоммутатора делают пометку в журнале с точным указанием времени разговора и его продолжительности.
Восьмого августа Крючков разговаривал с Лукьяновым двадцать с лишним минут. Через день Крючков опять перезвонил Лукьянову. Потом с председателем Верховного Совета связался премьер-министр Павлов. 12 августа Лукьянову звонил еще один будущий член ГКЧП — секретарь ЦК Олег Шенин, он же звонил Лукьянову 16 августа. Тот был занят, трубку не снял и перезвонил попозже.
Для Лукьянова военные летчики подготовили два вертолета, оборудованные салонами для перевозки пассажиров литера «А». Но когда они прилетели на Валдай и приземлились на аэродроме Хотилово, выяснилось, что очень торопившийся Лукьянов уже улетел вертолетом спецподразделения гражданской авиации. При этом Анатолий Иванович тщательно скрывал свое намерение неожиданно вернуться в Москву от самых близких сотрудников.
Тогдашний председатель Совета Союза Иван Лаптев вспоминал, как 17 августа ему позвонил Лукьянов с Валдая:
— К подписанию Союзного договора всё готово?
— Да, я только что заходил в Большой Кремлевский дворец, по-моему, всё очень здорово.
— А сценарий Михаилу Сергеевичу послали?
— Еще вчера вечером.
— Ну, тогда, значит, так: я прилечу вертолетом в понедельник вечером, Михаил Сергеевич — утром во вторник. В двенадцать часов подпишем договор, и мы с Горбачевым будем отдыхать. Ты тоже можешь собираться в отпуск.
Лукьянов говорил всё это Лаптеву, зная, что никакого подписания не будет. На языке спецслужб это называется «операцией прикрытия».
Председатель КГБ РСФСР (недолго существовавшего) генерал-майор Виктор Валентинович Иваненко вспоминал, как в мае 1991 года наивно спросил Ельцина:
— Почему нельзя договориться с Крючковым? Страна одна, дело общее, все заинтересованы найти выход.
Ельцин объяснил:
— Они же меня врагом считают.
Борис Николаевич был прав.
Семнадцатого августа Крючков велел начальнику Седьмого управления КГБ (наружное наблюдение, обыски, аресты) вместе с Министерством обороны спланировать операцию по задержанию президента России Ельцина.
В тот день, в субботу, у Крючкова на всё том же объекте «АБЦ» собрались министр обороны Язов, глава кабинета министров Павлов, секретарь ЦК Шенин, заместитель председателя Совета обороны Бакланов, руководитель президентского аппарата Болдин, заместитель председателя КГБ Грушко, замминистра обороны Ачалов и еще один заместитель министра обороны, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Валентин Иванович Варенников.
Валентин Павлов в этот субботний день проводил заседание президиума правительства. Вернувшись в свой кабинет, распорядился вызвать машину, чтобы ехать на дачу. Вдруг позвонил Крючков. Это было около четырех дня. Председатель КГБ настойчиво попросил главу правительства заехать к нему, чтобы обсудить некоторые важные вопросы.
На объекте «АБЦ» расположились в беседке. Павлов и начал разговор, сказал, что обстановка в стране сложная, положение с уборкой урожая тяжелое, нет топлива, стране угрожают голод и холод. Пора принимать самые жесткие меры и вводить чрезвычайные меры. Причем это надо сделать до подписания Союзного договора. Если документ подпишут, будет уже поздно.
Крючков вытащил из папки документы, подготовленные Егоровым и Жижиным, и ознакомил с ними будущих членов ГКЧП. Говорили сбивчиво, перебивали друг друга, хотя на самом деле основные шаги обсудили заранее. Генерал Варенников скажет потом на допросе:
— ГКЧП был создан до моего участия в беседе 17 августа.
В конце концов сговорились лететь в Форос, чтобы заставить Горбачева ввести чрезвычайное положение. Если он откажется — пусть подает в отставку и передает свои полномочия другим. В крайнем случае — объявить его больным и изолировать в Форосе. Руководство страной примет на себя по конституции вице-президент Геннадий Янаев. Для руководства страной будет сформирован Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР.
Крючков многозначительно сказал, что относительно охраны Горбачева беспокоиться не надо, Плеханов обо всём позаботится, связь у Горбачева отключит и вообще примет меры. Какие именно меры — никто интересоваться не стал.
На следующий день утром Язов провел совещание в министерстве со своими заместителями и начальниками главных управлений. Он приказал командующему Московским военным округом генералу Николаю Васильевичу Калинину быть готовым ввести в Москву 2-ю мотострелковую и 4-ю танковую дивизии. Грачев получил приказ привести в повышенную боевую готовность 106-ю (Тульскую) воздушно-десантную дивизию.
Крючков поручил заместителю председателя КГБ Валерию Федоровичу Лебедеву установить наружное наблюдение за группой депутатов, которых после введения чрезвычайного положения предполагалось подвергнуть административному аресту и изолировать на территории воинской части, расположенной в поселке Медвежьи Озера.
Грушко позвонил начальнику Первого главного управления (внешняя разведка) Леониду Шебаршину и от имени Крючкова приказал привести в боевую готовность две группы сотрудников отдельного учебного центра — по пятьдесят человек каждая.
— А какое задание? — поинтересовался Шебаршин.
— Не знаю, — коротко ответил Грушко. — Владимир Александрович звонил из машины. Велел передать приказ.
Еще недавно Шебаршин и Грушко были на равном положении. Но теперь Грушко стал не только первым зампредом, но и пользовался особыми правами внутри комитета как близкий к Крючкову человек. Он давал указания начальнику политической разведки, не считая нужным ничего объяснять, хотя прекрасно знал, зачем понадобился спецназ. Генералу Шебаршину пришлось проглотить пилюлю. Впрочем, после провала путча это его спасет…
Отдельный учебный центр был создан после штурма дворца президента Амина в Кабуле, когда выяснилось, что у Комитета госбезопасности нет своего спецназа. 19 августа 1981 года политбюро приняло решение создать внутри КГБ отряд специального назначения для проведения операций за пределами Советского Союза «в особый период». Отряд базировался в Балашихе, где еще со времен НКВД находился учебно-тренировочный комплекс диверсионных групп.
Шебаршину позвонил другой первый заместитель председателя КГБ — Гений Агеев, курировавший военную и транспортную контрразведку:
— Группы готовы? Направьте их в помещение Центрального клуба. И нужны еще сто человек, туда же.
— Экипировка, вооружение? — уточнил Шебаршин.
— Пусть берут всё, что есть.
Восемнадцатого августа около часа дня в Крым вылетели Бакланов, Болдин, Шенин, Варенников; сопровождали их Плеханов, Генералов, сотрудники Управления правительственной связи (чтобы отключить Горбачеву телефоны) и группа офицеров 18-го отделения службы охраны КГБ, вооруженные автоматами. Плеханову и Генералову Крючков переподчинил Симферопольский пограничный отряд и Балаклавскую бригаду сторожевых кораблей.
В Крыму на военном аэродроме «Бельбек» прилетевших из Москвы высокопоставленных гостей по приказу министра обороны Язова встретил командующий Черноморским флотом адмирал Михаил Николаевич Хронопуло.
Увидев своего главного начальника Плеханова, охрана президентской дачи беспрепятственно пропустила нежданных гостей. Плеханов и Генералов зашли в комнату начальника личной охраны президента Владимира Медведева в гостевом доме. Тот был поражен: еще вчера он разговаривал с Плехановым, и тот сказал, что прилетит 19 августа, а появился днем раньше.
Плеханов объявил, что переподчиняет охрану президентской дачи непосредственно Генералову. Тот приказал отключить все виды связи, перекрыть доступ на президентскую дачу, заблокировать подъезд к резиденции и вертолетную площадку. Из своих людей установил дополнительные посты.
Плеханов приказал Медведеву:
— Доложи, что к Михаилу Сергеевичу приехала группа товарищей. Просят принять.
Медведев пошел докладывать. Горбачев сидел в теплом халате — его прихватил радикулит — и читал газету.
— А зачем они прибыли? — удивился Горбачев.
— Не знаю, — ответил Медведев.
Михаил Сергеевич надолго задумался. Он сразу понял то, чего никак не мог сообразить его главный охранник: эти люди приехали к нему с каким-то ультиматумом и вообще возможно повторение хрущевской истории — Никиту Сергеевича тоже сняли, пока он отдыхал на юге.
Члены ГКЧП надеялись в последний момент заставить Горбачева примкнуть к ним. Они предложили ему подписать указ о введении в стране чрезвычайного положения и сообщили, что намерены арестовать Ельцина, как только президент России вернется в Москву.
Горбачев не согласился ввести чрезвычайное положение, интуитивно понимая, чем это кончится. В случае успеха это перечеркнуло бы всё им достигнутое с 1985 года. А в случае неуспеха… Мы уже знаем, чем закончился путч.
Когда гости из Москвы вышли от Горбачева, генерал Плеханов спросил президентского помощника Болдина:
— Ну, что там?
— Да ничего, не подписал, — разочарованно ответил Болдин.
Однако Горбачев — и в этом его вина — не выполнил своего президентского долга: не подавил путч в самом зародыше. Он всего лишь пытался переубедить заговорщиков. Он их уговаривал, а должен был назвать их преступниками и приказать начальнику своей охраны задержать незваных гостей. Сам он обязан был немедленно вылететь в Москву.
Но, во-первых, сказалась свойственная Горбачеву нерешительность. Как замечает его бывший пресс-секретарь Андрей Серафимович Грачев, «при личном общении он мог пасовать и даже теряться перед проявлениями бесцеремонности и откровенной грубости». Во-вторых, Михаил Сергеевич, надо полагать, чисто по-человечески испугался за свою жизнь и жизнь своей семьи. Наверное, не верил, что его охрана, состоявшая из офицеров КГБ, выполнит приказ арестовать собственных начальников. Да и какой в этом смысл, если главные заговорщики остались в Москве и они в ответ запросто могут приказать уничтожить и Горбачева, и его семью?
Десять лет спустя Горбачев рассказывал журналистам:
— Раиса Максимовна ударилась в панику. Хотела меня спрятать, боялась, что сделают инвалидом и покажут всему миру, что я действительно болен. Павлов же говорил, мол, Горбачев лежит в кровати, недееспособен и мурлыкает нечто невнятное. А довести до такого состояния пара пустяков: мужики навалились, вогнали что-то — и готово… Мне часто журналисты задают вопрос: а почему вы не полезли через забор, ограду? Заговорщики как раз этого и добивались. Чтобы можно было открыть стрельбу и пристрелить меня. Но дело не только в этом. Неужели я, президент СССР, мог полезть через забор? Чтобы повиснуть штанами на ограде?.. Я их слова отверг, обругал их матом и сказал, что они сами себя погубят. Но на прощание всё же пожал им руки и дал указание — немедленно созвать съезд…
Вот это рукопожатие с заговорщиками непростительно. Оно, пожалуй, погубило политическую судьбу президента СССР. Ему не хватило однозначности. Путчисты всё равно его ненавидели, а сторонники демократических преобразований подозревали Михаила Сергеевича в двойной игре.
Горбачева изолировали в Крыму, отключили телефоны на госдаче и увезли в Москву начальника его личной охраны генерал-майора КГБ Медведева. Плеханов сказал ему:
— Михаил Сергеевич продолжит отдых. Генералов остается начальником охраны на объекте. А тебе — три минуты на сборы, полетишь с нами в Москву.
Теперь уже Медведеву всё стало ясно, но он молча подчинился приказу.
Судьба личного охранника похожа на судьбу спортсмена, мечтающего об олимпийской медали. Он, выжимая майку, мокрую от пота, тренируется годами, чтобы в решающую минуту показать, на что способен. Такая минута настала для генерала 18 августа, когда члены ГКЧП явились на крымскую дачу Горбачева. Но генерал Медведев упустил свою олимпийскую медаль. Всю жизнь его готовили к одному: в нужную минуту умереть за президента. Впрочем, умирать и не требовалось. Надо было остаться вместе со своим президентом, которому, вероятно, впервые грозила настоящая опасность. Но генерал Медведев, охотно повинуясь приказу своего начальника, собрал вещички и покинул президентскую дачу.
Вячеслав Генералов сказал помощнику Горбачева Анатолию Сергеевичу Черняеву, что вокруг Фороса выставлено двойное кольцо ограждения:
— Отсюда и мышь не проскочит.
Когда Горбачев отказался подписывать документы заговорщиков, по существу, все их планы рухнули. Они не были готовы действовать самостоятельно и вернулись в Москву в растерянности.
Глава правительства Валентин Сергеевич Павлов находился у себя на даче. Уезжал сын, по сему поводу был устроен прощальный обед. В шесть вечера позвонил Крючков и сказал, что делегация возвращается из Фороса и надо бы собраться — лучше бы в кремлевском кабинете Павлова. Осторожный Валентин Сергеевич перезвонил Лукьянову и Янаеву: они-то приедут? Оба подтвердили, что будут. В начале девятого Павлов явился в Кремль.
Геннадий Янаев десять лет спустя тоже рассказал журналистам о той встрече:
— Где-то в пять вечера 18 августа поехал к одному из своих приятелей на дачу. Мы ужинали. Машина, оборудованная всеми видами связи, стояла около дачи. Вдруг мне докладывают, что в машину звонит председатель КГБ. Крючков мне говорит: «Мы тут собрались в кабинете у Павлова. Надо, чтобы вы подъехали».
К восьми вечера Янаев приехал к Павлову, где уже находились Крючков, Язов, Ачалов и министр внутренних дел Борис Карлович Пуго.
Министр не знал о готовящемся заговоре, потому что находился в отпуске. Он вернулся в Москву 18 августа. Едва приехал на служебную дачу в поселке Усово, позвонил председатель КГБ, попросил приехать. Язов и Крючков ввели Пуго в курс дела. Министр внутренних дел с готовностью сказал: я с вами.
Борис Пуго входил в узкий круг тех, кому Горбачев полностью доверял. Михаил Сергеевич включил его в Совет безопасности — этот орган фактически заменил уже безвластное политбюро. Министр внутренних дел, как Крючков и Язов, имел право позвонить президенту в любое время на дачу, что другим Горбачев категорически запрещал — не терпел, когда беспокоили в нерабочее время. Тем не менее Пуго мгновенно присоединился к заговорщикам. Они хотели того же, что и он: сохранить тот строй, который привел их к власти. Обычная осторожность изменила Пуго; он, вероятно, решил, что сила на их стороне: кто может противостоять армии и КГБ?
Когда появился Янаев, Крючкову прямо из самолета позвонили те, кто летал в Форос, и сообщили, что ничего не получилось.
Помощник Горбачева Анатолий Черняев, который был вместе с президентом в Форосе, пишет, что продуманного заговора как такового не было, было намерение и расчет на то, что Горбачева можно будет втянуть в это дело. И как только Горбачев «дал отлуп», всё посыпалось. Члены ГКЧП по природе своей, по своему составу изначально не способны были «сыграть в Пиночета»! Но и остановиться они уже не могли. Раз Горбачев отказался, решили объявить его больным и распорядились подготовить медицинское заключение. Оторванный от дружеского застолья Янаев поинтересовался:
— Что же всё-таки с Михаилом Сергеевичем?
Собравшаяся в Кремле компания не воспринимала вице-президента всерьез, поэтому ответили ему резковато:
— А тебе-то что? Мы же не врачи. Болен. Да и какая теперь разница? Страну нужно спасать.
Болдин внятно сказал Янаеву:
— Нам с вами теперь назад дороги нет.
Янаев подписал указ о том, что вступил в должность президента.
Вице-президент Геннадий Иванович Янаев, премьер-министр Валентин Сергеевич Павлов и заместитель председателя Совета обороны Олег Дмитриевич Бакланов подписали «Заявление Советского руководства». Там говорилось, что Горбачев по состоянию здоровья не может исполнять свои обязанности и передает их Янаеву, что в отдельных местностях СССР вводится чрезвычайное положение сроком на шесть месяцев и для управления страной создается Государственный комитет по чрезвычайному положению.
С Валдая прилетел председатель Верховного Совета Лукьянов. Он не стал задавать пустые вопросы о самочувствии Горбачева, поинтересовался:
— У вас есть план действий?
В отличие от Янаева он всё прекрасно понимал. А Янаев не горел желанием играть первую скрипку. Он предложил Анатолию Ивановичу:
— Может быть, тебе возглавить комитет? У тебя авторитета больше, а мне надо еще политическую мускулатуру нарастить.
Лукьянов благоразумно отказался…
Почему опытный и осторожный Анатолий Иванович вообще ввязался в эту историю? Надо понимать, что Лукьянов, Янаев, Павлов просто боялись, что подписание Союзного договора и грядущие политические перемены лишат их должностей.
Отредактировали и подписали «Обращение к советскому народу», «Обращение к главам государств и правительств и Генеральному секретарю ООН», «Постановление ГКЧП № 1». В лаборатории Центрального научно-исследовательского института КГБ изготовили две печати ГКЧП, в том числе с государственным гербом.
Крючков составил список членов ГКЧП из десяти человек. Лукьянов попросил его фамилию вычеркнуть, объяснил, что иначе не сможет обеспечить принятие нужных решений в Верховном Совете СССР:
— Если вы хотите, чтобы я вам помог, я могу написать заявление о том, что новый Союзный договор неконституционен.
Заявление председателя Верховного Совета СССР было опубликовано вместе с документами ГКЧП в утренних газетах, хотя для маскировки Лукьянов поставил более раннюю дату — 16 августа. Дескать, материал написан заранее и с образованием ГКЧП никак не связан. После провала путча Лукьянов просил начальника секретариата подтвердить, что текст был написан заранее, но тот не стал врать и рассказал следователям:
— Лукьянов пришел к себе в кабинет после совещания у Павлова и сел за стол, сказав, что он должен сейчас написать один документ. Анатолий Иванович взял чистые листы бумаги и стал писать, надиктовывая себе вслух текст заявления по Союзному договору, которое на следующий день появилось вместе с документами ГКЧП. В начале первого ночи закончил работу. Позвонил Крючкову: «Документ готов».
В девять вечера всем предложили чай и кофе. В двенадцать ночи перешли на виски. Павлов по телефону связался с Василием Александровичем Стародубцевым, председателем Крестьянского союза, и вызвал его в Москву.
Крючков позвонил министру иностранных дел Александру Александровичу Бессмертных, который отдыхал в Белоруссии, и без объяснений попросил срочно прибыть в Москву. Министра доставили в столицу на самолете командующего Белорусским военным округом. Бессмертных появился в Кремле в джинсах и куртке, недоуменно осматривал присутствующих. Крючков вышел с министром в другую комнату, наскоро ввел в курс дела и предложил подписать документы только что созданного ГКЧП.
Бессмертных, как и Лукьянов, попросил исключить его из списка членов ГКЧП:
— Да вы что? Со мной ведь никто из иностранных политиков разговаривать не будет.
Он синим карандашом вычеркнул свою фамилию, хотя и опасался, что его несогласие повлечет за собой печальные последствия. Он очень боялся за своего маленького сына. Но его отпустили домой.
Около трех ночи встреча закончилась. Еще раз появились официанты. Крючков и Грушко вернулись в здание на Лубянке. Грушко домой вообще не поехал, ночевал у себя в кабинете. Министр внутренних дел Борис Пуго вернулся к семье под утро очень довольный, сказал:
— Ну всё, свалили, убрали мы этого…
Объяснил сыну:
— Горбачев не может управлять страной, мы ввели чрезвычайное положение… — И добавил: — Я им говорю, что Ельцина надо брать!
Девятнадцатого августа люди проснулись в стране, над которой нависла тень ГКЧП. Валентин Павлов, который все дни путча подстегивал себя изрядными порциями спиртного, открыл заседание Кабинета министров ернически:
— Ну что, мужики, будем сажать или будем расстреливать?
Своему помощнику Черняеву Горбачев сказал:
— Да, это может кончиться очень плохо. Но, ты знаешь, в данном случае я верю Ельцину. Он им не дастся, не уступит. И тогда — кровь. Когда я их вчера спросил, где Ельцин, один ответил, что «уже арестован», другой поправил: «Будет арестован»…
Такая оценка личных качеств Бориса Николаевича Ельцина дорогого стоит. Михаил Сергеевич понимал стойкость и надежность Ельцина и фактически признавал, что тот способен на то, на что он сам оказался неспособен.
Почему же Ельцин не был сразу арестован? Похоже, члены ГКЧП его просто недооценили. Заговорщикам и в голову не приходило, что Борис Николаевич станет сопротивляться. Они-то были уверены, что все демократы — трусы, хлюпики и позаботятся только о том, как спасти свою шкуру. Руководителям ГКЧП не хотелось начинать с арестов. Они и в себе не были уверены, надеялись сохранить хорошие отношения с Западом, показать всему миру, что всё делается по закону. Поэтому и провели знаменитую пресс-конференцию, на которой предстали перед всем миром в самом дурацком свете.
Потом Янаева спрашивали: почему у него на пресс-конференции так тряслись руки?
— Руки у меня тряслись не от хронической пьянки, — оправдывался бывший вице-президент. — Я выхожу на пресс-конференцию, объявляю о болезни президента, а медицинского заключения у меня нет. Я рассчитывал, что эпикриз о состоянии здоровья Горбачева у меня будет на руках. Если я говорю, что президент болен, то я должен подкрепить свои слова документом. А когда это сделать нельзя, то не только руки затрясутся, но и другие члены задрожат…
Начальник Девятого управления КГБ Плеханов действительно потребовал от начальника Четвертого главного управления при Министерстве здравоохранения представить медицинское заключение о том, что Горбачев страдает нарушением мозгового кровообращения. Но врачи не спешили сочинять фальшивую бумагу.
Премьер-министр Павлов отказался участвовать в пресс-конференции. У него сдали нервы. Он пил и одновременно принимал препараты, усугубляющие действие алкоголя. В результате у него началась настоящая истерика. Охрана вызвала личного врача, который привел Павлова в божеский вид, но потом глава правительства всё равно предпочел отправиться в Центральную клиническую больницу.
А что происходило в армии?
В половине пятого утра главнокомандующего военно-воздушными силами страны маршала Евгения Ивановича Шапошникова разбудил телефонный звонок. Дежурный генерал Центрального командного пункта ВВС доложил:
— Товарищ главнокомандующий, в шесть часов вам необходимо быть в зале коллегии Министерства обороны. Собирает министр.
— По какому поводу сбор? — спросил Шапошников.
— Не сообщили, товарищ главнокомандующий.
— А что по обстановке в мире, в стране?
— Всё спокойно, никаких особых событий не произошло.
Ровно в шесть утра в зале коллегии появился министр обороны Язов. Он сказал:
— Президент СССР находится в тяжелом состоянии. Управлять страной не может. Обязанности президента временно принял на себя вице-президент Янаев. Завтра, 20 августа, должен быть подписан новый Союзный договор. Но без Горбачева он подписан быть не может. Неподписание договора может вызвать негативные последствия в стране. Поэтому вводится чрезвычайное положение…
Язов приказал своему заместителю Ачалову силами спецназа воздушно-десантных войск блокировать телецентр «Останкино». Около семи утра по приказу министра обороны 2-я стрелковая (Таманская) и 4-я танковая (Кантемировская) дивизии начали движение к Москве. За два часа до этого министр внутренних дел Пуго приказал своему первому заместителю Ивану Федоровичу Шилову обеспечить машинами ГАИ армей-окне колонны, входящие в Москву. С помощью автоинспекции войска заняли к десяти утра ключевые позиции в городе.
Еще три парашютно-десантных полка — 15-й (из Тулы), 137-й (из Рязани), 331-й (из Костромы) двинулись в сторону Москвы. Ачалов приказал также перебросить из Одесской области 217-й и 229-й парашютно-десантные полки — они сосредоточились в районах аэропортов Кубинка и Чкаловский. Манежную площадь и Кремль блокировал спецназ КГБ. В общей сложности в Москву ввели несколько сотен танков и бронемашин.
В 9 часов 28 минут маршал Язов подписал приказ о приведении вооруженных сил в повышенную боевую готовность. Белый дом был окружен танками Таманской дивизии и бронемашинами Тульской воздушно-десантной дивизии. Собравшиеся там российские депутаты в любую минуту ожидали штурма и ареста. И здание, вероятно, было бы захвачено в конце концов, если бы не действия Ельцина.
Неожиданно для путчистов он не только не попытался с ними поладить и договориться, а, напротив, пошел на обострение. Он объявил путчистов преступниками и потребовал сдаться. Олег Максимович Попцов, бывший руководитель российского радио и телевидения, вспоминает:
«В эти трагические дни кабинет Ельцина был очень доступен. Никакой замкнутости, общение было практически постоянным… Он принял единственно правильное решение — действовать, не выжидать, а действовать!.. Россия должна была знать, что президент не сломлен: он в Белом доме, он выполняет свои обязанности. Непреклонность Ельцина, его энергичность озадачили путчистов. Они не успевали дезавуировать его указы».
Ельцин стал символом сопротивления путчу, символом демократии и мужества. С этой минуты за действиями Ельцина стал следить весь мир. Увидев Ельцина на танке, люди поняли, что заговорщикам можно и нужно сопротивляться. Если Ельцин их не боится, почему должны бояться другие? И москвичи двинулись к Белому дому. Они провели здесь три дня и три ночи. Уходили. Возвращались. Встречали здесь знакомых и коллег. Они были готовы защитить собой Ельцина, потому что Ельцин защищал их. И другой защиты и надежды не было. Борис Николаевич был готов сопротивляться до последнего.
Он сказал своему соратнику депутату Виктору Ярошенко:
— Молодец архитектор Чечулин, на славу потрудился. Пожалуй, в Москве Белый дом — это единственное здание такого масштаба. Как он всё здорово придумал: чтобы обойти все его кабинеты, коридоры, потребуется не один день. А подземный бункер и выходы из здания — прекрасно созданная система безопасности. Уверен: чем дольше будет продолжаться наша осада, тем громче политический резонанс, а у нас больше шансов мобилизовать народ…
Под руководством российского депутата генерал-полковника Константина Ивановича Кобеца, который возглавил Государственный комитет по оборонным вопросам, началось строительство баррикад. К Белому дому стягивали бульдозеры, троллейбусы и автобусы, чтобы блокировать подходы. Готовили бутылки с зажигательной смесью.
Генералу Кобецу позвонил маршал Язов и приказал покинуть Белый дом. Кобец отказался. Язов пригрозил, что в таком случае дает разрешение прокуратуре возбудить против него уголовное дело:
— Вас ждет трибунал, а семью интернирование.
В Белом доме появилось некоторое количество офицеров, сотрудников охранных предприятий, которым раздали оружие. Для руководителя президентской администрации Юрия Петрова 19 августа 1991 года был первым рабочим днем в Белом доме. Ельцин представил его коллегам уже после своего знаменитого выступления с танка.
«Мы готовились к самым серьезным событиям — вплоть до штурма и физического уничтожения, — вспоминал потом Петров. — Кажется, 20-го числа мы, два или три человека, сидели в кабинете Ельцина. Входит взъерошенный Шахрай, у него на поясе пистолет. Я его спросил:
— Сергей Михайлович, зачем вам пистолет? Неужели вы действительно будете стрелять?
Он посмотрел на меня и говорит:
— Да!»
Министр внутренних дел России Виктор Павлович Баранников и его заместитель Андрей Федорович Дунаев отправили на помощь Ельцину курсантов милицейских школ. Такого никто не ожидал: республиканское министерство вышло из подчинения союзному! Борис Пуго потребовал не пускать курсантов в Москву и не мог понять, почему министерство не в состоянии исполнить его приказ. Местные управления внутренних дел следили за передвижением курсантов и сообщали в приемную Пуго. Тот вновь и вновь приказывал: остановить! Но московский главк внутренних дел союзному министерству фактически не подчинялся, а российское МВД твердо поддерживало Ельцина.
Пуго вызвал к себе первого заместителя внутренних дел России Виктора Ерина. Сам Ерин спустя три года рассказывал «Российской газете», как это происходило. Он исполнял обязанности министра внутренних дел России. Министр — Виктор Баранников — болел и находился в госпитале.
Пуго спросил у Ерина:
— Вы знаете, что мы начали?
— Знаю.
— Ваши действия?
— Министерство внутренних дел России будет работать так, как нужно в этих условиях: обеспечивать правопорядок, бороться с преступностью.
— Вы что, не понимаете политического значения этого момента? Вы же опытный профессионал, о вас хорошее мнение. Мы должны быть убеждены в вашей лояльности.
— Борис Карлович, о какой лояльности здесь можно говорить? Есть правительство, есть Верховный Совет России. Они однозначно обозначат свою позицию. И Министерство внутренних дел будет эту позицию выполнять в соответствии с законами России. У вас не должно быть на этот счет иллюзий.
Пуго в своей мягкой манере спросил:
— Не боитесь потерять место?
Ерин ответил:
— Ваше право меня уволить. Но против совести не пойду.
Ельцин продолжал смело атаковать ГКЧП, в руках которого были армия, МВД и спецслужбы. Он подписывал один указ за другим, которые мгновенно распространялись по стране. Ельцин своими указами объявил членов ГКЧП уголовными преступниками и объяснил, что исполнение их приказов равносильно соучастию в преступлениях.
Генерал Валентин Варенников, находившийся в Киеве и недовольный медлительностью ГКЧП, прислал шифротелеграмму: «Взоры всего народа, всех воинов обращены сейчас к Москве. Мы убедительно просим немедленно принять меры по ликвидации группы авантюриста Ельцина Б. Н., здание правительства РСФСР необходимо немедленно надежно блокировать, лишить его водоисточников, электроэнергии, телефонной и радиосвязи…»
Варенников не только требовал жестких мер, но и приказал усилить охрану крымского аэропорта Бельбек. Рота морских пехотинцев и противотанковый дивизион получили приказ уничтожать любые самолеты, которые попытаются сесть без разрешения, чтобы прийти на помощь Горбачеву. Если бы путч возглавляли такие люди, как Варенников, история нашей страны могла бы пойти иным, кровавым путем.
Двадцатого августа командир спецназа внешней разведки Борис Петрович Бесков доложил генералу Шебаршину, что проведена рекогносцировка Белого дома. Его вывод: попытка штурма — бессмысленная авантюра, будет много крови. Тем не менее в кабинете Гения Агеева обсуждалась идея штурма здания Верховного Совета России.
Шебаршин, как он пишет в своих воспоминаниях, связался с Крючковым и попросил отменить эту затею:
«Крючков нервно смеется:
— Это ерунда! Кто это придумал? Я только что говорил с Силаевым и ему сказал, что это ерунда.
Не успокоил. Я уже как-то слышал такой смех. Ничего доброго он не предвещает. Крючков возбужден и врет».
О самом путче руководитель разведки Шебаршин отозвался презрительно:
«Всё это было плохо организовано и никудышным образом исполнено в техническом смысле. Всё это было сделано по-дилетантски».
Девятнадцатого августа в начале одиннадцатого утра собравшиеся в Москве секретари ЦК КПСС собрались в зале заседаний на Старой площади. Оставшийся за старшего Олег Шенин сообщил: Горбачев «недееспособен», поэтому ГКЧП во главе с вице-президентом Янаевым берет власть в руки.
«Вовлеченность Шенина в дела ГКЧП, — вспоминал секретарь ЦК Александр Сергеевич Дзасохов, — повергла меня и других секретарей ЦК в шок. Чего больше было в его действиях — осознанного выбора или амбициозности, я не знаю».
Вечером Дзасохов поехал в санаторий «Барвиха» к Ивашко. Они вышли на балкон, чтобы поговорить откровенно. Заместитель генерального секретаря, осведомленный относительно поездки в Форос, рассказал, что Горбачев отказался вести с членами ГКЧП переговоры о передаче им своих полномочий.
Андрей Грачев, в ту пору работник международного отдела ЦК КПСС, писал, что во время путча на Старой площади царила боязливая тишина. Приехал секретарь ЦК КПСС Валентин Фалин, которого оторвали от важного дела — он строил дачу и в понедельник утром поехал за досками на склад, принадлежавший Управлению делами ЦК. Грачев сказал Фалину:
— Ведь это же авантюра! И что будет с Горбачевым? Фалин нехотя ответил:
— Он сам виноват. Мы его предупреждали, что он спровоцирует военных, да и партию он уже ни во что не ставил. А авантюра или нет, в ближайшие дни увидим.
В те дни многие люди открылись с неожиданной стороны. Утром 19 августа председатель Совета Союза Иван Лаптев соединился с Лукьяновым:
— Что с Горбачевым? Что вы задумали?
— А я тут ни при чем. Он лежит, говорят, ни на что не реагирует. Вчера к нему летали…
— Пусть не вешают тебе лапшу на уши! — закричал Лаптев. — Я только что разговаривал с Вольским, Бакатиным, Ревенко — все они еще вчера общались с президентом. Никакой болезни у него нет, чуть спина побаливает и только. Давай срочно собирать сессию Верховного Совета.
— Ну, не знаю, не знаю, — нехотя ответил Лукьянов. — Про Горбачева я, конечно, выясню и, если что не так, всё сделаю, ты же понимаешь. А сессию мы можем созвать только по регламенту, через семь дней, двадцать шестого.
«Девятнадцатого августа я зашел к Лукьянову, — вспоминал Рафик Нишанов. — Анатолий Иванович сказал, что созывает Верховный Совет. Сухо произнес:
— Заседание назначено на 26 августа. Обсудим «Обращение ГКЧП к советскому народу».
Холодный, невозмутимый. Анатолий Иванович Лукьянов — человек замкнутый, сухой, с бонапартистскими замашками».
Другим, менее осведомленным депутатам Верховного Совета Лукьянов убежденно говорил, что своими глазами читал медицинское заключение о состоянии здоровья Горбачева и что у него есть само заключение…
Анатолий Иванович был куда умнее тех, кто вошел в ГКЧП, действовал крайне осторожно, но тут же составил проект постановления президиума Верховного Совета СССР об утверждении документов ГКЧП. То есть он пытался с помощью Верховного Совета одобрить введение чрезвычайного положения и другие шаги путчистов.
Секретарь ЦК КПСС Петр Лучинский отдыхал в санатории «Южный» неподалеку от Фороса, где был блокирован Горбачев.
«Компания подобралась замечательная: член Совета безопасности Евгений Примаков с внуком, министр внутренних дел Пуго с женой, невесткой и внучкой, — вспоминал Лучинский. — Наш генсек и на отдыхе любил обзванивать секретарей ЦК и других руководящих работников. Внутренне к такому звонку я был готов всегда. Но шли дни, и никого из нашей компании Горбачев ни разу не потревожил. Даже министра внутренних дел. Всегда невозмутимый и юморной Евгений Примаков однажды даже сказал мне весьма озабоченно:
— Не пойму, что случилось. Михаил Сергеевич почему-то не звонит…
Примаков волновался. Пока Рафик Нишанов не порадовал нас рассказом о телефонной беседе с Горбачевым: он решил посоветоваться с ним по процедуре подписания Союзного договора. В конце разговора даже смеялись, шутили…
Утром 19 августа жена включила радио, и мы не поверили своим ушам: Государственный комитет по чрезвычайному положению берет на себя всю полноту власти!.. Горбачев тяжело болен, Янаев его замещает.
Взялся за трубку “ВЧ”, но правительственная связь уже не работала. Позвонил Примакову по внутреннему телефону, тот тоже ничего не понимает. Решили встретиться на берегу. Там, под тихий шелест волн, уже волновался народ. Получил известие: к Горбачеву никого не пускают, он изолирован КГБ. Вот так фокус!..
Среди членов ГКЧП назвали Бориса Пуго. Но ведь еще вчера утром мы всей своей пляжной компанией провожали его с семейством в Москву. Пригубили по рюмке, пожелали удачной дороги. На прощание невестка Пуго и Рафик Нишанов нас всех сфотографировали. Моему сыну Кириллу тоже потребовалось срочно в Москву, и я попросил Бориса Карловича прихватить его, если можно, с собой. Он с радостью согласился. Самолет Ту-134, служебный спецрейс, мест на всех хватит.
В полете, как рассказывал позже Кирилл, перекусили. Министр пригласил к столу людей из охраны. Немного выпили, шутили… Валентина Ивановна, жена его, также чувствовала себя неплохо. Страшно было через несколько дней узнать, что они оба застрелились… Разумеется, в тот же день мы поспешили в Москву».
Примаков возмущался:
— Зачем они использовали мнимую болезнь президента? Что за глупый предлог менять власть? Кто за всем этим стоит? Кто всё это подготовил? Разве они не понимают, что настало время гласности и придется всё объяснять…
Во второй половине дня Примаков, старший советник президента Вадим Медведев и секретарь ЦК Петр Лучинский вылетели из Симферополя в Москву. Настроение у всех было неважное. Не знали, что ждет их во Внукове у трапа. Примаков позвонил в Москву своему другу Владимиру Бураковскому, попросил на всякий случай приехать в аэропорт — если что-то случится, чтобы было кому позаботиться о внуке.
Виталий Игнатенко рассказывал:
— Евгения Максимовича во Внукове встречали его друзья. Они его взяли в такой рой, как пчелы, а он был посредине. Боялись за него! Никто не знал, чем это может кончиться. Встретили прямо у трапа и проводили до машины.
До ночи все сидели у Примакова в его доме на улице Щусева.
Аркадий Иванович Вольский вспоминал в своем последнем интервью «Известиям», опубликованном после его смерти в сентябре 2006 года:
— Для Примакова и Бакатина угроза ареста была вполне реальной, поскольку они, как члены Совета безопасности, отказались поддержать ГКЧП.
Именно Вольскому вечером 18 августа позвонил из Крыма Горбачев. Приезжавшая из Москвы делегация ГКЧП уже покинула его, и правительственную связь отключили, а об обычном городском телефоне не подумали. Высокопоставленные чиновники быстро привыкают пользоваться только спецсвязью…
— Я лег подремать на даче, — рассказывал Вольский. — Дочка кричит: «Пап, тебя Горбачев зовет». Я спросонья не сразу сообразил, что не может президент звонить по обычному телефону. Трубку снял: точно, Михаил Сергеевич. Голос торопливый: «Аркадий, имей в виду, я здоров. Если завтра услышишь, что Горбачев болен, не попадись на эту удочку». И повесил трубку.
Аркадий Вольский стал главным свидетелем того, что ГКЧП врет насчет неспособности президента Горбачева исполнять свои обязанности. 20 августа в кремлевском кабинете члена Совета безопасности Примакова собрались Вадим Бакатин, Вадим Медведев, Аркадий Вольский и Вениамин Александрович Ярин, который работал в аппарате президента. Решили прежде всего сделать заявление по поводу происходящего и передать по каналам ТАСС. Составили текст от имени членов Совета безопасности Примакова и Бакатина: «Считаем антиконституционным введение чрезвычайного положения и передачу власти в стране группе лиц. По имеющимся у нас данным, Президент СССР М. С. Горбачев здоров. Ответственность, лежащая на нас, как на членах Совета безопасности, обязывает потребовать незамедлительно вывести с улиц городов бронетехнику, сделать всё, чтобы не допустить кровопролития. Мы также требуем гарантировать личную безопасность М. С. Горбачева, дать возможность ему незамедлительно выступить публично».
Примаков позвонил министру иностранных дел Бессмертных, тоже члену Совета безопасности:
— Саша, мы тут с Бакатиным такое заявление написали. Давай я тебе его прочитаю… Как ты на это дело смотришь?
Бессмертных сказал, что ему подписывать это заявление не стоит, он должен руководить министерством. Примаков позвонил в ТАСС. Ему ответили, что подобный документ они сейчас распространить не могут. Вольский передал заявление в «Эхо Москвы».
Вечером 20 августа на заседании ГКЧП его участники пришли к выводу, что события развиваются неудачно. Хотя был подготовлен проект указа Янаева «О введении временного президентского правления в республиках Прибалтики, Молдове, Армении, Грузии, отдельных областях РСФСР и Украинской ССР (Свердловской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, городах Ленинграде и Свердловске)».
Янаев огорченно говорил, что их никто не поддерживает. Крючков тут же возразил:
— Не всё так плохо.
Янаев с удивлением посмотрел на председателя КГБ:
— Мне докладывают так, как есть.
Крючков улыбнулся:
— Вот и неправильно делают. Надо докладывать то, что надо, а не то, что есть…
Но умелец он был только по части докладов начальству.
Главная проблема ГКЧП состояла в полной бездарности его руководителей. Штаб заговорщиков действовал чисто по-советски, то есть из рук вон плохо. Если бы в Кремле сидели другие, более решительные люди, они бы ни перед чем не остановились…
Утром 20 августа Примаков зашел к вице-президенту Геннадию Янаеву, пребывавшему в мрачном состоянии. Янаев сидел за письменным столом и читал газету «Правда». На первой полосе — подписанные им указы.
— Ты в своем уме? — спросил Примаков.
По словам Евгения Максимовича, вице-президент растерянно ответил:
— Если бы отказался, как тогда, в апреле… А что же сейчас делать?
Примаков сказал Янаеву, что ему надо немедленно поехать на телевидение, в прямом эфире объявить о роспуске ГКЧП, осудить путч и покаяться. Это единственное, что может его спасти.
Янаев растерялся:
— Женя, поверь, всё уладится. Михаил Сергеевич вернется, и мы будем работать вместе.
— Что-то не верится, — сказал Примаков. — Нужно немедленно убрать танки с улиц Москвы.
Янаев не нашел что ответить, кроме сакраментального:
— Надо подумать.
Примаков вернулся к себе и позвонил председателю Верховного Совета Лукьянову. Прочитал ему заявление, составленное вместе с Бакатиным. Лукьянов выслушал и твердо сказал:
— Публиковать это не надо.
Примаков ответил:
— Заявление уже опубликовано.
В последнюю ночь, когда стало ясно, что ГКЧП проиграл, на Садовом кольце, пытаясь помешать движению колонны боевых машин пехоты, погибли трое молодых ребят: Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Олег Попцов вспоминает, что, когда стало известно об их гибели, Геннадий Бурбулис позвонил военному коменданту Москвы. Тот равнодушно ответил, что жертв нет и напрасно российское руководство разжигает страсти.
«Я никогда не видел таким Бурбулиса, — писал Попцов. — Он буквально вжался в кресло, как если бы приготовился к прыжку. Рассудочная манера, столь характерная для этого человека, мгновенно пропала, он говорил сквозь стиснутые зубы:
— Послушайте, генерал. Если вы немедленно не прекратите свои преступные действия, мы обещаем вам скверную жизнь. По сравнению с ней военный трибунал покажется вам раем. Погибли три человека. Я вам клянусь, мы достанем вас».
Двадцать первого августа Бакатин и Примаков провели пресс-конференцию и сразу же уехали на аэродром — лететь к Горбачеву в Форос. Они полетели в самолете российского руководства. Там были вице-президент России Александр Владимирович Руцкой, глава российского правительства Иван Степанович Силаев, министр юстиции России Николай Васильевич Федоров и тридцать шесть офицеров милиции с оружием.
В восемь вечера приземлились на базе Бельбек, не зная, что командующий Черноморским флотом приказал самолет сбить, но приказ не был исполнен. На двух машинах с автоматчиками поехали к Горбачеву.
Тем временем маршал Язов приказал вывести войска из столицы. Членам ГКЧП обреченно сказал:
— Мы проиграли. Умели нашкодить, надо уметь и отвечать. Полечу к Михаилу Сергеевичу виниться.
Члены ГКЧП и председатель Верховного Совета Лукьянов прилетели в Форос первыми, но их власть закончилась. Анатолий Черняев вспоминал, что Язов сидел в служебном домике президентской резиденции весь потный — жара, фуражка на полу валяется.
— Старый дурак, связался с ними… — бурчал маршал.
Лукьянов, увидев, что дело ГКЧП проиграно, стал всем говорить, что с самого начала был против этой авантюры, что он прилетел освобождать Михаила Сергеевича, с которым связан сорок лет… Но Горбачев в присутствии Примакова и Бакатина, которых попросил остаться во время разговора с Лукьяновым, назвал его предателем:
— Что ты тут дурака валяешь? От тебя же всё зависело! Если ты не мог сразу собрать Верховный Совет, чтобы разделаться с путчистами, почему не встал рядом с Ельциным?
Лукьянов стал оправдываться. Горбачев оборвал его и показал на дверь:
— Посиди там. Тебе скажут, в каком самолете полетишь.
У Ивана Силаева потом допытывались, может быть, всё-таки Горбачев был в сговоре с путчистами.
— Однозначно нет, — ответил тогдашний глава российского правительства. — Я в этом лично убедился, когда мы летали за ним в Форос 21 августа. Он ведь не принял команду гэ-качепистов, которая прилетела к нему раньше нас. Они сидели в ЗИЛах с закрытыми шторами и наблюдали за нами. Охрана провела нас к Горбачеву, и он встретил нас как родных. Обнялись, расцеловались.
Горбачев сказал:
— Я вот собираюсь вечером в Москву лететь, за мной тут ребята приехали.
— Михаил Сергеевич, вы полетите только на самолете России, — возразил Примаков.
Российские руководители опасались, что путчисты в последний момент попытаются ликвидировать Горбачева.
— Да, пожалуй, вы правы, — согласился Горбачев и дал команду жене и внучке собираться в дорогу.
Раиса Максимовна чувствовала себя очень плохо, одна рука висела как плеть, взгляд был какой-то растерянно-безумный. Погубившая ее со временем болезнь — острый лейкоз — возможно, была следствием этих невыносимо страшных для нее дней.
На обратном пути в самолете все собрались в салоне у Горбачева. Примаков и Бакатин рассказали о своем заявлении, показали текст, Раиса Максимовна взяла его себе на память.
Крючкова, Язова и Бакланова назад в Москву доставили под конвоем. Плеханов, который начинал секретарем у Андропова, обреченно сказал своему заместителю Генералову:
— Собрались трусливые старики, которые ни на что не способны. Попал как кур в ощип.
Вячеслав Генералов потом рассказывал следователям, что путчисты выглядели «как нашкодившие пацаны». Маршал Язов напоминал «прапорщика в повисшем кителе». Крючкова и Язова арестовали прямо в аэропорту. Бакланова, народного депутата СССР, задержали после получения санкции Верховного Совета.
Августовский путч привел к полному крушению лагеря противников реформ. Радикально переменились настроения в обществе. КПСС и партийные структуры были распущены. Партийно-политические органы в армии, на флоте, в КГБ, МВД и Железнодорожных войсках были упразднены. Это была своего рода революция.
Но путч сокрушил и Горбачева. Он всё еще считал себя человеком номер один в стране. А в общественном мнении фигура Ельцина безвозвратно оттеснила Горбачева на второй план. Самое печальное для Михаила Сергеевича состояло в том, что он этого не понял. Он был поглощен собственными переживаниями и поэтому вновь и вновь во всех деталях рассказывал о том, что происходило с ним и его семьей в Форосе. Он произносил речи, которые заставляли людей морщиться: о том, что Горбачевы боялись есть, потому что их могли отравить, и о том, что его внучку не пускали плавать в Черном море.
Понять его, конечно, можно. Повернись события иначе, и путчисты доказали бы всему миру, что Горбачев физически неспособен управлять страной. Способы известны… Но Горбачев не понимал, что в значительной степени и по его вине вся страна оказалась в тяжелейшем положении.
Двадцать второго августа в полдень Горбачев приехал в Кремль, собрал в Ореховой комнате, где раньше заседало политбюро, ближний круг помощников, среди них был и Примаков. Тут же были подписаны указы об увольнении Язова, Павлова, Крючкова.
Примаков предложил выдвинуть вице-президентом вместо Янаева Александра Николаевича Яковлева. Горбачев ответил уклончиво, он не хотел брать Яковлева, да и вообще не нужен ему был вице-президент. Примаков предложил объединить два информационных агентства — ТАСС и АПН и поставить во главе Виталия Никитича Игнатенко, помощника Горбачева. Предложение было принято. Игнатенко оказался очень удачным выбором на роль директора ТАСС, а АПН при Ельцине опять превратили в самостоятельное пропагандистское ведомство…
Мужественное поведение Евгения Максимовича оценили по достоинству. Сразу после путча он оказался одним из самых близких сотрудников Горбачева. Но без должности. Бакатин получил назначение в КГБ, а Евгений Максимович сидел без дела.
Думали, его назначат министром иностранных дел. Что помешало? Ельцин не проявил энтузиазма? Или Горбачеву не хотелось объясняться с американцами, которые невзлюбили Примакова после его поездки к Саддаму Хусейну? Министром назначили Бориса Дмитриевича Панкина, посла в Чехословакии. Он единственный из советских послов отказался признать ГКЧП.
По словам Вадима Медведева, Примаков находился и в неопределенном положении, и в сложном психологическом состоянии. Однако через некоторое время ситуация разрядилась — неожиданно для многих он возглавил разведку.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ РАЗВЕДЧИК
В один из последних дней декабря 1991 года автомобиль президента России в сопровождении машин охраны выехал из Кремля и на большой скорости помчался на юго-запад столицы. Президента ждали в большом комплексе зданий, которые не нанесены на карту города и не имеют почтового адреса.
Борис Ельцин пожелал посетить разведгородок, расположившийся на столичной окраине, Ясенево. Решалась судьба внешней разведки страны и ее нового начальника Евгения Максимовича Примакова.
Советский Союз формально еще не прекратил своего существования. Табличка с именем Горбачева висела на двери главного в Кремле кабинета, хотя власти у него почти не осталось. Людям трудно было себе представить, что через несколько дней повесят новую — «Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин». И не только у нас в стране, во всём мире с трудом будут привыкать к тому, что на политической карте больше нет такого государства — СССР, а появилось много новых республик.
Еще было неясно — какой станет Россия? Как сложатся ее отношения с ближними и дальними соседями? Какие органы управления ей понадобятся? И нужна ли, в частности, внешняя разведка? Некоторые страны вполне без нее обходятся и процветают.
Помощники российского президента, молодые и динамичные, формировали органы государственного управления и подбирали в правительство новых людей. Старый аппарат собирались разгонять.
Формально существовал Российский республиканский комитет госбезопасности. Он появился 6 мая 1991 года, когда председатель КГБ Крючков и председатель Верховного Совета РСФСР России Ельцин подписали совместный протокол. Но дальше бумаги дело не пошло. В российском комитете служило несколько десятков человек, никакой власти у них не было, все областные управления по-прежнему подчинялись союзному КГБ.
Председателем российского КГБ стал произведенный в генерал-майоры Виктор Валентинович Иваненко, профессиональный чекист, до этого заместитель начальника Инспекторского управления союзного Комитета госбезопасности. Начальником Разведывательного управления КГБ РСФСР утвердили генерал-майора Александра Титовича Голубева. В конце 1991 года теоретически генерал Иваненко и его коллеги рассчитывали принять под свое руководство союзные органы госбезопасности.
Четвертого сентября последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин издал приказ, которым передал в подчинение российскому комитету все областные и краевые управления КГБ по России. За собой Бакатин оставил координацию работы республиканских комитетов.
Двадцать шестого ноября Ельцин подписал указ о преобразовании КГБ РСФСР в Агентство федеральной безопасности России. Его возглавил Иваненко. Теперь уже шел раздел центрального аппарата госбезопасности. Иваненко достались наиболее жизнеспособные подразделения старого КГБ, включая службу наружного наблюдения и Управление оперативной техники.
Но Виктор Иваненко, человек открытый и откровенный, оказался плохим царедворцем. Он не принадлежал к личной команде Ельцина. Его оттеснили очевидные фавориты Бориса Николаевича, которые в штыки встретили чужака. В результате Иваненко потерял должность. Министром безопасности России стал Виктор Павлович Баранников, милицейский генерал, который во время августовского путча активно поддержал Ельцина.
Восемнадцатого декабря 1991 года Ельцин подписал указ о создании самостоятельной российской Службы внешней разведки, которая выделялась из состава Первого главного управления КГБ. Начальник первого главка Примаков позвонил Борису Николаевичу:
— Кто будет осуществлять указ?
— Это не телефонный разговор. Приходите, поговорим.
Примаков приехал к президенту России, который еще сидел на Старой площади.
— Я вам доверяю, — сказал Ельцин, — пусть у вас не будет на этот счет сомнений, но в коллективе к вам относятся очень по-разному.
Примакова задело, что Ельцину кто-то наговорил о плохом отношении к нему в разведке:
— Знаете, Борис Николаевич, если б вы сказали, что не доверяете, разговор, естественно, на этом бы и закончился. Ни главе государства не нужен такой руководитель разведки, которому он не верит, ни службе, да и мне самому это абсолютно не нужно. Но меня задело то, что вас информировали о плохом отношении ко мне в самой разведке. Признаюсь, я этого не чувствую, но нельзя исключить, что ошибаюсь.
— Хорошо, — согласился Ельцин, — я встречусь с вашими заместителями.
Примаков предложил:
— Некоторых замов я уже сам назначил. Картина будет объективной, если вы встретитесь со всем руководством — это сорок — пятьдесят человек.
Ельцин столь же неожиданно согласился:
— Заезжайте завтра в десять утра и вместе поедем к вам в Ясенево.
Евгений Максимович Примаков тогда не знал, что Ельцин уже почти твердо решил назначить другого начальника разведки.
Академик Александр Яковлев участвовал в последней беседе Горбачева и Ельцина в декабре 1991 года, когда президент СССР передавал дела первому президенту России. Воспользовавшись тем, что Горбачев на минуту вышел, Яковлев завел разговор о Примакове. Ему кто-то передал, что Ельцин собирается поставить во главе разведки своего человека. Яковлев прямо спросил об этом Бориса Николаевича. Тот неохотно ответил, что, по его сведениям, Примаков склонен к выпивке.
— Не больше, чем другие, — заметил Яковлев. — По крайней мере за последние тридцать лет я ни разу не видел его пьяным. Может быть, вам стоит съездить в разведку и посмотреть своими глазами?
Ельцин несколько удивленно посмотрел на Яковлева. Ничего не сказал. Но, видимо, запомнил этот совет. Разговор о пристрастии Примакова к выпивке был всего лишь неуклюжим предлогом. Во-первых, в глазах Ельцина злоупотребление горячительными напитками никогда не было особым грехом. Во-вторых, он легко мог навести справки и убедиться в том, что Евгений Максимович, как человек, выросший в Тбилиси, любит застолье, но, как тбилисский человек, никогда не теряет голову…
В 10.40 в кабинете Примакова в Ясеневе собрались руководители всех подразделений разведки. На них появление Ельцина произвело большое впечатление. Он был первым главой государства, который приехал в разведку. Еще вполне здоровый, решительный и жизнерадостный, Ельцин в своей привычной манере рубил фразы:
— Раз создается новая организация… А будем так считать… Раз страна другая… то заново должен быть назначен и директор разведки… А будет ли это Примаков… или кто другой… это вы сейчас должны решить сами… Одни говорят — Примаков на месте. Другие говорят — он некомпетентен, здесь нужен профессионал… Посоветуемся…
Борис Ельцин не скрывал того, что некоторые люди — из его окружения или имевшие к нему прямой доступ — считали, что Примакова нужно менять — он человек старой команды и плохо впишется в новую, — и даже предлагали президенту другие кандидатуры. Но Ельцин, чье слово тогда на территории России было решающим, намеревался поступить демократично. Пусть сотрудники разведки сами скажут, какой начальник им нужен.
— Словом, вот как вы сейчас скажете… так и будет, — пророкотал Ельцин. — Прошу высказываться. Кто начнет?
Я спрашивал потом: что же было написано на лице Примакова в тот момент, когда Ельцин предложил его подчиненным решить судьбу своего начальника? Напряженность? Волнение? Фаталистическое спокойствие? Деланое равнодушие?
Говорят, что он держался очень достойно. К тому времени он проработал в разведке меньше трех месяцев. Горбачев ценил Примакова, но мнение бывшего президента теперь могло ему только повредить.
Взаимная нелюбовь бывшего первого президента СССР и первого президента России не угасла и после отставки Горбачева. Никакой горбачевец не мог в принципе нравиться новым обитателям Кремля. Ельцин не забыл и не хотел забывать, что и как в течение нескольких лет, начиная с февральского пленума ЦК КПСС, на котором он был выведен из состава кандидатов в члены политбюро, а затем и снят с должности первого секретаря Московского горкома, делал с ним генеральный секретарь. Горбачев был уже поверженным, но всё еще врагом. Людей Горбачева воспринимали как перебежчиков из вражеского лагеря, доверять которым нельзя. Наверное, был и циничный расчет — чем больше горбачевцев убрать, тем больше высоких должностей освободится.
Примаков занял место начальника разведки достаточно неожиданно. Последние два года (с января 1989 года) Первое главное управление КГБ СССР, которое занималось внешней разведкой, возглавлял генерал-лейтенант Леонид Владимирович Шебаршин.
Леонид Шебаршин — один из самых известных разведчиков. Он окончил школу в 1952 году. Как серебряного медалиста, его взяли без экзаменов на индийское отделение Института востоковедения, где на арабском отделении уже заканчивал курс Примаков. В 1954 году институт упразднили, студентов перевели в Институт международных отношений. Учился Шебаршин хорошо и на шестом курсе поехал в Пакистан на преддипломную практику. После окончания МГИМО его распределили в Министерство иностранных дел. И сразу отправили в Пакистан. Начинал с должности помощника и переводчика посла, которым был известный дипломат и будущий заместитель министра иностранных дел Михаил Степанович Капица. Под его крылом Шебаршин быстро получил повышение — атташе, третий секретарь. Осенью 1962 года вернулся в Москву, стал работать в центральном аппарате МИДа — референтом в отделе Юго-Восточной Азии. И почти сразу подающего надежды дипломата пригласили в КГБ. Он принял это предложение с удовольствием.
«В Комитете госбезопасности, — писал Шебаршин, — к Первому главному управлению издавна сложилось особое, уважительное, но с оттенком холодности и зависти отношение. Сотрудники службы во многом были лучше подготовлены, чем остальной личный состав комитета. Они работали за рубежом и, следовательно, были лучше обеспечены материально. Им не приходилось заниматься “грязной работой”, то есть бороться с внутренними подрывными элементами, круг которых никогда радикально не сужался.
Попасть на службу в ПГУ было предметом затаенных или открытых мечтаний большинства молодых сотрудников госбезопасности, но лишь немногие удостаивались этой чести. Разведка была организацией, закрытой не только для общества, но и в значительной степени для КГБ».
Леонид Шебаршин прошел курс подготовки в 101-й разведывательной школе, получил квартиру и в декабре 1964 года вновь отправился в Пакистан, теперь уже в роли помощника резидента внешней разведки. Третья командировка в Пакистан была бы приятнее, если бы не роковая слабость нового начальника.
«Резидент питал неодолимую тягу к спиртному, — вспоминал Шебаршин, — пил в любое время суток, быстро хмелел и во хмелю нес околесицу, густо пересыпанную матом... Дело кончилось тем, что резидент однажды свалился на приеме. Долго терпевший посол не выдержал и информировал Москву о хроническом недуге резидента».
Резидента отозвали.
После возвращения из командировки, летом 1968 года, Шебаршин прошел годичные курсы усовершенствования и подготовки руководящего состава Первого главного управления КГБ — на факультете усовершенствования краснознаменного института, что было необходимо для служебного роста. Программа повторяла учебный курс разведывательной школы, но с учетом, что в аудитории сидели профессионалы с немалым опытом. Оперативные офицеры уже состоялись как разведчики и чувствовали себя уверенно. Это была не столько учеба, сколько передышка.
Два года Шебаршин провел в центральном аппарате, и его отправили заместителем резидента в Индию — главный форпост советской разведки на Востоке. Шебаршин руководил линией политической разведки. В Дели была огромная резидентура, на которую не жалели денег, потому что в Индии можно делать то, что непозволительно в любой другой стране. Резидентом был Яков Прокофьевич Медяник, сыгравший большую роль в судьбе двух будущих начальников разведки — Шебаршина и Трубникова.
Леонид Шебаршин проработал в Индии шесть лет. Но после возвращения домой желанного повышения не получил. В апреле 1977 года Шебаршин приступил к работе в Ясеневе заместителем начальника отдела, то есть вернулся на ту же должность, с которой уезжал. Это было не очень приятно. Хотелось движения вперед. И он с удовольствием принял предложение поехать резидентом в Иран. Резидент — самостоятельная работа, открывающая перед энергичным и амбициозным человеком хорошую перспективу. Назначение состоялось в мае 1978 года.
Шебаршин вспоминал, как перед отъездом в Тегеран его пригласил к себе секретарь парткома КГБ Гений Евгеньевич Агеев (тот самый, который отличится в дни августовского путча 1991-го). Гений Евгеньевич до перехода в госбезопасность был вторым секретарем Иркутского горкома партии, считал, что умеет разговаривать с народом. Среди прочего строго поинтересовался:
— А в театр вы ходите?
Секретарь парткома хотел убедиться в том, что новый резидент обладает широким культурным кругозором. На этот ритуальный вопрос обыкновенно отвечали утвердительно даже те, кто поражал своих коллег необразованностью и полным отсутствием интереса к литературе и искусству. К Шебаршину, литературно одаренному человеку, это никак не относилось. Леонид Владимирович честно ответил:
— Нет, не хожу!
Секретарь парткома понимающе кивнул:
— Времени не остается.
Шебаршин игры не принял:
— Время есть. Я не люблю театр.
Гений Агеев, который со временем стал первым заместителем председателя КГБ, возмутился и отчитал Шебаршина за отсутствие интереса к культурной жизни. Более того, Агеев не успокоился, позвонил Крючкову и просил сделать внушение тегеранскому резиденту. Что происходит в Иране, куда отправлялся Шебаршин, секретарь парткома не подозревал. Каким испытанием окажется эта командировка, он и представить себе не мог, поэтому ни деловым, ни человеческим советом помочь был не в состоянии, но партийную бдительность проявил. Крючков попросил нового резидента быть осторожнее во взаимоотношениях с «большим парткомом» КГБ.
Председатель КГБ Юрий Владимирович Андропов по-своему напутствовал Шебаршина:
— Смотри, брат, персы такой народ, что мигом могут посадить тебя в лужу. И охнуть не успеешь!
Шебаршин руководил советской разведкой в Иране в самый сложный период исламской революции. Но в Тегеране резидентура была небольшой и неэффективной. Шебаршин сразу отметил и слабость аналитической работы, и отсутствие контактов среди тех, кто может дать важную информацию о происходящем в стране. Но тут уже почти всё зависело от него самого.
Резидент — важнейший пост в разведке. Конечно, он постоянно держит связь с центром, получает указания, отчитывается за каждый шаг. Тем не менее многие решения резидент принимает на собственный страх и риск. Есть проблемы, которые ни с кем не обсудишь. Как правильно строить отношения с послом? Как поступить с оперативным работником, совершившим ошибку? Или с офицером, который потихоньку прикарманивал деньги, выделявшиеся на агента?
Работу Шебаршина в Тегеране омрачил побег в июне 1982 года сотрудника резидентуры майора Владимира Андреевича Кузичкина, работавшего на британскую разведку. Кузичкин был направлен в Тегеран из Управления нелегальной разведки и работал с немногочисленными нелегалами из находившейся в подполье Народной партии (Туде), состоявшей в основном из коммунистов.
Шебаршин с женой отдыхали в ведомственном санатории, когда его подчиненный сбежал. Леониду Владимировичу пришлось прервать отдых и давать объяснения начальству. Спустя много лет Шебаршин не мог забыть эту историю, едва не сломавшую ему карьеру. В одном из интервью сказал со злостью:
— Мне говорили, что в Англии он стал сильно пить. Надеюсь, что он сдох.
Шебаршин прослужил в Тегеране четыре года, вернулся в феврале 1983 года. Обычно за побег подчиненного резидента сурово наказывают. Но обошлось. Симпатизировавший ему генерал Медяник посоветовал сидеть тихо и ждать, пока забудется побег Кузичкина. Несколько месяцев Шебаршин проработал заместителем начальника отдела в управлении «Р», которое обобщало опыт оперативной работы и выявляло ошибки в проведенных операциях.
Осенью 1983 года Шебаршина пригласил к себе начальник информационной службы Первого главного управления генерал Николай Сергеевич Леонов (впоследствии депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия»), чья карьера в разведке сложилась благодаря тому, что он когда-то познакомился с Раулем Кастро, который вскоре стал вторым человеком на Кубе.
— Предлагаю должность заместителя, — сказал Леонов Шебаршину. — Вам дается шанс проявить себя. Считайте, что работа у нас будет как бы испытанием для вас.
Шебаршину тон разговора не понравился, но предложение он принял с удовольствием. Информационную службу вскоре повысили в статусе, преобразовали в управление. Так что и Шебаршин из заместителей начальника отдела стал замначальника управления. Занимался афганскими делами. Летал в Кабул вместе с Крючковым, который обратил внимание на толкового молодого человека. В 1986 году они с Крючковым исполнили весьма деликатную миссию — заставили Бабрака Кармаля отказаться от власти и посадили в кресло хозяина Афганистана бывшего начальника госбезопасности Наджибуллу.
В апреле 1987 года ушел на пенсию по возрасту генерал-майор Яков Прокофьевич Медяник. Крючков сделал Шебаршина своим заместителем, отвечавшим за работу на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Африке. Шебаршин вошел в состав высшего руководства и переселился в дачный поселок разведки, что было одной из самых приятных привилегий его нового положения. На работу и с работы он отныне ходил пешком — несколько минут прогулки по лесу.
Первого октября 1988 года Крючков ушел из разведки на повышение, став председателем КГБ. Вопрос о его преемнике решался долго. Несколько месяцев обязанности руководителя первого главка исполнял Вадим Кирпиченко. В иной ситуации он бы и возглавил разведку. Но генералу Кирпиченко уже исполнилось шестьдесят шесть лет. Горбачев же требовал выдвигать молодых.
У Крючкова был явный фаворит — еще один заместитель начальника разведки Виктор Грушко. Ему еще не было шестидесяти. Но, видимо, эта кандидатура не прошла. В январе 1989 года Крючков передал Шебаршину свой кабинет в Ясеневе и всю советскую разведку. 24 января Леонида Владимировича принял генеральный секретарь Горбачев с кратким напутствием. В пятьдесят три года Шебаршин оказался во главе огромной разведывательной империи. Численность Первого главного управления в те годы, по некоторым данным, составляла почти двенадцать тысяч человек. Каждый год на первый курс Краснознаменного института имени Ю. В. Андропова принимали триста человек.
Достаточно молодой для своей высокой должности (на шесть лет моложе Примакова), он мог еще долго оставаться на своем посту. Участия в августовском путче 1991 года Шебаршин не принимал. Председатель КГБ Владимир Крючков таланты Шебаршина ценил, но у него были люди и поближе — их он и втянул в путч.
Шебаршин после ареста Крючкова ровно одни сутки — с полудня 22 августа до двух часов дня 23 августа 1991 года — возглавлял КГБ. Произошло это так. 22 августа в девять утра в кабинете начальника Первого главного управления и заместителя председателя КГБ генерал-лейтенанта Леонида Владимировича Шебаршина зазвонил аппарат спецкоммута-тора, соединяющего высшее начальство страны.
Начальник разведки уже был на работе. Он предполагал, что участие руководства КГБ в путче не пройдет безнаказанным. Открыв сейф, просматривал документы, решая, что можно сохранить, а что следует уничтожить. Одну бумагу, никому не доверяя, разорвал и спустил в унитаз личного туалета.
— С вами говорят из приемной Горбачева. Михаил Сергеевич просит вас быть в приемной в двенадцать часов.
— А где это? — поинтересовался Шебаршин.
— Третий этаж здания Совета министров в Кремле. Ореховая комната.
В Ореховой комнате, где когда-то заседало политбюро, собралось множество людей. Появился загорелый и энергичный Горбачев. Шебаршин представился президенту. Горбачев сразу вывел Шебаршина в соседнюю комнату, чтобы поговорить один на один, и задал несколько вопросов:
— Чего добивался Крючков? Какие указания давались комитету? Знал ли Грушко?
Шебаршин коротко пересказал, что говорил Крючков на совещании 19 августа.
— Вот подлец, — не сдержался Горбачев. — Я больше всех ему верил. Ему и Язову. Вы же это знаете.
Горбачев сказал, что поручает Шебаршину временно исполнять обязанности председателя КГБ. В три часа дня позвонил и сказал, что уже подписал соответствующий указ. Возможно, генерал Шебаршин и мечтал когда-нибудь занять главный кабинет на Лубянке, но вовсе не при таких обстоятельствах, когда судьба КГБ была под вопросом. Шебаршин внес свой вклад в историю комитета — успел подписать приказ о департизации КГБ. Парткомы в КГБ прекратили свою деятельность.
Из окна чужого кабинета на пятом этаже старого здания КГБ исполняющий обязанности председателя комитета поздно вечером бессильно наблюдал за тем, как сносят памятник создателю советских органов госбезопасности Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Никто из чекистов, укрывшихся за железными воротами, не посмел защитить основателя органов государственной безопасности, хранить верность которому клялись до последней капли крови.
В пятницу, 23 августа, утром Шебаршин засел в бывшем кабинете Крючкова. Он приказал вильнюсским чекистам, которых активисты местных народных фронтов блокировали в райотделах, не применять оружия и выпустил из Лефортовского следственного изолятора лидера Демократического союза Валерию Ильиничну Новодворскую. Больше он ничего сделать не успел. В разгар совещания, которое проводил Шебаршин с руководящим составом комитета, позвонил Горбачев:
— Появитесь у меня через полчаса!
К двум часам Шебаршин приехал в Кремль. Горбачев совещался с руководителями республик. Шло заседание Государственного совета. Вызвали Шебаршина. Михаил Сергеевич объявил:
— Я назначаю председателем КГБ товарища Бакатина. Отправляйтесь сейчас в комитет и представьте его.
Для самого Вадима Викторовича Бакатина назначение было неожиданностью. Его так же без предупреждения пригласили в кабинет Горбачева в Кремле, где сидели президенты союзных республик. Горбачев сказал ему:
— Вот мы тут все вместе решили предложить вам возглавить Комитет государственной безопасности…
Бакатин, как это полагается в таких случаях, предложил вместо себя академика Юрия Рыжова, который в Верховном Совете СССР возглавлял Комитет по безопасности. Но всё уже было решено. Бакатин поехал на площадь Дзержинского принимать дела и проводить первое совещание коллегии комитета.
Отправленный в следственный изолятор «Матросская тишина» Крючков написал письмо Бакатину:
«Уважаемый Вадим Викторович!
Обращаясь к Вам как к Председателю Комитета госбезопасности СССР и через Вас, если сочтете возможным довести до сведения, к коллективу КГБ со словами глубокого раскаяния и безмерного переживания по поводу трагических августовских событий в нашей стране и той роли, которую я сыграл в этой роли. Какими бы намерениями ни руководствовались организаторы государственного переворота, они совершили преступление…
Осознаю, что своими преступными действиями нанес огромный ущерб своей Отчизне… Комитет госбезопасности ввергнут по моей вине в сложнейшую и тяжелую ситуацию… Очевидно, что необходимые по глубине и масштабам перемены в работе органов госбезопасности по существу и по форме еще впереди».
В три часа дня 23 августа Бакатин в первый раз приехал в новое здание КГБ на Лубянской площади. На площади шел митинг. Чекисты боялись, что толпа ворвется в здание и их всех выгонят, как выгнали сотрудников ЦК КПСС со Старой площади. Но обошлось. Вообще говоря, если бы бывшего партийного работника и министра внутренних дел Вадима Бакатина не назначили тогда председателем КГБ, московская толпа и в самом деле могла бы пойти на штурм здания. Или же российские депутаты могли потребовать вовсе распустить комитет. Появление на Лубянке популярного Бакатина, возможно, спасло Комитет госбезопасности от полного разгрома.
Генерал Шебаршин, как и все остальные заместители председателя КГБ, по указанию Горбачева написал подробный отчет о том, что он делал в дни путча. Это была формальность. Шебаршина ни в чем не винили. Единственное, что он сделал, — переслал во все заграничные резидентуры разведки документы ГКЧП. Подчиненный ему спецназ — Отдельный учебный центр Первого главного управления, который на случай войны готовили к диверсионным действиям в тылу противника, в штурме Белого дома участвовать отказался. Но особого доверия к Шебаршину тоже не было — его назначил Крючков, путчист номер один, который к тому времени сидел в Матросской Тишине.
Двадцать пятого августа, в воскресенье утром, Шебаршин написал председателю КГБ Вадиму Бакатину первый рапорт:
«19–21 августа с. г. я оказался не в состоянии дать правильную оценку действий Крючкова и других участников заговора и не сумел правильно ориентировать личный состав Первого главного управления — людей честных, дисциплинированных, преданных Родине.
Прошу освободить меня от занимаемой должности и уволить…»
Рапорт остался без внимания. У Бакатина были неотложные проблемы, разведка к их числу не относилась. Шебаршин сразу сказал, что он сторонник выделения разведки в самостоятельную службу, чтобы избавиться от «хвоста» КГБ. Бакатин с ним согласился. Однако стать первым главой независимой разведывательной службы Шебаршину было не суждено. Между Бакатиным и Шебаршиным возникла личная неприязнь. Они были схожи характерами — самоуверенные, резкие — и не уважали друг друга.
Через три недели, в середине сентября, новое руководство КГБ назначило Шебаршина — против его желания — первым заместителем полковника Владимира Михайловича Рожкова. Шебаршин возмутился и 18 сентября позвонил Бакатину. Бакатин недовольно ответил:
— Где вы были раньше? Я уже приказ подписал.
После короткого разговора на повышенных тонах Шебаршин сказал, что дальше так работать не может и просит освободить его от должности. Он, вероятно, рассчитывал, что новый председатель пойдет на попятную. Но разозлившийся Бакатин решил, что его шантажируют, и возражать против отставки Шебаршина не стал.
В результате Шебаршин написал председателю КГБ новый рапорт:
«Мне стало известно, что на должность первого заместителя начальника Главного управления назначен В. М. Рожков. Решение об этом назначении было принято в обход Первого главного управления и его начальника. Вы лично не сочли возможным поинтересоваться моей позицией в этом вопросе, оценкой профессиональной пригодности тов. Рожкова.
В прошлом, как Вам известно, существовала практика назначения должностных лиц, в том числе и в Первое главное управление КГБ, под нажимом аппарата ЦК КПСС или по протекции. В последние годы ценой больших усилий эту практику удалось прекратить. С горечью убеждаюсь, что она возрождается в еще более грубой и оскорбительной форме — на основе личных связей, без учета деловых интересов. Эта практика, уверен, может погубить любые добрые преобразования.
Судя по тону Вашего разговора со мной по телефону 18 сентября с. г., Вы считаете такую ситуацию вполне нормальной. Для меня она неприемлема».
Этот рапорт был принят. Генерал-лейтенант Шебаршин в пятьдесят шесть лет стал пенсионером.
Бакатин начал искать ему замену.
При этом принципиальное решение о том, что разведка выйдет из состава КГБ и станет самостоятельной, уже было принято, так что подбирали не профессионала-разведчика, а политика.
Я спрашивал самого Вадима Бакатина: и кому же пришла в голову идея предложить этот пост Примакову?
— Я внес такое предложение, — ответил Бакатин. — Я знал, что он не будет против. Ему эта работа подходила. По складу характера. Так что, когда Шебаршин ушел, первым кандидатом был Примаков.
— А как вы увидели в Примакове начальника разведки?
— А как во мне увидели председателя КГБ? Какой я чекист?
— Вы по крайней мере занимались чем-то сходным — были министром внутренних дел.
— Да это абсолютно разные вещи, — отмахнулся Бакатин. — Эти два ведомства даже рядом нельзя ставить.
— Но ведь Примаков не профессиональный разведчик! А это непростая специальность.
— Министр должен принадлежать к правящей партии и осуществлять политическое руководство, — отрезал Бакатин. — А вот все остальные служащие ведомства, начиная с его замов, должны быть профессионалами. Я думаю, что у Примакова просто был к этому интерес. Евгений Максимович всю жизнь занимался внешней политикой. Он глубокий человек с аналитическим складом ума. А разведка это и есть информация. Получение информации из разных источников и ее сопоставление. Я думаю, эта работа ему как раз подходила.
— Как тогда встретили Примакова в разведке?
— Встретили его хорошо. А провожали еще лучше.
— Как это ему удалось? Ведь он был чужой для них?
— Он не чужой. Для нас для всех разведка родная. Все фильмов насмотрелись, все грезили разведкой с детского возраста. Как все мы убедились, руководить разведкой — это совсем неплохо у него получилось. Хорошо получилось. И разведчики довольны. И разведка не развалилась. На ней все эти перипетии политические не сильно отразились.
Формально Примаков получал должность первого заместителя председателя КГБ, то есть переходил в прямое подчинение Бакатину, хотя в Кремле, в команде Горбачева, они были на равных.
— Но в первом же вашем с ним разговоре имелось в виду, что разведка станет самостоятельной? — переспросил я.
— Да. Это было решено до его назначения, — подтвердил Бакатин. — Сразу договорились, что Комитет государственной безопасности, этот монстр, будет демонтирован. Надо было это сделать хотя бы для того, чтобы сохранить разведку. Ведь в то время президенты всех республик претендовали на наследство СССР, хотя Советский Союз еще существовал. Разведка всё-таки была сразу выделена за скобки. Она осталась единой, обслуживающей все республики. А остальную часть комитета делили. Происходило перетаскивание людей из кабинетов в кабинеты. Примаков в этом не участвовал.
После провала августовского путча и возвращения Горбачева в Москву его команда, сохранившая верность президенту, получила новые важные назначения. Все крупные посты были поделены. Евгений Примаков остался, пожалуй, единственным из ближайшего окружения Горбачева, кто не получил реальной работы. Ему было тоскливо в Кремле без собственного практического дела.
Сам Евгений Максимович рассказывал так:
«Я настолько не был готов к такой крутой перемене в своей жизни, что вначале вообще несерьезно отнесся к предложению Бакатина. Начисто забыл о нем во время сентябрьской поездки по Ближнему Востоку, куда полетел с большой группой представителей союзных и российских органов власти с целью получить столь необходимые стране кредиты. Нам тогда это неплохо удалось сделать — сумма полученных только несвязанных займов составила более трех миллиардов долларов.
Прилетел в Москву, окрыленный успехом. Во время поездок в Саудовскую Аравию, Кувейт, Арабские Эмираты, Египет, Иран, Турцию в полной мере использовал и свои связи, но главное, конечно, было не в них, а в высоком авторитете нашей страны в арабском мире. Однако для личного доклада меня никто не вызывал.
Позвонил по телефону Горбачев и, не спросив ни слова о результатах поездки, предложил в условиях ликвидации Совета безопасности стать его советником по внешнеэкономическим вопросам. Я понимал, что мне подыскивается место. Может быть, сказалась в какой-то степени и обида — предложение делалось как бы мимоходом, по телефону, и я ответил:
— Михаил Сергеевич, мне как-то уже надоело советовать.
— Тогда соглашайся на работу руководителем разведки, мне Бакатин говорил об этом.
— Хорошо, — с ходу ответил я.
Прошло несколько дней — никто не возвращался к этой теме. Бакатин позже мне объяснил причину. Тогда уже ни одно назначение на сколько-нибудь крупный государственный пост не проходило без Ельцина, а он отдыхал на юге. Бакатин позвонил ему — Ельцин вначале колебался, но, по словам Вадима, он его уговорил.
У меня не было никаких оснований считать, что Борис Николаевич ко мне относится негативно, но причину его колебаний я понимал — был в “команде Горбачева”, не принадлежал к окружению Ельцина, а в то время на ведущие посты расставлялись люди, которые работали с ним раньше».
Виталий Игнатенко вспоминает:
— Назначение в разведку для самого Примакова было, мне кажется, неожиданным. Но для того времени оно было крайне необходимым. Для страны это было нужно. Ему так и представили: вы идете туда, потому что это нужно стране. Разведчики, которые этому сложному и опасному делу отдали много лет, в нем души не чаяли. Я слышал, что они самого высокого мнения о его уровне профессиональном и человеческом…
Академик Александр Яковлев тогда был ближайшим советником президента Горбачева. Он говорил в медленной своей манере, очень точно подбирая слова:
— Назначение Примакова было логичным. Михаил Сергеевич хотел, чтобы после Крючкова эта сфера была надежна, чтобы там обмана не было. Там многое строилось на обмане и на лжи. А Примаков врать не будет. Это Горбачев знал…
Примаков сказал друзьям, что воспринимает разведку как аналитическую работу.
— Это верно, — согласился Александр Яковлев, — Примаков привнес в разведку научный подход к анализу. В оперативном деле он мало что смыслил. Но как аналитик он в разведке оказался на месте.
В самой разведке об уходе Шебаршина сожалели прежде всего те, кто был с ним связан. Профессионалы говорят, что он был сильным информационщиком, то есть умел осмыслять и интерпретировать добытую информацию.
Евгений Максимович Примаков предложил Шебаршину вернуться первым замом, считая, что такой опытный человек должен продолжить работу в разведке. Но Леонид Владимирович отказался: ему не хотелось возвращаться в Ясенево вторым человеком — после того, как он столько лет был там хозяином. А полковника Рожкова, из-за которого ушел Шебаршин, обходительный Примаков переместил на должность простого заместителя, а потом отправил представителем Службы внешней разведки в Федеративную Республику Германию, где тот — уже в звании генерал-лейтенанта — служил до своей смерти в 1996 году.
После Шебаршина боялись варяга, неспециалиста, опасались появления нового Виталия Федорчука — военного контрразведчика, который в 1982 году ненадолго возглавил КГБ. После очередного побега на Запад советского разведчика, вспоминал Вадим Кирпиченко, Федорчук сказал руководителям Первого главного управления, что их подчиненным не обязательно знать иностранные языки, на встречи с агентами можно ходить с переводчиком: так оно даже надежнее, вдвоем не убегут, будут контролировать друг друга.
— Я сам, — поделился председатель личным опытом, — когда служил в Австрии, приглашал к себе агентов из числа австрийцев и беседы проводил через переводчиков.
Когда Федорчуку что-то донесли о недовольстве разведчиков, председатель КГБ пренебрежительно бросил:
— Хрена ли они там в разведке выпендриваются? Я вот каждому пограничнику дам переводчика, так они еще лучше будут работать, чем ваши профессионалы.
Появление Примакова стало для обитателей Ясенева полной неожиданностью. Как он сам выразился, многие находились в ожидании. Сначала насторожились, но страха не было: учитывали его научный опыт, занятия внешней политикой — так что надеялись, что академик всё-таки не вовсе чужой для них человек.
— Когда он сюда пришел, отношение к нему было сдержанно-выжидательное, хотя и доброжелательное, — вспоминает Татьяна Самолис, которая была пресс-секретарем директора Службы внешней разведки. — Хотя нет, сначала — просто сдержанно-отчужденное. И слово «академик» произносилось с сомнением, пробовалось на вкус, что оно значит. А потом… Здесь всё очень быстро происходит, в разведке работают умные люди. Они знают цену информации и умеют ее получать. Информация о Примакове добывалась очень быстро. Во-первых, внутри самой разведки были люди, которые его знали — кто-то в молодые годы, еще по институту — вместе учились, кто-то знал его всю жизнь — еще со времени работы в арабских странах, кто-то сталкивался потом, когда он работал в академических институтах и проводил симпозиумы, конференции, ситуационные анализы, в которых разведчики принимали участие… Кто-то знал Примакова по загранкомандировкам: когда Примаков приезжал в какую-то страну, резидентура ему помогала — давала машину, переводчика. И через короткое время разведчики пришли к выводу, что им повезло: в это революционное время он не даст их затоптать. А опасность такая была. КГБ делили, и разведку республики хотели растащить.
Примаков знал ответ на главный вопрос: а нужна ли вообще разведка?
Сейчас этот вопрос звучит наивно. Но в то время горячие головы говорили — нас любит весь мир, зачем нам разведка? Надо ее прикрыть. Да и денег нет, бедноватая страна… Потом, лет через пять — семь, станем на ноги — мы же думали, что быстро экономически окрепнем, — и тогда откроем разведку.
Примаков хорошо понимал, что разведку нельзя, как дверь, то открывать, то закрывать. Она или есть, или ее нет. Если она когда-нибудь понадобится — хотя бы через двадцать лет, она должна существовать сегодня. Вот это он точно знал: он сделает всё, чтобы разведка существовала. И за это, когда Примаков уходил, люди его благодарили.
А как отнеслись тогда к неожиданному назначению Примакова президенты — тогда их еще было двое: Горбачев и Ельцин?
— Горбачев сразу согласился, — сказал Бакатин. — А Ельцин долго не хотел Примакова. Ельцина пришлось убеждать.
Вадим Викторович на мгновение замолчал, показывая, что разговор с президентом России был непростым. В тот момент Бакатин был куда более влиятельным политиком, чем Примаков. Бакатин был на виду, страна следила за каждым его шагом, газеты цитировали любое выступление, а Примаков ушел в «лес», как именовали штаб-квартиру разведки, и надолго исчез из поля зрения. Это и спасло его политическую карьеру, хотя не только это.
Когда Вадима Викторовича Бакатина назначили председателем Комитета государственной безопасности СССР, обсуждались разные планы — от радикальной идеи распустить КГБ и создать совершенно новую спецслужбу с ограниченными функциями до осторожного предложения ограничиться косметической реформой комитета. Бакатин выбрал нечто среднее. Его реформа органов государственной безопасности оказалась вполне жизнеспособной.
Бакатин передал войска КГБ Министерству обороны. Это были те несколько дивизий, которые с дальним прицелом — на случай чрезвычайного положения — забрал у армии Крючков (103-я Витебская воздушно-десантная, 75-я Нахичеванская мотострелковая, 48-я мотострелковая, 27-я отдельная мотострелковая бригады).
Пограничные войска тоже вышли из КГБ, был создан самостоятельный Комитет по охране государственной границы. После распада СССР Ельцин включил пограничников в состав Министерства безопасности России. В 1993 году они опять получили самостоятельность, и была образована Федеральная пограничная служба. А при Путине пограничников вернули в состав ведомства госбезопасности.
Службу охраны (бывшее Девятое управление, которое заботилось о членах политбюро) подчинили непосредственно президенту Горбачеву. При Ельцине создали два ведомства — Службу безопасности президента и Главное управление охраны, которое берегло остальных государственных чиновников. Затем обе службы объединили в единую Федеральную службу охраны Российской Федерации.
Управление правительственной связи, Восьмое главное управление (обеспечение безопасности собственных секретных переговоров и расшифровка чужих) и Шестнадцатое управление (перехват радио- и телефонных переговоров) тоже изъяли из состава КГБ и объединили в Комитет правительственной связи при президенте СССР. С 1993 года это ведомство называлось ФАПСИ — Федеральное агентство правительственной связи и информации.
Президент Путин расформировал ФАПСИ накануне второй иракской войны. Первоначально президент сказал, что ФАПСИ поделят Федеральная служба безопасности и Министерство обороны. На самом деле Главному разведывательному управлению Генштаба ничего не досталось. Бывшее Третье главное управление (радиоэлектронная разведка) ФАПСИ поделили Служба внешней разведки и ФСБ. Федеральной службе безопасности подчинили также войска радиоэлектронной разведки и Второе главное управление (безопасность связи, дешифрование и криптография).
Основная часть наследства ФАПСИ перешла к Федеральной службе охраны, как ни странно это звучит. В нашей стране по давней традиции служба охраны не только обеспечивает безопасность высших чиновников, но и присматривает за ними. Поэтому генерал-лейтенант Власик при Сталине или генерал-лейтенант Коржаков при Ельцине были столь влиятельными фигурами, хотя формально ведали лишь охраной и материальным обеспечением руководителей государства.
Федеральная служба охраны включила в себя систему правительственной связи, войска правительственной связи, Главное управление информационных ресурсов (вся информация, которая циркулирует в закрытых сетях органов власти), Главное управление информационных систем (изучение общественного мнения перед выборами). В составе ФСО образовали Службу специальной связи и информации…
Вадим Бакатин упразднил бывшее Пятое управление, которое занималось политическим сыском — слежкой за интеллигенцией, церковью, национальными движениями.
Министр обороны маршал Евгений Шапошников просил передать ему Третье главное управление КГБ — военную контрразведку. Бакатин согласился, но в Кремле не захотели, чтобы армейская контрразведка стала карманным ведомством Министерства обороны. Контроль над армией остался в руках главы государства.
Осенью 1991 года я разговаривал с популярным тогда политиком, народным депутатом СССР Аркадием Николаевичем Мурашевым, молодым и жизнерадостным человеком. Его только что — совершенно неожиданно — назначили начальником Главного управления внутренних дел Москвы. Я спросил Мурашева: раньше милиция контролировалась сотрудниками госбезопасности, люди КГБ были внутри милицейского аппарата. Как сейчас складываются отношения с комитетом?
— Людей КГБ у нас забрали еще до моего прихода в главк, — рассказал мне Мурашев. — Отношения с госбезопасностью у нас сейчас хорошие, рабочие, и мы, в свою очередь, расформировали подразделение, которое действовало против КГБ. Да работникам КГБ вовсе нечего делать, они переключаются на борьбу с преступностью…
Это сейчас ясно, как наивен был Аркадий Мурашев, а тогда вопрос, какие спецслужбы нужны стране и что они должны делать, еще не был решен.
После Мурашева я беседовал с начальником московской госбезопасности Евгением Вадимовичем Савостьяновым. Человек науки, он был таким же чужаком для КГБ, как Мурашев для МВД. Савостьянова потом снимут с должности по требованию генерала Коржакова, а после увольнения Коржакова возьмут в администрацию президента Ельцина — заниматься силовыми структурами.
В каждом учреждении шутят по-своему.
— Введите арестованного! — Этими словами дежурный адъютант с синими петлицами офицера госбезопасности разрешил сотруднику пресс-бюро пропустить меня к своему начальнику, который сидел в огромном полутемном кабинете.
Поднявшийся мне навстречу человек с седеющей бородкой и очаровательной улыбкой был символом перемен, наступивших в этом стеклобетонном здании без таблички.
Я спросил Савостьянова:
— Ваш друг и единомышленник Аркадий Мурашев уверен, что вашему ведомству попросту нечего делать. Вы согласны с вашим другом?
Ехидный вопрос не произвел никакого впечатления. Савостьянов ответил:
— Для нашей организации должно быть типичным, что люди со стороны не подозревают о том, чем мы тут занимаемся.
— А чем же?
— У нас есть официально сформулированные задачи: разведка, контрразведка, информационно-аналитическая работа, борьба с терроризмом. Что касается борьбы с преступностью, то, на мой взгляд, нам незачем за это браться. Это могло бы делать МВД. Зато нам следовало бы заниматься внутренней политической разведкой. Думаю, пройдет период кокетливых полупризнаний и нам прямо скажут: как и в других государствах, нужно следить за политической температурой в обществе, знать, в каких слоях общества назревают настроения в пользу насильственного свержения правящих структур, изменения конституционного строя.
— А что делает ваша агентура?
— Агентура фактически заброшена или, скажем так, законсервирована.
— Как вы себя чувствуете на заседаниях, усаживаясь за стол вместе с людьми, которые лет двадцать прослужили в этом ведомстве?
— Я себя чувствую человеком, который понимает, о чем идет речь, и в состоянии изложить свою точку зрения. Со свойственной мне нескромностью должен заметить, что она часто разделяется другими.
— А вам не кажется, что здесь существует каста, которая пока вынуждена терпеть ваше присутствие, но на самом деле они предпочли бы поговорить без вас?
— То, что какие-то вопросы им бы хотелось обсудить без меня, это совершенно нормально. Но серьезного отчуждения я не замечаю.
— Вы не боитесь, что вам подставят ножку?
— Если бы мне хотели подставить ножку, вытолкнуть, давно уже могли это сделать.
— Вы считаете, что контролируете свое ведомство? Вы знаете, о чем думают ваши подчиненные?
— Основные настроения мне известны. Если вы думаете, что люди, работающие здесь, были бесконечно преданы коммунистическому режиму, то вы ошибаетесь. Они были хорошо осведомлены. Многое видели, многое знали, многое понимали. Не надо представлять их идиотами, которые…
— Это вовсе не идиотизм. Это просто нелюбовь к свободомыслию.
— Такие люди есть. Мне приходится с ними сталкиваться.
— Вы стараетесь избавиться от них?
— Ни от кого я не пытаюсь избавиться. Можно было всех разогнать, как в семнадцатом, а потом опять набирать профессионалов. Мы пошли по другому пути: поставили перед теми же людьми новые задачи…
Разговор закончился, дежурный адъютант глянул на меня и снял трубку телефона внутренней связи:
— Уведите арестованного.
Главная задача, которую ставили перед собой Бакатин и узкий круг его единомышленников, — сделать ведомство госбезопасности безопасным для общества.
Главная задача Примакова состояла в том, чтобы сохранить и модернизировать разведку. Противоположность задач определила и судьбу обоих политиков. Хотя было и нечто общее.
Евгений Примаков наотрез отказался аттестовываться на воинское звание, хотя сразу бы стал генералом (Горбачев намеревался присвоить ему звание генерал-полковника), а это неплохо для пенсии (бывший председатель КГБ Александр Николаевич Шелепин в последние годы жизни горевал, что отказался от погон, потому что лишился возможности получать приличную пенсию).
Вадим Бакатин, придя в КГБ, отказался от присвоения очередного воинского звания — генерал-полковник — и остался генерал-лейтенантом (звание, полученное в Министерстве внутренних дел), хотя на этой должности мог быстро стать генералом армии, что и делали его предшественники и преемники.
Строитель по профессии, Бакатин был замечен и переведен на партийную работу. По этой лестнице быстро продвигался вверх, стал первым секретарем Кемеровского обкома. Осенью 1988 года Горбачев назначил его министром внутренних дел СССР. Бакатин сопротивлялся проведению жесткой линии, развязал руки республиканским МВД, дал самостоятельность прибалтийским министерствам, чем вызвал гнев сторонников консервативной линии. Они давили на Горбачева, требуя заменить Бакатина кем-нибудь потверже.
В декабре 1990 года его без объяснения причин сместили с поста министра. Но Горбачев не хотел его терять и назначил членом Президентского совета. В Кремле кабинет Бакатина находился недалеко от кабинета Примакова, но они были разными людьми. Примаков сторонился публичной политики, не выступал на митингах, избегал интервью, предпочитал тихую работу.
Вадим Бакатин, темпераментный, резкий, жаждал активной политической деятельности, несомненно, видел себя на первых ролях. Он был человеком известным, заметным, хотя, возможно, переоценивал степень собственной популярности. Он выставил свою кандидатуру на первых президентских выборах в России, стал соперником Ельцина, но собрал мало голосов, потому что воспринимался как партийный аппаратчик, хотя им и не был.
Бакатин продержался в КГБ очень недолго. Примаков остался в разведке надолго. Почему их судьба сложилась настолько по-разному?
Александр Яковлев, который тогда знал всё, что происходило в коридорах власти, вспоминал:
— Примаков тоже мог бы быть освобожден. Но тут сыграло свою роль то, что он уже начал завоевывать свое положение во внешней разведке. Не стал никого разгонять.
Евгений Максимович оказался мудрым администратором. Интервью не давал, на трибуну не лез, объективов телекамер избегал. Он получил свой пост не на волне выдвиженцев по случаю, которых быстро смыло. Он умело делал свое дело.
— Я знаю, он сразу привлек к себе наиболее думающую часть разведки, — сказал Яковлев. — Это люди, которым надоел обман, наговаривание всякое.
Я задал Бакатину личный вопрос:
— Против вас восстали в КГБ, а против Примакова не восстали. Люди разные в разведке и во внутренних управлениях КГБ, или у вас модели поведения были разные?
— Разведка всегда считалась элитой спецслужб. Там просто более мудрые люди, чем здесь, в контрразведке, где люди вечно чем-то недовольны, обижены. Мудрые люди в разведке поняли, что самостоятельно работать под руководством достаточно опытного политика — им самим будет неплохо, так что чего им обижаться на Примакова? А в контрразведке тогда всё шли споры — кому чего отдать — и бесконечные дискуссии о чекизме и чекистских традициях. Плюс ведомственные склоки. И при этом не могли понять, что деятели ГКЧП сами всё развалили. Разве может так плохо спецслужба планировать даже путч? КГБ всё проморгал — государство развалилось, а они не заметили. КГБ и не спецслужба вовсе. Потом, когда чеченская война началась, чекистов ругали: Дудаева поймать не могут! Да они не приучены ловить, не готовы к такой работе, какой профессиональные спецслужбы должны заниматься. Их работа была следить, что какой профессор где говорит. Или гадить ЦРУ в какой-нибудь африканской стране…
Чекисты возненавидели Бакатина после знаменитой истории с американским посольством. Примаков, более искушенный в политике человек, вел себя куда осторожнее и в подобные истории не попадал.
Скандал разгорелся задолго до назначения Бакатина в КГБ — в августе 1985 года, когда американцы заявили, что строящееся в Москве новое здание посольства Соединенных Штатов нашпиговано подслушивающими устройствами.
В почти готовом здании прекратили все работы. Советских рабочих, которые ударно трудились на американской стройке, изгнали с территории посольства.
Американская служба безопасности выяснила, что советские мастера начинили стены таким количеством подслушивающих устройств, что здание превратилось в один большой микрофон. Сенат США пришел к выводу, что «это самая масштабная, самая сложная и умело проведенная разведывательная операция в истории». Эту операцию следовало бы назвать и самой бессмысленной, поскольку в конечном счете деньги были потрачены зря…
Посольство Соединенных Штатов давно нуждалось в улучшении жилищных условий. Советское посольство в Вашингтоне тоже жаждало расширения. Беседы о новом здании американцы начали вести с советскими чиновниками еще в 1960-х годах. Решение было принято при президенте Ричарде Никсоне, который дважды приезжал в Москву и провозгласил вместе с Брежневым политику разрядки.
Для нового здания советского посольства подобрали неплохое местечко в Вашингтоне. А американцы получили право расширить свой городок. Смету на строительство составили в семьдесят два миллиона долларов. За шесть лет успели израсходовать двадцать три миллиона. Строительство началось в конце 1979 года. Операция КГБ СССР по оснащению нового здания посольства подслушивающей системой — тремя годами ранее, в 1976-м.
По взаимной договоренности несущие конструкции, стены, перекрытия сооружались из местных материалов. Облицовочные материалы и всё, что необходимо для внутренней отделки, а также лифты, электрооборудование, оконные стекла и рамы американцы доставили с родины. Строили здание в основном советские рабочие, хотя некоторые специалисты и предупреждали правительство США, что это опасно.
Но государственный департамент торопился с завершением строительства. Всего несколько офицеров безопасности следили за рабочими и проверяли строительные материалы. Американские спецслужбы высокомерно полагали, что сумеют легко обнаружить и демонтировать все подслушивающие устройства. Они недооценили научно-технический уровень советских коллег.
Большая часть подслушивающих устройств, как выяснилось позднее, была вмонтирована в бетонные плиты еще на заводе. КГБ использовал технику, которой не было у США. В стенах здания находились микрофоны такой чувствительности, что они записывали даже шепот. Советские агенты умудрились встроить подслушивающие устройства и в пишущие машинки, чтобы можно было расшифровать их дробь и понять, какой текст печатается. Американцы смиренно признали, что российские спецслужбы на этом направлении обставили и европейцев, и самих американцев.
— В искусстве подслушивания русские всех обошли, — утверждали американцы.
Советская спецтехника была снабжена собственными источниками энергии, что позволяло электронике годами передавать каждое слово, произнесенное в здании посольства. Американские контрразведчики пришли к выводу, что практически невозможно избавить здание от подслушивающих устройств. Президент Рональд Рейган рекомендовал снести здание и построить новое. Но американские конгрессмены и сенаторы пришли к выводу, что Соединенным Штатам это не по карману.
В декабре 1991 года председатель КГБ Вадим Бакатин сделал шаг, казавшийся немыслимым: передал американцам «техническую документацию средств специальной техники для съема информации». Бакатин считал, что это докажет готовность Москвы к партнерству с Соединенными Штатами. Он объяснил, что 95 процентов всей подслушивающей системы американцы уже выявили сами. Он принял это решение не в одиночку, а спросив мнение технических подразделений КГБ и получив санкцию Горбачева и Ельцина.
Но самое удивительное состояло в том, что американцы не поверили в искренность Вадима Бакатина. Они априори исходили из того, что всю правду им, конечно же, не скажут. Десять лет продолжались слушания в конгрессе, готовились экспертные заключения, заседали правительственные ведомства, это стоило десятки миллионов долларов. Столько же ушло на поддержание недостроенного строительства в порядке и на выяснение, сколько же в здании электронных игрушек.
Учитывая соображения безопасности и финансовые проблемы, государственный департамент решил сохранить недостроенное здание посольства США, грандиозный восьмиэтажный памятник находчивости советских спецслужб и высокомерия американских. Здание не снесли, а достроили.
Когда в Вашингтоне, наконец, решили судьбу пустого и мрачного здания из красного кирпича, которое столько лет стояло в центре Москвы без всякого толка, я спросил в пресс-службе американского посольства, нельзя ли побывать на заброшенной стройке. Это было поздней весной 1996 года. Разрешили, но приставили ко мне мило улыбавшуюся хрупкую барышню с большим револьвером в черной кобуре.
Она провела меня вокруг здания, бдительно следя за тем, чтобы я не переступил через невидимую черту. Подходить близко к зданию иностранцам запрещалось.
Барышня состояла во внутренней охране посольства, которую несет секретная служба США — она по традиции подчиняется Министерству финансов и охраняет президента и других высокопоставленных лиц. Я поинтересовался потом в пресс-службе посольства, действительно ли милая барышня принадлежит к оперативному составу, или она всё же работает с бумагами, а револьвер носит по обязанности. В пресс-службе мне сообщили, что в обычные дни барышня не расстается с любимым автоматом, который на сей раз оставила в сейфе, чтобы меня не испугать.
На задворках заброшенного здания играли дети сотрудников посольства, молодые мамаши прогуливались с колясками. Всё, как и в любом другом московском дворе, только чисто и никто ни на кого не кричит. На пыльных стеклах заброшенного здания крупными буквами было написано: «Боже, благослови Америку». Много лет к зданию никто не прикасался — за исключением американских контрразведчиков, которые с помощью радиоизотопных томографов с кобальтовой пушкой изучали новейшие образцы советской подслушивающей техники.
Вашингтонская архитектурная фирма предложила подходящий проект. Рабочие ободрали фасад, снесли два верхних этажа и надстроили четыре новых, уже свободных от подслушивающих устройств. Здание стало десятиэтажным — то есть на два этажа выше, чем предполагалось первоначальным проектом. На верхних этажах гарантируется полная секретность переговоров. Там и разместились кабинеты старших дипломатов. Нижние этажи сохранились, а с ними, видимо, и подслушивающие устройства, но на этих этажах ничего секретного не обсуждается.
Российских рабочих на сей раз не позвали и российскими строительными материалами тоже не воспользовались. Переделывали здание американцы, получившие специальный допуск к сведениям высшей категории секретности, то есть абсолютно благонадежные, — и только из американских же строительных материалов, которые тоже проверены специалистами. Всё, что необходимо для посольства, включая строительные механизмы, доставляли в Россию морем.
Федеральные и московские власти согласились на перестройку здания в соответствии со специальным межправительственным соглашением, которое было подписано в 1992 году. Поэтому данные о строительстве не были предоставлены, как это полагается, московским архитекторам. Государственный департамент даже держал в секрете поэтажный план перестройки здания. Американцы тогда не сомневались, что российская контрразведка тщательно изучила проект перестройки посольского здания и искала пути проникновения в строительную зону, чтобы запустить туда жучки нового поколения, ведь за прошедшие годы подслушивающие устройства стали еще чувствительнее и миниатюрнее. Американцы были уверены, что обслуживающий посольство пост российской контрразведки разместился в старой православной церкви на противоположной стороне улицы.
Американские строители сменили руководителям российского правительства вид из окна. Из Белого дома они теперь любуются новеньким зданием американского посольства. Возможно, они сталкиваются с не менее внимательным взглядом американских дипломатов, которые, правда, уверяли меня, что любуются исключительно привольным столичным видом и Москвой-рекой.
Бакатина из-за этой истории его бывшие подчиненные называют предателем. Евгений Примаков такого бы никогда не сделал. Вадим Викторович говорил мне, что не сожалеет о передаче американцам информации о посольстве — это был правильный шаг. Но Бакатин заметил, что был, пожалуй, наивен в отношении Запада, смотрел на мир в розовых очках.
— А вот у Евгения Максимовича, у него и тогда не было иллюзий в отношении Запада.
Двадцать восьмого ноября 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ «Об утверждении Временного положения о Межреспубликанской службе безопасности». Службу возглавил Вадим Бакатин. Через несколько дней, 3 декабря 1991 года, Верховный Совет принял закон «О реорганизации органов государственной безопасности», а Горбачев сразу же его подписал. Этот закон упразднял КГБ СССР. На переходный период на его базе создавались Межреспубликанская служба безопасности и Центральная служба разведки СССР.
Но указы Горбачева уже не имели практического смысла, а через несколько дней после встречи в Беловежской Пуще президентов России Бориса Ельцина, Украины — Леонида Кравчука и председателя Верховного Совета Белоруссии Станислава Шушкевича утратили и юридический смысл. Горбачев еще несколько дней оставался президентом страны, но он уже никем и ничем не управлял. «Я видел Михаила Сергеевича сразу после Пущи, — вспоминал Рафик Нишанов. — Он выглядел выжатым, впал в какое-то оцепенение».
Вадим Бакатин возглавлял Комитет госбезопасности сто семь дней начиная с 23 августа 1991 года. На сто первый день, 3 декабря, КГБ прекратил существование. 8 декабря в Минске Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали соглашение о создании Содружества Независимых Государств, и нужда в Межреспубликанской службе безопасности тоже отпала. Каждая республика обзаводилась собственной специальной службой.
Борис Ельцин подписал 24 января 1992 года указ об образовании Министерства безопасности Российской Федерации на базе упраздняемых Агентства федеральной безопасности РСФСР и Межреспубликанской службы безопасности. Министром безопасности стал Виктор Баранников.
А судьба Бакатина решилась месяцем раньше.
Двадцать третьего декабря Ельцин пригласил к себе Бакатина и предложил ему дипломатическую работу. Вадим Викторович, видимо, рассчитывал на большее и отказался. 24 декабря собрал вещи и покинул Лубянку — за день до отставки Горбачева. Политическая карьера Вадима Бакатина закончилась. Политическая карьера Евгения Примакова еще не началась.
Я спросил у Бакатина:
— Что было главным для разведки в конце 1991 года?
— Примаков пришел в то время, когда надо было думать о новой концепции безопасности. Перед ним стояла задача обеспечить информацией новое руководство, чем он и занимался. Занимался и законодательством — закон о разведке появился, и созданием нового имиджа своей службы.
— А разведку новая власть хотела сохранить или разогнать?
— Спецслужбы в такой период очень нужны, все мы наполовину в социализме, наполовину в капитализме. Выгнать старых профессионалов — значит разведку ликвидировать. Агент дается долгим временем. Только если кому-то идеология мешает служить государству, тогда от него надо избавиться.
Послеавгустовская гроза 1991 года обошла разведку стороной.
Первое главное управление КГБ (внешняя разведка) отделили от остального аппарата государственной безопасности — и структурно, и в смысле ответственности за более чем семидесятилетнюю историю этого ведомства. Так первым зампредом КГБ Евгений Максимович пробыл всего месяц.
Нависшая над бывшим КГБ угроза полной ликвидации (в конечном счете оказавшаяся мнимой) на разведку никогда не распространялась. Разведку спас Примаков.
Появление в «лесу», как сами разведчики именуют собственную штаб-квартиру в Ясеневе, академика Евгения Примакова оказалось для многих неожиданным и странным. И я тогда думал, что Примакову не хватит административного опыта, приобретенного Бакатиным на постах первого секретаря обкома и министра внутренних дел. Такой опыт необходим для того, чтобы подчиненные не могли водить пришлого начальника за нос, шаманя и ссылаясь на специфику службы. Думали, что Бакатин пришел надолго, сулили ему бурную политическую карьеру. А Примакова считали проходной фигурой.
Назначение Бакатина подчиненные встретили с трудно-скрываемым раздражением. Он действовал жестко, и его просто возненавидели. К облегчению чекистов, правительство отправило его на пенсию — в пятьдесят пять лет. В Кремле ему не простили отказа баллотироваться в 1990 году вместе с Ельциным в качестве кандидата на пост вице-президента.
Отношение же к Примакову изменилось к лучшему. Он не противопоставил себя аппарату, а совсем наоборот, постарался стать своим.
Примаков не собирался заниматься внутренним сыском, но позаботился о том, чтобы разведка ни в чем не уступала другим спецслужбам. Он вел себя как рачительный хозяин. И это нравилось его подчиненным.
Важнейшее испытание на лояльность Примаков прошел после встречи в Беловежской Пуще в декабре 1991 года. Ельцин и его окружение тревожились: не попытается ли Горбачев в последний момент сохранить власть силой?
Министр внутренних дел Виктор Баранников был человеком Ельцина. Министр обороны маршал Евгений Шапошников тоже поспешил присягнуть Ельцину на верность. А как себя поведут руководители спецслужб Бакатин и Примаков, это беспокоило российскую власть. 9 декабря 1991 года Примакова без объяснения причин попросили приехать из Ясенева на Лубянку. В кабинете Бакатина глава российской госбезопасности генерал Виктор Иваненко передал им обоим пожелание российского правительства проявить благоразумие, иначе говоря, не сопротивляться неизбежному распаду Советского Союза и переходу власти к Ельцину. Предупреждение было напрасным — Примаков резко ответил Иваненко, что разведка должна находиться вне политики.
После встречи трех лидеров в Беловежской Пуще, подписавших соглашение о создании Содружества Независимых Государств, президент СССР Михаил Горбачев собрал своих советников, тех, на кого, как считал, мог рассчитывать, и задал вопрос: что будем делать?
Горбачевские люди доказывали, что не надо сдаваться, что союзные структуры должны продолжать работать. Примаков был осторожнее, сказал, что нужно принять совершившееся, а к России, Украине и Белоруссии, вполне возможно, присоединятся и другие республики.
Десятого декабря Горбачев вновь собрал ближний круг — Александра Яковлева, министра внешних сношений СССР Эдуарда Шеварднадзе, московского мэра Гавриила Попова, Бакатина, Примакова, главу Союза промышленников и предпринимателей Аркадия Вольского, руководителя своего аппарата Григория Ревенко и ставшего председателем Гостелерадио Егора Яковлева.
Горбачев сказал, что получил распоряжение о переводе Управления правительственной связи под юрисдикцию России. Как быть?
Помощник Горбачева Георгий Шахназаров резко ответил, что это переворот, что завтра придут опечатывать кабинеты. Примаков спокойно заметил:
— У вас нет никаких силовых возможностей помешать действиям российского руководства. На армию не опереться. Международные силы будут взаимодействовать с республиками.
Евгений Максимович был реалистом.
А как после нескольких месяцев совместной работы оценивали Примакова сотрудники разведки? Вот что я услышал от тех, кто в те годы работал в Ясеневе:
— Всем понравилось, что он стал называть себя директором, а не начальником. Само отделение от КГБ хорошо восприняли. И то, что он потом воспрепятствовал вливанию разведки назад в общую структуру госбезопасности, — за это ему тоже спасибо. Разведка всё-таки это не часть репрессивного аппарата.
И то, что он воинское звание себе не присвоил, тоже было хорошо оценено. Люди каждую звездочку годами добывают, а тут ни дня не проработавший в разведке начальник сразу получает генеральские погоны… Это было расценено как поступок серьезного, солидного человека. Погоны в его положении — детская шалость.
Разведчики согласились с тем, что во главе разведки не обязательно должен стоять профессионал, который знает все эти забавные дела, как от наружки уходить и с агентами тайно встречаться. Нужен политик с широким кругозором и с авторитетом у высшего руководства страны.
Примакову были благодарны за то, что кадровых чисток он не проводил, всё вверх тормашками не переворачивал, а, напротив, способствовал консолидации и без того крепко сбитого аппарата. Принимая кадровые решения, он всегда советовался со своими заместителями. Иногда и шире был круг тех, с кем он обсуждал кандидатуру, — это зависело от того, на какую должность искали кандидата.
Причем даже близкие к нему люди не знали, принял ли он уже заранее решение и заместителей собрал всего лишь для проформы? Или же, наоборот, собирался целиком довериться мнению коллег? Но ритуалу этому он придавал большое значение. А может быть, это был и не ритуал вовсе. Совета он спрашивал всегда, и выслушивал внимательно. И только в самый крайний момент, если на него кто-то крепко жал, он мог сказать:
— Ну, разрешите мне быть директором!
Мягко так: «Разрешите».
Он звонил своим коллегам — например, заместителям, начальникам департаментов:
— Добрый день. Это Примаков.
Всегда представлялся. Как будто его по голосу не узнали бы. Неизменно интересовался:
— У вас минуточка есть? Вы не очень заняты?
А ведь большинство руководителей считают: если я звоню, то надо всё бросить. Какие уж там дела, если директор звонит! У Примакова было не так. Воспитанный человек.
Он сразу показал, что считается с ветеранами службы. Они в Ясеневе уже не работали, свободны от воинской дисциплины и могли резко высказываться — кто в силу возраста, кто в силу того, что не сложилась карьера. Но Примаков не считал, что раз в ассоциации ветеранов собрались люди вчерашнего дня, так и нечего с ними разговаривать, время тратить.
Он собрал бывших руководителей разведки, заместителей, бывших начальников крупных подразделений, говорил с ними, объяснял свои решения, совета спрашивал. Может быть, и это был ритуал. Но в службе оценили, что он счел это необходимым. Евгений Максимович создал Совет ветеранов Службы внешней разведки и поставил во главе Александра Титовича Голубева, который был сначала назначен начальником разведки в КГБ РСФСР, но вскоре вернулся и в отставку уходил уже из СВР.
В Ясеневе есть несколько залов для собраний — зал на сто мест, зал на триста мест и зал на восемьсот. В зале на восемьсот человек в прежние времена устраивались партийные конференции. В перестроечные времена там собирали разведчиков послушать приезжавших в Ясенево депутатов — необычная для офицеров форма общения. И вот на каком-то общем для разведки мероприятии в зале на восемьсот человек Примаков произнес речь, которая согрела сердце коллектива. Он говорил: наши с вами заботы, наши задачи, в нашей среде, надо действовать нашими специфическими средствами… Когда он применительно к какому-то решению правительства сказал: «В нашей среде это могло бы найти поддержку», зал зааплодировал. Примакова уже считали своим.
Но в том, что Примаков справится с должностью начальника разведки, президента Ельцина пришлось убеждать дважды. В первый раз — когда Примакова назначали. Тогда сумел настоять на своем Вадим Бакатин, да и мнение Горбачева еще что-то значило. Во второй раз, в конце 1991 года, судьба Примакова была в руках его многоопытных подчиненных.
Если бы устроенное Ельциным обсуждение личности начальника разведки происходило в советские времена — ясно, директору бы пропели аллилуйя! Но в тот момент открытости и гласности все понимали, что можно говорить всё, что угодно, и это будет прекрасно воспринято российским президентом.
В революционные периоды всегда звучит команда: «Огонь по штабам!» Желание подчиненных избавиться от косного и реакционного начальника было бы воспринято на «ура». Тем более Ельцин недвусмысленно дал понять, что у него есть другие кандидатуры. И он вполне был способен сразу же с треском снять директора, которым недовольны. Так что этот день вполне мог стать последним днем работы Примакова в разведке.
Первым выступил заместитель директора Вячеслав Иванович Гургенов. Он сказал прекрасные слова о Примакове. Они были хорошо знакомы. Вместе летали в Ирак во время первой войны в Персидском заливе. Тогдашний первый заместитель начальника разведки Вадим Алексеевич Кирпиченко, ныне тоже уже покойный, произнес большую и аргументированную речь в поддержку Примакова. Кирпиченко знал Примакова еще по Институту востоковедения, где они вместе учились.
Точно так же говорили и другие. Выступило человек двенадцать-пятнадцать. Все единодушно поддержали Примакова.
Борис Ельцин, уловив настроения, охотно присоединился к общему хору:
— Да и у меня такое же отношение к Евгению Максимовичу… Мне советовали… его заменить, но я не буду этого делать. Он меня никогда не подводил… Даже в те тяжкие времена… времена опалы он был одним из немногих людей, кто мог мне руку протянуть, поздороваться, улыбнуться и поговорить… Я такие вещи не забываю, — многозначительно заключил президент.
Борис Ельцин прямо там же, на глазах всего руководства разведки, подписал заранее, разумеется, заготовленный Указ № 316 о назначении Примакова. Была тогда у Ельцина такая манера — вот я сейчас на ваших глазах подписываю указ. Борис Николаевич поздравил Примакова и встал. Все понимали, что в президентской папке были и другие проекты указа… Провожая президента, Евгений Максимович сказал:
— Вы сняли огромный груз с моих плеч, назначив меня через такую процедуру.
Примаков умел быть очень сдержанным, поэтому никакого напряжения — сейчас моя судьба решается — или, напротив, ликования — смотри-ка: все говорят, что я самый достойный, — он не выразил. Но это был один из приятнейших дней в его жизни, потому что впервые была у него возможность посмотреть, как к нему относятся люди в разведке. А ведь он сделал в разведке только первые шаги. Он себя еще никак особо не показал. Путь к полному признанию был долгим.
Евгений Максимович Примаков остался в разведке и проработал там еще четыре года — до назначения министром иностранных дел.
Конечно, и до появления в Ясеневе Евгений Примаков имел некоторое представление о работе разведки, но достаточно смутное. Что представляет собой разведывательная служба в реальности, он узнал только после того, как появился в Ясеневе в роли хозяина. Он обосновался в кабинете № 2131 на третьем этаже здания внешней разведки, который до него занимали только трое — Федор Константинович Мортин, Владимир Александрович Крючков и Леонид Владимирович Шебаршин.
На знакомство с хозяйством у него ушел не один день. Ему показывали обширную территорию, водили по длинным коридорам, раскладывали перед ним толстенные папки с бумагами, и ему постепенно открывалась картина жизни необыкновенного и никогда не засыпающего организма.
Разведка работает круглосуточно, эта работа не терпит перерывов. Двадцать четыре часа в сутки в Ясенево нескончаемым потоком поступает информация со всего мира. Ее черпают не только от радиоперехвата и от собственных агентов — они дают лишь самые ценные, самые секретные данные. Главный массив информации поступает из средства массовой информации.
Офицеры-аналитики, согнувшись над своими письменными столами, обрабатывают все поступающие сведения, пытаются разобраться в происходящем и постоянно обновляют оценки ситуации в том или ином регионе. Примаков мог попросить справку практически на любую тему и получить ее немедленно. Эффективность этой гигантской машины производит впечатление.
Советская разведка действовала, как сверхмощный пылесос: вместе с действительно важной информацией она вбирала и кучу никому не нужной шелухи. Скажем, даже в Зимбабве или Сьерра-Леоне крали какие-то военные документы, вербовали местных чиновников. Но стоило ли тратить на это деньги и силы?
Главный вопрос, стоявший перед Примаковым, звучал так: а что именно нужно? В какой именно информации нуждается государство?
Евгений Примаков примерно представлял себе, что должна давать разведка. Она должна перестать растрачивать силы и средства. Разведку должно интересовать только то, что имеет значение для России. Теперь ему предстояло убедить в своей правоте аппарат службы.
Разведка переехала в отдельный комплекс зданий в Ясенево на юго-западе Москвы летом 1972 года, когда начальником Первого главного управления был генерал-лейтенант Федор Мортин. Это было сделано из соображений конспирации, чтобы иностранные разведчики, наблюдавшие за Лубянкой, не могли фиксировать сотрудников разведки. Мортин приказал в целях конспирации повесить на караульной будке табличку «Научный центр исследований». Название прижилось.
В разведывательном городке Ясеневе устроена гигантская парковка — только для своих: для служебных автомобилей и для машин сотрудников Службы внешней разведки. Тех, кого не возят на служебном лимузине и кто не обзавелся собственным авто, доставляют на работу на специальных автобусах. Каждое утро с понедельника по пятницу в разных концах города стоят неприметные автобусы. Они ждут своих пассажиров — всегда одних и тех же.
Рабочий день заканчивается в шесть часов. Если немного задержался, не беда — автобусы отходят по расписанию каждые полчаса.
Но засиживаться после шести часов по собственной инициативе не принято. Приехать в выходной поработать можно только по специальному разрешению. И нужно внятно объяснить, зачем тебе понадобилось являться на службу в неурочное время. Другое дело, если задерживается начальник. Тогда некоторому числу офицеров — в зависимости от его темперамента — придется остаться, чтобы ему помочь.
При входе в разведгородок надо показать именную карточку-пропуск с фотографией. Карточка снабжена несколькими степенями защиты от подделки.
Внутри комплекса проход везде свободный. Нет дополнительного поста охраны и у кабинета директора. Но его секретари-офицеры, никогда не покидающие приемной, гарантируют безопасность и самого директора, и находящихся в его кабинете секретных документов. Впрочем, за всю историю разведки физическая опасность ее начальнику не грозила.
Только в некоторых помещениях непробиваемые двери всегда закрыты; чтобы войти, надо знать код допуска. Но в эти комнаты чужие и не ходят. Им там просто нечего делать.
И в переходе к поликлинике (в Ясеневе своя медицина) поставлена охрана. Чтобы наведаться к врачу и вернуться на работу, тоже надо показать пропуск.
Утро в разведке начинается самым тривиальным образом — с чтения газет. Вместе с газетами разносят и внутренние информационные сводки — они предназначены не только для начальства.
Потом начинается собственно работа — приносят шифротелеграммы из резидентур.
Самое важное — это сообщения о встречах с агентами. До распада Советского Союза еще более важными, чем даже встречи с агентами, считались операции по передаче денег руководителям зарубежных компартий. Тогда разыгрывались целые спектакли.
Приходила телеграмма от резидента: «первый» (руководитель компартии) или «соратник» (то есть второй секретарь) на встрече там-то при соблюдении мер предосторожности сказал, что выпуск партийной газеты будет иметь большое значение для успеха на выборах. Полагаем целесообразным поддержать просьбу «первого» о выдаче друзьям такой-то суммы на выпуск газеты… Ни имя «первого», ни страна, ни название партийной газеты во внутренних документах разведки никогда не указывались. А в ЦК докладную писали открытым текстом. То есть секретили только от себя самих…
За каждую шифротелеграмму офицер расписывается. На бегунке, который приложен к телеграмме, отражено всё движение документа. Всегда можно выяснить, кто и когда этот документ читал, где он находится в данный момент и у кого именно. Нужную бумагу находят мгновенно. Архивы в разведке чудесные, и обращаться к ним приходится постоянно. Раньше толстенные папки и фолианты, которые в них хранятся, выдавали под расписку. Теперь архив компьютеризирован.
Скажем, в одной из стран резидентура вышла на интересную особу, открывается перспектива вербовочного подхода, и резидентура просит проверить, не проходила ли она по учетам разведки. Одного из офицеров посылают в архив просмотреть различные досье, чтобы потом составить рекомендации резидентуре, как к этой особе подойти.
Выносить их из архива запрещено, надо читать на месте. Впрочем, нашелся человек, который сумел похитить из архива разведки суперсекретную информацию.
Служба внутренней безопасности Первого главного управления никогда не обращала внимания на майора Митрохина. Какую опасность мог представлять человек, который много лет работал в архиве и дослужился всего лишь до майора?
Выпускник Историко-архивного института, Митрохин после войны работал в милиции, затем в военной прокуратуре, оттуда его перевели в Министерство госбезопасности. Причем его взяли в разведку. Он работал на Ближнем Востоке, ездил в короткие командировки в другие страны. В последний раз его послали с оперативным заданием в Австралию вместе с нашими спортсменами, которые участвовали в Мельбурнской Олимпиаде. Видимо, во время командировки что-то произошло, потому что Митрохина убрали с оперативной работы и перевели в архив, лишив служебной перспективы.
Василий Никитич был аккуратным и исполнительным служакой — радость кадровиков. Каждое утро он загодя приезжал на работу, получал в архиве очередное секретное дело и прилежно сидел над ним до вечера. Самое интересное он выписывал на стандартный листок бумаги. Некоторые документы Первого главного управления Комитета государственной безопасности СССР копировал дословно.
Личные и оперативные дела агентуры — высший секрет разведки. Сотрудник разведки может получить для работы только то дело, которым он непосредственно занимается. Но для служащих архива возиться со старыми папками — это просто часть их служебных обязанностей. Исписанные за день листочки майор перед уходом прятал в носках или в трусах. Никто ни разу его не остановил и не проверил. Он приносил копии секретных документов домой и вечерами перепечатывал их на машинке.
В пятницу вечером перепечатанное отвозил на дачу и прятал там под матрасом. Потом перекладывал в герметичную посуду и зарывал в саду. Так продолжалось десять лет, с 1972 по 1982 год. В 1984 году Василий Никитич Митрохин вышел по возрасту на пенсию и стал ждать. На что он надеялся в советские времена, непонятно. Но когда Советский Союз распался, наступил момент, когда он решился выйти из подполья. Выкопал один из горшков, взял билет до Риги, ставшей столицей независимой Латвийской Республики, и там предложил свои сокровища американскому посольству. Американцы отнеслись к отставному майору недоверчиво; их не интересовали старые дела и пенсионеры. В начале девяностых желающих перебраться в Соединенные Штаты было слишком много, а средства ЦРУ по приему перебежчиков ограниченны.
Тогда майор 9 апреля 1992 года посетил британское посольство.
Англичане, ознакомившись с содержимым горшка, оценили его предложение. Молодого сотрудника британской контрразведки командировали в Москву. Он выкопал в саду Митрохина оставленные там материалы. Получилось шесть чемоданов. 7 ноября 1992 года Митрохина вместе с семьей доставили в Лондон. Отставной майор получил британский паспорт, новое имя и вместе с британским историком Кристофером Эндрю написал две книги, основанные на скопированных им документах.
Рассказал он многое, но всё это носит чисто исторический характер. Митрохин назвал имена уже очень пожилых людей, которые когда-то давно работали на советскую разведку. Тем не менее одного из них посадили — бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов Роберта Липку. Он получил восемнадцать лет тюрьмы.
Отставной майор Василий Митрохин умер в Англии в 2004 году…
Нравы в Ясеневе вполне демократичные. Все называют друг друга по имени-отчеству, стараются быть любезными.
Попасть на прием к директору Службы внешней разведки очень трудно. Многие разведчики, прослужив всю жизнь и дослужившись, скажем, до полковника, ни разу не были в кабинете своего высшего руководителя. Но при желании каждый сотрудник разведки мог ежедневно увидеть Примакова в столовой.
В Ясеневе столовая огромная, светлая, с красивыми шторами. Обедают и начальство, и подчиненные вместе. Со знакомыми — вне зависимости от звания — Примаков здоровался за руку. В столовой два зала — для начальства и для всех остальных. Разница состоит в том, что начальству еду приносит официантка. На разных этажах есть буфеты, где тоже можно перекусить. Да и на рабочем месте чай пить не возбраняется.
Обеденный перерыв — с двенадцати до трех, но военной дисциплины нет — обедай, когда хочешь. Кто-то сначала идет в бассейн, плавает, потом обедает. Разговоры о работе в столовой или в коридоре исключены. Говорят о футболе, погоде и зарплате. Зато в Ясеневе, как в чисто мужском заведении, до последнего времени разрешали курить в кабинетах.
При Примакове в Службе внешней разведки оказалось больше генералов, чем было когда-то во всём КГБ. Но в те годы и генеральские зарплаты были невелики. Разведчиков, как и прежде, спасали загранкомандировки.
Ветераны разведки, которые успели поработать еще на Лубянке, говорили, что в Ясеневе атмосфера спокойная, доброжелательная. А на Лубянке, когда разведка там находилась, люди были чопорные, сумрачные, подозрительные, не разговаривали друг с другом. Там, правда, помимо разведчиков располагались и второй главк (контрразведчики), и военные особисты, и пограничники.
Министр иностранных дел Борис Дмитриевич Панкин рассказал в 1991 году, какое колоссальное количество разведчиков находилось под посольскими крышами. По его словам, не меньше половины дипломатов в загранпредставительствах были офицерами разведки. Став министром, он потребовал сократить число сотрудников разведки, которые пользуются дипломатическим прикрытием.
Проблемы со спецслужбами у Панкина возникли еще в то время, когда он отправился послом в Швецию. Такого количества сотрудников спецслужб под разными крышами он еще не видел и оказался к этому не готов. До посольской службы он был журналистом, много лет проработал в «Комсомольской правде», стал главным редактором, потом несколько лет руководил Всесоюзным агентством по авторским правам. Секретарь ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов объяснил Панкину, что это будет своего рода министерство иностранных дел в области культуры, его задача — развитие контактов с творческой интеллигенцией всего мира и продвижение за рубеж советских авторов. В ВААП секретным постановлением правительства девять должностей из четырехсот пятидесяти были переданы КГБ. А в посольстве, удивлялся Панкин, чуть ли не каждый второй или из КГБ, или из ГРУ.
— Самым сложным в посольской жизни, — рассказывал Панкин, — было ладить с этими людьми. Они свято верили в то, что все остальные дипломаты да и посольство в целом нужны только для того, чтобы их прикрывать. Я однажды не выдержал и спросил резидента: «Вы что, думаете, посольство существует, чтобы служить вам крышей?» Он на меня посмотрел, как на идиота: а ты что, по-другому думаешь?
Почему сотрудники резидентуры так раздражали посла Панкина?
— Они хотели командовать послом, — говорил мне Панкин уже после своей отставки. — Следили за мной. Им ничего не стоило скомпрометировать посольство. Против этого я боролся…
Когда в давние времена Наркомат иностранных дел еще располагался на Кузнецком мосту, рядом с ведомством государственной безопасности, то дипломаты несколько иронически именовали разведчиков «соседями». Потом появилось деление на «ближних соседей» — разведчиков из КГБ и «дальних соседей» — сотрудников военной разведки.
Отношения между дипломатами и разведчиками трудно назвать хорошими. Одни традиционно не уверены в необходимости других.
«Между разведкой и наркоматом иностранных дел всегда шла жестокая борьба за влияние… Сведения и заключения этих двух учреждений по одним и тем же вопросам расходятся между собой… Борьба принимает особенно острые формы при назначении сотрудников за границу и продолжается за границей между послом и резидентом», — писал Георгий Агабеков, первый советский разведчик, бежавший на Запад еще в 1920-е годы.
Нарком иностранных дел Георгий Васильевич Чичерин считал ГПУ (так после Гражданской войны именовалось ведомство госбезопасности) своим личным врагом, о чем высказался в необыкновенно откровенном политическом завещании:
«При Дзержинском было лучше, но позднее руководители ГПУ были тем невыносимы, что были неискренни, лукавили, вечно пытались соврать, надуть нас, нарушить обещания, скрыть факты… ГПУ обращается с наркоматом иностранных дел, как с классовым врагом… Внутренний надзор ГПУ в нашем наркомате и полпредствах, шпионаж за мной, полпредами, сотрудниками поставлен самым нелепым и варварским образом».
После Чичерина и до Панкина никто из министров не смел выражать неудовольствие разведчиками, но Министерство иностранных дел и разведка смотрели на мир разными глазами. Спецслужбы могли сломать карьеру любому дипломату, если решали, что ему «нецелесообразно» выезжать за границу. Но в 1920-е годы дипломаты могли ответить тем же.
«Заместитель председателя ВЧК Уншлихт снабдил меня письмом к управляющему делами Наркоминдела с просьбой устроить на службу, — вспоминает Агабеков. — Несмотря на личное письмо Уншлихта, Наркоминдел меня не принял».
Когда Агабеков уже был резидентом разведки в Афганистане, полпред требовал показывать ему все телеграммы, уходившие на линии разведки в Москву. Сейчас это невозможно. Послы смирились и знают, что с резидентами не ссорятся. Дипломаты неизменно недовольны тем, что разведчики занимают слишком много мест в посольствах. Вакансии заполнены, а работать некому. Разведчики обычно отвечают на это, что они и свою службу несут, и выполняют все свои официальные обязанности в посольстве или консульстве.
— Да разве мыслимо государству обходиться без разведки? — спрашивал я у Панкина. — Когда вы стали министром иностранных дел и получили возможность знакомиться с разведывательной информацией, может быть, вы ее оценили по достоинству? Может быть, ради нее ничего не жалко?
— Нет. — Панкин решительно качнул головой. — Отдельные интересные материалы они добывали. А часто просто переписывали свои донесения из посольской информации — я это видел, я же был послом в трех странах. Деградировало там всё.
Примерно то же говорил мне бывший председатель КГБ Владимир Ефимович Семичастный:
— Информации шло море со всего мира. У нас же резидентуры повсюду. Все хотят показать, что работают. Иной раз из местной газеты статью перепишут и присылают. Аналитический отдел разведки всё это выбрасывает. От шифровки резидента одна строка остается, а две-три страницы — в корзину. Мне начальник разведки показывал: полюбуйтесь на работу некоторых резидентов. Аналитик, изучавший шифровку, пишет: это уже прошло в газетах две недели назад. А резидент составляет телеграмму, ее шифруют, потом занимают линию связи, здесь ее расшифровывают. Это же в копеечку влетает! А он информацию из газеты шлет, причем выбирает либо такое издание, что в Москве вовсе не получают, либо такое, что с большим опозданием приходит. А почему они газеты переписывали? Так спокойнее…
Став министром, Панкин расформировал главное управление кадров МИДа и изгнал оттуда всех сотрудников КГБ. К нему приехал объясняться начальник разведки Шебаршин.
— Это было буквально за два дня до его увольнения, — рассказывал мне Панкин. — И он вдруг сказал мне: вы правы, эти люди у вас — они же не разведчики, мы сами от них страдали. Стал показывать какие-то личные дела. Я от них благоразумно отстранился и говорю: я отдал приказ об увольнении ваших людей из управления кадров. А они не уходят.
Шебаршин всё понял. Через час к Панкину зашел его первый заместитель Владимир Федорович Петровский:
— Борис Дмитриевич! Всех как ветром сдуло!
Панкин обещал разработать документ об условиях работы сотрудников разведки в загранпредставительствах. Но с уходом Панкина всё это закончилось. Так что число разведчиков в посольствах сократилось, но ненадолго. Потом всё постепенно вернулось назад. Примаков действовал через президента Ельцина, который подписывал распоряжения о прикомандировании сотрудников разведки к Министерству иностранных дел и о выделении им должностей в посольствах и консульствах. Министерству иностранных дел оставалось только подчиняться.
Мечта Бориса Панкина убрать с территории посольства разведчиков не сбылась. Панкин был явно во власти несвойственных ему иллюзий. Нет в мире дипломатической службы, которая отказывала бы своим разведчикам в прикрытии. Всё дело в том, на какое количество мест в списке дипломатов претендует разведка. Теперь некоторые дипломаты говорят, что в процентном отношении разведчиков в посольствах стало даже больше, чем в советские времена, потому что число дипломатических должностей сократилось, а аппараты резидентур остались прежними или выросли.
Уже в роли министра иностранных дел Евгений Примаков говорил мне:
— Когда я переходил из разведки в МИД, у дипломатов была вначале настороженность. Беспокоились, не начну ли я перетаскивать кадры из «леса», как здесь называют месторасположение штаб-квартиры разведки. Этого не произошло. На первой пресс-конференции в министерстве я даже шутя сказал, что в этом нет необходимости, потому что эти многие уже находятся здесь, в МИДе.
Примаков улыбнулся при этих словах. Но продолжал уже серьезно:
— Но этих «многих» не так много. Тут я могу пополемизи-ровать с теми, кто говорит о «засилье» разведчиков в Министерстве иностранных дел. Никакого засилья нет. Есть нормальная, как во всех странах, работа разведчиков «под крышей», под дипломатическим прикрытием. Но она не мешает дипломатии, не мешает…
А в конце 1991-го и в 1992 году из разведки уходили.
В целом разведка нуждалась в сокращении, и оно происходило. Разведчики паковали чемоданы и с болью в сердце покидали посольские здания, над которыми развевался еще непривычный трехцветный флаг. Примаков, возглавив Службу внешней разведки, принужден был отозвать домой офицеров, чьи должности подлежали сокращению. Возвращались в Москву люди из торговых представительств, из бюро «Аэрофлота», корреспонденты газет и журналов, а также сотрудники некоторых контор, часть которых и была создана в советское время для того, чтобы отправлять разведчиков за границу под легальным прикрытием.
Под руководством Примакова в центральном аппарате тоже шло сокращение, сливались отделы, ликвидировались направления.
Некоторые возвращавшиеся на родину офицеры не находили себе работу в центральном аппарате и искали место сами — чаще всего в коммерческих структурах.
По указанию Примакова управление кадров не возражало, даже, наоборот, неофициально советовало им обосноваться где-то на стороне. Они не увольнялись из кадров, поскольку в разведке, как и в армии, пенсию платят за выслугу лет. Прослужив двадцать лет, в сравнительно молодом возрасте уже можно получить приличную военную пенсию и заняться чем-то другим.
Помню печальные лица своих приятелей — офицеров разведки, которые работали под журналистским прикрытием. Проблемы у них были на каждом шагу. Кто-то не успел и несколько месяцев проработать за границей, как его вернули из-за сокращений, и он ходил по коридорам в Ясеневе без всякого дела.
Другие активно искали работу — например, в Управлении по обслуживанию дипломатического корпуса в качестве переводчиков-референтов при иностранных журналистах. Там платили в валюте, хотя работа была малоприятная. Потом, когда стали появляться банки, разведчиков охотно брали в службы безопасности и в аналитические отделы. Разведчики прежде всего могли предложить новым работодателям свои зарубежные контакты.
Ушли не только те, кого считали балластом.
По собственному желанию уходили молодые офицеры, которые считали, что у них нет служебной перспективы. Исходом из разведки это назвать нельзя, но потеря была заметной. Офицеры писали заявления и увольнялись. Это было нечто новое в разведке, которая превратилась в обычную государственную структуру.
Один из близких сотрудников Примакова шутил:
— Еще до работы в разведке я услышал такую пугающую фразу: из разведки по своей воле не уходят. Отсюда выносят вперед ногами или выводят в наручниках. Вот как. Так когда я приходил, то думал: а как уходить-то буду? Если два пути всего, то какой же мой?
Разведчики впервые почувствовали себя в определенном смысле обычными служащими. Они имели право заниматься прежним делом, а могли уйти, если возникало желание заняться чем-то другим.
Но тогда, в первые дни, это было шоком для кадровых разведчиков. Как это можно — взять и уйти? Те, кто оставался, говорили разные резкие слова в спину уходящим. Увольнялись в основном из-за денег. А кто-то ушел и по идеологическим соображениям — как это жить без главного противника? Разве можно говорить, что наши интересы с Соединенными Штатами в чем-то совпадают, а в чем-то не совпадают? Сегодня не совпадают, а завтра совпадут? Это казалось настолько чудовищным, что офицеры говорили: я в этом участвовать не желаю, и уходили.
Примакову предстояло сформулировать национальную разведывательную политику. От разведки требовалась прежде всего радикальная смена приоритетов.
Семьдесят с лишним лет внешняя разведка вела борьбу с мировым империализмом на всех фронтах. На практике это означало массированное агентурное проникновение во все государства и стремление узнать все тайны, не считаясь с затратами.
Государственная политика новой России исключала продолжение такой линии. Современные концепции национальной безопасности требовали разумной достаточности не только для армии, но и для разведки. Но можно себе представить, как трудно было сменить ориентиры офицерам со стажем, каково было кадровым разведчикам отвыкать от прежних идеологических установок.
В разведке работали разные люди с разными политическими взглядами. Для одних крушение социализма было ударом. Другие стали говорить, что после крушения социалистического строя работать легче: исчезла фальшь.
Специалисты уверены, что работа в разведке сама по себе наносит тяжелый ущерб психике разведчика. Он ведет двойную жизнь и к тому же убеждает своих агентов делать нечто преступное — нарушать присягу, изменять своей стране, красть секретные документы. Вот почему в разведывательной школе слушателей пытаются морально вооружить, объясняя, что во имя Родины надо идти на всё.
Разведчиков учат умению налаживать контакты, устанавливать близкие отношения, получать от людей информацию. В любом собеседнике, даже если он не оформлен агентом, разведчик видит прежде всего источник информации. А если у него ничего не узнаешь, то и нечего терять на него время и деньги.
Чем в этом смысле дипломат отличается от разведчика? Дипломаты тоже ведь с не меньшим искусством выведывают то, что им надо. Разведчик пытается придать отношениям специфический, личный характер, чтобы получать больше того, что способен узнать дипломат.
Можно платить за информацию деньги или же убедить иностранца в том, что помогать твоей стране — это святое дело. Советским разведчикам приходилось вербовать людей, рассказывая, как прекрасна страна победившего социализма. Некоторые разведчики испытывали при этом моральный дискомфорт. Бывало, советский разведчик нахваливает свою страну и думает: ну и дурак же ты, американец, что в это веришь. Советский Союз — за исключением короткого промежутка времени (после революции и до начала 1930-х годов, а также во время Второй мировой войны и в первые послевоенные годы) — далеко не у всех вызывал симпатии. А вот вербовщики американской разведки действовали как представители политически привлекательной страны.
Один из наших разведчиков, награжденный орденом за удачную вербовку, говорил мне:
— Надо понять наше положение. Ты представляешь страну с мерзопакостным режимом. Трудно было защищать государство, когда речь шла о нарушениях прав человека. Нужно было как-то выглядеть прилично. Но и не переходить некую грань, за которой уже американский разведчик мог бы попытаться тебя самого поймать на несогласии с политикой КПСС…
Вот таким людям приход Примакова был по душе. Но их в разведке оказалось меньшинство.
Когда Евгений Максимович приступил к работе в разведке, с ним обрела реальность известная формула, придуманная англичанами: у нас нет постоянных соперников и нет постоянных союзников, постоянны только наши национальные интересы.
Но ведь советская разведка всю свою историю работала против постоянных противников. И этим всё определялось. То, что хорошо для противника, плохо для нас. То, что полезно нашим союзникам, и нам хорошо. Никаких личных пристрастий. И вдруг Примаков декларирует такую ересь…
На руководителя разведки газеты набросились и справа и слева — что он понимает под национальными интересами?
Одни говорили: мы демократы, мы строим правовое государство, закладываем основы рыночной экономики, от нас во всём мире только этого и ждали — какие же у нас могут быть враги?
А на другой стороне политического спектра какой крик стоял: как это у нас нет соперников и противников?!
И этот спектр настроений и мнений — он присутствовал и внутри самой разведки.
Ко времени прихода Примакова в разведке формальная де-партизация службы уже произошла. Партийные организации исчезли, но люди еще не могли привыкнуть к простой мысли: взгляды у тебя могут быть любыми, но вся политика остается за воротами Ясенева. Твои взгляды к работе отношения не имеют. Вот объявят выборы, зайдешь в кабинку для голосования, штору за собой задвинешь, все свои мечтания в бюллетене отметишь и опустишь в урну. Тем самым и определишь грядущую жизнь…
Евгений Максимович всё это говорил, надеясь, что будет понят. И правильно рассчитывал. Разведка — это место, где работают не самые глупые люди.
Уже в ноябре 1991 года Примаков приказал отменить программу обнаружения признаков возможного ракетно-ядерного нападения. Программа действовала десять лет. Каждые две недели все резидентуры докладывали Москве об отсутствии признаков подготовки Запада к войне. Критерии — количество горящих ночью окон в Пентагоне или дополнительных закупок крови для военных госпиталей. Выполнение этой программы стоило стране больших денег.
Какой же должна быть разведка?
Ответ на этот вопрос Примаков дал своей четырехлетней службой в Ясеневе. Но в первый же день работы он знал одно: не такой, какой она была до 1991 года. Это не значило, что всё нужно менять. И он не стал говорить то, что унизительно, тягостно, мучительно для людей, — что вся их прошлая жизнь была бездарной. Он не хотел унижать подчиненных, перечеркивать их жизнь.
Я расспрашивал разведчиков, какое настроение было у Примакова в первые месяцы его работы в разведке. Всё-таки он вошел в новое для себя дело в трудный для страны и для службы час. Тогда это был не просто кризисный момент для разведки, это был решающий момент в истории страны, и разведка испытывала все проблемы, которые переживала страна. Семьдесят лет обслуживали идеологическое противостояние на международном поле — и вдруг начинается пересмотр самой философии разведки!
Примаков корректно, рассчитывая на то, что он имеет дело с понимающими людьми, повторял:
— Друзья, это не годится. Забудем об этом. А делать будем вот так, потому что сейчас время другое, мир изменился.
Поэтому выжидательно-сдержанное отношение к новому руководителю быстро уступило место благожелательности, а потом вылилось в благодарность Примакову. Главное состояло в том, чтобы приспособить разведку к реалиям времени. Он осторожно говорил, что национальные интересы есть и у других государств. Следовательно, возникает поле, где наши национальные интересы совпадают. Вот на этом поле мы можем сотрудничать. А есть поле, где наши интересы не совпадают, там сотрудничество не получится, вот там будет действовать разведка.
Опять посыпались недоуменные вопросы: какое-такое сотрудничество? Тогда Евгений Максимович вместо «сотрудничество» выбрал другое слово — «взаимодействие». Опять всеобщее удивление — о каком взаимодействии можно говорить, работая в разведке? И всё равно в Ясеневе его поддержали.
Примакова напрасно подозревали в намерении только дружить с Западом.
В середине декабря 1991 года в Москву приехала группа руководителей британской контрразведки МИ-5. Среди них была Стелла Римингтон — первая женщина, руководитель контрразведки. Она впоследствии описала свои встречи с Бакатиным и Примаковым:
«Я хотела понять, в какой степени уменьшится шпионаж КГБ против нашей страны. Если холодная война окончилась, то и разведка должна стать менее агрессивной. Эту тему надо было обсуждать с руководителями Первого главного управления, внешней разведки КГБ.
Руководитель Первого главного управления, г-н Примаков, который впоследствии станет министром иностранных дел и на короткое время главой правительства, пригласил меня обсудить этот вопрос. На посольском “роллс-ройсе” нас отвезли куда-то на окраину, видимо, это был конспиративный дом КГБ.
Трудно было избежать ощущения, что каким-то образом мы оказались в фильме про Джеймса Бонда и реальность перемешана с фантазией. Это был темный, холодный и снежный вечер. Как только я сняла зимние сапоги в прихожей, на лестнице материализовался г-н Примаков. Мы поднялись в комнату с тяжелыми шторами и драпировкой.
Разговор был коротким и холодным. Я сказала, что теперь, после окончания холодной войны, открывается широкое поле для сотрудничества в вопросах безопасности, в борьбе против терроризма и организованной преступности. Но если наладится реальное сотрудничество, масштаб шпионажа КГБ в Англии должен быть уменьшен.
Г-н Примаков дал понять, что ему эта мысль кажется нелепой. Разведка по-прежнему необходима для обеспечения безопасности России, и они сами решат, какой уровень разведывательных усилий понадобится.
Было очевидно, что беседа не будет плодотворной. Разговор завершился, и г-н Примаков скрылся за драпировкой».
Примаков обратил внимание коллег на то, что после окончания холодной войны проблемы национальной безопасности — а разведка занимается именно этим — скорее всего, будут определяться экономической составляющей государства, его удельным весом в мировом хозяйстве, способностью адекватно отвечать на социальные и технологические вызовы эпохи. Следовательно, нужно представлять себе, что происходит в мировой экономике, а раз так — понадобится мощная экономическая разведка. И Примаков образовал самостоятельное управление экономической разведки, задача — изучать торгово-экономические отношения с партнерами России. Но важно, что это было не просто указание начальника. Он старался, чтобы все поняли, как это необходимо. А не просто вызвал и приказал: теперь будет управление, извольте так работать.
Казалось, что и разведчики смогут сотрудничать.
Еще в 1975 году, когда президентом Соединенных Штатов был Джеральд Форд, государственный секретарь Генри Киссинджер и советский посол в Вашингтоне Анатолий Федорович Добрынин договорились, что в случае шпионских скандалов обе страны будут избегать публичности. Иначе говоря, если разведчик, работающий под дипломатической крышей, попался, то его попросят уехать, сделают официальное представление властям, но не станут сообщать об этом в прессу и устраивать шумиху.
Эта договоренность постоянно нарушалась. Но секретные каналы общения между разведками существовали больше двадцати лет. Представители двух разведок встречались в тех случах, когда одной из сторон казалось, что другая вышла из обычных рамок.
Директор ЦРУ Уильям Колби в 1976 году поручил своим сотрудникам встретиться с офицерами КГБ, чтобы выяснить, не причастны ли советские оперативники к убийству резидента ЦРУ в Афинах Ричарда Уэлша. Встреча состоялась в Вене. Сотрудники американской разведки с угрозой сказали, что «они этого не потерпят». Офицеры КГБ были возмущены таким предположением: всем известно, что американского резидента убили боевики из кипрской террористической группы.
После того как в 1984 году резидент ЦРУ в Бейруте Уильям Бакли был похищен террористами, директор ЦРУ Уильям Кэйси распорядился встретиться с представителями КГБ, чтобы выяснить, не имеют ли они отношения к этой операции. После новой встречи в Вене американцы убедились, что «русские к этому не причастны».
В свою очередь, сотрудники КГБ предъявляли свои претензии руководителям ЦРУ. Они считали, что это не советские разведчики бегут на Запад, а американцы их выкрадывают, используя наркотики.
В декабре 1987 года, во время встречи Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Вашинтоне, директор ЦРУ Роберт Гейтс обедал с председателем КГБ Крючковым. С 1989 года установились некие формальные отношения между двумя спецслужбами. Этим занимался Милтон Бёрден, руководитель советского направления в оперативном управлении ЦРУ. Была установлена секретная телефонная линия между Ясеневом и штаб-квартирой ЦРУ в штате Вирджиния.
В 1990 году во время подготовки операции против Ирака, который оккупировал соседний Кувейт, советские и американские разведчики обменивались информацией. Тогда впервые начались разговоры о возможности сократить оперативную деятельность друг против друга. Накануне объединения Германии офицеры КГБ на встрече с американцами в Восточном Берлине попросили американцев больше не сманивать советских разведчиков на Запад. Считается, что именно с этого момента ЦРУ сократило прием перебежчиков из Советского Союза.
В середине декабря 1992 года в Москву приехал директор ЦРУ Роберт Гейтс (со временем он станет министром обороны США) с большой делегацией. Его приняли министр внутренних дел и министр безопасности, начальник Генерального штаба вместе с начальником российской военной разведки. Да еще Примаков убедил Ельцина найти время для беседы с главным американским разведчиком. Словом, приняли по высшему разряду. Ельцин говорил тогда, что между российскими и американскими спецслужбами возможны обмен информацией, взаимодействие в борьбе с преступностью и наркобизнесом, распространением ядерного и другого оружия массового уничтожения. Обсуждался даже вопрос о сокращении на взаимной основе работников разведывательных служб за рубежом.
Специалисты утверждают, что после 1991 года аппарат российской разведки на территории Соединенных Штатов сократился почти на треть. Когда холодная война заканчивалась, по подсчетам американцев, работало сто сорок офицеров КГБ и ГРУ — в посольстве и торговом представительстве в Вашингтоне, генеральном консульстве в Сан-Франциско, постоянном представительстве при ООН в Нью-Йорке и в самом аппарате ООН. В 1991 году на американской территории осталось сто двадцать советских разведчиков, а еще через пару лет — меньше ста.
Примаков собирался в Вашингтон. Рассчитывал на ответный жест. Но из Белого дома сообщили, что президент Билл Клинтон его принять не сможет — слишком занят. Руководители российской и американской разведок общались на уровне заместителей директоров СВР и ЦРУ. Резидент в Вашингтоне часто встречался с директорами ЦРУ и ФБР. Отвечали на запросы друг друга. Обменивались информацией о террористах и других общих врагах. Проводили встречи экспертов. Внутри Службы внешней разведки появилось управление «ВС» (внешняя связь) — для контактов с коллегами.
Примаков побывал в США в середине июня 1993 года. Встречался уже с новым директором ЦРУ Джеймсом Вулси, профессиональным юристом. Его принимали в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, куда всегда мечтали попасть советские разведчики. Российский посол Владимр Петрович Лукин устроил для разведчиков прием с шашлыками.
В августе 1993 года американцы нанесли ответный визит в Службу внешней разведки России. Но в те дни убили резидента ЦРУ в Грузии Фредерика Вудраффа, который состоял в штате политического отдела американского посольства в Тбилиси. Он погиб в результате нелепой случайности. Пьяный грузинский солдат выстрелил в машину, которая не захотела остановиться. И пуля попала американцу в лоб. Джеймс Вулси 10 августа, прервав визит, вылетел в Тбилиси, чтобы забрать тело своего подчиненного и со всеми почестями доставить на родину.
Взамен «главного противника» в лице определенного государства — это были Соединенные Штаты — появился главный противник в лице оружия массового уничтожения, организованной преступности, незаконного оборота наркотиков, международного терроризма. Когда этот набор выстроился, то стало ясно, что это и есть поле, где совпадают национальные интересы почти всех стран. Сражаться на этом поле можно только сообща. И Примаков сказал: здесь мы будем взаимодействовать.
У разведки появился дополнительный повод для огорчений. Она потеряла союзников — разведки социалистических стран, которые тоже вели борьбу против Запада. Самой большой утратой было исчезновение разведки ГДР, нашпиговавшей своей агентурой Западную Германию и структуры НАТО. Более того, территория Восточной Европы, которая считалась дружеской, перестала быть таковой.
Вскоре после того как Примаков занял пост начальника разведки, забеспокоились сначала чехи, затем другие восточноевропейские государства. Чехи пришли к выводу, что российская разведка демонстрирует особую активность на их территории. Чехи были огорчены и обижены. А ведь в Москву приезжал тогдашний министр внутренних дел Ян Румл и договорился с Примаковым о том, что секретные службы двух стран не будут работать друг против друга. Обманули, выходит, бедных чехов?
Сотрудники Службы внешней разведки объясняли мне так: против Чехии Москва работать не собирается. Ударение было сделано на слово «против», то есть исключаются подрывные акции, наносящие ущерб стране. Но нормальный сбор информации о положении внутри Чехии будет продолжаться.
Вопрос о методах разведки непрост. Если бы речь шла только о сборе информации, которую можно получать открытым путем, вполне хватило бы и усилий дипломатов. Разведка же создает свою агентуру известным образом — подкупом, шантажом, обманом. Поскольку, тем не менее, современная политика не готова отказаться от услуг разведки, то только наивные люди способны предположить, будто российская разведка оставит без внимания Восточную Европу.
В Польше разразились громкие шпионские скандалы. Поляки утверждали, что российская разведка пытается получать информацию у старых друзей — бывших партийных чиновников, по-прежнему занимающих важные посты в государстве. В конце 1995 года в результате такого обвинения вынужден был уйти в отставку премьер-министр Польши Юзеф Олексы.
Мало кто из поляков всерьез полагал, будто премьер-министр, яко тать в нощи, бегал на тайные встречи с российским резидентом и, поминутно оглядываясь, передавал ему секретные документы из собственного служебного сейфа. Но скандал напомнил полякам о том, о чем сам Олексы хотел бы забыть. В социалистические времена молодой, перспективный партийный работник Юзеф Олексы действительно крепко дружил с сотрудником представительства КГБ в Польше и даже ездил с ним на охоту.
Об этом поведал журналистам бывший полковник внешней разведки Владимир Петрович Алганов, который с 1981 года работал в представительстве КГБ в Варшаве под крышей первого секретаря посольства. Владимир Алганов устроил пресс-конференцию в Москве, чтобы обелить Олексы:
— Я его не вербовал, вербовать не мог, потому что не имел права заагентурить гражданина соцстраны…
Но благими пожеланиями вымощена дорога в ад. Владимир Алганов только подтвердил тот факт, что в прежние времена нынешний премьер-министр поддерживал выходившие за рамки его служебных обязанностей отношения с иностранным разведчиком.
Остальное поляки могли себе домыслить в зависимости от силы воображения: установив с кем-то контакт, разведка постарается не упустить ценный источник, и кто-то из преемников удачливого Владимира Алганова продолжал встречаться с Олексы, когда Польша перестала быть социалистической, а Олексы, напротив, пошел в гору…
Конечно же, в прежние времена в Польше (как и в большинстве социалистических стран) дружба с советскими разведчиками не только не была криминалом, но, напротив, являлась необходимым условием успешной политической карьеры. Я беседовал с генерал-лейтенантом внешней разведки в отставке Виталием Григорьевичем Павловым, который десять лет возглавлял представительство КГБ СССР в Польше.
— Принимая меня перед отъездом в Польшу, — вспоминал генерал Павлов, — Юрий Владимирович Андропов сказал: «Вы должны знать всё, что происходит в стране. Но вы не имеете права заниматься агентурно-оперативной работой. Никаких вербовок и конспиративной деятельности». На агента, с которым мы сотрудничали, полагалось завести дело, папку с донесениями. Но нам было запрещено заводить дела на граждан социалистических стран. А раз нет документа, нет и агента…
Так ведь на самом деле и не было никакой нужды в оформлении сотрудничества! Самые высокопоставленные польские политики, начиная с членов политбюро, сообщали представителям КГБ всё, что интересовало Москву. Только что в очередь не выстраивались, чтобы первыми успеть донести до московского представителя самую свежую информацию. Каждый сам ему подносит и «спасибо» говорит…
— Они были очень откровенны, — рассказывал генерал Павлов. — Многие из моих собеседников считали, что тесные связи с представителем КГБ улучшат их собственные позиции в Варшаве.
Юзеф Олексы работал в аппарате ЦК ПОРП, был первым секретарем одного из воеводских парткомов. Нет ничего удивительного в том, что будущий премьер-министр дружил с сотрудниками московской разведки, понимая, как важно произвести на них хорошее впечатление. Был ли он потом, уже в роли главы правительства независимой Польши, столь же откровенен с российскими гостями, осталось неизвестным. Но карьера его была сломана…
Друзей у разведок не бывает. Даже в социалистическом лагере товарищи понемногу старались следить друг за другом, но очень осторожно. С 1982 года, когда Юрий Андропов стал генеральным секретарем, советская разведка начала наращивать свои нелегальные структуры в Восточной Европе. Это направление российской разведки понесло особенно большие потери. Примакову пришлось сменить разведывательный аппарат в восточноевропейских странах полностью, поскольку местные спецслужбы знали товарищей в лицо.
Другая проблема возникла с бывшими советскими республиками. Литва, Латвия и Эстония, повернувшиеся лицом к Западу, в первую очередь стали объектом разведывательного внимания. В аппарате российской разведки в Москве служили и латыши, и литовцы, и эстонцы. Но можно ли им доверять работу против собственных республик и разумно ли это?
Тогда, в первые годы работы российской разведки, вообще живо обсуждалась проблема лояльности: как поведут себя уроженцы республик, ставших самостоятельными? Сохранят верность России или предпочтут перейти в формируемые там собственные разведывательные органы? И когда они примут это решение: сейчас или ознакомившись получше с секретами новой российской разведки?
А у контрразведки были свои тревоги. Ее пугал призрак мощной украинской разведки, которая станет искать помощи и сочувствия у российских граждан украинского происхождения. Но обошлось. Разведывательные органы стран СНГ договорились друг за другом не шпионить. Это не значит, что разведки бывших республик бездействуют. Просто они лишены права вербовать агентуру. На три балтийские республики эти добровольные самоограничения не распространяются.
Примаков очень многое изменил в разведке. Он всё делал для того, чтобы вписаться в меняющееся время. Но он рассуждал очень реалистично: это можно сделать, а это нельзя, — и за невыполнимое не брался. К нему многие сотрудники приходили с радикальными идеями — предлагали и то изменить, и это. Примаков выслушивал их внимательно и отвечал:
— То, что вы предлагаете, это правильно. Я с вами совершенно согласен. Это очень интересно и очень полезно. Но не сегодня: нас не поймут. Тут сейчас такое поднимется — увы, это невозможно. Это мы сделаем позже.
Было и такое. А часто наоборот: он видел — уже можно. Делал то, что считал нужным, и всегда старался убедить коллег в своей правоте. Примаков, пожалуй, был самым демократичным начальником разведки за всю ее историю. Он не замыкался в кругу своих заместителей и начальников важнейших отделов.
Только Александр Николаевич Шелепин, любимец Хрущева, бывший комсомольский секретарь и будущий член политбюро, который два года возглавлял КГБ, считал своим долгом спрашивать личное мнение своих сотрудников, мог даже по внутреннему телефону напрямую позвонить рядовому офицеру и спросить, что ему известно по тому или иному вопросу.
Остальные руководители и всего КГБ, и разведки иерархию служебных отношений не нарушали. К начальнику разведки мог попасть только руководитель крупного отдела. Примаков поступал иначе. Вот что рассказывал мне один из офицеров:
— Я был начальником направления — это одно из подразделений внутри отдела, и вдруг меня вызвали на совещание к самому начальнику разведки. Это было крайне необычно. То есть Примаков позвал не только начальника отдела, но и непосредственного исполнителя. В общем разумно: исполнитель лучше всех знает ситуацию в стране, но за двадцать лет моей службы это произошло в первый раз.
Примаков только что вернулся из зарубежной поездки с неожиданной идеей. Он предложил подумать, а не стоит ли России продавать оружие нескольким странам, которым его прежде не продавали по политическим соображениям.
Примаков начал разговор в спокойной академической манере:
— Вот я только что побывал в нескольких странах.
Перечислил. Присутствующие закивали:
— Знаем, Евгений Максимович, мы эту поездку и готовили.
— Хорошо, — продолжал Примаков. — У меня есть одна идея. Вы, конечно, будете возражать, но сначала послушайте мои аргументы.
И Примаков заговорил о том, что есть страны, которые готовы покупать наше оружие, платить наличными. Грешно отказываться от такой возможности. Ведь нам сейчас материальные интересы всего важнее. Необходимо усиливать экономический вектор нашей политики.
Потом Примаков предложил всем высказаться. Было свободное обсуждение, совершенно академическое. Ему все возразили! Он не обиделся. Не было приказного тона, грубости, авторитарности: выслушайте мое мнение и выполняйте. Разведчики говорили о том, что экономический фактор, конечно, важен, но есть и другие соображения, в перспективном плане еще более значительные. Примаков всех выслушал очень внимательно, задал уточняющие вопросы, а потом спокойно сказал:
— Я прислушаюсь к вашему мнению. Вопрос снимается. Мы не будем обращаться к президенту с предложением пересмотреть политику в отношении продажи оружия.
Кто-то пошутил, и все рассмеялись…
Примаков заботился о моральном состоянии разведки, о ее репутации в обществе, о настроениях офицеров. Как только он пришел в Ясенево, он сказал своим помощникам:
— Задача состоит в том, чтобы разведка в собственной стране жила спокойно, чтобы каменья в нее не летели. Чтобы наши сотрудники, когда они возвращаются после командировки из-за рубежа, нормально себя чувствовали. Надо снизить отрицательный накал в отношении разведки, который начался после августа девяносто первого в отношении всей системы бывшего КГБ.
В разведку Примаков привел с собой только трех человек. Своего помощника Роберта Вартановича Маркаряна и Юрия Антоновича Зубакова, тогда контр-адмирала. Он двадцать три года служил в военной контрразведке, в перестроечные времена был заместителем заведующего сектором ЦК КПСС. В 1990–1991 годах работал у Примакова в Совете безопасности. У Примакова создалось впечатление, что заместитель директора разведки по кадрам не склонен посвящать нового руководителя в детали своих дел, поэтому Евгений Максимович и поручил кадры адмиралу Зубакову.
И еще одного человека он привел — генерал-лейтенанта Ивана Ивановича Гореловского, отдав ему хозяйственно-финансовые дела.
— Хозяйственник — неподходящее, мелковатое слово для этого человека, — говорили мне в разведке. — Это абсолютно невероятный умелец. Примаков поручил ему социальные и бытовые дела, и он эту тяжелую ношу потянул.
Уходя из разведки, Примаков взял с собой в МИД и Маркаряна, и Зубакова (а потом заберет их в аппарат правительства; когда перестанет быть премьер-министром, позаботится о том, чтобы Маркарян поехал послом в Сирию, а Зубаков — в Литву). А Гореловского (он стал в 1997 году генерал-полковником) оставил.
Упросил новый начальник разведки Вячеслав Иванович Трубников:
— Я всё переживу, но только Ивана Ивановича оставьте. Он такие проблемы умеет решать…
Если говорят, что нет незаменимых людей, то Иван Иванович Гореловский полностью опровергает эту мысль. Примаков привел Гореловского с собой и знал: плохо с квартирами, значит, начнется строительство. Плохо с домами отдыха — значит, Гореловский приведет их в приличное состояние. Если цены в столовой высокие, сделает низкими. До экономического кризиса 17 августа 1998 года, который потряс всю страну, обед стоил рублей пять.
В Ясеневе есть свой магазин. На первом этаже продают продукты. В советские времена там был вполне приличный выбор. Когда пришел Примаков, он застал полупустые полки. Это сильно раздражало офицеров: мы занимаемся такой ответственной работой, а не можем ничего купить, чтобы домой отнести.
Гореловский приобрел два рефрижератора. Они ездили по России — там мяса купят, здесь рыбы, картофеля дешевого — и вот все склады забиты припасами. На старых запасах разведчики еще долго жили и после 17 августа, в служебной столовой цены не повышали.
Гореловский помог Примакову пережить самый трудный этап для разведки, когда отсюда начался отток кадров. Коммерческие структуры, которые как раз на ноги становились, выхватывали лучших людей. Сотрудник разведки имеет нужное образование — юрист или экономист. Владеет двумя-тремя языками плюс опыт работы за границей, знает, как иметь дело с иностранными партнерами, как себя с ними вести, когда говорить, а когда помалкивать. Лишнего не болтает, надежный.
И всё-таки с помощью социальной сферы удалось многих удержать. Есть хорошая поликлиника. Хотя и через много лет, но квартиру дадут. Летом и на зимние каникулы можно ребенка отправить отдыхать. Себе путевку взять: хочешь — поближе к Москве, хочешь — подальше, на берегу Черного моря. При Примакове разведка приобрела санаторий в Сочи.
В ту пору Примаков избавил разведку от неприличной работы, которой она прежде занималась. Первое, что Евгений Максимович сделал, — запретил офицерам безопасности участвовать в травле наших же дипломатов, подглядывать в замочную скважину, выяснять, кто с кем спит, кто чего пьет…
Он сказал:
— Занимайтесь своим делом. Мне не нужны данные о том, как наши люди ведут себя за границей.
За разведчиками всегда бдительно присматривало Второе главное управление КГБ (внутренняя контрразведка), которое искало врагов среди своих. Аппарат контрразведки исходил из того, что каждый отправляющийся за границу или вступающий в отношения с иностранцами может быть перевербован, и потому с величайшей подозрительностью относился к товарищам из разведки. Для сотрудников разведки это не было секретом.
— Мы были частью Комитета госбезопасности, — рассказывал мне один из ветеранов внешней разведки, — но чувствовали, что мы всё-таки не внутренний сыск, не тайная полиция, а цивилизованный инструмент государства. Соответственно, второй главк — контрразведка нас не любила. Поймать сотрудника Первого главного управления на пьянке — для них праздник. Иногда им это удавалось.
Один из офицеров разведки отбывал в длительную зарубежную командировку под крышей сотрудника посольства и отмечал, как это полагалось, отъезд вместе с мидовцами в «Славянском базаре». А еще в разведывательной школе всех предупреждали: не ходите в рестораны, где могут быть иностранцы. А он забыл… Он сидел со своими новыми коллегами за одним столом. Проходивший мимо человек что-то спросил и прошел дальше. А это оказался американец, которого вела служба наружного наблюдения КГБ.
Для наружки это был контакт иностранца с советским гражданином. Им по инструкции следовало провести оперативное мероприятие — выяснить, что это за человек, к которому подошел американец. Была плохая погода, они поленились, как это полагается, проводить его до дома и установить адрес и имя. Поступили иначе. Притворились пьяными и у вешалки пристали к нашему сотруднику:
— Дай прикурить! Ах, не дашь?!
Затеяли драку и сами же вызвали милицию. А милиция — это учреждение, где требуют предъявить паспорт. Оказавшись в отделении, он предъявил не только паспорт, но и красную книжечку — удостоверение сотрудника КГБ и стал говорить:
— Да я свой, ребята! Отпустите, а то я завтра улетаю.
Наружка была счастлива. Вызвали дежурного по КГБ, и его увезли. Никуда он, естественно, не поехал. Выезд за границу ему закрыли, с оперативной работы убрали и еще долго пилили во всех инстанциях:
— Зачем расшифровал себя, обнаружил свою принадлежность к комитету? Надо было сказать, что работаешь в Министерстве иностранных дел. Зачем потрясал удостоверением? Неужели не понимал, что порочишь честь комитета?
Крючков по указанию Андропова внутри самой разведки сформировал еще и мощную службу внешней контрразведки. Ее руководителем стал самый молодой в разведке генерал Олег Данилович Калугин. Со временем он впадет в немилость, в перестройку станет народным депутатом СССР, потом уедет за границу и будет обвинен в работе на врага. Но в ту пору Калугин был любимцем председателя КГБ.
— Главная задача управления «К», — говорил Андропов, — это проникновение в спецслужбы противника, с тем чтобы обеспечить безопасность нашей разведки.
В 1972 году Андропов поднял статус внешней контрразведки, придав ей уровень управления в составе Первого главка. Один из отделов управления «К» отвечал за обеспечение внутренней безопасности комплекса помещений в Ясеневе и личного состава. Иногда возникали неприятные ситуации. Например, кто-то из офицеров-разведчиков крал у товарищей часы или меховые шапки. Искать преступника приходилось самим, не привлекая коллег из других подразделений КГБ или тем более милиции.
Служба внешней контрразведки настояла на том, чтобы посольства охранялись пограничниками, и завела во всех посольствах офицеров безопасности — легальных офицеров КГБ. Они получили официальное право приглашать к себе советских граждан для бесед по душам и осматривать все помещения, чтобы помешать врагу установить там прослушивающие устройства. Эта служба была призвана охранять наших разведчиков и всех советских людей за границей от чужих спецслужб. На самом деле она занималась слежкой за теми, кого ей следовало охранять, за дипломатами и членами их семей. Большей частью шпионили за своими же, превращаясь в полицию нравов.
Сотруднику резидентуры, который представлял эту службу, раскрыть агента-двойника вроде полковника Олега Антоновича Гордиевского, который несколько лет работал на англичан, было не под силу. Но чтобы показать свою работу, он находил потенциальных предателей «на бытовой почве». Иначе говоря, капал в Москву на тех, кто позволял себе вольно выражаться, слишком много общался с иностранцами, закладывал за воротник или грешил по части женского пола.
В журнале, где я работал в 1980-е годы, большинство зарубежных корреспондентов были разведчиками. В ожидании визы они сидели у нас в редакции, читали тассовские сводки, писали заметки — говоря профессиональным языком, осваивали обязанности по прикрытию.
Молодые и в основном симпатичные ребята, они наслаждались свободной атмосферой журналистского коллектива, где на дружеских вечеринках можно было позволить себе то, что в Ясеневе немыслимо. Но их поведение немедленно изменилось, когда среди них появился угрюмый офицер, представлявший Службу внешней контрразведки. Он ждал назначения в одну из африканских стран и, видимо, заодно присматривал за товарищами по службе.
Академик Александр Яковлев, который сам несколько лет был послом в Канаде, вспоминал:
— В разведке было свое Управление контрразведки. А в каждом посольстве сидел и за всеми следил сотрудник управления, которого именовали офицером безопасности. Жуть. Забыли уже об этом.
Следили и за самим послом. Резидентуры политической и военной разведок имеют собственные каналы шифросвязи с Москвой. У них была возможность капать на посла и на других дипломатов. И не только посол, но и министр иностранных дел не нают, что передают оба резидента своему начальству, как оценивают деятельность посла и посольства. Следивший за нравами в советской колонии офицер безопасности любому мог сломать жизнь, добиться, чтобы его вернули на родину. И нельзя было возразить, и нельзя заступиться, потому что КГБ был властью анонимной. Никому не говорили: вас отзывают, потому что вами недовольны чекисты. Просто объявляли: Центр считает целесообразным вернуть вас в Москву. И всё. Примаков это отменил. Служба внешней контрразведки нужна, но только та, которая реально работает и находит агентов чужой разведки. А они есть…
Примаков незаметно для себя легко усвоил несколько правил работы в Ясеневе. Одно из них — служебные бумаги класть лицевой стороной вниз, чтобы не видно было, что это за документ. Когда Примаков пришел к президенту уже в роли премьер-министра и увидел, что их снимают телекамеры, он автоматически перевернул документ шапкой вниз. Умение быть аккуратным с бумагами вырабатывается раз и навсегда. Равно как и привычка в разговоре даже со своими коллегами агента называть только его кодовым именем, кличкой. Подлинное имя агента называть не принято даже в защищенных от прослушивания помещениях.
Еще одно правило — когда выходишь из комнаты, куда бы ни шел, надо все документы убрать в сейф. Такова производственная этика.
Правда, Примаков в силу занимаемого положения был избавлен от необходимости, уходя, не только запирать комнату, но и опечатывать ее личной печатью. В его приемной всегда кто-то дежурил. И уничтожением секретных бумаг Примаков тоже мог не заниматься.
Все остальные офицеры разведки знают, что старые газеты еще можно выбросить в мусорное ведро, а исписанные листы бумаги, что бы на них ни было написано, складываются в коробку, которая стоит в сейфе. Раз в неделю кабинеты обходит дежурный по отделу и спрашивает: можно забрать коробку? Весь бумажный мусор сжигается под бдительным взором сотрудников службы внутренней безопасности.
А вообще-то в разведке ненужных бумаг не бывает. Каждая бумага учтена и является частью какого-то дела, в которое и должна быть возвращена…
Но эти меры безопасности не спасают от провалов. Разведка несла в себе все пороки КГБ, начиная с анкетного подхода к подбору кадров. Многие молодые люди, стремившиеся на работу в комитет, рассматривали Первое главное управление как вожделенное выездное место. Основным стимулом была возможность поехать за рубеж. Этот органический порок, от которого были свободны только советские разведчики первого поколения, добившиеся громких успехов, в значительной степени породил провалы последних десятилетий.
Кто изо всех сил пробивался в закрытое учебное заведение, которое готовило кадры для Первого главного управления КГБ СССР?
Во-первых, сотрудники территориальных органов КГБ, доказывавшие начальству, что они заслужили право работать за границей.
Во-вторых, молодые партийно-комсомольские работники, которых по решению ЦК переводили в КГБ «на укрепление органов».
В-третьих, выпускники институтов и университетов, обладавшие бесспорным, с точки зрения кадровиков, достоинством — хорошей анкетой. Преимуществом пользовались отпрыски знатных партийно-государственных родов, а также «дети рабочих и крестьян», отличившиеся на комсомольской работе.
Соответственно перспектива лишиться выездной работы, вернуться на родину навсегда — из-за чьего-то провала или по причине недовольства начальства или в результате того, что кому-то надо уступить завидное место, больше всего пугала офицеров первого главка. И те, для кого потеря заграничных командировок была вовсе невыносимой, перебегали на ту сторону… Разведчиков покупали не идеями, а деньгами.
Один раз я видел Примакова по-настояшему расстроенным, если не сказать злым. Это было в феврале 1994 года — после ареста важнейшего советского агента Олдрича Эймса, который работал в ЦРУ и выдал десять американских агентов в Москве.
Эймс проработал в оперативном директорате ЦРУ тридцать один год. Он был разочарован своей службой, остро нуждался в деньгах, хотел изменить свою жизнь.
В апреле 1985 года Эймс написал записку, адресованную резиденту советской внешней разведки генералу Станиславу Андреевичу Андросову с предложением назвать имена трех агентов ЦРУ в Советском Союзе в обмен на пятьдесят тысяч долларов. Вместо визитной карточки приложил ксерокопию страницы из служебного телефонного справочника ЦРУ, подчеркнув свою фамилию.
Через неделю Олдрич Эймс назвал всех завербованных американцами агентов. Кроме того, передал советским разведчикам большое количество секретных документов, которые выносил из здания ЦРУ в обычной сумке. Никто из охранников не проявил интереса к ее содержимому.
За вербовку Эймса Виктор Иванович Черкашин, заместитель вашингтонского резидента, отвечавший за линию внешней контрразведки (то есть за проникновение в спецслужбы главного противника), получил высший в советском государстве орден Ленина. Редко кто из разведчиков удостаивался такой почести.
Служба в госбезопасности была для Черкашина семейным делом. Его отец работал в НКВД. Виктор Черкашин выучился на инженера-путейца, но в 1952 году его пригласили в Министерство госбезопасности и отправили учиться в ведомственный институт иностранных языков в Ленинграде. Там он познакомился с будущим руководителем внешней контрразведки Олегом Калугиным.
После института Черкашин служил в контрразведке и участвовал в 1962 году в поимке полковника военной разведки Олега Владимировича Пеньковского, ставшего агентом американской и британской разведок. Это помогло карьере капитана Черкашина, которого в 1963 году перевели в Первое главное управление — тогда еще в 14-й отдел, занимавшийся внешней контрразведкой. Он вырос до заместителя начальника управления «К» и с этой должности поехал в Вашингтон.
Виктор Черкашин навсегда запомнил, как в тот апрельский день приехал в старое здание посольства, поднялся на четвертый этаж, где за стальной дверью с цифровым замком располагалась резидентура внешней разведки. Дежурный попросил полковника Черкашина зайти к резиденту — Станиславу Андросову. Тот показал Черкашину то самое письмо.
Его принес Сергей Чувахин, дипломат, занимавшийся контролем над вооружениями, — от американца, который назвал себя Риком Уэлсом. «Рик» свел знакомство с пресс-атташе посольства Сергеем Дивильковским. Пресс-атташе встретился с американцем несколько раз, диалог не получался, поэтому Дивильковский предложил, чтобы с ним беседовал Чувахин. А Чувахину, занятому своей работой, американец просто надоел, и однажды он не пришел на очередную встречу. Тогда «Рик» решился. Он сам появился в советском посольстве. Разумеется, он знал, что наблюдательный пункт ФБР фиксирует всех, кто приходит в советское посольство, но у него было надежное прикрытие. Своему начальству он потом объяснил, что навестил сотрудника советского посольства, которого пытается завербовать. Сергей Чувахин, вызванный дежурным, спустился и стал извиняться. Но «Рик» протянул ему конверт и попросил отдать Станиславу Андросову…
Резидент и его заместитель долго обсуждали, как им быть. Первое предположение — подстава американской контрразведки. Второе — вдруг это и в самом деле потенциально ценный агент. И всё-таки Черкашин сказал Андросову, что надо встретиться: А чего бояться? Каков худший вариант? Американцы устроят скандал, и Черкашину придется вернуться домой. А его командировка всё равно заканчивается.
Черкашин рискнул и выиграл.
Москва дала разрешение на вербовочную беседу. Когда «Рик» вновь пришел в посольство, Чувахин отвел его в комнату, гарантированную от прослушивания, и удалился. Вместо него появился Виктор Черкашин. Эймс получил пятьдесят тысяч долларов и был потрясен, как легко, оказывается, можно раздобыть большие деньги!
Материалы, переданные им во время первой встречи, позволили выявить сразу двух агентов ЦРУ — Валерия Мартынова, занимавшегося научно-технической разведкой в резидентуре, и Сергея Моторина, работавшего по линии политической и военной разведки — он только что вернулся в Москву.
Подполковник Валерий Федорович Мартынов в вашингтонской резидентуре работал по научно-технической линии, а по прикрытию был атташе по вопросам культуры. Научно-техническая разведка — престижное направление, но добиться успеха непросто. Считается, что он попал в ловушку, расставленную ФБР. Ему подсунули двойного агента, вербовку которого в Москве сочли большим успехом. В обмен Мартынов стал давать информацию американцам — о ситуации в резидентуре, о вербовочных планах. Он получил орден Красной Звезды и повышение. А тут сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс предложил свои услуги советской разведке. И сразу назвал имя Мартынова как агента ФБР, боясь, что тот может его выдать американцам. Судьба подполковника Мартынова была решена…
Вот в такие дьявольские игры постоянно играла разведка. И такой род занятий много говорит о людях, которые посвятили свою жизнь разведке. Она вербовала агентов в спецслужбах противника, чтобы узнать, кто является предателем в собственных рядах.
О судьбе другого выданного Эймсом агента американской разведки рассказал Олег Петрович Бенюх, который работал в агентстве печати «Новости» и редактировал издававшийся на английском языке журнал «Совьет лайф»:
«Я познакомился с ним еще в Москве. Он стажировался в американской редакции АПН, и, разумеется, все сотрудники знали, что он готовится к поездке в вашингтонское бюро от “ближних соседей”. Я был ему рад. Заматеревший в пекле журналистских баталий, с добродушным чувством юмора, глубоким знанием разносторонних реалий политической кухни янки, Сергей Моторин стал не только по должности, но и по сути моим первым замом. Я имею в виду работу апэ-эновскую. Его главная деятельность меня не касалась. Обаятельный, с великолепным американским английским, он мгновенно очаровывал…
Мы с Сергеем были не то чтобы не разлей вода, но с удовольствием делили немногие свободные часы. Единственное, что мне в нем не нравилось, было тщательно скрывавшееся желание, тяга к красивой жизни, к роскошной еде и питью, одежде и украшениям, мебели и машинам. Эта тяга в конце концов его и погубила.
Неожиданно подступило грустное время завершения загранкомандировки Сергея. Многие в посольстве именно тогда и оценили объем и глубину его работы… Прощались с русским красавцем-журналистом щедро и ласково. За день до отлета посол на “прощальном бокале шампанского” вручил майору Моторину традиционную почетную грамоту, и вскоре, после продолжительного отпуска, тот приступил к весьма перспективной деятельности в ПГУ. Юноша, сменивший Сергея, оказался довольно серым середнячком… Я вспоминал Моторина, его жажду познания, его энергию в достижении триумфа».
Однажды резидент внешней разведки пригласил Олега Бе-нюха в свой кабинет, усадил в кресло, угостил отличным французским коньяком и угрюмо заметил:
— Этот Моторин-то… сукин сын оказался… Подлым предателем оказался… Да, уже расстреляли…
Тринадцатого июня 1985 года в одном из вашингтонских ресторанов Черкашин сказал американцу:
— Мы знаем, кто вы. Вы — Олдрич Эймс.
Тот не ожидал, что его так быстро вычислят. И после этого Черкашин сказал:
— Наша главная задача — обеспечить вашу безопасность. Но для этого вы должны назвать всех ваших агентов, любой из них может вас выдать.
Эймс от руки написал список, который потряс Черкашина. Никогда еще разведка не получала сразу так много информации — это был полный перечень агентуры ЦРУ внутри Советского Союза. Черкашин в своих воспоминаниях уверяет, что к середине восьмидесятых у него возникло тревожное ощущение, что ФБР слишком хорошо знает ситуацию в резидентуре. В феврале 1984 года во время рутинной проверки обнаружили двадцать четыре жучка — но только в машинах сотрудников резидентуры! Американцы следили исключительно за сотрудниками резидентуры, как будто они точно знали, кто — чистый дипломат, а кто разведчик.
Черкашин предполагал, что у американцев кто-то есть внутри резидентуры, но не предполагал, что агентов так много. Вернувшись в свой кабинет, Черкашин написал своим шифром записку, которая предназначалась только для Крючкова.
Олдрич Эймс, не зная того, сыграл важную роль в карьере Владимира Александровича Крючкова, который смог порадовать нового хозяина страны Михаила Сергеевича Горбачева фантастическими успехами своей службы. Но и для наследников Крючкова на посту начальника разведки Эймс был важнейшим агентом. Ему заплатили в общей сложности больше двух миллионов долларов. Никто из агентов еще не получал таких денег.
Об аресте стало известно 21 февраля 1994 года.
«Мы были потрясены, когда ФБР арестовало ветерана ЦРУ Олдрича Эймса, — говорится в воспоминаниях тогдашнего президента США Билла Клинтона. — За девять лет Эймс нажил целое состояние, передавая информацию, которая привела к гибели более десяти наших агентов в России и нанес сильнейший ущерб потенциалу разведки».
Два руководителя российского направления ЦРУ после ареста Эймса примчались в Москву. Американцы требовали от российских коллег безоговорочно признать свою вину, представить материалы, которые Эймс передал Москве, и по доброй воле самим отозвать представителя Службы внешней разведки в Вашингтоне, легального резидента Александра Иосифовича Лысенко.
Говорят, что даже генерал Лысенко не знал подлинного имени своего важнейшего агента по кличке «Людмила». Но когда он услышал об аресте сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса, то сразу догадался, что это и есть «Людмила», которой так дорожили в Центре.
Руководители американской разведки нагрянули в Москву сюрпризом, без приглашения и в отсутствие Примакова. Беседовать с ними пришлось его первому заместителю Вячеславу Ивановичу Трубникову. Разговор между разведчиками двух стран был тяжелым и неприятным.
Примаков в тот момент находился за границей. Впоследствии я имел возможность поговорить с человеком, который в те дни был рядом с Евгением Максимовичем:
— Что переживал Примаков, когда арестовали Эймса?
— Для него это был шок невероятный. Вся его переговорная деятельность была сокращена. Он не отходил от телефона, шел непрерывный обмен шифротелеграммами. Для него это была такая трагедия, такой кошмар, ужас. Он был просто убит.
После ареста Олдрича Эймса Примаков сам захотел встретиться с журналистами и даже привел с собой своего первого заместителя Трубникова. Правда, называть их имена и ссылаться на них в тот момент было нельзя. Встреча состоялась в Колпачном переулке, где тогда находилось пресс-бюро Службы внешней разведки. Примаков был зол, строг и непримирим.
Они оба — и Примаков, и Трубников — отказались тогда признать, что Эймс — платный агент Службы внешней разведки. Они говорили, что даже косвенное признание в сотрудничестве с Эймсом окажется для него роковым на предстоящем суде в Соединенных Штатах. Но к тому времени начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Михаил Колесников уже заявил, что Эймс не работал на военную разведку. Таким образом, никто не сомневался, что лавры вербовки такого агента принадлежат Службе внешней разведки. Да и Эймс в любом случае был обречен — ФБР собрало все доказательства его работы на российскую разведку и получило его собственное откровенное признание.
Примаков был явно огорчен тем, что арест Эймса вызвал такой шум и способствовал ухудшению российско-американских отношений. Они с Трубниковым убеждали журналистов, что и само ЦРУ, которому нанесена «тяжелая травма», не заинтересовано в этом скандале. Но арестовавшее Эймса Федеральное бюро расследований, а также конгресс и политические противники президента Билла Клинтона используют этот скандал в собственных интересах.
Примаков говорил тогда, что на закрытых переговорах с руководителями ЦРУ и ФБР он вовсе не обещал прекратить разведывательную деятельность на территории Соединенных Штатов. Руководители российской разведки жаловались, что американцы сами расширили масштабы агентурной разведки на территории России:
— Мы как бы с пониманием относимся к естественному стремлению Соединенных Штатов знать, что происходит в России. Но в таком случае и в Вашингтоне должны проявить ответное понимание.
В Вашингтоне понимания не проявили и всё-таки выслали из страны руководителя резидентуры российской разведки Александра Лысенко, который до этого был резидентом в Индии (на освободившееся место Примаков потом отправил Сергея Николаевича Лебедева, который при Путине станет начальником разведки). В ответ советника американского посольства Джеймса Морриса, возглавлявшего резидентуру ЦРУ, попросили в семидневный срок покинуть Москву. Как сказал нам тогда Примаков:
— Мы не пропустим ни одного удара.
На самом деле этими высылками дело и ограничилось. Президент Клинтон не хотел, чтобы шпионский скандал мешал ему помогать демократической России.
«Возникли вопросы, — вспоминал Билл Клинтон, — если Россия ведет направленную против нас шпионскую деятельность, не следует ли нам отменить или приостановить оказание ей помощи? На встрече с представителями обеих партий в конгрессе и отвечая вопросы журналистов, я высказался против прекращения поддержки России. Кроме того, шпионы были не только у русских».
Через четыре с лишним года после ареста Эймса Примаков рассказывал мне:
— Когда я пришел в разведку, многие говорили: давайте заключать двусторонние соглашения о ликвидации разведывательной деятельности! Допустим, мы подписываем такое соглашение с Великобританией. И что? Если бы такое соглашение можно было подписать в универсальном плане — со всеми, на это можно было бы пойти. А так что произойдет? Мы заключим соглашение с Великобританией, а она будет получать от других все материалы о России — это же ни в какие ворота не лезет. Мы окажемся в худшем положении. Против нас ведут активную разведывательную деятельность, и растет число резидентур, которые нами занимаются. Работают против России с территории стран СНГ и Балтии, туда выводят на связь свои источники. Всё это есть, так что преждевременно говорить о прекращении разведки.
— А потом это не так уж плохо, — заключил Примаков, — потому что разведка часто предотвращает события, которые могли бы подорвать стабильность.
Провал Олдрича Эймса не был последним в цепи неудач российской разведки и на американском, и на европейском направлениях. Провалы агентурной сети были следствием не усиленной, авральной работы местных охотников за шпионами, а чаще всего результатом бегства российских разведчиков.
Под руководством Трубникова, как положено в таких случаях, всё личное и рабочее дело Эймса разбиралось с того самого дня, как он начал работать на Москву, анализировался каждый шаг его и наших оперативных работников, вспоминали каждое слово. Но Примаков не пошел по пути раздачи выговоров. Это ведь больше для показухи делается: виновные наказаны, и если наверху вопрос будет задан, то смело можно отвечать: такой-то уволен, такой-то понижен в должности, уроки извлечены.
Результаты расследования по делу Эймса, проведенного Службой внешней разведки, разумеется, не обнародовались. Судя по словам некоторых осведомленных лиц, комиссия пришла к выводу, что в провале больше всего виноват сам Олдрич Эймс. Он вел себя слишком неосторожно, нарушил правила конспирации, не прислушался к советам своих кураторов из Москвы…
Но косвенно вина ложится и на бывшее руководство разведки и КГБ. Главная проблема Эймса состояла в том, что, когда он назвал имена агентов американской разведки в Москве, их расстреляли. Поэтому после ареста его назвали в Америке «серийным убийцей». Разве удивительно, что американцы столько лет искали того, кто выдал всех агентов?
— Если у вас десять агентов поймали, вы будете очень долго изучать возможных предателей, искать, у кого есть что-то подозрительное, пока не найдете, — говорили мне в Службе внешней разведки. — Вот Эймса и поймали.
В провале Эймса разведчики упрекают своего бывшего руководителя Владимира Крючкова. Ведь это он, демонстрируя успехи своей службы, положил на стол высшему руководству список американских агентов, переданный Эймсом. И он допустил, чтобы их всех разом арестовали и расстреляли. Хотя это был самый ясный сигнал американцам: ищите у себя предателя…
Но некоторые ветераны разведки подозревают, что и Эймс сам стал жертвой предательства. Они не верят рассказам американских контрразведчиков о том, что они вычислили Эймса, потому что он явно жил не на одну зарплату. Ветераны уверены, что в Ясеневе работал предатель, который продал Эймса, а затем и некоторых других российских агентов. Конечно же, к материалам об агентах такого уровня допущено только несколько человек из высшего руководства разведки. Имя каждого, кто видел эти материалы, известно: нельзя взять папку или даже отдельную шифровку, не расписавшись. Неужели кто-то из них?.. Впрочем, есть еще технические работники — сотрудники архивов, секретари и курьеры, которые видят эти материалы, но за них не расписываются.
Страх перед «кротом», иностранным агентом, который работает в самом сердце разведки, живет в каждой спецслужбе. Время от времени подозрения оказываются правдой. Американцы убедились в этом, арестовав в 1994 году ветерана ЦРУ Олдрича Эймса…
— Вы думаете, разведка — это на пузе ползать? Или тайные операции проводить? Или проверяться, чтобы за тобой не было наружки? — говорил мне Примаков, когда я спросил его, что же ему нравилось в разведке. — Это всё тоже есть в работе разведчика. Но руководители разведки главным образом занимаются аналитической работой. Ведь добыча информации — это же не самоцель. Материалы разведки нужны для того, чтобы правильно представлять, что твой визави намерен предпринять в отношении твоего государства и как ему что-то противопоставить. Это очень интересная работа.
По словам Виталия Игнатенко, разведка — это то самое место, где Примаков мог проявить себя как сильный аналитик. Он внес туда дух поиска. Эта служба нуждается в оплодотворении наукой, знаниями. Примаков пришел туда из науки и сделал ее очень значимой.
Томас Колесниченко, который дружил с Примаковым сорок лет, говорил:
— Он себя нашел в разведке. Он купался в этом… Он поднял разведку на такой уровень, какой разведчики себе даже не представляли. Они стали мыслить иначе. Аналитика пошла настоящая.
В аппарате разведки оперативные работники всегда ставили себя выше аналитиков. Примаков приложил большие усилия, чтобы уравнять аналитиков с оперативниками.
Кстати говоря, Томас Анатольевич Колесниченко в бытность собственным корреспондентом «Правды» в США несколько лет принимал у себя дома Олдрича Эймса, не подозревая о его разведывательной работе. После ареста Эймс изъявил готовность дать интервью Колесниченко. Но ему отказали в американской визе, внесли в черный список. В 1996 году Примаков уже в роли министра иностранных дел взял Колесниченко с собой в Соединенные Штаты. Ему вновь не дали визы. Тогда Примаков, верный дружбе, обратился к государственному секретарю Мадлен Олбрайт и поклялся, что Колесниченко не был сотрудником спецслужб. Визу дали, и Колесниченко прилетел в Соединенные Штаты.
Начальник политической разведки в отличие от своих коллег, силовых министров, практически незаметен. Каждый понедельник директор Службы внешней разведки Евгений Примаков входил в кабинет президента Бориса Ельцина для подробного доклада. Текущую разведывательную сводку, срочные сообщения президент получает каждый день в запечатанных пакетах. Но раз в неделю Примаков приезжал в Кремль, чтобы ознакомить президента с обзором важнейших проблем. Задача Примакова состояла в том, чтобы рассказать Борису Ельцину, что происходит, как это оценивает разведка и как, с ее точки зрения, следует поступать в мировых делах.
Разведчики пребывают в уверенности, что они заранее обо всём предупреждают политиков, но политики неспособны воспользоваться тем драгоценным кладом, каким является разведывательная информация. А многие профессиональные политики достаточно пренебрежительно относятся к этим секретным сводкам, считая, что в принятии важнейших политических решений разведка помочь не может.
Примаков несколько лет работал с Горбачевым, который высоко ценил материалы разведки и внимательно их читал. В роли кандидата в члены политбюро, члена Президентского совета и Совета безопасности он получал информацию КГБ о внешнеполитической ситуации. Став начальником разведки, он установил, что сведения, поступавшие от Крючкова, не имели ничего общего с той информацией, которую реально собирало Первое главное управление. Председатель КГБ ссылался на никогда не существовавшие материалы разведки, чтобы воздействовать на внутриполитическую ситуацию.
«Сколько наделали шуму заявления о том, что ЦРУ имело в лице некоторых “перестроечных руководителей” своих “агентов влияния”», — вспоминал Примаков. А возглавив разведку, он обнаружил, что рассказы Крючкова о существующих в стране «агентах влияния» ЦРУ — миф.
Бывший председатель КГБ Крючков, побывав после провала августовского путча в тюрьме, обвинил бывшего члена политбюро Яковлева в том, что у него были недопустимые контакты с западными спецслужбами, а проще говоря, заявил, что академика завербовали американцы.
Делом занялась Генеральная прокуратура. Прежде всего следователи запросили внешнюю разведку.
«Будучи директором СВР, — писал Евгений Максимович, — я, отвечая на вопрос Генпрокуратуры России, дал задание тем подразделениям разведки, которые могли иметь подобные данные, тщательно проверить все материалы на сей счет. Ответ был однозначный — никаких данных такого рода не было и нет. А ведь ссылались на разведку».
Следователи вызвали предшественника Крючкова на посту председателя КГБ генерала армии Чебрикова. Виктор Михайлович надопросе развел руками: ему относительно агентов влияния и мнимой вербовки Яковлева ничего не известно. Иначе говоря, Комитет госбезопасности не располагал никакими материалами на сей счет. Крючков всё придумал.
Его бывший заместитель в разведке генерал-лейтенант Вадим Кирпиченко писал: «Горькая истина состоит в том, что отнюдь не Центральное разведывательное управление США и не его “агенты влияния в СССР” разрушили наше великое государство, а мы сами. Все наши высшие партийные и государственные инстанции продолжали скакать на химерах, не хотели отличать мифы от реальностей и боялись проводить полнокровные демократические реформы, ничего не разрушая и никого не предавая».
Аппарат, с которым работал Примаков, в значительной степени сформировался под влиянием Крючкова. Тот десять лет возглавлял разведку и еще три года был председателем всего КГБ.
Крючков начинал карьеру профессиональным комсомольским работником. Во время войны будущий глава госбезопасности на фронт не попал, был нужнее в тылу. После войны работал в прокуратуре. В 1951 году в Сталинградский обком партии пришла разнарядка — откомандировать перспективного молодого партийца в Москву для учебы в Высшей дипломатической школе. Выбор пал на Крючкова.
Из всего потока один Крючков рискнул взяться за изучение очень непростого венгерского языка. Повсюду носил с собой карточки со словами, которые следовало запомнить. Выучить венгерский язык — значит проявить характер, усидчивость и упорство. Всего этого Крючкову было не занимать.
В конце лета 1955 года молодой дипломат Крючков отправился в Будапешт. Он получил назначение в советское посольство третьим секретарем. Послом был молодой партийный работник Юрий Владимирович Андропов. Крючков вытащил счастливый билет. Дальше они шли по жизни вместе до самой смерти Андропова.
Уходя в мае 1967 года со Старой площади на Лубянку, Юрий Владимирович забрал с собой свой личный аппарат — человек десять.
«Держались они на первых порах тесной стайкой, — вспоминал Вадим Кирпиченко, — и всё старались выяснить, нет ли вокруг Юрия Владимировича недоброжелательности или, не дай бог, не зреет ли какая крамола. Эта группа была предана ему лично и стремилась всеми доступными средствами работать на повышение его авторитета, что порой выглядело даже смешным и наивным из-за прямолинейности в восхвалении достоинств нового председателя…»
Владимир Крючков получил на Лубянке прежнюю должность помощника, но в том же 1967 году стал начальником секретариата председателя КГБ. Педантичный, аккуратный, организованный, с прекрасной памятью, он стал идеальным канцеляристом. Начальник секретариата генерал-майор Крючков произвел сильнейшее впечатление на будущего начальника разведки Леонида Шебаршина, который пришел с просьбой найти документ, переданный Андропову.
«Владимир Александрович удивил меня своей памятью, — писал Шебаршин. — Услышав название документа, попавшего к нему несколько месяцев назад, он немедленно открыл сейф и из толстенной пачки бумаг сразу же достал именно то, что требовалось. Мне показалось, что я имею дело с человеком в какой-то степени необыкновенным».
Кабинет Крючкова на третьем этаже находился прямо напротив председательского, приемная у них была общая. Владимир Александрович всегда был под рукой, готовый дать справку, напомнить, выполнить любое указание, проследить за движением бумаг, старательный, надежный, услужливый и безотказный исполнитель.
Через четыре года, летом 1971 года, Андропов неожиданно для многих перевел Крючкова в разведку — первым заместителем начальника Первого главного управления. Крючкову переход на большую самостоятельную работу с завидными перспективами дался трудно. Он вспоминал, как ему было «не по себе от мысли, что работать придется на некотором удалении» от Андропова. К тому времени они трудились вместе семнадцать лет. Крючков боготворил начальника, знал наизусть его стихи. Он привык к роли первого помощника, а тут предстояло самому принимать решения. Но Владимир Александрович нашел выход. Его сотрудники быстро заметили, что он по каждой мелочи советовался с Андроповым. Крючков по характеру, образу мышления и поведения так и остался помощником.
Крючков пробыл первым заместителем начальника разведки три года — столько ему понадобилось для того, чтобы освоиться и разобраться в новом деле.
Тридцатого декабря 1974 года генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев принял Андропова вместе с Крючковым. Это были смотрины. Андропов внес в ЦК предложение назначить Владимира Александровича начальником Первого главного управления и одновременно заместителем председателя КГБ.
На этом посту Крючкову не хватало не столько профессионального опыта, сколько глубины понимания происходящего в мире. Да и по натуре он не был лидером. В роли доверенного помощника Андропова Владимир Александрович был на месте. А без указаний своего наставника грамотный и работящий «номер два» терялся.
Крючкова всегда считали бледной тенью Андропова. Серая мышь, исполнительный помощник, гений канцелярии — в особой атмосфере тайной полиции Крючков чувствовал себя как рыба в воде. Умение выполнять приказы сделало Крючкова необходимым сначала Андропову, затем его наследникам.
На пост председателя КГБ, как утверждают, Крючкова рекомендовал академик Александр Яковлев, которому изменила его обычная проницательность. Крючков искал путь к Горбачеву. Он попытался сделать это через Яковлева. Александр Николаевич вспоминал, как «Крючков напористо полез ко мне в друзья, буквально подлизывался ко мне, постоянно звонил, зазывал в сауну, всячески изображал из себя реформатора».
Яковлев полагал, что человек из разведки, не участвовавший в политическом сыске, — более подходящая фигура, чем любой человек из контрразведки. Крючков во всех разговорах давал понять, что он — именно тот человек, который нужен Горбачеву. «Он всячески ругал Виктора Чебрикова за консерватизм, — писал Яковлев, — утверждал, что он профессионально человек слабый, а Филиппа Бобкова (бывшего начальника Пятого управления) поносил последними словами и представлял человеком, не заслуживающим доверия, душителем инакомыслящих».
Крючков упросил Яковлева познакомить его с Валерием Ивановичем Болдиным, главным помощником Горбачева, — «объяснял свою просьбу тем, что иногда появляются документы, которые можно показать только Горбачеву, в обход председателя КГБ Чебрикова».
Крючков добился своего и сменил прежнего председателя КГБ Чебрикова. Яковлев вспоминал, что перед уходом на пенсию Чебриков, как всегда очень спокойно, сказал ему:
— Я знаю, что ты поддержал Крючкова, но запомни — это очень плохой человек, ты увидишь это.
Уже после августовского путча на выходе из Кремлевского дворца съездов Чебриков догнал Яковлева, похлопал по плечу и спросил:
— Ты помнишь, что я тебе говорил о Крючкове?
Горбачева, наверное, подкупили такие качества Крючкова, как его несамостоятельность в политике и безраздельная преданность прежнему хозяину. Михаил Сергеевич помнил, каким верным помощником был Крючков для Андропова, и хотел обрести такого же толкового и исполнительного подручного.
Леонид Шебаршин пишет: «Видимо, Крючков показался Михаилу Сергеевичу более гибким, динамичным и податливым человеком… Думается, генеральный секретарь сильно заблуждался и не заметил за мягкой манерой, внешней гибкостью и послушностью Крючкова железной воли и упрямства, способности долго, окольными путями, но всё же непременно добиваться поставленной цели».
В Крючкове видели незаметного и неамбициозного исполнителя, готового выполнить любой приказ. Мастера на все руки. Говорят, что Крючков был полезен и в другом смысле. У всех высокопоставленных персон есть слабости, пьющие сыновья или гулящие дочери, за которыми нужен глаз да глаз, но родители заняты важной государственной работой. КГБ помогал уберечь непутевых детей от неприятностей, спасти родительскую репутацию. Тем самым политики становились зависимыми от КГБ, руководство которого много чего знало о семьях высокопоставленных политиков.
Информация собиралась не только в Москве. Краевые и областные начальники доносили в центральный аппарат КГБ обо всём, что знали. Поэтому Крючкову многое было известно о людях, перебравшихся в столицу и из Томска, и из Омска, и из Свердловска… А резиденты сообщали, как вели себя политики, оказавшись за границей.
Сидя на своих досье, как скупой рыцарь на мешках с золотом, Крючков начал мнить себя самостоятельным политиком, одним из вождей государства. Наступил момент, когда Владимиру Александровичу надоела роль безмолвного исполнителя. Феноменальная память и фантастическая осведомленность о том, что происходит в стране, только подогревали тщательно скрываемое честолюбие.
Горбачев пребывал в блаженной уверенности, что вознесенный на высокий пост председатель КГБ будет вечно хранить ему верность. А Крючков негодовал, что его заставили слишком долго ждать этой должности, считал, что достоин большего. С ним произошло то, что случается со слугой, который днем разнашивает туфли для господина, а ночью тайно их примеряет. Изо дня в день он докладывал Горбачеву секреты своих досье и со временем стал испытывать презрение к хозяину: тот всё заглатывал, но ничего не предпринимал. Значит, Горбачев слаб. Почему бы в таком случае не заменить его?
Крючков считал себя сильной личностью и решил проверить свои способности на деле. И с треском провалился в августе 1991 года. Серая мышь не может стать львом. Гений канцелярии ни на что не годится на поле боя…
Как и КГБ в целом при Андропове, внешняя разведка при Крючкове достигла в определенном смысле расцвета. Резидентуры по всему миру, большие штаты, широкие агентурные сети, солидный бюджет, новая оперативная техника и конечно же особое положение разведки внутри комитета: разведчики ощущали особое расположение Андропова.
Потом, правда, Крючкова упрекали за то, что он увлекался большими цифрами. Разведка старалась собрать максимум информации по всем странам. Реальной пользы от этого было немного, но создавалось приятное ощущение полного контроля над миром.
Однажды в Кабуле, поздно вечером, Крючков спросил начальника нелегальной разведки Юрия Ивановича Дроздова:
— А сколько вообще нужно иметь агентуры, чтобы знать, что происходит в мире?
— Не так много, — ответил Дроздов, — пять-шесть человек, а вся остальная агентурная сеть должна их обеспечивать, отвлекать от них внимание.
Крючков с интересом выслушал Дроздова, но остался при своем мнении.
Опытный оперативник исходит из того, что надо иметь не много агентов, а дающих ценную информацию. Крючков требовал от резидентур увеличить темпы и масштабы вербовки. Брали количеством.
Примаков не стал расчищать разведку от людей Крючкова, но постарался поменять принципы информационной работы. Люди, далекие от вершин власти, часто с мистическим уважением относятся к документам, помеченным пугающим грифом «совершенно секретно». Считают, что в шифровках разведки таится высшая мудрость. Уверены, что если бы получили доступ к разведывательным сводкам, то им открылись бы все тайны мира. Знающие люди куда более скептичны.
Вадим Печенев, бывший помощник генерального секретаря ЦК КПСС, вспоминал:
— Если бы знали любознательные от природы люди, сколько уникальной «секретной» литературы и прочих материалов я вернул, не читая, а то и перемолол, не заглядывая в них, в спецмашинах, сколько «сверхсекретных» (в кавычках и без) бумаг, телеграмм, депеш, так называемых шифровок с грифами политбюро, КГБ, ГРУ (Главное разведуправление) я подписал, не читая!.. Если бы я и читал все эти шифровки и прочие секретные донесения, то всё равно вряд ли это помогло мне в понимании истинных движущих мотивов политики.
Сотрудники Первого главного управления КГБ не носили форму с синими петлицами, не щелкали каблуками и не обращались друг к другу по званию, но воинская система отношений наложила свой отпечаток и на разведку. Она исключает дискуссии и сомнения относительно приказов начальника. Разумный начальник, естественно, поощрял споры. Не очень умный запрещал. Это мешало исполнению главной задачи — снабжать политическое руководство страны объективной и осмысленной информацией о происходящем в мире.
Любимая среди военных команда «Не рассуждать!» в разведке не поощрялась, но многие резиденты отправляли в Центр только такие донесения, которые там хотели видеть. Если кто-то из офицеров не разделял мнения резидента, он не имел возможности сообщить об этом в Москву. Отправить шифротелеграмму в Центр вправе только резидент. Без его подписи шифровальщик и пальцем не пошевелит.
Не согласный с резидентом офицер ждал отпуска, чтобы, вернувшись домой, попроситься на прием к начальству. И этот офицер рисковал многим, вступая в спор с резидентом, потому что жалобы на начальство не поощрялись. Знаю несколько случаев, когда поссорившихся с резидентом офицеров разведки, даже если фактически они были правы, возвращали в Москву и назначали с понижением на второстепенный участок работы.
Если же резидент не желал держать нос по ветру и отправлял в Центр реалистические телеграммы, это тоже не имело особого успеха. Переходя от одного начальника к другому, информация правилась и превращалась в свою противоположность. Донесения разведки не должны были расходиться с той картиной мира, которую рисовали себе в Кремле.
Крупнейшие провалы советской внешней политики, скажем, ввод войск в Афганистан, объяснялись в том числе и этой порочной практикой первого главка КГБ. Работавшие в Кабуле разведчики утверждают, что они сообщали в Москву всё, как было, но в Центре их донесения переписывались.
Не было такой сферы жизни ГДР, которая осталась бы вне внимания советской разведки. Десятилетиями разведывательный аппарат в Восточной Германии докладывал в Москву о всяких пустяках, о мелких интригах внутри политбюро ЦК СЕПГ. Например, наши разведчики узнали, что генеральному секретарю ЦК СЕПГ Эриху Хонеккеру во время операции дважды давали наркоз, что, по мнению специалистов, не могло остаться без последствий для его умственных способностей…
Помимо представительства КГБ в Восточной Германии работали резидентура Главного разведывательного управления Генерального штаба, Разведывательное управление Штаба группы войск в Германии, Управление особых отделов группы войск. Но советская разведка, обладавшая в Восточной Германии всеми оперативными возможностями, не смогла предсказать скорый крах ГДР. В критический период, когда социалистическая Германия разрушалась на глазах, каждый день в шесть утра по аппарату ВЧ-связи берлинская резидентура докладывала в Москву ситуацию. Но попытки прогноза всякий раз оказывались безуспешными.
О том, что ближайшего союзника ждет неминуемая катастрофа, советские разведчики своему президенту не сказали. Не потому, что хотели утаить, — сами не знали. Зато снабжали его массой ненужной информации, которая только самой разведке казалась важной.
А Михаил Горбачев всегда трепетно относился к материалам, которые он получал из КГБ. Они предназначались только первому лицу в государстве, Горбачев своими секретами не делился, но о его любви к донесениям спецслужб в Кремле знали.
Горбачев оставлял автографы на документах, в знакомстве с которыми ему лучше было бы не признаваться. Он санкционировал прослушивание своих немногочисленных сторонников и соратников и не видел в этом ничего предосудительного. Горбачев исходил из того, что высшее лицо в государстве должно знать всё: от цифр выплавки стали до количества бутылок водки, выпиваемых первым секретарем захудалого обкома. Он ощущал себя монархом, который стоит выше любых норм и правил.
Информационная записка, которую приносил ему председатель КГБ Владимир Крючков, содержала запись подслушанного разговора и заканчивалась стандартной формулой: «Считаем целесообразным продолжить оперативную разработку. Просим согласия». И согласие давалось. Знакомую подпись можно найти на бесчисленном количестве бумаг.
Президент и в Кремле во многом оставался тем же партийным секретарем, который запирался с краевым начальником госбезопасности и заслушивал оперативную обстановку. Ввиду отсутствия иностранных шпионов хозяину сообщалось о закулисной жизни краевой элиты, о сомнительных разговорах и несерьезном поведении местных начальников.
Более моральная политика оказалась бы и более полезной для Горбачева. Те, за кем он разрешил следить и кого велел подслушивать, хранили ему верность. Зато те, кто занимался слежкой, бросили его при первой же возможности. Его предали те, кому он верил.
Ошибка и одновременно трагедия Горбачева состояла в том, что он так и не понял: нельзя выволакивать страну из прежней жизни, но сохранять при этом все прежние структуры, КГБ в первую очередь.
Произнеся днем смелую речь о новом мышлении, вечером Горбачев принимал председателя КГБ, который докладывал президенту, о чем в частной жизни говорят его собственные советники и помощники, чем занят Борис Ельцин и куда ездит его окружение в свободное время.
А внешняя разведка снабжала Горбачева информацией, из которой следовало, что к заявлениям и обещаниям западных лидеров надо относиться скептически, что они неискренни, таят нехорошие замыслы и сговариваются за спиной Горбачева. При этом разведка не упускала случая сообщить, что очередное заявление президента принято во всём мире на ура и что мир восхищается мудростью советского руководителя…
Какую именно информацию получал от специальных служб Борис Ельцин, мы узнаем не скоро. Но стремление любых информационных служб сообщать президенту исключительно приятные новости очевидно.
Став пресс-секретарем президента, Сергей Владимирович Ястржембский рассказывал мне, что радикально изменил структуру информационных сводок, которые получал Борис Ельцин:
— Когда я посмотрел обзоры прессы, которые давали президенту, у меня это вызвало изумление. Обзор строился на псевдоанализе официальных средств массовой информации. Нельзя ссылаться только на «Российскую газету», «Российские вести», «Красную звезду» и делать вид, что остальные газеты как бы не существуют. Когда я недолго работал в международном отделе ЦК КПСС при Горбачеве, у нас и то более открытая информация шла…
Как вел себя Примаков, когда надо было ехать в Кремль и докладывать о неприятностях, например, о провале собственной службы?
— Он рассказывал всё, как есть, — ответили мне сотрудники разведки. — Евгений Максимович вообще очень дорожил новыми правилами и традициями, которые при нем создавались. Он считал, что не дай бог что-то упустить и приучить власть ко лжи со стороны разведки, удобной и приятной для нее. Особенно в докладе президенту. Если дело касается провала, как тут можно врать и лукавить? Есть западная пресса, и бесполезно что-то скрывать. Да с этим даже было проще — говорить о провалах своей организации. Значительно сложнее было делать еженедельный доклад.
Раньше разведка тоже еженедельно составляла свой доклад, и он шел дальше на Лубянку, где руководство КГБ старательно причесывало текст, чтобы не раздражать начальство. Иногда даже поступали такого рода указания: проанализируйте состояние экономики Китая, но смотрите не увлекайтесь и не расписывайте успехи китайцев.
Когда разведка напрямую стала подчиняться президенту, ушло промежуточное звено, которое припаривало информацию. И Примаков использовал эту возможность. Он для себя решил так:
— Я иду и говорю так, как есть. И пусть власть привыкает к правде. А дальше дело президента — он может принять информацию разведки к сведению, а может пропустить мимо ушей. У него еще десять источников информации — на любой ориентируйся. Он вправе считать, что разведка всё неправильно говорит… Но разведка обязана сказать всё, что считает нужным.
К чести президента Ельцина, надо сказать, что он никогда не склонял Примакова к тому, чтобы тот его не слишком огорчал. Борис Ельцин не выказывал своего неудовольствия. Иначе быстро бы поступило указание из администрации: ребята, смягчайте.
Татьяна Самолис, пресс-секретарь Примакова, вспоминает, что, когда Евгений Максимович пригласил ее на работу, она поставила только одно условие. И это было даже не условие — просьба:
— Единственное, о чем я вас прошу, — чтобы вы меня не заставляли лгать. Я не знаю, что смогу сделать, как снизить отрицательный накал в отношении разведки. Но точно знаю, что лгать нельзя.
И Татьяна Самолис предложила тогда формулу Иммануила Канта, которую Примаков тут же принял: всегда надо говорить только правду, но из этого вовсе не вытекает, что надо говорить всю правду.
— Согласен, — серьезно сказал Примаков, — согласен.
Взаимоотношения с властью у Примакова в принципе всегда складывались удачно. Как выразился один из тех, кто его хорошо знал: «У Евгения Максимовича есть талант нравиться. Особенно — начальству».
Но что важно — Примаков к начальству не лез. Напротив, держался как бы в стороне. В начале 1990-х карьеры делались быстро. Влияние и сила чиновника зависели от близости к Борису Ельцину, от умения завоевать его расположение. Министры старались играть с президентом в теннис, ходить с ним в баню, ездить вместе на отдых, охотно поднимали бокалы и рассказывали анекдоты. Борис Ельцин любил открытых и веселых людей, приближал их, проводил с ними время, но так же легко с ними расставался, когда выяснялась их профнепригодность.
Евгений Примаков руководил разведкой четыре с лишним года. За это время в контрразведке сменилось пять начальников! Место Бакатина на Лубянке занял министр безопасности Виктор Баранников, который сумел войти в доверие к президенту, пользовался его полным расположением. А через год с лишним был уволен.
Ельцин отправил Баранникова в отставку после гибели российских пограничников в Таджикистате. В печати фигурировала такая формулировка: «За нарушение этических норм и утрату контроля за действиями российских погранвойск на таджикско-афганской границе».
Считается, что Ельцину принесли агентурные данные о контактах Баранникова с непримиримой оппозицией и одновременно с сомнительными бизнесменами. Его кресло Ельцин предложил Примакову. Пост министра безопасности в 1993 году был, пожалуй, ключевым. Более амбициозный и менее дальновидный человек согласился бы… Примаков отказался. И оказался прав. Николай Михайлович Голушко пробыл министром полгода — уволен раздраженным Ельциным. Сергей Вадимович Степашин тоже очень нравился Ельцину, но продержался только год с небольшим. Михаил Иванович Барсуков и вовсе принадлежал к личному кругу Ельцина, но тоже был уволен после года службы.
Примаков никогда не был близок к Ельцину и не стремился к этому. Ему не приходилось компенсировать недостаток профессионализма застольями, теннисом и совместными помывками в бане. Руководитель разведки участвовал в обсуждении важнейших государственных дел на заседаниях Совета безопасности, созданного по американскому образцу.
Ельцин хотел, чтобы Совет безопасности, а в его состав вошли высшие чиновники государства, собирались каждую вторую среду в одиннадцать часов утра. Примаков в первый раз пришел на заседание 20 мая 1992 года. Ельцин сказал:
— Давайте создадим такую обстановку, когда никто, выражая свое мнение, не опасался бы за свою безопасность.
Но потом, вспоминал Примаков, аппарат Совбеза вместо того, чтобы готовить заседания, стал дублировать другие органы управления.
Первый секретарь Совета безопасности Юрий Владимирович Скоков работал в военно-промышленном комплексе и когда-то понравился первому секретарю Московского горкома Борису Ельцину, который запомнил Скокова. Юрий Скоков пытался превратить Совет безопасности в особый орган управления, поставить его над армией и спецслужбами, а еще создать при нем оперативно-следственную группу с прокурорами, следователями, судьями.
«К концу 1992 года у него появилась одна странность в поведении, — вспоминал Ельцин. — При встречах со мной он настолько горячо, настолько часто повторял: “Борис Николаевич, вас окружают враги, я единственный, кто вам предан”, что это вызывало разные мысли: может, у него мания преследования?»
Иностранцы считали российский Совет безопасности новым политбюро, которое стоит выше правительства и втайне принимает ключевые решения. Или просто называли Совет безопасности тайным правительством, которое принимает все основные решения.
На самом деле существовали как бы два Совета безопасности. Один — это учреждение, входящее в администрацию президента. Другой — просто собрание высших должностных лиц государства, которые нашли удобное название для своих заседаний по секретным делам.
Когда Борису Ельцину надо было обсудить какое-то сложное и опасное дело (скажем, военную операцию в Чечне), он собирал ключевых министров, и это называлось заседанием Совета безопасности. Но к работе самого Совета безопасности такое закрытое совещание обычно никакого отношения не имело.
Аппарат Совета безопасности разместился в одном из бывших зданий ЦК КПСС, ему отдали помещения на тех этажах, где находилась военно-промышленная комиссия ЦК. Эти комнаты, уверяют специалисты, надежно защищены от прослушивания. Любой посетитель Совета должен был миновать тройной кордон — у ворот комплекса, при входе в здание и при выходе из лифта на нужном этаже.
Скучные кабинеты сотрудников аппарата Совета безопасности обставили всё той же цековской канцелярской мебелью, на окнах всё те же белые занавески. Главное отличие состояло в том, что в кабинетах установили редкие тогда еще компьютеры, подключенные к закрытым правительственным информационным сетям. И появилась — по американскому образцу — ситуационная комната, где можно заседать в случае кризиса: здесь есть все виды связи. Но ничего особо таинственного в работе Совета безопасности никогда не было. По коридорам тоскливо бродили такие же люди, как и в любом госучреждении, курили в отведенных для этого местах, жаловались на низкую зарплату и жадно прислушивались к слухам.
Как аналитический центр, способный облегчить президенту принятие ключевых решений, Совет безопасности никак себя не проявил. Возможно, в силу ограниченности интеллектуальных ресурсов. Аппарат постоянно перестраивался и реорганизовывался. Сотрудники аппарата были заняты исключительно устройством личных дел и с испугом или безразличием ожидали очередного приказа о выводе всех за штат.
Начальник разведки живет на краю города — в Ясеневе. А большая жизнь кипит в Кремле, на Старой площади, в Белом доме. Почему же Примаков не стремился участвовать в большой политике?
— Он уходил от этого, — рассказывали мне в разведке. — Времена были сложные. Накануне событий осени 1993 года его за фалды тянули в разные стороны. Всем хотелось заполучить его в свой лагерь. А он считал своей задачей ни в коем случае не позволить втянуть разведку во внутриполитические дела. Задача разведки — собирать информацию вне России о том, что там происходит, что нам несет внешний мир, к чему нам себя готовить.
Сам Примаков говорил мне:
— Когда я пришел на работу в разведку, как раз произошло отделение разведки от КГБ. Это отделение было безусловно необходимо, потому что разведка не может быть частью правоохранительного органа. Более того, внешняя разведка, как и Министерство иностранных дел, не должна участвовать во внутриполитической жизни. Ни в коем случае! Разведка служит интересам всего государства. Разведка — это система раннего предупреждения, страховой полис, способный застраховать государство от возможных неожиданностей.
Но если разведка начнет участвовать во внутриполитических схватках, говорили в окружении Примакова, ей конец придет! Опять людей начнут раздирать — этот с Хасбулатовым, тот — с Руцким. Это было бы невозможно, и Примаков убегал от такой опасности. Вызывают на доклад к президенту? Съездил — и назад. Нужно к премьер-министру? Ответил на все вопросы и сразу вернулся.
— У Примакова не было желания участвовать во внутриполитических делах, но война в Чечне или события октября 1993 года — разве ему это всё было безразлично? — спрашивал я его недавних сослуживцев по разведке.
— У него были возможности выразить свою точку зрения, когда спрашивали его мнение или даже когда не спрашивали. Разведка тогда отрицательно относилась к вводу войск в Чечню и, естественно, об этом докладывала. Примаков свою позицию высказал, но опять же исходил из того, что политическое руководство вправе считать, что разведка ошибается.
Что касается событий 1993 года, то для себя он точно знал, кому он подчиняется, — какой там Руцкой! Тут всё было абсолютно ясно. Может, ему в душе хотелось, чтобы президентом был бы какой-нибудь Иван Петрович, но есть избранный народом президент — и он будет работать с ним. И ни в каких интригах, ни в каких кознях он участвовать не станет. В этом можно быть уверенным на сто один процент.
Осенью 1993 года Примаков приказал усилить охрану территории, а офицерам не выходить в город с табельным оружием.
Евгений Максимович вспоминал:
«СВР была единственной спецслужбой, куда Ельцин во время разворота событий ни разу не позвонил. Накануне событий, как известно, президент подписал Указ № 1400 о роспуске парламента. Я узнал об этом за несколько часов до запланированной заранее встречи близкого круга друзей в клинике Владимира Ивановича Бураковского. Ехал к нему по Ленинскому проспекту, когда в машину позвонил Ельцин. Состоялся такой разговор.
— Как вы относитесь к моему указу? — спросил президент.
— Мне кажется, что он не до конца продуман.
— Я ожидал другого ответа от директора Службы внешней разведки.
— Я сказал вам так, как думаю. Было бы гораздо хуже, если бы руководитель Службы внешней разведки говорил неправду своему президенту. Но мое отношение к указу — это мое личное отношение. И я уверен, что вы не заподозрите СВР в антипрезидентских настроениях.
Ельцин положил трубку и больше ни разу не возвращался к этому телефонному разговору».
Самое любопытное состоит в том, что этот эпизод не повлиял на отношение Ельцина к Примакову. Руководитель разведки фактически отказал президенту в поддержке и сохранил свой пост. Немногие президенты способны пережить такое спокойно и не сменить начальника разведки.
Находил ли Примаков взаимопонимание со своими подчиненными?
Большая часть аппарата разведки, условно говоря, состоит из консерваторов. Либералов меньшинство. Эти люди осторожны в высказывании своих политических взглядов, потому что единомышленников у них здесь немного. Остальные разведчики в той или иной степени недовольны происходящим в стране еще с горбачевских времен. Причем это свойственно не только ветеранам. И молодые люди со значением говорят:
— Подождите, еще всё вернется, как было.
Во-первых, консерватизм разведки естествен — это всё-таки военизированная среда, хотя абсолютное большинство надевает форму раз в несколько лет только для того, чтобы сфотографироваться на новое удостоверение.
Во-вторых, разведчики многое потеряли в результате перемен в стране. Они утратили привилегированное положение, которое в советские времена гарантировало выезд за границу и почтительное отношение окружающих.
В-третьих, даже очень разумные люди, давно разочаровавшиеся в советской системе, отвергают сближение с Западом и требуют национально ориентированной политики, как они ее понимают. Они всё равно не любят американцев. Для них партнерство с Западом и либеральные реформы в экономике в лучшем случае глупость, в худшем — сознательное стремление разрушить страну. Они никогда не поверят, что Запад способен быть союзником России и искренне желать ей добра.
Влияют ли настроения аппарата разведки на ту информацию и оценки, которые служба дает президенту? Правы ли те, кто считают, что специальные службы рисуют окружающий мир в искаженном свете и утверждают, будто страна со всех сторон окружена врагами?
Разведчики, с которыми я разговаривал, убеждали меня в том, что достоверность разведывательной информации гарантируется многоступенчатой системой ее проверки. Любое сообщение резидентуры будет проверено в Центре, сопоставлено с информацией из других источников. Разведка не может позволить себе опозориться, представив президенту ложные данные.
Но никто и не говорит о сознательном искажении фактов. Речь идет о их подборе, оценке и интерпретации. Почему акценты в своих прогнозах и оценках разведка ставит подчас иначе, чем дипломаты или ученые? Возможно, дело в том, что даже в мирное время, даже после окончания холодной войны разведчики всё равно ощущают себя так, словно они находятся на поле боя. Не повлияла ли в этом смысле атмосфера разведки на самого Примакова? Не изменился ли сам Евгений Максимович, спрашивал я его близких друзей.
Они были единодушны:
— Не он изменился, а при нем многое в разведке изменилось… Единственное, что в нем самом изменилось, — это то, что о работе у него, как говорится, клещами ничего нельзя было вытащить. Под пытками бы не рассказал. Ну, мы тоже понимали, не спрашивали у него то, что спрашивать нельзя.
Считается, что сам Примаков был настроен антиамерикански. И что эти настроения в нем усилились за годы работы в разведке…
Хорошо помню настроения 1992 года — прошло примерно полгода после назначения Евгения Примакова на пост начальника разведки. Знакомые мне разведчики, молодые еще ребята, в приватных беседах жаловались на свою беззащитность: американцы наконец нашли возможность рассчитаться с ними за всё.
Сотрудники Службы внешней разведки говорили, что к известным всем бедам — катастрофическая нехватка свободно конвертируемой валюты, необходимость сильно сократить центральный аппарат и состав резидентур по всему миру, отказаться от прежних прикрытий — добавилась новая: американцы требуют от Москвы прекращения всякой тайной деятельности против Соединенных Штатов.
В Италии и в Бельгии тогда были арестованы российские агенты, занимавшиеся промышленным шпионажем. А на самом деле, оправдывались наши разведчики, промышленным шпионажем занимаются решительно все страны.
— Эти упреки не что иное, как пропагандистская кампания, цель которой — вывести нашу разведку из игры. Провалы американцы раздули для того, чтобы прижать администрацию Ельцина к стенке: как же вы можете красть промышленные секреты и вербовать агентов в странах, которые сейчас бескорыстно помогают России?
Жалобы российских разведчиков производили тогда сильное впечатление. Если Министерство безопасности (затем переименованное в Федеральную службу контрразведки, а затем в Федеральную службу безопасности) как наследник КГБ не пользовалось особыми симпатиями, то к разведке всегда относились нейтрально или даже положительно.
Даже в такое революционное время, каким был переходный период от Советского Союза к самостоятельной России, общество в целом согласилось с тем, что государство не может обойтись без разведывательной службы. Хотя и самый невинный вид шпионажа — охота за промышленными и технологическими секретами — малопочтенное ремесло. Пока не пойман — разведчик, а уж если пойман — вор.
Воровать свои секреты американцы не позволяют ни французам, ни немцам. Разоблачение в Соединенных Штатах израильского шпиона породило взрыв негодования против ближайшего союзника. Стоило ли удивляться, что готовность помогать России не означала выдачу индульгенции на промышленный шпионаж?
В советские времена во всех резидентурах была линия ГП — работа против главного противника, то есть против американцев. Сидит наш разведчик, например, в Румынии, а занимается на самом деле американцами, то есть старается завербовать кого-то из сотрудников американского посольства или корреспондентов.
При Примакове понятие «главный противник» исчезло. В ходу другой термин — работа с гражданами приоритетных стран. Изменились и критерии работы. Раньше с удовольствием вербовали любого американца — хоть повара в посольстве, хоть горничную военного атташе, если они сами ничего рассказать не могут, то хотя бы аппаратуру подслушивания заложат. На предложение завербовать такого человека Примаков обыкновенно отвечал резидентуре отказом.
На всех совещаниях и на встречах с резидентами в ведущих странах Евгений Максимович повторял:
— Нужны агенты, имеющие доступ к государственной тайне, то есть серьезные люди.
И он сам старался заниматься серьезными делами.
Тридцатого июля 1993 года Примаков прилетел в Кабул. Афганистан как государство развалился.
Правительство Наджибуллы продержалось три года, пока хватало ресурсов, оставленных Москвой. Эти запасы позволяли поддерживать приличный уровень жизни в городах. Когда ресурсы закончились, положение Наджибуллы стало безвыходным. Некоторое время его еще спасало то, что местные вожди маневрировали и не хотели нового сильного правительства. Наконец, они сговорились, и 25 апреля 1992 года моджахеды без крови вошли в город.
Падение правительства Наджибуллы означало формальное окончание джихада. Началось возвращение беженцев из Пакистана и в меньшей степени из Ирана. Но тихое время продолжалось недолго. Оставшись без внешнего врага, лидеры моджахедов начали выяснять отношения между собой — прямо в городе строились баррикады и велись бои. Президенту страны Бурхануддину Раббани и министру обороны Ахмад Шах Масуду противостоял премьер-министр Гульбуддин Хекматиар.
Убивали они друг друга так ожесточенно, что кабульцы бежали из города. Лидеры моджахедов обстреливали столицу ракетами. Такого ужаса еще не было. Сельская местность превратилась в поле боя между местными вождями и просто бандитами. В стране воцарились хаос и бандитизм.
Примаков беседовал с президентом Раббани, который был профессором теологии, пока не поднял зеленое знамя джихада, и хотел встретиться с премьер-министром Хекматиаром, который обстреливал Кабул. Но Раббани воспротивился.
Примаков вел долгий разговор и с Ахмад Шах Масудом, позиция которого имела большое значение для урегулирования в Таджикистане, где шла нескончаемая гражданская война.
На севере Афганистана обитают туркмены, таджики и узбеки. Они создали Северный альянс. Вождем Северного альянса был Ахмад Шах Масуд. Когда советские войска вошли в Афганистан, он возглавил борьбу против них в Пандшерской долине. Это место с неплодородной землей и суровым климатом. Советские войска много раз пытались уничтожить Масуда, но безуспешно.
От Масуда Примаков требовал перестать вмешиваться в войну в Таджикистане. Пригрозил ему. Из Афганистана глава российской разведки полетел в Иран. Встречался с президентом Али Акбаром Хашеми Рафсанжани, коротко стриженным человеком с седоватым чубом, который выбивается из-под чалмы, и министром иностранных дел Али Акбаром Велаяти, хитроватым человеком с жесткой полуулыбкой. В 1995 году Примаков еще раз прилетит в Иран.
Журналисты писали в те годы, что Примаков наладил сотрудничество со спецслужбами Ирана. Как утверждают специалисты, иранским разведчикам была обещана новая спецтехника, включая аппаратуру подслушивания, и помощь в обучении современным методам работы. Разведки России и Ирана подписали соглашение о взаимопонимании. Служба внешней разведки организовала шестимесячные курсы для иранских коллег в Москве. Взамен Иран как будто бы посулил освободить членов промосковской партии Туде, которые сидят в тюрьме несколько лет, и даже отправить их в Москву, если они того пожелают. Тегеран также обещал не вмешиваться в дела бывших советских республик и не влезать в чеченскую войну..
Примаков, работая в разведке, сделал ряд точных назначений, высмотрев в большом коллективе нужных людей. Евгений Максимович — не волк-одиночка, который считает, что способен всё сделать сам. В любом месте, куда он приходил, он собирал себе команду. С собой он приводил минимум людей. Остальных выдвигал на месте, потому что лучше тех людей, которые здесь работают годами и являются профессионалами, быть не может.
Он вовсе не считал, что ведомство, куда он пришел, находится в тяжелом состоянии и что там сидят глупые, ленивые и никчемные работники. Примаков исходил из того, что все нужные люди уже здесь работают, нужно просто посмотреть, на кого опереться. Он подбирал на руководящие посты таких людей, что сам испытывал удовольствие от возможности с ними посидеть, поговорить — когда те приходили на доклад. Примаков наслаждался беседами с людьми, которые демонстрировали полнейшее знание предмета, ясную логику рассуждений.
— Он своих работников окучивал, растил, — рассказывала мне Татьяна Самолис. — Старается, чтобы в коллективе была хорошая рабочая атмосфера, обстановка единой команды. Если, не дай бог, кто-то о ком-то что-то резкое сказал, он все острые углы сглаживал. И он не просто назначил — и давай трудись! Он всех своих питомцев пестовал. Идет обедать, все заместители вместе с ним. Сели за стол, продолжают что-то обсуждать. После обеда вышли погулять, продолжают говорить.
И вместе с тем Татьяна Самолис вдруг сказала мне с сомнением в голосе:
— Если бы вы меня спросили — а добавился ли к его списку друзей кто-то из разведки? — я бы сразу и не ответила… У него в разведке были люди, к которым он не просто питал слабость, он их обожал. Евгений Максимович человек команды, будет ее формировать, без нее он просто слепой. Но не против кого-то. И не в бане, понимаете? Но сказать, что какие-то люди из разведки стали у него домашними гостями, с кем-то он дружил семьями?.. Может быть, я чего-то не знаю, но мне кажется, что он какие-то человеческие приобретения для себя здесь сделал, кого-то к сердцу приблизил, но друзья у него были одни и те же всю жизнь.
Общение между руководителями разведки продолжалось и после рабочего дня, в воскресные и праздничные дни. Примаков и его заместители были соседями, жили в дачном поселке Службы внешней разведки в соседних домиках.
Дачный поселок входит в единый комплекс Службы внешней разведки в Ясеневе. Это хорошо охраняемое, малолюдное, невидное и комфортное место. Говорят, что поселок строился в чисто служебных целях — в качестве гостевых домиков для приема руководителей братских разведок. Но поселок оказался таким симпатичным, что Крючков обосновался там сам и поселил своих заместителей и начальников важнейших направлений. Там всё есть — газ, вода, отопление, канализация, казенная мебель. Когда Крючков освободил свою дачу, Примаков не захотел в нее переезжать — это был большой дом на немалую семью. Евгений Максимович в тот момент был один (еще не женился во второй раз) и сказал:
— Ну зачем мне такая большая дача? Отдайте тому, у кого семья большая.
И занял другой, вовсе не директорский домик. Это как бы не соответствовало высокому положению начальника разведки, но его нисколько не смущало. Чисто, уютно, удобно — и этого достаточно. Он не ставил перед хозяйственниками задачу — привезите мне какую-нибудь мебель особенную, чтобы поприличнее выглядеть.
Одно из преимуществ поселка: там стоят мощные спутниковые антенны и можно смотреть любой телевизионный канал, не только российский. Но Примаков не большой был любитель сидеть, уткнувшись носом в голубой экран. Разве что перед футболом не мог устоять.
Покинув разведку в начале 1996 года, Примаков в определенном смысле остался в разведке. И после назначения министром иностранных дел продолжал жить в Ясеневе. Выехал оттуда уже тогда, когда стал премьер-министром. Дачная жизнь в Ясеневе, кроме всего прочего, оставляла Примакову — министру иностранных дел — возможность работать в тесном контакте с разведкой. Примаков рассказывал:
— Мы неофициально собираемся — несколько человек, представители разных ведомств, занимающиеся внешней политикой, — и обсуждаем актуальные проблемы. Это необходимо. Так делается во всём мире.
Я спросил тогда у Примакова: помогают ли ему, как министру иностранных дел, материалы разведки? Он ответил серьезно:
— Очень помогают. Те материалы, которые я получаю как министр, важны и необходимы.
Я не удержался от другого вопроса:
— Работа в разведке дала вам уникальную возможность узнать даже самые интимные подробности жизни ваших коллег-министров. Теперь, глядя во время переговоров на какого-нибудь министра, вы, наверное, думаете: а я ведь знаю, сколько у тебя любовниц?..
Примаков рассмеялся:
— Конечно, руководитель разведки обладает знаниями, которые может потом использовать и на другом посту. Это ясно. Но в то же время для меня это невозможно: надавить на партнера — я о тебе кое-что знаю, поэтому сделай то-то и то-то! Я такими делами не занимаюсь!
Преемником Примакова стал генерал Трубников, который у Евгения Максимовича был первым замом. Вячеслав Иванович Трубников говорит ясно, четко, уверенно. По отзывам коллег, он так же хорошо пишет и формулирует свои мысли. Прекрасно знает английский. У него аккуратный пробор, очки с большими стеклами. Он почти не улыбается и осторожен в выражениях — еще осторожнее, чем Евгений Примаков. И сейчас даже трудно представить себе, что Трубников немалую часть жизни пользовался журналистским прикрытием — то есть в заграничных командировках выдавал себя за журналиста.
Вячеслав Трубников профессиональный индолог, и вся его работа в разведке связана с этой страной. Он изучал хинди в МГИМО, после института его пригласили в КГБ и послали получать специальную подготовку в разведывательную школу № 101, которая много раз меняла свое название, превратившись затем в Краснознаменный институт имени Ю. В. Андропова, а теперь в академию. Первая же заграничная командировка — в Индию.
Дипломат, внешторговец или журналист вряд ли счел бы это большой удачей — ни с карьерной, ни с материальной точки зрения. Советские люди, приезжая в Индию с ее тяжелым климатом, быстро разочаровывались: «страна друзей», любимая Кремлем, пренебрежительно относится ко всем иностранцам. Это в Африке наши чувствуют себя белыми людьми, а индийцы на бытовом уровне ведут себя страшно бесцеремонно.
Но для начинающего разведчика это была необыкновенно выигрышная точка. Индия — это место, где можно было развернуться и показать себя. Нигде советская разведка не позволяла себе такие масштабные операции, как в Индии. И нигде не было такой благоприятной среды. Работу облегчало наличие большого слоя борцов за независимость Индии, которые ненавидели Англию и Соединенные Штаты, не принимали западную культуру и потому демонстрировали готовность к сотрудничеству с советскими людьми. Индия была единственным крупным государством, которое не осудило ввод советских войск в Афганистан.
Работавшие в Индии разведчики наслаждались не только преимуществами буржуазной демократии, что позволяло свободно встречаться с людьми и получать доступ к информации, но и извлекали большую пользу из распространенной в стране коррупции.
Злые языки даже утверждают, что успехи наших разведчиков в Индии объясняются не столько мастерством разведки, сколько слабостью индийской рупии.
Поработавшие в Индии разведчики — это люди, которые могут похвастаться реальными успехами и в вербовке, и в активных мероприятиях. Здесь удавалось вербовать не только индийцев, но и американцев. Здесь проще, чем в других странах, можно было запустить в прессу нужную информацию (то есть обычно дезинформацию), издать антиамериканскую книжку от имени индийского автора и даже провести массовое мероприятие — митинг протеста против американского империализма или организовать торжественную встречу генерального секретаря ЦК КПСС, когда он приезжал в Индию.
Те разведчики, которые, как Трубников, прошли через индийскую резидентуру, уверены в себе. Они не испытывают комплексов, свойственных некоторым работникам североамериканских и западноевропейских резидентур, где нелюбовь к ГП, главному противнику, то есть к Соединенным Штатам, порождена еще и скрытым комплексом неполноценности: трудно бороться с богатым и удачливым соперником.
Когда разведчика переводят на линию ПР — политическая разведка, то главной становится способность к политическому анализу, умение прогнозировать, осмыслять информацию. В принципе уже никого не интересует, как он провел вербовку или встречу с агентом. Но знатоки утверждают, что у Трубникова — редкий случай — были хорошие показатели и в аналитической, и в оперативной работе.
Трубников, как говорят ветераны, особенно преуспел в работе на посту резидента в Бангладеш, где занимался не местными делами, которые мало кого интересуют, а работал против западных разведчиков и достиг успеха.
Но награда не всегда находит героя. Попытки ввести в разведке объективные критерии оценки работы не удались. Как и в любой другой структуре, здесь есть большой балласт — люди случайные, неумелые или попавшие на работу по протекции. Они строят карьеру на личных отношениях, а не на реальных достижениях.
Вячеславу Трубникову, как считают ветераны, повезло. Его приметили два главных руководителя индийского направления. Один из них достаточно хорошо известен широкой публике, другого знают только профессионалы. Эти двое — покойный генерал Яков Медяник, уважаемый в разведке человек, который был резидентом в Индии, и генерал Леонид Шебаршин, последний начальник советской разведки.
Москва располагала в Индии настолько большим разведывательным аппаратом, что его подразделениям в различных городах придали самостоятельность. Резидентура в Дели получила статус головной (как, скажем, вашингтонская резидентура в Соединенных Штатах). Ее руководители отвечали за работу всего аппарата КГБ на территории Индии. Они получали генеральские звания — редкость в те времена. Руководители трех важнейших направлений — политическая разведка, внешняя контрразведка и научно-техническая разведка — тоже имели высокий статус.
Кроме того, существовали самостоятельные резидентуры в Бомбее (ныне Мумбай), Калькутте и Мадрасе — под прикрытием советских генеральных консульств. Каждую возглавлял резидент, имевший прямую шифросвязь с Москвой. Делийский резидент координировал их работу.
В 1970 году главным резидентом стал Яков Прокофьевич Медяник. Начинавший еще в пограничных войсках, он прослужил в разведке до семидесяти лет. Он дважды работал в резидентуре в Израиле, возглавлял резидентуру в Афганистане, ближневосточный отдел Первого главного управления КГБ. Долгие годы он был заместителем начальника разведки по Ближнему Востоку и Африке.
По словам генерала Кирпиченко, Яков Медяник обладал даром общения, мог договориться с кем угодно и при этом шутил:
— Я ведь хохол, значит, человек хитрый и всё равно вас обману.
Медяник вместе с генералом Вадимом Кирпиченко и начальником нелегальной разведки Юрием Дроздовым постоянно занимались Афганистаном. Кроме того, Медяник ведал в разведке ближневосточными делами.
Сын Медяника Александр Яковлевич, китаист по образованию, со временем сам стал заместителем директора Службы внешней разведки — образовалась своего рода династия… Но после ухода Трубникова из разведки Медяника-младшего убрали. В августе 2000 года его назначили первым заместителем министра по делам Федерации, национальной и миграционной политики. Это было настолько неожиданное служебное перемещение, что его начальнику, министру, самому пришлось объясняться с журналистами:
— У Александра Медяника мобильный подход к делам, и это меня устраивает. Он новый человек, а я считаю, что не стоит всё время перебирать старую колоду. А в миграции нет ничего непостижимого для умного и опытного человека. Я сам за два месяца смог войти в курс дела.
Но Медяник-младший не продержался в министерстве и двух месяцев. Говорят, что он тяжело переживал превратности судьбы и не справился со своими эмоциями. Впрочем, и само министерство на следующий год упразднили… Но всё это произойдет в наши дни. А тогда Медяник-старший, получив генеральские погоны и назначение в Москву, позаботился о том, чтобы его место резидента в Индии занял Шебаршин, а тот, в свою очередь, сделал своим заместителем Трубникова.
Говорят, что если бы не Медяник и Шебаршин, то Трубников мог так и остаться на среднем уровне. Мало ли блистательных разведчиков вышли на пенсию всего лишь полковниками!.. Трубникова рано приметили и в секретариате Крючкова, обратили на него внимание самого начальника разведки.
В руководстве Первого главного управления традиционно складывались своего рода землячества — объединялись разведчики, которые долго работали на одном направлении. Объединяли их не только служебные, но и дружеские отношения. Они охотно проводили вместе свободное время, и за дружеским застольем часто решались кадровые вопросы — по взаимной договоренности продвигались «свои» люди. Такие землячества в первом главке именовались «мафиями». Существовали «американская», «скандинавская», «индийская» мафии…
Крючков к любым попыткам своих подчиненных группироваться относился подозрительно, методично разрушал систему неформальных отношений, но «индийская мафия», как говорили в разведке, была очень влиятельной. К ней принадлежал еще один заместитель начальника разведки — генерал Вячеслав Гургенов. Тот самый, который первым поддержал Примакова в присутствии президента Ельцина. Гургенов рано умер — в 1994 году. Примаков хотел отправить его резидентом в Англию, дать возможность поработать и на западном направлении, да и пожить в хорошей стране, но англичане этому воспротивились.
Леонид Шебаршин, возглавив разведку, сделал еще одно доброе дело для Трубникова: понимая, что индийское направление не самое важное в разведке, назначил его начальником Первого, то есть американского отдела. Это назначение оказалось решающим в карьере Трубникова, когда Шебаршин вскоре после путча ушел и пришел академик Примаков.
Первым заместителем начальника разведки был назначенный Бакатиным полковник Владимир Михайлович Рожков. Это кадровое решение, собственно, и стало причиной ухода Шебаршина из Ясенева. «Мне полковник Владимир Михайлович Рожков сразу понравился», — писал Примаков. Евгений Максимович переместил его в простые заместители, а первым замом назначил Трубникова — прямо с должности начальника отдела, минуя промежуточные ступени должностной лестницы. Трубников быстро прошел путь от генерал-майора до генерала армии. Трубникова один из офицеров, который учился с ним на курсах переподготовки руководящего состава разведки, назвал человеком-компьютером:
— Он мгновенно соображает. Он кажется иногда как бы легкомысленным. На самом деле он уже всё просчитал.
Он никогда не показывает своих чувств. Как и Примакова, его постигло большое горе. Несколько лет назад его семнадцатилетний сын Ваня вышел из дома и не вернулся.
Трубников, как профессиональный разведчик, тащил на себе основной груз повседневной работы, которую приходилось перестраивать на новый лад. Тогда создавались резидентуры в странах, где их раньше не было, — прежде всего в бывших советских республиках. Примаков не просто сделал Трубникова первым заместителем, но и видел в нем своего сменщика. Если Евгений Максимович уезжал в командировку, а был день его доклада президенту, он старался, чтобы вместо него обязательно пошел на доклад Трубников. Другой бы иначе поступил — нет меня, и никто другой в Кремль не пойдет. Доступ к президенту — важнейшая аппаратная привилегия, она здорово помогает карьере.
— Примакову совершенно не было свойственно чувство зависти, — говорит Татьяна Самолис. — Он то ли умом зависть подавил, то ли вообще у него зависть к другим отсутствовала.
Татьяна Самолис вспоминает, как однажды Примаков сказал ей:
— Знаете, время такое сложное, всё так быстро меняется. Сегодня я есть, завтра меня нет. Я должен оставить вместо себя человека, которого буду рекомендовать.
Татьяна Самолис возразила:
— Да кто же вас станет слушать, Евгений Максимович? Пришлют, кого захотят, и всё. Политического назначенца, человека, кому-то там глубоко преданного.
Примаков ответил:
— Ну это уже их дело. Но у меня есть готовая кандидатура, и президент должен об этом знать. Но мой человек должен быть готов принять на себя эти обязанности, чтобы я себя потом не мог упрекнуть.
Вышло так, как и хотел Примаков. Когда он ушел в Министерство иностранных дел, то сумел добиться, чтобы президент Ельцин подписал указ о назначении Трубникова. Вячеслав Иванович был обязан своим взлетом Примакову. Став президентом, Владимир Путин из всех руководителей силовых ведомств сменил только одного генерала — в своем бывшем ведомстве, в Службе внешней разведки.
В мае 2000 года Путин назначил нового директора Службы внешней разведки, а Трубникова перевел в Министерство иностранных дел. Для него в МИДе ввели еще одну должность первого заместителя министра. Трубникову поручили заниматься вопросами объединения с Белоруссией и всем комплексом отношений со странами СНГ. Особым указом Вячеслав Иванович был назначен специальным представителем президента в ранге федерального министра. Этот высокий статус был компенсацией за увольнение из разведки — ведь личных претензий к нему не было, и убрали его из Ясенева вовсе не потому, что он плохо работал. Путин, как и Брежнев, когда заменяет «чужих» людей «своими», старается без нужды никого не обижать, руководствуясь принципом: живи и давай жить другим. С поста первого заместителя министра Трубников уехал послом в Индию, где когда-то начинал свою карьеру в разведке…
Я спрашивал товарищей и коллег Примакова по разведке:
— В редкую минуту душевной расслабленности, когда Примаков был склонен говорить о себе, — как бы он хотел, чтобы его вспоминали в разведке?
— Он очень дорожил тем, что сумел сохранить разведку. И это ему прямо говорили. В глаза.
Евгений Максимович надеялся остаться в разведке до пенсии. Не получилось.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ МИНИСТР
Пятого января 1996 года директора Службы внешней разведки Евгения Примакова вызвал к себе президент Борис Ельцин — не на обычный доклад. Без бумаг и справок. Примакова не предупредили, о чем пойдет речь. Но догадаться было несложно.
Звезда Андрея Владимировича Козырева, который был первым ельцинским министром иностранных дел, закатилась. Когда Примаков вошел в кабинет, Борис Николаевич сразу сказал ему:
— Есть идея назначить вас министром иностранных дел. Как вы на это смотрите?
У Евгения Максимовича были личные причины отказаться от этого назначения. Ему нравилась работа в разведке. Служба внешней разведки по степени политического влияния почти сравнилась с Министерством иностранных дел, а необходимая на посту министра публичность только смущала Примакова.
Но он заговорил и о другом. До президентских выборов оставалось меньше шести месяцев, все мысли Ельцина были поглощены выборами, и Примаков сказал:
— Борис Николаевич, мне кажется, вам не стоит этого делать. В предвыборной ситуации такое назначение не оправданно по многим причинам. На Западе меня считают другом Саддама Хусейна, аппаратчиком старой школы, консерватором, руководителем спецслужбы и так далее.
Ельцин выслушал его внимательно и ответил:
— Мне кажется, что минусы, о которых вы говорите, могут обернуться плюсом. Вы меня не переубедили, но, если хотите, будем считать, что вопрос остается открытым.
Американский президент Джордж Буш-старший был в свое время директором ЦРУ, а министр иностранных дел Германии Клаус Кинкель — главой немецкой разведки. Так что в самом переходе из разведки в дипломатию не было бы ничего необычного.
Девятого января 1996 года директор Службы внешней разведки прибыл к президенту с обычным докладом о ситуации в мире. Ельцин хитро посмотрел на Примакова:
— Ну как? Перерешили?
Примаков с металлом в голосе (как он мне сам говорил) попытался отказаться еще раз:
— Нет, я своего мнения не изменил.
Ельцин махнул рукой:
— И я не изменил. Прошу вас согласиться, это нужно России. Примаков попросил разрешения остаться в разведке еще несколько месяцев, чтобы спокойно завершить начатые в Службе внешней разведки дела. Ельцин кивнул, но заботы разведки его в тот день не интересовали.
Примаков вернулся к себе в Ясенево и сел работать. Открыв дверь, в кабинет мягко вошел секретарь. В разведке — так повелось со времен КГБ — секретарями работают мужчины. Секретарь сказал:
— Извините, Евгений Максимович, в телевизионных новостях только что передали, что вы назначены министром иностранных дел Российской Федерации.
Так Примаков стал министром.
На следующей день, 10 января, всю коллегию Министерства иностранных дел пригласили в Кремль. Ельцин представил нового министра:
— Он в особых рекомендациях не нуждается. Его хорошо знают как у нас в России, так и за рубежом, и в международных делах он не новичок.
Ельцин сказал, что было несколько кандидатур:
— Необходимо было найти человека, который сочетал бы в себе опыт государственной работы, профессионализм, умение вести организационную работу, широту взглядов, личную честность и порядочность.
В этот первый день на новой должности у только что назначенного министра было множество хлопот. Но Примаков никогда не нарушал своих обещаний. Взяв с собой Трубникова, судьба которого тоже была решена — он станет новым директором СВР, — он отправился ужинать с бывшим начальником разведки ГДР Маркусом Вольфом и его женой. Это была их первая встреча. Для Вольфа, которого в единой Германии пытались посадить, она имела большое значение. И Примаков это понимал.
Через день, 12 января, новый министр устроил первую пресс-конференцию:
— Свое назначение я рассматриваю лишь с одной позиции — как необходимость усиления активности МИДа по защите национальных государственных интересов России.
Для широкой публики и для всего мира назначение Примакова было неожиданным. Борис Ельцин сознательно выбрал полного антипода Андрея Козырева, который еще недавно считался самым верным его министром, ради президента бросал друзей и сторонников, менял политику и служил мишенью для всеобщей критики…
Андрей Владимирович Козырев стал министром иностранных дел России в 1990 году, когда еще существовал Советский Союз. МИД РСФСР располагался в небольшом особняке на проспекте Мира, занимался оформлением виз и приемом второстепенных делегаций. Председатель Верховного Совета России Борис Ельцин, возможно, только подписав указ о назначении Козырева и узнал, что у него есть собственное Министерство иностранных дел.
Козырева поначалу никто не воспринимал всерьез. Но он проявил инициативу. Он не только готовил зарубежные визиты Бориса Ельцина, но и боролся против существовавшей тогда на Западе «горбимании» — уверенности в том, что в Москве можно и нужно разговаривать только с Горбачевым. Козырев доказывал, что Западу пора иметь дело с Ельциным.
В декабре 1991 года Ельцин взял Козырева с собой в Беловежскую Пущу — вместе с Шахраем, Гайдаром и Бурбулисом — сочинять принципы переустройства политического пространства бывшего СССР. А на следующий день после распада Советского Союза Андрей Владимирович проснулся министром иностранных дел великой державы, у которой еще не было внешней политики. И не очень ясно было, какой она должна быть.
Молодой Козырев легко вписался в «команду мальчиков» Егора Тимуровича Гайдара, возглавившего правительство реформаторов. «Мальчики» понимали, что они чужие в муравейнике власти, и старались держаться вместе. Козырев вступил в коалицию с политиками, которые на первом этапе реформ были особенно близки к президенту, — государственным секретарем (существовала такая должность) Геннадием Бурбулисом, который был правой рукой Ельцина, и всесильным вице-премьером Михаилом Полтораниным (он был редактором «Московской правды», когда Ельцин руководил столичным горкомом).
Отец экономической реформы Егор Гайдар и творец новой российской внешней политики Андрей Козырев стали для мира олицетворением происходящих в стране перемен. Казалось, что их уход из правительства невозможен. Но большую часть «мальчиков» во главе с самим Гайдаром быстро вытеснили из политики. Андрей Козырев держался дольше всех. Его постоянно недооценивали и ошибались. Этот молодой человек никогда не считался сильной самостоятельной фигурой, каким был, скажем, Эдуард Шеварднадзе, — слишком юн и слаб, к тому же никакого политического опыта…
Российский дипломат номер один вступил в политику, когда в 1992 году внезапно заявил, что в России возможен новый путч, что специальные службы (разведка, военная разведка и контрразведка) дезинформируют президента Бориса Ельцина.
Это заявление произвело сильное впечатление на российское общество еще и потому, что от министра иностранных дел такой смелости никто не ожидал. Скорее всего, он и сам от себя этого не ожидал. Но нисколько не испугался, а, напротив, почувствовал вкус к большой политике, понимая, что это увеличивает его вес во внутрикремлевских интригах.
Когда в первый раз поползли слухи о его отставке, аккуратный, осторожный Козырев стал откровенно высказываться по внутриполитическим проблемам и сразу занял заметное место на радикальном фланге ельцинского лагеря. Но радикальные демократы были вытеснены из политической игры, и Козырев отошел от этих политиков. На выборах 1993 года Андрей Козырев выставил свою кандидатуру в Мурманске, победил соперников, получил мандат депутата Государственной думы и чувствовал себя очень уверенно, хотя на заседания Думы не ходил.
Похожий на плюшевого медвежонка молодой человек с манерами круглого отличника, карьерный дипломат, избегающий конфликтов, Андрей Козырев на самом деле обладал твердым характером, мог и умел быть очень жестким.
Козырев летал в районы боевых действий — в Боснию, Нагорный Карабах, Афганистан, демонстрируя личную смелость. Он был лишен и кабинетной трусости, свойственной аппаратным чиновникам, не решающимся в нужный момент сказать «нет». Он не говорил «нет» только одному человеку — президенту Ельцину. И Борис Николаевич до определенного момента безоговорочно доверял своему министру иностранных дел. Козыреву Борис Ельцин одному из первых осенью 1993 года поведал под большим секретом, что намерен распустить Верховный Совет.
Ельцин знал, что Козырев всегда его поддержит.
Ради президента Андрей Владимирович жертвовал всем. Например, Козырев был одним из создателей партии «Выбор России». Когда «Выбор России» осудил военную операцию в Чечне, Козырев распрощался с партийными товарищами.
Воспитанный в духе традиционной дипломатии, Козырев никогда не забывал повторять, что он лишь исполняет волю президента. В действительности же он во многом самостоятельно определял политику России. Борис Ельцин дал своему министру большую свободу, чем Горбачев — Эдуарду Шеварднадзе. Горбачев с первого дня руководства страной почувствовал вкус к внешней политике, часто и охотно ездил за рубеж и вел переговоры. Такой интерес к внешним делам, особенно поначалу, у Ельцина отсутствовал.
Козырев был сторонником стратегического партнерства с Западом, особенно с Соединенными Штатами, считая, что дружба с богатыми и демократическими государствами — это лучше, чем братские объятия с бедными странами.
В одном из разговоров Козырев сказал мне:
— Западные демократии — естественные партнеры и союзники России. Я никогда не отказывался от этой идеи и умру с ней.
На первых порах это почти всем нравилось. В 1991 году практически не было антиамериканских настроений, страна надеялась на теснейшее сотрудничество с Соединенными Штатами.
Потом появились разочарование, сомнения и подозрения: почему они с нами так обращаются? Почему много обещают, но мало чем реально помогают? И вообще, Запад навязывает нам такой экономический курс, который привел нас к упадку.
Козырева стали обвинять в том, что в результате его политики Россия растеряла союзников и лишилась способности влиять на положение дел в мире. Россия перестала внушать страх окружающему миру, но многим казалось, что это означает утрату статуса великой державы. На Козырева ополчились те, кто считал, что опасность для России представляют Запад, Соединенные Штаты, НАТО.
Министр стал больше думать о том, как переиграть своих политических оппонентов, выбить у них из рук обвинения в «проамериканизме», «западничестве». Козырев попытался изменить свою линию. Улыбчивого министра-западника сменил жесткий и хмурый министр-государственник, который стал говорить нечто противоположное.
К чему новая линия привела лично Козырева? Оппоненты увидели в смене курса отступление, неумение стоять на своем. Для левых сил он всё равно — предатель национальных интересов. А вот симпатии тех, кто его поддерживал, Андрей Козырев утратил. В результате он оказался вовсе без союзников. Это отражало перемены в общественном сознании и еще большие перемены в настроениях правящей верхушки. В стране произошла смена вех, а министр олицетворял политику, от которой правящая элита отказывалась.
За несколько месяцев до отставки Андрей Козырев сказал мне, что он прекрасно понимает: рано или поздно ему придется уйти. Но ему хотелось, чтобы это произошло как можно позже. Вероятно, он находил для себя массу доводов в пользу решения задержаться на посту министра. Еще неизвестно, кого поставят на его место, а пока он министр, он всё же может влиять на политику в разумном направлении…
Но Козырев уже ни на что не мог влиять.
Осенью 1995 года, беседуя с телевизионными журналистами, Ельцин вдруг заявил, что Козырева надо убрать. Слова прозвучали на весь мир, но за ними ничего не последовало. Александр Владимирович оставался на своем посту. В декабре 1995 года я в последний раз беседовал с ним в его министерском кабинете на седьмом этаже высотного здания на Смоленской площади. Мы проговорили почти два часа. Я не без удивления смотрел на человека, пример которого доказывал, что есть жизнь после смерти, по крайней мере после политической смерти.
Я задал главный вопрос, ради которого и пришел:
— После того как президент Ельцин в унизительной форме заявил, что освободит вас от должности министра, почему вы сами сразу же не ушли в отставку?
Андрей Козырев был так же спокоен и уверен в себе, как и прежде:
— На следующее утро мы с президентом должны были лететь в Соединенные Штаты. Я приехал в аэропорт заранее, дождался президента и сказал: «Наверное, мне нет смысла ехать и целесообразно уйти в отставку». Но Ельцин не хотел начинать визит в Соединенные Штаты со скандала и лететь без министра иностранных дел. «Да меня просто не так поняли, — возмутился президент. — Я сейчас сам всё журналистам растолкую».
Ельцин вышел к журналистам и сказал, что вовсе не собирается увольнять Козырева. Андрею просто нужен сильный заместитель, чтобы вести дела в министерстве…
И, подозвав Козырева, Ельцин пошел к самолету. Андрей Владимирович развел руками, улыбнулся журналистам и пошел вслед за президентом.
— Разве не лучше ли было вам уйти самому? — задал я вопрос, который люди легко задают другим, но редко себе.
Он чуть заметно качнул головой:
— Я считал, что подать в отставку накануне визита президента — значит ослабить позиции государства на переговорах. Это всё равно что военным выяснять отношения во время похода в разведку. В поездке мы с президентом общались тесно и вполне дружески, однако объясниться я решил по возвращении. Но Борис Николаевич заболел, и разговор наш состоялся уже в Центральной клинической больнице. Результатом было заявление президента о том, что он поддерживает министра иностранных дел.
— То есть вы пришли к выводу, что слова президента были оговоркой, а не твердым решением вас снять?
— Я должен спокойно разобраться, что стояло за теми словами и что потом стояло за выражением поддержки мне. Это требует времени.
Он ошибался. Времени Козыреву было отпущено немного.
В декабре 1995 года его переизбрали в Государственную думу. Депутат не может быть министром. Он должен был отказаться от мандата, если бы остался министром. Козырев ждал до крайнего срока: не намекнет ли президент, что ему стоит остаться в правительстве? Не дождавшись, написал заявление о переходе в Думу.
Ельцин давно решил, что надо избавиться от министра иностранных дел, которого критикуют абсолютно все. Президент хотел сменить внешнеполитический курс, чтобы выйти из-под огня критики, но не мог найти человека, который это легко сделает. Как только человек был найден, Козырев ушел.
Примаков был на двадцать два года старше своего предшественника Андрея Козырева и старше большинства министров в кабинете Виктора Степановича Черномырдина. Но только люди несведущие причисляли Примакова к тому кругу деятелей, которые досиживают последние дни до пенсии.
На самом деле Евгения Примакова давно прочили в министры. Его фамилия несколько раз значилась в списках кандидатов, которые составлялись сначала для Горбачева, потом для Ельцина. В первый раз — в конце 1990 года, когда с поста министра неожиданно ушел Эдуард Шеварднадзе. Но Горбачева, похоже, смутили разговоры о том, что Примаков слишком связан с непопулярными ближневосточными лидерами вроде Саддама Хусейна.
Ельцин тоже далеко не сразу воспринял кандидатуру Примакова… Почему на замену Козыреву президент выбрал именно его? Во-первых, за несколько лет Ельцин присмотрелся к Примакову, оценил его ум, спокойствие, надежность, увидел, что с этим человеком можно ладить. Во-вторых, Ельцин учитывал один ключевой фактор, который был неизвестен остальным.
Пять лет Козырев и Примаков работали в одной и той же сфере. Только один был на виду, а другой в тени. Взгляды Козырева были хорошо известны. Примаков сознательно воздерживался от всякой публичности. Но Ельцин, который принимал начальника разведки каждую неделю и читал его доклады, хорошо знал, что именно Евгений Максимович думает и что предлагает.
Примерно с 1993 года мнения Козырева и Примакова стали сильно расходиться. Разведку, конечно, не стоит называть теневым министерством иностранных дел. Но в конечном счете разведка занята тем же самым: добывает сведения о ситуации в мире, оценивает происходящее и дает свои рекомендации, что и как следует делать.
Первоначально различия в оценках носили тактический характер. Разведка делала одни акценты, МИД — другие. Потом расхождения усилились, и, наконец, Козырев и Примаков по ряду ключевых проблем заняли прямо противоположные позиции.
Теперь Ельцин взял в министры политика, который давно вел полемику с Козыревым, скрытую от широкой публики, то есть предлагал иную внешнеполитическую линию.
Все поздравляли тогда Примакова, но многие недоумевали: зачем он принял министерскую должность за несколько месяцев до президентских выборов? Возможно, сейчас об этом забыли, но в феврале 1996 года шансы Ельцина на переизбрание были невысоки. Виднейшие политологи, опираясь на результаты опросов общественного мнения, почти единодушно сулили победу коммунистическому кандидату Геннадию Андреевичу Зюганову. К нему уже присматривались как к следующему президенту.
Скептики и прагматики удивлялись: зачем Примаков вышел из «леса» в такой неудачный момент? В роли начальника разведки он мог бы сохраниться и при Зюганове, а уж с поста министра иностранных дел новая власть его наверняка уберет…
Об этом на пресс-конференции спросили самого Примакова:
— Не секрет, что может возникнуть такая ситуация, что вам придется сложить полномочия министра уже в июне этого года…
— Спасибо за этот прогноз, — чуть улыбнулся Примаков. Журналисты засмеялись.
Позволю себе небольшое отступление.
Работая на телевидении, я снимал тогда цикл документальных передач о министрах иностранных дел Советского Союза и России. Серия портретов начиналась аж с Льва Давидовича Троцкого, первого наркома по иностранным делам. Программа выходила в эфир раз в неделю, в хорошее время, и привлекла зрительское внимание. Многие имена, прежде вычеркнутые из истории, малоизвестные детали дипломатических баталий и хитросплетений внешней политики оказались новостью для телезрителя. Так что руководители телекомпании радовались растущим рейтингам. Рассказав о давно ушедших министрах, приблизились к еще живущим.
Дипломатия в перестроечные годы радикально изменилась, и главный кабинет на седьмом этаже высотного здания на Смоленской площади занимали вполне дельные, разумные и вызывающие доверие люди. Кого-то я знал раньше, как, скажем, бывшего главного редактора «Комсомольской правды» Бориса Дмитриевича Панкина. Кого-то оценил как высокопрофессионального дипломата — например, Александра Алеександрови-ча Бессмертных. Андрей Владимирович Козырев был очень откровенен со мной, что ценят люди моей профессии.
Но принцип соблюдался неукоснительно: по делам их воздастся… Так что портреты выходили нелицеприятные. Доставалось и тем, кому я вполне симпатизировал. Долг перед зрителем важнее. На очереди был недавно назначенный министром иностранных дел Евгений Максимович Примаков. Его портрет завершал наш цикл.
Текст посвященной ему программы был уже готов. Достаточно резкий и критичный. В ту пору журналисты, анализируя политику и политиков, высказывались откровенно, всё называя своими именами. И когда работа над телепрограммой была уже практически завершена, мне неожиданно позвонил заместитель главы правительства России, человек, которого я глубоко уважаю и по сей день:
— Разговоры ходят, ты собираешься раздраконить Евгения Максимовича?
— Это слишком резкая формулировка, — дипломатично ответил я, удивившись тому, что нашу скромную программу, оказывается, смотрит самое высокое начальство, да еще и переживает, какие оценки в ней даются.
— А почему бы тебе не встретиться с Примаковым и не задать ему все неприятные вопросы, которые ты считаешь важными? — поинтересовался заместитель председателя Совета министров России. — Программа только выиграет.
— Получить интервью у нового министра — дело долгое, я-то знаю, а программа должна выйти в эфир кровь из носу.
Мне перезвонили через пятнадцать минут:
— Евгений Максимович ждет вас…
Съемочную группу собрали мгновенно, а заехать домой я не успел. Заявился в Министерство иностранных дел на Смоленской площади в весьма непрезентабельном виде. Войдя в кабинет министра иностранных дел, попросил извинения за то, что одет не по протоколу.
— А я прошу меня простить за то, что я в спецодежде, — улыбнулся министр.
Он был одет с иголочки: модный отлично сидевший на его солидной фигуре костюм, со вкусом подобранный галстук, белоснежная рубашка.
В секретариате министра заранее предупредили, сколько минут он сможет нам уделить. К назначенному времени я стал закругляться, понимая, что у руководителя дипломатии великой держав могут быть еще какие-то дела. И начальник секретариата стал ерзать на стуле и демонстративно показывать на часы: дескать, пора. Но Примаков продолжал беседовать, как ни в чем не бывало.
Он совсем не был похож на того мрачноватого и почти неэмоционального министра, который почти каждый день возникал на телеэкранах. Улыбался, шутил, рассказывал забавные истории. Отвечал на вопросы охотно и подробно.
— Он хотел тебе понравиться, — заметила руководитель нашей группы, когда интервью всё-таки завершилось и мы вышли в скучный мидовский коридор.
У него это точно получилось! Разговаривая с Примаковым, я понял, что уже подготовленную программу без сожаления выброшу в корзину. Сделаю другую. Я попал под обаяние министра.
Со мной такое случается. Я знаю свои слабые места…
Отвечая на вопросы телекритиков о работе в жанре политического портрета, признался, что «предпочитаю работать с мертвыми клиентами». Во-первых, по-настоящему оценить политика можно, лишь когда он закончил свой земной путь — люди же меняются; поспешная оценка может оказаться ошибочной. Во-вторых, личные отношения с героем не могут на тебя не влиять.
Так и произошло.
Конечно, я давно знал Примакова и о Примакове. Мой отец был с ним на «ты». Евгений Максимович, человек заметный в журналистской и научной среде, успешно делал карьеру и потому привлекал к себе внимание. Не всегда одобрительное, у него как поклонники, так и неприятели были.
Он был человеком с определенными взглядами и принципами. Многим казалось, устаревшими. В постперестроечную, революционную эпоху, когда руководящие кресла занимали люди молодые и часто весьма радикальные, он воспринимался как фигура уходящего времени. Еще по причине занимаемого положения — он руководил внешней разведкой, он ушел в тень. А думали — отодвинулся на вторые, а то и на третьи роли. Из кадровых пасьянсов его изъяли и никаких высоких должностей не сулили. В начале девяностых считалось, что он досиживает свой срок в руководящем кресле и ждет его академическая синекура.
И решительно никто не предвидел тогда его блистательного взлета, да еще в самые драматические годы России. В тот первый наш большой разговор Примаков заинтриговал меня. А когда он, через несколько лет, столь же внезапно возглавил правительство, я понял, что мы все его не понимаем и недооцениваем. И я взялся за написание биографии человека, которого в тот момент считали будущим президентом России.
Работая над книгой, я много узнал о его личной жизни, о его семье, о пережитых им трагедиях. Беседовал с его друзьями и вдовами уже ушедших друзей, с его товарищами и сослуживцами. Тот Примаков, о котором они рассказывали, мне очень нравился. Наверное, это вредит биографу, которому следует сохранять трезвость взгляда на своего героя. Но Примаков-человек сильно отличался от иных известных мне политиков, и я считал своим профессиональным долгом рассказать об этом читателю. Тем более что эмоции и чувства, симпатии и антипатии играли важную роль в жизни Примакова-политика. Он больше был подвластен своим чувствам, чем другие российские лидеры, и думаю, ему нужно поставить это в плюс. Чего-чего, а безжалостной холодности и врожденного равнодушия к людям в нашей политической жизни хоть отбавляй.
Кто-то из критиков назвал меня «официальным биографом Примакова». Наверное, я был недостаточно критичен к своему герою. Возможно, еще и потому, что писал о нем в те времена, когда он был объектом унижений и оскорблений; то была мерзопакостная кампания, затеянная с простой целью — вывести его из себя и вытолкнуть из практической политики. И естественное желание восстановить справедливость тоже двигало мною.
Теперь, когда земной путь моего героя завершен, уже ничто не мешает оценить сделанное им, как говорили древние, без гнева и пристрастия. Если это, конечно, возможно. Евгений Максимович был много старше меня. Он — ровесник моего отца. Но значительная часть жизни Примакова прошла на моих глазах. Это было время революционных перемен и кровавых соблазнов, невероятных драм и трагедий. Даже для человека, который не занимался политикой и всю жизнь водил пером по бумаге, затруднительно сохранить полную беспристрастность, когда речь о наших надеждах и неудачах, успехах и разочарованиях, словом, обо всём, что пережила в последние десятилетия Россия и в чем герой этой книги сыграл выдающуюся роль.
Но не будем спешить.
Интуиция не подвела Ельцина. Утверждение Примакова министром — это было первое за последние годы назначение, которое вызвало всеобщее одобрение. За исключением небольшого круга либеральных политиков, которые считали, что уход Андрея Козырева с поста министра повлечет за собой резкое ухудшение отношений с Западом, все остальные были довольны — и Совет Федерации, и Государственная дума, и даже средства массовой информации.
Подкупали солидность и основательность Примакова. Уже через месяц-другой стало ясно, что назначение Евгения Максимовича было точным ходом. Как выразился один из его предшественников на посту министра Александр Бессмертных, это лучший выбор из числа непрофессионалов.
И то, что на Западе его назначение приняли неприязненно, тоже было хорошо для Ельцина. Накануне выборов мнение американцев его не интересовало. Ему нужны были голоса избирателей, всех избирателей, в том числе и тех, кто ненавидит Запад.
В ходе президентской кампании 1996 года Ельцина в чем только не обвиняли, но не во внешнеполитических провалах. Примаков умело и изощренно прикрыл президентские тылы, лишив оппозицию возможности критиковать внешнюю политику. Даже коммунисты, злейшие враги Ельцина, не могли сказать ничего плохого о Примакове.
Внутри страны Примаков получил полную поддержку. Он побывал в Комитете по международным делам Государственной думы, произнес короткую речь, затем ответил на вопросы. Он произвел недурное впечатление, и депутаты обошлись без обычных выпадов против Министерства иностранных дел. С тех пор он часто встречался с депутатами, и критики практически не было. Его ценили и те, кто поддерживает президента, и оппозиция. Многие депутаты говорили мне, что Примаков знает, как вести дела в Думе, умеет сказать депутатам что-то приятное, но при этом проводит свою линию и с нее не сворачивает.
Этот феномен Станислав Кондрашов, политический обозреватель «Известий» и давний друг Примакова, объяснял так:
— Почему он добился поддержки обществом своей внешней политики? Он ни с кем внутри страны не вступил в конфронтацию. Он исключил из своего лексикона внутриполитические ярлыки, он не делил общество на демократов и коммунистов. Не дразнил быка и не раскалывал общество. Общество хотя и не едино, но импульса согласия ищет и готово принять. И принять с благодарностью…
Примаков говорил мне, что на посту министра он внутренней политикой принципиально не занимался:
— У меня есть собственные взгляды, как у всякого человека, но у министра иностранных дел и у министерства в целом симпатии и антипатии должны быть отключены. Я никогда не позволю себе называть кого-то зелеными, розовыми, краснокоричневыми, голубыми — я имею в виду цвета политического спектра.
— Разве же Министерство иностранных дел может остаться в стороне от политики?
— МИД, конечно же, занимается политикой, но только внешней политикой, — повторил Примаков, — поэтому Министерство иностранных дел — это самое внутренне деполи-тизированное министерство…
На приход Примакова в аппарате министерства возлагали большие надежды.
— Я приступил к работе в министерстве без раскачки, — говорил мне Евгений Максимович, понимая эти ожидания.
Заманчивая, завидная профессия — дипломат. Приемы, светские рауты, мужчины во фраках, женщины в вечерних туалетах, заграничные поездки с зеленым паспортом, освобождающим от таможенного досмотра, экзотические блюда, хорошие вещи, недоступные простому смертному наслаждения… В реальной жизни всё по-другому.
Российские дипломаты работают на Смоленской площади — в известном всему миру высотном здании, которое они прежде делили с коллегами из Министерства внешних экономических связей, и в двух других домах. В высотке места всем не хватало. Специалисты по Ближнему и Дальнему Востоку располагались в маленьких комнатках соседнего с высотным здания, в котором находился известный гастроном «Смоленский», поэтому здание в мидовском обиходе именовалось «ГастроМИДом».
А сотрудники сравнительно нового Департамента по делам СНГ обосновались вовсе уж в тоскливом помещении — в здании на Старом Арбате, где находилась аптека. Это здание дипломаты между собой так и называли: «МИД-аптека».
Когда-то молодые люди со всей страны стремились попасть в Институт международных отношений, мечтая стать дипломатами. В МГИМО всегда сохранялся большой конкурс, но отнюдь не все его выпускники мечтали поступить на работу в Министерство иностранных дел. Многие шли в бизнес. И из самого министерства в 1992–1993 годах уходило вдвое больше сотрудников, чем поступало на работу.
Российским дипломатам слишком мало платили. И у них стало меньше шансов поехать за границу, потому что штаты посольств и консульств сократились.
Российские дипломаты перестали ощущать себя привилегированной кастой, которой открыто в жизни то, что недоступно другим. Когда каждый российский гражданин получил возможность поехать за границу и зарабатывать хорошие деньги, ореол дипломатической — выездной! — службы поблек.
Особо завидного в жизни российского дипломата осталось немного. Российские дипломаты сидят в тесных комнатушках и ведут довольно скучный образ жизни: читают шифровки из посольств, стоят в очереди в буфете, составляют справки, тоскуют на совещаниях, устраивают детей в спецшколу, курят в специально отведенных для этого местах, вскакивают, когда в комнату входит начальство, и ждут, ждут, пока подойдет их очередь ехать в загранкомандировку.
Бедствующих дипломатов подкармливали тем, что отправляли вахтовым способом на три месяца в какое-нибудь посольство на свободную ставку. Командированный, что называется, не пьет, не ест, копит валюту для семьи. Потом с покупками назад, в Москву. А в посольство едет следующий. В посольстве, конечно же, предпочли бы постоянного работника, за три месяца в дела не вникнешь, но все понимали, что людям надо как-то жить.
У Министерства иностранных дел не было денег ни на ремонт обветшавших коридоров, ни на новую мебель в кабинет министра, ни даже на то, чтобы заплатить за лифт. Министерство производило жалкое впечатление. Я однажды пришел в МИД и увидел печальную картину: половину лифтов в высотном здании отключили за неуплату, и дипломаты не могли вовремя добраться до своих письменных столов.
Мидовские кабинеты находились в ужасающем состоянии — осыпающиеся потолки, обшарпанные двери, дряхлая мебель. Комнат не хватало, сидели дипломаты на головах друг у друга. Изучающие иностранный язык группы устраивались прямо в коридоре.
Такая жизнь дипломатам не нравилась. Забыв свойственные им осторожность и сдержанность, даже они кляли власть, которая не может ни платить им хорошую зарплату, ни вернуть утраченное чувство избранности. И сгоряча говорили, что в здании на Смоленской площади остались либо серые личности, которым больше негде устроиться, либо прирожденные дипломаты, которым нет жизни вне МИДа.
У дипломатов были и чисто психологические причины для недовольства. Уже при Шеварднадзе их стали обвинять в недостатке патриотизма и низкопоклонстве перед Западом.
Но каким образом российские дипломаты оказались в роли малопатриотичных либералов, не желающих блюсти государственный интерес, пляшущих под чужую дудку?
Вот уж эта роль совсем не вяжется с российским кадровым дипломатическим корпусом. Воспитанники элитарного Института международных отношений, бдительно проверенные насчет нежелательных родственников и сомнительных взглядов, дипломаты, говоря современным языком, крепкие государственники, даже державники. Но образованные. Знающие иностранные языки. Поработавшие за границей и потому понимающие то, что неизвестно и недоступно их критикам. Вот почему в горбачевские времена Министерство иностранных дел было самым перестроечным, внедрявшим идеи свободомыслия.
Но при Козыреве дипломаты стали роптать. Ненависть к министру оппозиция переносила и на всё министерство. А российские дипломаты в большинстве своем вовсе не были единомышленниками министра.
С приходом Примакова, во-первых, внешняя политика вышла из зоны острой критики, дипломатов оставили в покое, а это всегда полезно для аппарата, легче работать, увереннее себя чувствуешь. Во-вторых, личный вес Примакова, его авторитет в Кремле и в правительстве, административный опыт позволяли надеяться, что и личные проблемы дипломатов будут решаться.
Примаков в бытность министром был одним из немногих политиков, имевших регулярный доступ к президенту, что не только позволяло ему решать свои проблемы, но и создавало определенный статус в отношениях с другими министрами, которые всегда ревниво следят за МИДом. Спорить с Евгением Максимовичем они не решались. И президент с большой готовностью откликался на просьбы Примакова.
Через два месяца после назначения Примакова Ельцин подписал очередной указ о координирующей роли Министерства иностранных дел. Правительству и администрации президента запрещалось принимать к рассмотрению вопросы, относящиеся к внешней политике, если они не согласованы с министерством. С официальными заявлениями по вопросам внешней политики разрешено было выступать только троим — президенту, премьер-министру и самому Примакову. Он добился этого, потому что время от времени разные политики — вице-премьеры, секретарь Совета безопасности — произносили такие речи, что пресс-службе Министерства иностранных дел приходилось срочно давать разъяснения.
Такие указы подписываются часто, потому что сильные мира сего неизменно пытаются влиять на внешнюю политику. Но некоторое время президентский указ действует.
Министру иностранных дел Евгению Примакову удалось то, что было не под силу его предшественникам, даже таким влиятельным, как Громыко и Шеварднадзе: он отвоевал для себя всё высотное здание на Смоленской площади. Никогда еще этот дом, построенный в 1952 году, не принадлежал целиком МИДу. А Примаков добился того, что наследников некогда могущественного Министерства внешней торговли выселили, а в здании начался долгожданный ремонт.
Сначала поудобнее расселись заместители министра — мидовские кабинеты скромные, в других ведомствах кабинеты для начальства куда просторнее. Заместителям министра выделили комнаты отдыха. Потом взялись ремонтировать целые этажи, так что и рядовым сотрудникам стало комфортнее.
Кроме того, сотрудники министерства вновь стали получать квартиры, и, как гордо сказал Примаков, обеды в мидовской столовой подешевели.
Второй приятный сюрприз Примакова — повышение пенсий. До его появления пенсия даже посла — генеральская должность! — была мизерной. Было решено, что пенсия кадрового дипломата составит около восьмидесяти процентов всего его денежного содержания на последней должности.
— Некисло, — прокомментировал это решение один из членов коллегии министерства. — Служить можно.
Примаков завоевывал сердца подчиненных тем же способом, каким ему уже удалось расположить к себе сотрудников Службы внешней разведки: улучшая условия их жизни и работы. В первый же год работы Примакова в министерство пошла молодежь.
В мае 1998 года в Министерство иностранных дел приехал сам президент Ельцин — это высокая честь для аппарата. Он прочитал доклад, в основном написанный для него в самом министерстве, и особо отметил роль Примакова.
— Наша дипломатия обретает новое дыхание, становится активнее, проявляет всё больше принципиальности и умения добиваться поставленных целей, — говорил президент. — И такая ваша позиция полностью соответствует той роли, что исторически отведена России в мировой политике… Внешняя политика России сейчас имеет большой авторитет в мире, и с ней считаются. Со своей стороны могу гарантировать: сделаем всё, чтобы помочь вам закрепить и усилить высокопрофессиональный коллектив МИДа.
Борис Ельцин повторил, что мир должен быть многополярным, призвал оценить важность нестандартной президентской дипломатии без галстуков и обещал, что Россия не ляжет под Соединенные Штаты. Это эротическая формула российско-американских отношений была, пожалуй, самой яркой в речи президента.
Ельцин вручил ордена самому Примакову и еще нескольким дипломатам. Помимо коробочек с орденами он привез в МИД нечто более весомое. Он дал поручение управляющему делами президента — заняться социальными проблемами сотрудников министерства, а министру обороны — не призывать в армию молодых дипломатов. Ельцин согласился с просьбой Примакова платить дипломатам надбавки за сохранение государственной тайны. Кроме того, Борис Николаевич подписал указ о введении почетного звания «Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации». Эта награда ждет послов, прослуживших всю жизнь в Министерстве иностранных дел.
Вершина дипломатической карьеры — должность посла. В министерстве трудится сто пятьдесят дипломатов в ранге посла. Но и это место не так привлекательно, как прежде.
— С трудом подбираем послов, — несколько лет назад жаловался мне один из руководителей министерства. — А подыскать посла в такие страны, как Бирма или Непал, совсем трудно. Тот, кто по своим знаниям, опыту и способностям может стать послом, находит более привлекательное и высокооплачиваемое место в сфере бизнеса или в международных организациях.
Примаков сделал посольские должности более привлекательными. Я просматривал списки послов, назначенных в те годы. Основная масса послов — кадровые дипломаты. Практически не было людей со стороны, политиков, пожелавших стать дипломатами. Поехал было послом в Ватикан бывший пресс-секретарь президента Ельцина Вячеслав Костиков, но у него дипломатическая карьера не заладилась.
Окончив Высшие дипломатические курсы, бывший глава Чечни Доку Завгаев уехал послом в Танзанию. Понятно, что его просто надо было убрать подальше от его горячих соотечественников, требовавших привлечь его к суду. Отработав в Африке, он остался в Министерстве иностранных дел.
Отправился представителем в Европейский союз бывший главный законодатель Татарии и первый заместитель председателя Совета Федерации Василий Лихачев. Представителем в ЮНЕСКО уехал бывший министр культуры Евгений Сидоров, но это не совсем дипломатическая должность, так что Сидоров, известный литературный критик, был вполне на месте. В крупных странах послами работали только карьерные дипломаты. Несколько лет послом во Франции был академик Юрий Рыжов, добрый знакомый Бориса Ельцина по межрегиональной депутатской группе, но и Рыжова заменил кадровый дипломат.
Не было в списке послов и детей высокопоставленных персон. Внук Андрея Громыко работал в МИДе простым советником. Послом в Джибути уехал Михаил Цвигун, его отец Семен Цвигун был первым заместителем председателя КГБ, человеком, близким к Брежневу. Но это было давно, а Цвигун-младший всю жизнь служит в МИДе, работал советником-посланником в Египте.
Те, кто работает на Смоленской площади, говорят, что не хотят ехать в длительную загранкомандировку:
— В Москве интереснее, здесь кипит жизнь.
Но если побеседовать с нашими послами по душам, то они честно признаются:
— Если не быть министром или его заместителем, то лучше всего стать послом.
А один посол — Виталий Иванович Чуркин — даже говорил мне, что послом быть много лучше, чем заместителем министра. Чуркин сам был заместителем министра, которому в начале 1990-х доставалось больше других — он занимался югославскими делами. И он с большим удовольствием отправился послом в Бельгию. Потом его перевели в Канаду. Зато при Сергее Лаврове Чуркин занял ключевой пост постоянного представителя России при ООН. Вслед за Виталием Чуркиным еще несколько заместителей министра получили возможность насладиться посольской вольницей.
Прелести посольской жизни понять со стороны нельзя. Не послужишь — не узнаешь. Это самостоятельная, заметная и приятная работа, удовлетворяющая властную натуру.
Оклад посла исчисляется исходя из стоимости потребительской корзины в его стране. У посла есть смета на проведение приемов, обедов и ужинов, на поездки по стране. Но это не только его деньги. Старшие дипломаты тоже устраивают коктейли и ужины, которые оплачиваются из той же сметы. Скажем, журналистов по широте душевной угостят в посольстве кофе или чаем и тут же бумажку составят. Все счета отправляются в МИД, на места выезжают ревизоры из центрального аппарата, которые выясняют судьбу каждой копейки.
Раз в два года дипломату выдают так называемые экипировочные — деньги на приобретение темного вечернего костюма, незаменимого в дипломатической службе. Как выразился Примаков, это рабочая одежда.
Послу готовит повар или буфетчик — в зависимости от штатного расписания. Послу нанимают и горничную — кого-нибудь из жен технических работников посольства. Посла возит самый опытный водитель посольства. Самим садиться за руль послам не рекомендуют. Случись на дороге неприятное происшествие, пусть полиция занимается водителем, а не послом. Если посол, не дай бог, кого-то собьет на дороге, пострадает престиж государства, а его самого придется отзывать.
Кроме того, послу надо дать возможность на приемах и обедах, а они чуть ли не ежедневно, что-то выпить. Если посол начнет отстранять протянутый ему бокал, карьера у него не заладится. Если объявить войну спиртному, хорошие контакты не установишь, так что непьющий посол плохо служит Отечеству.
В принципе послу положена резиденция — славный домик с садом или парком, но не в каждой стране это есть. Скажем, в Англии посол довольствуется большой, во весь этаж квартирой в посольском здании. Отсутствие резиденции — большой минус, не с точки зрения комфорта посла, а по соображениям политическим.
Премьер-министр или президент страны не могут часто приезжать в иностранное посольство. Тут существует жесткий регламент. А вот неофициально посетить резиденцию посла — дело другое. Такие контакты не возбраняются. Дипломатическая служба и состоит в основном в поддержании контактов, официальных и неофициальных. И тут всё зависит от личности посла.
Например, в 1990-е годы в столице Словакии в американское посольство мало кто ходил, а сливки общества собирались у динамичного, обаятельного и уверенного в себе российского посла Сергея Ястржембского, в то время самого молодого нашего посла — его назначили в Братиславу, когда ему не было и сорока.
При Ястржембском посольство не было похоже на стандартное российское загранучреждение. Дипломаты все молодые, динамичные, улыбаются.
— У нас много дипломатов, которым нет и тридцати, — говорил мне тогда посол. — И посольство молодое по духу, что еще важнее. В коллективе царит здоровый дух патриотизма и гордости за свою работу. Мы же первое посольство в новом государстве. Очень важно, какой фундамент мы заложим.
Сергей Ястржембский вел себя не так, как обычный посол. Ходил по посольству, а не вызывал к себе подчиненных, презирал чинопочитание. Нарочито или не мог иначе?
— У нас нет панибратства в коллективе, но существует нормальный демократизм, который помогает в работе. Снобизм и фанаберия, которые встречаются, как я слышал, в некоторых загранпредставительствах, едва ли сплотят коллектив.
Сергея Ястржембского, как и следовало ожидать, вскоре забрали в Москву, в администрацию президента, он стал помощником Ельцина, затем Путина. Я не знаю, есть ли у нас еще такое же молодое и динамичное посольство…
При Примакове от послов стали требовать короткие, сжатые телеграммы, но такие, какие можно было бы посылать на самый верх — то есть показывать президенту. Все телеграммы посол адресует просто и коротко — в Центр. После расшифровки решается, кому телеграммы показывать: самые важные доводятся до сведения министра, правительства и президента.
Кроме того, посол отправляет в Москву то, что называется почтовой информацией, — то есть более подробные письма, тоже, разумеется, секретные.
Но, скажем, обращение через голову министра непосредственно к президенту — большая редкость. Дисциплина и чинопочитание — одно из отличительных качеств дипломата. Впрочем, однажды Анатолий Леонидович Адамишин, который был послом в Англии, написал напрямую президенту Ельцину о необходимости реформ в работе Министерства иностранных дел. Ельцин вызвал Адамишина из Лондона и разговаривал с ним. Практических последствий беседа не имела. Но через некоторое время Анатолий Адамишин стал министром по сотрудничеству со странами СНГ, правда, по независящим от него причинам пробыл на этом посту недолго.
Примаков на всех совещаниях говорил: от посла ждут, что он станет не только информировать Центр о происходящем в стране, но и предлагать решения. Послу виднее — он находится на месте, встречается с людьми, на него работает аппарат посольства.
Впрочем, у некоторых послов поначалу были проблемы со связью. В новых посольствах отсутствовали шифровальные системы. Установка такого оборудования — дорогое и сложное дело. Первый посол в Литве Николай Михайлович Обертышев рассказывал мне, что приходилось ездить на машине из Вильнюса в Калининград, когда ему предстояло отправить шифровку в Москву или получить присланные на его имя телеграммы.
У наших послов в небольших государствах Африки были такие же проблемы — они раз в неделю ездили в соседнюю страну, где у коллеги-посла есть шифровальная служба, читали поступившие указания и отписывались за неделю. Телеграммы пишутся от руки в специальном шифровальном блокноте с нумерованными страницами и передаются из рук в руки шифровальщику — самому секретному человеку в посольстве.
Шифровальщик с семьей постоянно живет на территории посольства. Выходить в город в одиночку ему категорически запрещено. Служба у шифровальщика тоскливая, денег платят мало. Дипломаты получают удовольствие от зарубежной жизни, а он нет. Завербовать шифровальщика — мечта любой разведки. Иногда это удается.
Как и в армии, в дипломатической службе есть ранги и должности. Есть своя табель о рангах, стимулирующая стремление неудержимо двигаться вверх.
— Когда мне присвоили первое дипломатическое звание, начальник сказал торжественно: «Ты сделал первый шаг в своей карьере и помни, что последний должен быть на Ново-Кунцевском кладбище», — вспоминал один из послов.
Плох тот дипломат, который не мечтает стать послом.
Будущий посол начинает службу референтом или переводчиком. Первая зарубежная командировка — чаще всего не в посольство, а в консульство. Выдача виз и выслушивание жалоб — удручающе скучная работа. Но талантливого молодого человека со временем дипломатия вознаградит интересным делом.
В советские времена, чтобы получить первое дипломатическое звание, надо было проработать от двух до четырех лет. Теперь в надежде поощрить молодежь присваивают первый ранг — атташе — значительно быстрее. Но лестница, ведущая вверх, короче не стала: атташе, третий секретарь, второй секретарь второго класса, второй секретарь первого класса, первый секретарь второго класса, первый секретарь первого класса, советник второго класса, советник первого класса, чрезвычайный и полномочный посланник второго класса, чрезвычайный и полномочный посланник первого класса и, наконец, вершина — чрезвычайный и полномочный посол…
Ранги от атташе до советника присваиваются приказом министра. Посланниками и послами дипломатов делает президент. Это уже, можно сказать, генеральские звания.
Очередные ранги присваиваются два раза в год — весной и осенью. Раньше это старались приурочить к 1 Мая и 7 Ноября, любили порадовать перед праздником.
Дипломатический ранг не только приятен, но и полезен. Дипломату полагается 25-процентная прибавка к окладу за ранг. А еще платят надбавки за выслугу лет, за знание иностранных языков и за работу с секретными материалами.
Если дипломат работает без проколов и начальство им довольно, то каждые два года его будут повышать, пока он не станет первым секретарем. Тут совершается переход в старшие дипломаты, и процесс присвоения рангов замедляется: только каждые три года можно ожидать вожделенного повышения. Присвоение очередного ранга сулит и продвижение по службе.
Старший дипломат — это уже фигура. На младших старшие смотрят покровительственно, общаются в основном между собой. В посольстве старшему дипломату дадут отдельный кабинет, выделят машину. Младшие дипломаты делят одну машину на несколько человек, ездят по очереди. Только разведчикам — даже самым молодым — обязательно полагается своя машина. Так их контрразведка и вычисляет.
Меньшая часть дипломатов всю жизнь занимается одним регионом. Чаще всего это знатоки редких восточных языков. Например, заместитель министра Виктор Посувалюк, блистательно знавший арабский язык и арабскую культуру, всегда занимался Арабским Востоком. Сменивший его Александр Салтанов, тоже арабист, ведал Ближним Востоком и Африкой. Известный знаток Японии Александр Николаевич Панов закономерно стал послом в Токио. Заместитель министра Александр Авдеев, рафинированный интеллектуал, занимался только европейскими делами, он знает французский, итальянский, английский и болгарский языки, был послом в Люксембурге и Болгарии.
Но это скорее редкость. Теперь дипломата всё чаще перебрасывают с направления на направление. Посол в Соединенных Штатах Юрий Ушаков прежде отвечал за проблемы европейской безопасности (он стал помощником президента Путина по международным делам). Китаист Андрей Денисов уехал представителем в ООН, затем стал первым заместителем министра — и оказался в Пекине. Заместитель министра Григорий Карасин, африканист по образованию, легко осваивающий новые проблемы и быстро устанавливающий контакты, умело руководил Департаментом информации и печати, ведал всеми азиатскими делами. Потом уехал послом в Англию и вернулся на прежнее место заместителя министра.
Послы стараются не отпускать в Москву умелого, опытного сотрудника, чей срок командировки истек. Это по-человечески понятно: кому же охота расставаться с ценным работником. Но, как правило, Департамент кадров одерживает в этой борьбе победу: выслужившего срок заменяют. Принцип ротации должен действовать неукоснительно, считал Примаков, хотя со стороны это кажется нелепым: зачем убирать из страны специалиста, блестяще знающего язык, и заменять его человеком, у которого таких достоинств нет?
Но Примаков исходил из того, что дипломат должен менять должности и страны, приобретая кругозор и знания. Это одна из важных перемен в кадровой политике Министерства иностранных дел. Раньше упор делался на подготовку страноведов. И специалист по Корее всю жизнь проводил в Пхеньяне, а изучивший не менее трудный венгерский язык — в Будапеште. Примаков считал, что дипломат должен обладать широким кругозором. Синолог, то есть специалист по Китаю, со временем поедет в Вашингтон, а профессиональный африканист получит назначение в какую-нибудь европейскую страну.
Примаков обосновывал свою позицию так:
— Надо вообще отказаться от практики, когда один человек проводит командировки только в одной стране. Он приезжает во Францию первый раз, потом он пребывает в центральном аппарате, потом он снова едет во Францию и так до пенсии. Надо отказаться от этой практики. Нужна ротация.
Так же убежденно говорил мне Игорь Сергеевич Иванов, который был у Примакова первым замом, а потом сам стал министром:
— Можно родиться хорошим шахматистом. Невозможно родиться хорошим дипломатом, им можно только стать.
В молодые годы трудно быть хорошим дипломатом. Нужны опыт и кругозор, эта профессия требует жизненных навыков, не только книжных знаний.
Старшие дипломаты (начиная с первого секретаря) должны меняться каждые четыре года, младшие дипломаты — каждые три. Послу срок пребывания в должности не мерен, но им тоже не дают засиживаться, потому что на Смоленской площади другие заслуженные лица ждут своей очереди.
План замены дипломатов готовится заранее и рассылается по всем подразделениям МИДа. Там сказано, например, что в следующем году в таком-то посольстве планируется замена советника и двух первых секретарей. Каждый дипломат имеет право подать заявление кадровикам и участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности. Список заявок будет переслан и в посольство. Послы часто просят прислать им того или иного работника. Раньше просьбами посла пренебрегали — кадровая служба считала, что она лучше знает, кто и где должен работать. Мнение посла учитывается при назначении на старшие дипломатические должности — советник и выше.
Конкурс проводит комиссия под руководством заместителя министра. Кандидатов приглашают на собеседование. Решение комиссии оглашается, и выигравший конкурс дипломат спокойно работает, зная, что через год он отправится в посольство.
Можно получить назначение послом в небольшую страну, но не иметь ранга посла, а быть чрезвычайным и полномочным посланником. А можно иметь ранг посла, но работать на скромной должности в центральном аппарате МИДа. Процедура назначения на должность посла занимает немалое время. Сначала принимает решение коллегия министерства. Она представляет кандидатов на посольские места администрации президента и комитетам по международным делам Государственной думы и Совета Федерации.
Парламентарии имеют совещательный голос. При должной подготовке, как правило, они соглашаются с представленными кандидатурами. Были два-три случая, когда парламентарии высказывались против, но через некоторое время министерство вновь предлагало эти кандидатуры, и на сей раз депутаты меняли гнев на милость. Окончательное решение, как раньше в ЦК КПСС, принимает администрация президента, запросив, ясное дело, компетентные органы на предмет «компрометирующих сведений».
Если ни депутаты, ни администрация, то есть Управление по внешней политике и лично помощник президента по иностранным делам не возражают, то вопрос, как говорят бюрократы, докладывается президенту. Борис Ельцин почти всегда подписывал посольские назначения.
Я знаю один случай, когда Ельцин не подписал указ. Примаков предложил назначить послом во Францию своего заместителя Николая Афанасьевского. Прежний посол Юрий Рыжов пробыл в Париже больше установленного срока. Но Ельцин попросил отложить это назначение:
— Пусть Рыжов еще поработает.
Примаков настаивать не стал — с личными желаниями президента не спорят. К тому же с Рыжовым Примакова многие годы связывали товарищеские отношения. Николай Афанасьевский уехал послом в Париж через год, когда Примаков уже стал премьер-министром.
Обычно если президент не против, то запрашивается агреман, то есть соответствующую страну конфиденциально спрашивают: не станет ли она возражать, если этого дипломата назначат послом? И лишь когда поступает агреман, подписывается указ о назначении такого-то послом.
Выдача агремана — дело интимное, государство имеет право отказать, не объясняя причин. В советские времена такое случалось — по политическим соображениям. Теперь отказ принять посла — дело крайне редкое, да никто и не пытается отправить послом человека, которого заведомо не любят в стране пребывания.
Звание посла получить тоже непросто. Этому предшествуют два десятка лет дипломатической службы и назначение на должность директора департамента или его заместителя. Коллегия МИДа принимает решение о присвоении ранга посла и отправляет представление в администрацию президента. Документы изучаются в аппарате помощника по международным делам и поступают на подпись президенту. Можно стать послом по должности — это положено заместителям министра и самому министру. Евгений Примаков получил ранг посла через полгода после назначения министром.
Дипломаты быстро оценили Примакова. А ведь надо иметь в виду, что это спаянное братство, каста, клан, закрытый для людей со стороны. Эта кастовость формируется еще в Институте международных отношений. Российские дипломаты ощущают себя элитой общества. В этой сфере прощается многое, но не отсутствие образования. Плохо образованный дипломат, с неважным знанием иностранных языков практически не имеет шансов сделать карьеру.
Карьерные дипломаты гордятся своим профессионализмом и не любят чужаков и политических выдвиженцев. Они и к самому министру иностранных дел отнесутся снисходительно, коли сочтут его человеком, который никогда бы не получил этот пост, если бы пытался сделать обычную дипломатическую карьеру. Но Примакова они приняли и были ему благодарны.
Самому Примакову переход в министерство дался нелегко. Работа в разведке была, как ни странно, более спокойной. Министр же постоянно в пути, на переговорах. Что самое печальное для министра — свободное время отсутствует, даже когда формально оно имеется, то есть в воскресенье, в праздничные дни. Если министр уехал на дачу, всё равно раздается один телефонный звонок за другим, потому что в мире вспыхивают конфликты и требуется его личное участие. Впрочем, так и в разведке.
Я расспрашивал помощников министра:
— Какой градус конфликта нужен, чтобы министру позвонили домой ночью или в воскресенье?
— Как только конфликт разгорается, министр уже в курсе. Министр должен знать, где зарождается новый конфликт, и сразу определить, какие действия предпринять, чтобы его пригасить в самом начале, либо — если дело зашло далеко — как ликвидировать его последствия.
— Ночью работает дежурная бригада. Это она, изучая поступающие телеграммы, принимает решение: будить министра или нет?
— Да, это так. Хотя, конечно, не всегда следует поднимать министра среди ночи, иногда можно подождать и до утра. А бывают такие серьезные кризисы, вот, например, вокруг Ирака, когда постоянно происходили какие-то события, и министру лично докладывали. А остальное — как только он утром появляется на работе.
— Я представляю себе толстенную пачку телеграмм, которая поступает отовсюду. Прочитать ее министр не в силах. Этот поток необходимо фильтровать. Кто это делает, кто решает, что нужно доложить министру, а что передать заместителям, иначе он с ума сойдет от потока информации?
— Есть секретариат министра, который занимается тем, что докладывает о поступающих документах. Работники секретариата и определяют степень срочности. Формальных критериев нет, это на интуитивном уровне решается. Надо проработать в министерстве достаточное время, чтобы понять, какие документы требуют немедленного доклада, а какие могут подождать.
Когда работаешь первый год в министерстве, это просто невозможно определить. Это надо самому прочувствовать. Надо, кроме всего прочего, знать людей: кто передал это сообщение? Откуда оно пришло? В секретариате министра работают люди, которые потом сами становятся послами. Помощниками министра были будущие министры — Александр Бессмертных и Игорь Иванов. А уж из заместителей министра и не счесть, сколько прошло через это горнило.
В пачку материалов для министра входят и сообщения информационных агентств. Когда начинается кризис, в подразделении, которое этим занимается, смотрят программы Си-эн-эн, слушают радио. Полагаться только на шифротелеграммы невозможно.
Рабочим инструментом становится телефонная трубка, которая требует быстрой реакции и немедленных решений. Все кризисные ситуации последнего времени разрешались путем телефонных разговоров с коллегами-министрами, которые вовлечены в урегулирование кризиса.
Дипломатия и внешняя политика очень персонифицируются. Раньше инструментами дипломатии были длинные телеграммы, ноты и памятные записки, в которых выверялась каждая буква. Затем их пересылали в посольство, там переводили на местный язык, печатали на хорошей бумаге, и тогда посол звонил в министерство и просил его срочно принять…
Примаков же снимал трубку и решал проблему просто в двадцатиминутном телефонном разговоре. Работать стало проще, но министру труднее.
— Министр беседует с коллегами-министрами по обычному телефону?
— Нет, есть специальная связь, которая позволяет разговаривать с министрами основных стран конфиденциально, не боясь быть подслушанным.
— Как это выглядит? Примаков сам накручивал номер американского государственного секретаря Мадлен Олбрайт?
— Нет, это всё идет через помощников. Например, поступил сигнал, что министр иностранных дел Германии хочет поговорить с Примаковым. Но Примакова в данное время нет в кабинете. Мы отвечаем, что связаться можно будет через час. Немцы согласны, и ровно в назначенное время министры снимают трубки.
— Они разговаривают через переводчиков?
— Можно и через переводчиков, если нет уверенности в языке. Переводчики с обеих сторон тоже держат трубки. Это технически несложная процедура.
— Какое впечатление Примаков произвел на аппарат министерства?
— Когда докладываешь, он обязательно спрашивает: «А что вы предлагаете?» Это не значит, что он обязательно примет твое предложение, но для него важно, что думает специалист, эксперт.
Примаков многое брал на себя. Принимал решения сам, не перекладывал на других, не боялся работы. Это очень сильное качество не только умного человека, но и очень эффективного менеджера. Примакову ненавистен популярный среди чиновников принцип «Не бери на себя то, что можно спихнуть на других». У него иной принцип: всё зависит от нас, давайте обсудим, решим и сделаем так, как нужно.
Вот это очень сильное качество Примакова — он работу понимает как личное дело. И вокруг него собирались люди, которые точно так же относятся к работе. Другие просто не приживались…
Евгений Примаков был всего лишь двенадцатым министром иностранных дел с октября 1917 года. Иванов, которого он оставил после себя, — тринадцатый министр, Сергей Викторович Лавров — четырнадцатый. Для сравнения: министров внутренних дел за эти десятилетия сменилось больше двадцати.
Среди министров-дипломатов было три академика (Примаков, Молотов и Вышинский) и один член-корреспондент Академии наук (Шепилов). Были блистательно образованные люди и те, кто вовсе не знал иностранных языков и до назначения министром почти не бывал за границей.
Двое из них дважды занимали свой пост — Вячеслав Молотов и Эдуард Шеварднадзе. Меньше всех министрами были Борис Панкин — меньше трех месяцев, Лев Троцкий — пять месяцев и Дмитрий Шепилов — восемь с половиной месяцев. Больше всех Андрей Громыко — двадцать восемь лет.
Трое из четырнадцати министров на долгое время были исключены из истории дипломатии: это Троцкий, Вышинский и Шепилов. Четвертого — Молотова — одни с проклятиями вычеркивали из истории, другие триумфально возвращали.
Из четырнадцати наркомов и министров восемь были отправлены в отставку или ушли сами по причине недовольства их работой. У хозяев ведомства внутренних дел судьба пострашнее — шестерых расстреляли, двое покончили с собой. Министров иностранных дел Бог миловал. Даже Максима Литвинова, жизнь которого висела на волоске, Сталин почему-то помиловал.
Ходили, правда, слухи, что Андрей Януарьевич Вышинский, который был министром с 1949 по 1953 год, застрелился, находясь в Нью-Йорке. У него действительно в сейфе лежал браунинг, но он им не воспользовался. Вышинский умер от сердечного приступа в здании советского представительства при ООН в Нью-Йорке на руках своих помощников и охранников.
Эдуард Шеварднадзе перестал быть министром, потому что исчезло само государство — Советский Союз. Дмитрий Шепилов (в историю он вошел незаслуженно всего одной строчкой из партийного документа «и примкнувший к ним Шепилов») ушел с поста министра на повышение — секретарем ЦК. Андрей Громыко надолго занял высокую, но безвластную должность председателя президиума Верховного Совета СССР. Ну и, конечно, Евгений Примаков сделал фантастическую карьеру, переместившись — под аплодисменты Государственной думы — с поста министра прямо в кресло главы правительства. Обратный путь проделал Молотов: он с поста председателя Совета министров переехал в Наркомат иностранных дел, хотя как заместитель главы правительства сохранил за собой кремлевский кабинет.
Одиннадцать из четырнадцати министров подвергались жесткой критике — одни, пока они еще занимали должность, остальные — после отставки или даже после смерти. Некоторых из них проклинают как монстров и демонов и по сей день. Исключение — Евгений Примаков. Он на посту министра обрел еще больше сторонников и поклонников. Его сменщика — Игоря Иванова — воспринимали очень благожелательно. Что касается Сергея Лаврова, то в наши дни критиковать министра иностранных дел уже особенно и некому.
Если перелистать дипломатический паспорт министра, можно позавидовать: министр иностранных дел был везде. Но практически ничего не видел. Одинаковые машины с бронированными стеклами, одинаковые гостиницы, одинаковый протокол, одинаковые комнаты для переговоров, где сидят одинаково одетые люди, обеды и ужины со стандартным набором блюд и заранее известными тостами. Возможность поговорить с коллегой-министром где-то за городом или в сауне воспринимается как подарок судьбы. Лишь иногда удается во время длительного визита выкроить день-другой для отдыха, да еще прихватить с собой семью. Мне известно совсем немного таких случаев. Правда, роман Андрея Козырева с его второй женой развивался как раз во время зарубежных поездок — он обратил внимание на молодую и красивую женщину из своего секретариата.
Примаков обижался. Когда он с женой улетел в ФРГ по личному приглашению министра иностранных дел Клауса Кинкеля, газеты иронизировали: Евгений Максимович отправился в Рейнскую долину дегустировать вина. А Примаков из-за приступов желчнокаменной болезни пить совершенно не мог.
Министр должен всегда идеально выглядеть — чисто выбрит, безукоризненно подстрижен, рубашки и костюм идеально выглажены, галстук подобран точно в тон, туфли начищены до блеска. И об этом в командировке министр заботится сам. Министр иностранных дел — не генерал, ему ни адъютант, ни ординарец не положены. У него есть охрана, которую он может о чем-то дружески попросить, но не обо всём. Постирать и погладить вещи — это берет на себя гостиница.
Примаков исключительно скромен в еде и во всём остальном. Никогда ничего не попросил особенного. Шеварднадзе, как и когда-то Молотов, возил с собой повара. Оба предпочитали знакомую пищу, чужим поварам не доверяли, хотя вообще-то в мире можно любое блюдо получить.
А Игорь Иванов даже сам портфель таскал. Один из его заместителей не выдержал:
— Игорь Сергеевич, давайте я портфель понесу, а то как-то неудобно.
Не отдал, сам нес.
Главное для министра иностранных дел — обладать прекрасным здоровьем, удовлетворяться коротким сном, уметь работать в самолетах, машинах и вообще везде и всегда.
Вот как это происходит.
Каждый год в сентябре министр прилетает в Нью-Йорк на открытие сессии Генеральной Ассамблеи ООН. За несколько дней он должен успеть поговорить с несколькими десятками министров — для дипломатов, представляющих маленькие государства, это единственная возможность увидеть российского министра.
В здании российского представительства при ООН на первом этаже есть две комнаты для переговоров. Первого гостя проводят в правую комнату, где его ждет министр. Пока идут переговоры, появляется уже следующий гость, его ведут в левую комнату.
Ровно через полчаса министр прощается с первым гостем, пожимает ему руку и из правой переходит в левую комнату. Следующие переговоры начинаются без перерыва. От ближневосточного конфликта надо мгновенно переключиться на афганский, а от взрывоопасной ситуации вокруг Косова перейти к давней проблеме разделенного Кипра.
Переговоры продолжаются и за обеденным столом, когда не столько едят, сколько разговаривают. Так что министрам не рекомендуется много есть и пить. Громыко повторял, что дипломат роет себе могилу вилкой и рюмкой…
Природа наградила самого Громыко крепким здоровьем, что позволяло выдерживать огромные перегрузки, особенно во время зарубежных визитов. Однажды во время выступления в ООН у него случился обморок. Министр просто перегрелся. В Нью-Йорке было жарко, а Андрей Андреевич одевался тепло, даже летом носил кальсоны. Мощных кондиционеров тогда еще не было. Охранники вынесли его из зала заседаний. Министр пришел в себя и, несмотря на возражения помощников, вернулся в зал и завершил выступление. Андрею Андреевичу устроили овацию.
Игорь Иванов человек молодой и легко справлялся с такой нагрузкой. Сергей Лавров — спортсмен. Он, правда, курит, что в современном обществе кажется анахронизмом, но находится в отличной физической форме. Поразительным образом и Примаков, который старше их обоих, работал в таком же режиме, не выказывая усталости. Я видел это своими глазами. Он, пожалуй, только мрачнел, но это след не столько усталости, сколько недовольства.
Все министры иностранных дел говорили, что определение политики — прерогатива первого лица, а они лишь исполняют волю генерального секретаря или президента. Но это лукавство. Личность министра тоже оказывает решающее влияние на формирование политики. Молотов придал политике догматизм и упрямство, которых не было даже у Сталина. Шеварднадзе шел дальше Горбачева в партнерстве с Западом. При одном и том же президенте Козырев настойчиво пытался сделать Россию союзником Запада, а Примаков отказался от линии «ведомого».
Максим Литвинов был поклонником англосаксонского мира. До революции, находясь в эмиграции, он жил в Англии, женился на англичанке, которая последовала за ним в Москву. Если Георгий Чичерин и Вячеслав Молотов считали главным партнером России Германию, то Литвинов стоял за союз с Англией, Францией и Соединенными Штатами.
Дмитрий Шепилов был первым незападником на посту министра иностранных дел. Он повернул советскую дипломатию лицом к Востоку и Азии. Восстановил отношения с Японией и подружился с Египтом.
Андрея Громыко вообще интересовали только Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций. Остальной мир для него практически не существовал. Громыко не любил ездить в Японию: он не видел никакого прока от разговоров с японцами, которые всякий раз сворачивали на нерешенную проблему «северных территорий», и всячески увиливал от поездок в Токио. Он ни разу не побывал в Африке и в Латинской Америке, за исключением Кубы. В Индию его один раз силком заставили съездить.
Александр Бессмертных и Андрей Козырев тоже прежде всего занимались отношениями с Америкой.
Примаков был специалистом по Ближнему Востоку, но это не значит, что все остальные дела он отложил. Напротив, зная ближневосточные проблемы, он мог позволить себе сосредоточиться на других вопросах. Примаков взял на вооружение новую стратегию — равноудаленность от всех центров силы. Игорь Иванов оказался первым со времен Чичерина министром-европеистом, он специалист по Испании, был послом в Мадриде. Сергей Лавров с его уникально долгим опытом работы в ООН идеально подходит для современной глобальной дипломатии, где все от всех зависят.
Из всех министров только трое были прирожденными ораторами — Троцкий, Шепилов и Вышинский. Выступления Троцкого завораживали. Шепилов говорил по-профессорски красиво. Вышинский, прокурор по профессии и призванию, выработал особый стиль. Обращаясь к коллегам министрам или послам с трибуны ООН, он ругался: «поджигатели войны, прожженные жулики, мерзкие твари, проходимцы, бандиты, наглецы, презренные авантюристы».
Бывший прокурор не видел особой разницы между подсудимыми и министрами иностранных дел, которые собирались в ООН. И те и другие были врагами, которых следовало раздавить. Вышинский знал, что у него есть поклонник, которому нравилась такая ругань. Сталин получал удовольствие, слыша, как Вышинский разделывает под орех бывших членов политбюро или иностранных дипломатов. В тесной компании, подвыпив, Вышинский признался, что, заканчивая грозную речь, он испытывает нечто вроде оргазма…
Примаков хорошо говорил, особенно когда выступал без заранее подготовленного текста. В принципе министры иностранных дел не должны быть красноречивы. Они должны быть убедительны и точны. Им надо убеждать в своей правоте собственное начальство и партнеров на переговорах. И не знаешь, какая задача сложнее.
Все министры иностранных дел, начиная с Чичерина, пытались раскрыть своим лидерам глаза на внешний мир. Георгий Васильевич Чичерин, дипломат старой школы, безуспешно старался объяснить политбюро, что нельзя пытаться о чем-то договариваться с правительством страны и одновременно посылать туда оружие, чтобы свергнуть это правительство.
Максим Максимович Литвинов был, видимо, последним человеком на этом посту, который был достаточно по-мужски смел, чтобы высказывать свои взгляды, даже понимая, что его ждет наказание. Причем он разглагольствовал не на кухне в семейном кругу, а уже снятый с поста наркома спорил с Молотовым, зная, что тот доложит Сталину. Литвинов был человеком принципиальным, и он умудрился как-то сохранить свои принципы. Это не значит, что он был идеалистом, кристально чистым человеком, своими принципами, убеждениями ради карьеры не жертвовал. Литвинов имел собственное представление о внешнеполитической линии.
Андрей Громыко, какую бы должность ни занимал, не только никогда не спорил с начальством, но даже часто не смел выказать своего несогласия или недовольства, особенно пока хозяином был Хрущев.
Но надо понять, что Громыко было невероятно трудно. Онто, как профессионал, понимал, что к чему, а имел дело с совсем уж темными и малограмотными членами политбюро. Члены политбюро либо вовсе ничего не понимали в мировых делах, либо находились в плену каких-то фантастических мифов. Громыко приходилось следить за тем, чтобы товарищи сгоряча не натворили глупостей. Оказавшийся в кабинете министра дипломат рассказывал, как Андрею Андреевичу позвонил один кандидат в члены политбюро и хотел посоветоваться. Тот ехал в Соединенные Штаты во главе делегации, предполагал, что возникнет вопрос о сокращении ядерных вооружений, и решил посоветоваться с министром:
— Я намерен заявить им следующее…
Громыко его прервал:
— Что бы вы ни сказали, вы можете допустить неточность, а это осложнит переговоры. Этот вопрос в Союзе знают только три человека: Брежнев, я и мой заместитель Корниенко…
Неумные политики и поныне смотрят на министра иностранных дел с подозрением: почему он не в состоянии добиться того, что решено в Кремле или в Думе? Внешние дела — и это не все понимают — отличаются от оборонных или экономических проблем тем, что приходится учитывать интересы других стран. Нельзя принять решение проводить политику, выгодную своей стране, и требовать от министерства неукоснительного ее исполнения. Внешнюю политику приходится согласовывать с другими державами.
А у каждой страны есть свои интересы. Не остается ничего иного, кроме как эти интересы учитывать. Глупо загонять в угол неприятных соседей, чтобы они копили ненависть и вынашивали злобные планы…
Сейчас ситуация немногим проще. Многие наши политики не способны понять, что их иностранные партнеры представляют иную цивилизацию. Скажем, начинается обед с иностранным президентом или канцлером. У них принято произнести один официальный тост. Наши начинают провозглашать тост за тостом, пьют, как на дружеской вечеринке после областной профсоюзной конференции… Иностранцы этого не понимают, возникает отчуждение. Наши обижаются: а, нос воротят, не хотят с нами по-человечески, значит, враги!
Всякому министру приходится учитывать настроения в обществе. Примакову это удавалось.
— Мы конечно же учитываем, не можем не учитывать общественное мнение в определении внешней политики, — говорил мне Евгений Максимович. — Я поддерживаю контакты с руководителями парламентских фракций, я выступаю перед фракциями, комитетами Думы. Мы не можем проводить линию, которая противоречит общественному мнению.
Такую же линию проводил его сменщик Игорь Иванов. Тогда еще разные партии были достаточно заметны в политической жизни России.
— Я уважаю мнение всех фракций, — говорил мне Игорь Иванов, — но провожу ту линию, которая отвечает национальным интересам.
Но как можно проводить единую политику, если в обществе нет согласия, если значительная часть общества подвержена антизападным, антиамериканским настроениям?
— Мне бы хотелось добиться, чтобы у нас «анти» не было. Ни в настроениях, ни в политике. Мы прошли тот этап, когда мир делили на хороших и плохих. Я говорю об этом и в Думе, и в средствах массовой информации — надо нам избавляться от стереотипов: кто-то плохой, кто-то хороший, этот друг, тот враг…
Как у министров иностранных дел строились отношения с властью?
Троцкий сам по себе был властью, вторым после Ленина человеком в стране. Молотов пришел на пост министра, тоже будучи вторым человеком (член политбюро, председатель правительства), но после войны полностью утратил расположение Сталина и чуть было не попал на Лубянку как американский шпион и глава антисоветского заговора.
Громыко начинал министерскую карьеру далеким от власти человеком — Хрущев считал его просто грамотным спецом. Но в конце жизни при больном Брежневе Андрей Громыко вместе с председателем КГБ Юрием Андроповым и министром обороны Дмитрием Устиновым вошел в тройку, которая и принимала важнейшие политические и военные решения в стране.
Чичерин вовсе не имел никакого влияния в политбюро, партийное руководство его третировало. Как и Вышинского, хотя тот в конце карьеры на короткое время стал членом оргбюро ЦК. Дмитрий Шепилов, бывший секретарь ЦК, и Эдуард Шеварднадзе, бывший первый секретарь Грузии, были весьма приближенными к первому человеку в стране, что позволяло им быть достаточно самостоятельными. Впрочем, излишняя самостоятельность вызывает ревность первого человека. Хрущев, увидев, что Шепилов сам решает, как надо вести дела, скоренько убрал его из министерства. Да и Горбачеву не нравилось, что советскую внешнюю политику слишком связывают с именем Шеварднадзе.
Карьерный дипломат Александр Бессмертных принципиально держался подальше от политики, что в критический момент истории, в августе 1991 года, и сломало ему карьеру. Другой карьерный дипломат — Андрей Козырев, напротив, активно вмешивался во внутреннюю политику. Это позволило ему занимать пост министра дольше своих предшественников, но и предопределило неминуемое падение при изменении внутриполитической ситуации в стране.
Примакову Ельцин доверял и к нему прислушивался. Его слово во внешней политике было самым веским, кто бы еще из высших политиков ни высказывался о международных делах. Это свидетельствовало о влиянии Примакова в коридорах власти.
Это не значит, что жизнь Примакова на посту министра была простой и легкой. Время от времени проносились слухи о том, что президент собрался отправить Примакова в отставку. Ходили очень упорные разговоры о том, что Примакова на посту министра может сменить Сергей Ястржембский, молодой, динамичный политик с хорошим дипломатическим опытом, который стал заместителем главы администрации президента и пользовался определенным влиянием на Ельцина.
В октябре 1997 года я приехал к Сергею Ястржембскому в Кремль, чтобы прямо спросить его, насколько верны эти слухи. Он слухи о своем скором назначении искренне опроверг.
Что касается Примакова, то он, очевидно, понимал: непредсказуемый президент способен на всякое. Именно эта непредсказуемость в конечном итоге осенью 1998 года привела Примакова на пост главы правительства, а Сергея Ястржембского президент убрал из администрации, но всё могло повернуться иначе…
Игорь Иванов еще в меньшей степени участвовал во внутренних делах. Он пользовался полной поддержкой Примакова, что первое время предохраняло его от сложностей во взаимоотношениях с администрацией президента и коллегами-министрами. Сергей Лавров был взят в министры со стороны — последние десять лет он проработал в Нью-Йорке. Возможно, Путин желал видеть министра, который не принадлежит ни к какому клану и ничьей команде.
Что касается личных отношений с руководителями государства… Троцкий после Октября с Лениным был накоротке. Чичерин, Литвинов и Вышинский были очень далеки от Сталина, при этом Литвинов до конца своих дней Сталина уважал и ценил, а Вышинский просто боялся… Молотов вначале входил в узкий круг сталинских приближенных, даже позволял себе упрямо спорить со Сталиным, что само по себе свидетельствовало об особом его положении. А в последние годы жизни Сталин даже не приглашал его к себе на дачу, куда приезжали остальные члены политбюро.
У Шепилова был недолгий роман с Хрущевым, они гуляли вместе, дружили семьями. А потом Хрущев порвал со своим министром сначала личные, а затем и политические отношения. Над Громыко Хрущев посмеивался, иногда откровенно издевался. Зато с Брежневым Громыко был на «ты», называл его по имени. Они вместе ездили на охоту, и Брежнев поддавался влиянию Громыко. Шеварднадзе был близок к Горбачеву, хотя друзьями их не назовешь. С Бессмертных и Панкиным личных отношений у Горбачева не было. Ельцин долгое время привечал Козырева, уважительно повторял:
— Андрей — профессионал, дипломат.
Это было уважение необразованного провинциала к столичной штучке, человеку, который владеет иностранными языками, запросто ездит за границу, знает, как с иностранцами разговаривать. Ельцин приглашал его домой, на дачу. Но Козырев сам понимал, что в этой компании он чужой. Вот министр обороны Павел Грачев был свой, целовался с президентом, говорил с ним на понятном языке, не возражал президенту. А Козырев начинал нудно объяснять, почему вот это никак нельзя делать. Это и на трезвую-то голову не всякий поймет…
Примаков в круг людей, особо близких к Ельцину, не входил. Игоря Иванова президент Ельцин воспринял просто как кандидатуру Примакова. Что касается Владимира Путина, то представляется, что Сергей Лавров не входит в его ближний круг.
Министры иностранных дел делятся на две категории — на революционеров и традиционалистов. Революционеры хотят всё поменять и избавиться от тех, кто был до них. Такими были Троцкий и Молотов. Другие министры понимают, что дипломатическая работа началась до того, как они тоже ею занялись, и будет продолжаться после них. Внешняя политика состоит из бесконечного количества маленьких, крохотных инициатив, улучшений, поправок, которые удается внести в общий, неостановимый поток мировых событий.
Во внешней политике не может быть внезапных, очаровательных решений, которые всё наладят, разрешат. Дипломатия — это долгая, многоходовая, хитрая игра. Это требует выдержки и искусства.
У всех успешных министров был набор качеств, необходимых для дипломата высокого класса, — умение схватывать суть дела, вникать в детали и превосходная память. Чичерин говорил на всех основных европейских языках. Однажды он произнес речь по-латышски. Уже в солидном возрасте стал изучать древнееврейский и арабский языки.
Вышинский был очень образованным человеком с хорошо организованным мышлением профессионального юриста. Молотов и Громыко отличались уникальной памятью.
Шеварднадзе, который получил скудное образование, после назначения министром пришлось осваивать новую специальность. Он поражал своих помощников способностью вникнуть в суть обсуждаемой проблемы. Бессмертных и Козырев стали министрами, проработав всю жизнь в МИДе и изучив науку дипломатии. Примаков говорил по-арабски и по-английски. Познания у него были действительно академические.
Память и организованность Игоря Сергеевича Иванова вызывали зависть даже у его коллег. Он действовал с точностью хорошо запрограммированного компьютера, который не знает сбоев.
«Впервые я увидела Игоря Иванова, — пишет Мадлен Олбрайт, — когда он был заместителем Евгения Примакова. Тогда он показался мне несколько официозным. Позднее, когда он сменил Примакова на посту министра иностранных дел и мы узнали друг друга лучше, я смогла оценить его ум и обаяние. Однако, как и Примаков, он также умел быть неуступчивым».
Троцкий считал, что мировому пролетариату дипломатия не нужна, трудящиеся поймут друг друга и без посредников. Лев Давидович ненавидел тайную дипломатию. После него восторжествует привычка тайно договариваться об одном, а на публике провозглашать другое. Сталин восхищался английским стилем дипломатии, но считал ее просто доведенным до совершенства искусством обмана:
— Слова дипломата не должны иметь никакого отношения к действиям — иначе что это за дипломатия? Слова — это одно, а дела — другое… Искренняя дипломатия так же невозможна, как сухая вода или железная древесина.
Умение вести переговоры является высшим дипломатическим искусством. Советскую переговорную школу основал Вячеслав Молотов. Он не был дипломатом в традиционном понимании этого слова. Он не собирался очаровывать партнеров на переговорах, завоевывать друзей и союзников.
Упрямый и педантичный, он вел переговоры жестко и неуступчиво. Он говорил то, что считал нужным сказать. Если ему возражали, он, как граммофон, всё повторял заново и доводил партнера до исступления. Он был фантастически упорным, был готов стоять на своем до полного изнеможения. Он шел на уступки, только перепробовав всё, даже угрозы прервать переговоры. Он брал измором.
Его несгибаемость, нежелание пересматривать свои позиции кому-то кажутся положительными качествами. Но в политике они приносили стране ущерб. Потому что наталкивались на такую же нетерпимость и упорство. В Вашингтоне у Молотова появились достойные партнеры — столь же твердолобые.
Андрею Вышинскому иностранные дипломаты не доверяли, знали, что договориться с ним ни о чем невозможно, компромисс недостижим. Вышинский и не пытался убедить партнеров в необходимости принять советские предложения. Он лишь ругался и хамил.
Дмитрий Шепилов, человек более молодой, открытый и отнюдь не закосневший, умел слушать собеседника, и если тот говорил что-то разумное, соглашался с ним. Иностранные дипломаты, которые привыкли к Молотову и Вышинскому, были поражены, встретив нормального человека.
Громыко прошел молотовскую школу. В редкую минуту откровенности он поучал своих молодых помощников. Один из них, Олег Алексеевич Гриневский, записал его слова:
— Первое. Требуйте всё по максимуму и не стесняйтесь в запросах. Требуйте то, что вам никогда не принадлежало. Второе. Предъявляйте ультиматумы. Грозите войной, не жалейте угроз, а как выход из создавшегося положения предлагайте переговоры. На Западе всегда найдутся люди, которые клюнут на это. Третье. Начав переговоры, не уступайте ни на шаг. Они сами предложат вам часть того, что вы просили. Но и тогда не соглашайтесь, а выжимайте большее. Они пойдут на это. Вот когда получите половину или две трети того, чего у вас не было, тогда можете считать себя дипломатом…
С президентом Б. Н. Ельциным
Разносторонний Жак Ширак — и президент Франции, и переводчик Пушкина на французский язык
С министром иностранных дел Великобритании Р. Куком
У короля Иордании Хусейна вместе с Рафиком Нишановичем Нишановым — бывшим послом СССР в этой стране
Тарья Халонен была министром иностранных дел, а позже стала президентом Финляндии
С Ясиром Арафатом
Муамар Каддафи всегда принимал гостей в бедуинской палатке
Неужели опять премьер-министр Японии Коидзуми заговорит о «северных территориях»? 2005 г
Маркус Вольф — легендарный руководитель разведки ГДР. Справа — директор Службы внешней разведки России (СВР) С. Н. Лебедев. 2005 г.
С одним из самых эффективных региональных лидеров России Минтимером Шариповичем Шаймиевым. 2005 г.
В Государственной думе с членами фракции «Отечество — Вся Россия»
Евгений Примаков со своей второй женой Ириной Борисовной
С друзьями — великим поэтом Расулом Гамзатовым
и выдающимся ученым Михаилом Чоккаевичем Залихановым
С Александром Григорьевичем Лукашенко Евгений Максимович Примаков встречался много раз, по-дружески и плодотворно
С Ламберто Дини, министром иностранных дел Италии
На Валааме с А. А. Козициным и владыкой Панкратием. 2005 г.
В центре — выдающийся флотоводец адмирал Владимир Чернавин, однокашник Примакова по Бакинскому военно-морскому подготовительному училищу. Рядом с Примаковым — первый заместитель председателя правительства Москвы Людмила Швецова
С внучками на даче. 2006 г.
В гостях у издательства «Молодая гвардия»
С великим кинорежиссером и другом Георгием Данелия
В компании мидовцев
и выдающегося кардиолога Д. Г. Иоселиани (крайний справа)
С Гельмутом Шмидтом
В Торгово-промышленной палате работы не меньше, чем в правительстве
Пять председателей правительства России
С Михаилом Ефимовичем Фрадковым
Евгений Примаков и Владимир Путин в президиуме XIV съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. 2004 г.
Поистине мудрый, участливый и чуткий к судьбам страны и людей патриарх Алексий II
Вот какие советы Громыко-старший давал сыну, отправляя его на загранработу:
— В коллективе старайся вести себя ровно, не выпячивайся, будь поскромнее. Больше слушай, чем говори. Важно слышать не себя, а собеседника. Если не уверен, что надо говорить, лучше промолчи. И еще: не заводи дружбу с иностранцами, политикам и дипломатам она излишняя обуза.
Громыко был куда искуснее Молотова, что признал такой знаток дипломатии, как бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер. По его словам, Громыко не верил в счастливое озарение или в ловкий маневр. Это противоречило бы его врожденной осторожности. Он был неутомим и невозмутим. Если он выходил из себя, значит, эта вспышка была тщательно продумана.
Громыко никогда не начинал переговоры, не вникнув в суть дела. Было бы самоубийством начать переговоры с ним, не изучив досконально документов, признавался Киссинджер. Громыко высоко ценил подготовительную работу — подбор материалов к переговорам, считал, что это необходимо проделать самому, чтобы быть на высоте в момент переговоров. Министр не чурался черновой работы, поэтому часто брал верх над менее подготовленным и менее опытным дипломатом.
Он не допускал импровизаций, хотя импровизация — это необходимый элемент в дипломатии. Но во время холодной войны импровизация была опасным делом. Он мог часами вести переговоры, ничего не упустив и ничего не забыв. Перед Громыко лежала папка с директивами, но он ее не открывал, вспоминает его главный переводчик Виктор Михайлович Су-ходрев. Если речь шла о сложных разоруженческих материях, где масса цифр и технических подробностей, то он сверялся с цифрами. Всё остальное держал в голове, хотя его коллеги, в том числе американские госсекретари, преспокойно доставали толстые папки и зачитывали самое важное.
Громыко серьезно изучал своего будущего партнера на переговорах, читал его биографию, пытался понять его методы ведения беседы, расспрашивал наших послов об этом человеке. Он хорошо владел английским языком, но обязательно требовал перевода. Хитрость Громыко состояла в том, что он получал дополнительное время для размышлений. Пока переводчик переводил, он обдумывал ответ.
Громыко был бесконечно терпелив. Он старался измотать противника, торгуясь с ним по каждому поводу. Переговоры превращались в испытания на выносливость. Громыко полагался на нетерпеливость своего оппонента, а сам уступал лишь тогда, когда разочарованный партнер уже собирался встать, чтобы прервать переговоры. Не раньше.
Он умело выторговывал серьезные уступки в обмен на незначительные. Он пользовался нетерпением своих партнеров и вытягивал из них согласие. Он никуда не торопился. Он как бы исходил из того, что всегда будет министром.
Громыко полагал, что благодаря этому он кажется менее заинтересованным в достижении соглашения, чем американцы, и эта обескураживающая демонстрация отсутствия гибкости с его стороны вынудит американцев на новые уступки. Громыко изображал твердокаменность особенно убедительно. Только уверившись, что лимон выжат до конца, Громыко переходил к следующему вопросу. Он накапливал второстепенные выигрыши, пока они не суммировались в крупный успех.
Киссинджер заметил, что Громыко для начала всегда занимал твердокаменную позицию. Это основное правило покера — не раскрывай своих карт, пока не узнаешь карт противника. Независимо от того, какие предложения Громыко был уполномочен обсудить, он всегда на первой встрече повторял старые позиции и старые возражения. На следующей стадии Громыко сварливо перечислял все те необоснованные требования, которые американцы выдвигали прежде. Затем он пускался в разглагольствования о терпеливости и великодушии его собственного правительства. Это была увертюра. Громыко был по этой части подлинным виртуозом.
По словам Киссинджера, переговоры с советскими дипломатами превращались в испытания на выносливость. Нельзя было ждать уступок до тех пор, пока советский партнер не убеждался сам и не убеждал своих московских начальников в том, что другая сторона исчерпала свою гибкость.
Громыко часами мог выбивать из собеседника самые крохотные уступки. Ему почти всегда удавалось сделать так, чтобы за ним было последнее слово, вспоминал Виктор Сухо-древ. Правда, Киссинджер ему не уступал, он тоже хотел, чтобы его слова завершали встречу, поэтому их беседа никак не могла закончиться.
Громыко, завершая беседу, коварно говорил:
— Ну что же, я могу, вернувшись в Москву, доложить советскому руководству и лично Леониду Ильичу, что американская сторона считает…
И тут он начинал излагать американскую позицию, чуть-чуть приближая ее к своей, слегка играя словами. Неопытные собеседники не знали, что делать: Громыко вроде бы всего лишь повторял их слова, а в реальности слегка сдвигал их позицию. В следующий раз он продолжал давить дальше, отталкиваясь от уже достигнутого.
Как писала одна британская газета, его манера вести переговоры напоминала бормашину: она была проникающей, непрерывной и болезненной. Однако со временем эта тактика стала оборачиваться против самого Громыко. Иностранные дипломаты сообразили, что если проявить достаточную выдержку, то можно заставить самого Громыко идти на уступки. Они играли с ним в его же игру.
Если переговоры слишком затягивались, Громыко торопился поскорее подписать соглашение. Его охватывало опасение, что в последний момент партнер сыграет с ним злую шутку и откажется от уже достигнутого и тогда ему придется отвечать за провал переговоров перед политбюро.
Инициативы Громыко никогда не проявлял и учил сотрудников:
— Выполняйте инструкцию. Нет инструкции? Тогда сидите и ждите, когда она появится.
Громыко пунктуально выполнял инструкции, которые фактически сам себе составлял — члены политбюро просто утверждали написанную министром записку. Но даже инструкция всегда предусматривала возможность уступки, компромисса, чтобы получить уступку взамен. А Громыко патологически не любил переходить на запасную позицию. Хотя, не выходя за рамки инструкции, он мог согласиться на некие уступки. Так всегда делается. Многолетний посол в Вашингтоне Анатолий Федорович Добрынин рассказывал, как он предлагал Громыко:
— Андрей Андреевич, используйте запасную позицию, я чувствую, что Киссинджер на нее согласится.
— Чувствовать мало, вы можете мне гарантировать, что он согласится?
Громыко без нужды затягивал дело и упускал возможность заключить соглашение на выгодных условиях, терял удобный момент. Тем временем в Вашингтоне появлялся новый президент, и приходилось подписывать соглашение на куда менее выгодных условиях.
Иногда министр напускал на себя суровость и бескомпромиссность, боясь, что товарищи по политбюро обвинят его в слабости по отношению к классовым врагам. Иногда он зарывался, обещал Брежневу, что добьется большего, чем мог. Тогда переговоры едва не срывались, и уже самому Громыко приходилось чем-то серьезно жертвовать. «Загнанный (часто самим собой) в угол, — пишет бывший посол в ФРГ Валентин Фалин, — он не считал зазорным жертвовать капитальными ценностями».
Министру не хватало гибкости. Торговаться — это правильно, но надо знать меру. Погнавшись за мелочами, можно упустить главное. Громыко патологически не любил уступать, затягивал переговоры в надежде что-то еще выбить у американцев и иногда терял всё.
Советские дипломаты не привыкли задавать вопросы: зачем и почему? Они исполняли инструкции. Эдуард Шеварднадзе первым стал спрашивать: а в чем именно состоит реальный интерес нашей страны? Каковы наши цели и какую цену мы готовы заплатить за их достижение? Бесплатно ведь ничего не получается. Вопрос: что важно для России? — был для него главным.
Ссориться и упрямиться в дипломатии проще всего. Значительно труднее договариваться.
Переговорный стиль Примакова отличался тщательным подбором аргументов и ясностью изложения. Примаков не спорил только ради спора. Он, напротив, стремился к тому, чтобы убедить партнеров и добиться согласия. Сама практика современной дипломатии настраивает на поиск компромисса. Конечно, Россия, как постоянный член Совета Безопасности, может блокировать любое решение, наложив вето на резолюцию, которая ей не нравится.
Но хорошо помню наш разговор с Сергеем Лавровым, когда он еще был представителем в ООН. Он сказал, что воспользовался правом вето всего несколько раз. Объяснял:
— Да, мы можем раз наложить вето, второй раз наложить вето. И что будет? Это приведет к тому, что другие страны махнут рукой на ООН и начнут действовать в обход нас. И что толку потом возмущаться? Нужно достигать компромисса.
Иногда наши дипломаты жалуются: мы такие вежливые, воспитанные, интеллигентные, а приходится иметь дело с жесткими американскими дипломатами. Трудно…
— Не стоит противопоставлять жесткость и интеллигентность, — говорил мне Сергей Лавров. — Можно мягко стелить, да жестко будет спать. Дипломатия должна быть дипломатичной. Жесткой позиция должна быть по сути, а не по форме.
По словам помощников, Примаков редко использовал запросные позиции, как это часто делают дипломаты, чтобы потом уступить и взамен потребовать уступки от партнера. Если Примаков считал, что его аргументация точна и справедлива, то он отстаивал это решение. Но он не страдал косностью. Если партнер выдвигал аргументы, которые казались ему убедительными и он их принимал, то он мог внести коррективы в собственную позицию.
Министр должен тщательно подготовиться к переговорам. Но где взять на это время? Можно ненадолго закрыться в кабинете, приказать секретарям ни с кем не соединять, но в мире постоянно что-то происходит, и все требуют министра к ответу… Министры работают по двенадцать — четырнадцать часов в сутки — для них это нормальный ритм жизни.
Опытные министры радуются, когда предстоят переговоры за океаном. Тогда есть время поработать в полете. А к разговору с коллегой-министром надо изучить пачку документов страниц в триста — пятьсот, где собрано всё, что относится к этой проблеме.
Помощники Примакова с восхищением рассказывали, что он читал все памятки, которые ему готовили к переговорам, и возвращал их, с серьезной правкой, на переработку. Примаков работал над каждым документом, который ему давали.
По старой журналистской привычке, когда ему приносили документ, он начинал его править. Он никогда в раздражении не бросал помощникам непонравившуюся бумагу: переделайте! Нет, перечеркнет текст и начнет писать сам. Однажды, когда он уже взялся за ручку, помощники поспешили его остановить:
— Евгений Максимович, не правьте! Этот документ уже передан в печать.
Примаков с видимым неудовольствием отложил ручку.
Не менее внимательно он выслушивал доклады своих экспертов и многое запоминал. Жизненный опыт, академический склад ума и просто сильный интеллект позволяли ему четко выстраивать в уме план беседы. А когда выстроена логическая цепочка, вовсе не обязательно заглядывать в шпаргалки, подготовленные к переговорам. Он, естественно, держал все материалы перед собой, хотя в принципе цифры, факты и даты министрам запоминать вовсе не обязательно.
На неформальных переговорах принято вытащить из кармана справку-шпаргалку и, сверяясь с ней, высказаться по какой-то проблеме. Если нужна помощь, то министры не стесняются пригласить нужного специалиста. Ничего страшного, если у министра нет ответа на неожиданно заданный вопрос. И Козырев, и Бессмертных в один голос говорили мне, что значительно разумнее попросить время на размышление и дать ответ попозже.
Министры, конечно, очень откровенны в личных разговорах. Один другому скажет на ухо то, что не произнесет публично. Но только в том случае, если твердо знает, что партнер не разгласит конфиденциальную информацию. Между министрами должно быть доверие даже в том случае, если они ни о чем не договорились, если они придерживаются противоположных точек зрения.
Иногда, правда, применяется такая стратегия: во время встречи один на один внезапно поставить перед коллегой-министром вопрос, к которому тот не готов. Обычно это делается в тех случаях, когда имеют дело с импульсивным и амбициозным человеком, новичком в дипломатии, который органически не способен признать, что он чего-то не знает. Или в надежде сыграть на самолюбии министра, если он любит прихвастнуть: вот, дескать, я способен на то, на что не способны другие.
Бывали министры, которые вызывали страх у подчиненных: не пообещает ли неопытный начальник сгоряча на рыбалке, на охоте или в бане что-то такое, что нанесет ущерб интересам страны? Но объятия и поцелуи не должны вводить в заблуждение. Политики никогда не перестают быть политиками. Душевных порывов на таких встречах не бывает. Опасения насчет того, что, расчувствовавшись, министр совершит необдуманный поступок, безосновательны. Министры держат себя в руках. И заранее знают, до какого рубежа они могут отступать, чтобы добиться нужного компромисса.
А даже если у министра и вырвется неосторожное словечко, практических последствий это иметь не будет. Официальный представитель МИДа сразу же опровергнет это заявление, объяснит, что министра не так поняли. Последствия такой попытки взять партнера на пушку весьма плачевны: между двумя министрами, а следовательно, между двумя государствами исчезает доверие, отношения ухудшаются.
Есть еще одно твердое правило — на переговорах нельзя врать. Об этом обязательно станет известно — и министру всегда будут тыкать в нос, что он однажды соврал. Классическая дипломатия предполагает недосказанность: я говорю тебе правду, но не всю правду. Современная дипломатия так стремительна, что не остается времени на недосказанность. Надо говорить прямо, как есть, иначе будет потеряно дорогое время.
Только дилетанты думают, что умный дипломат должен давать каждой стороне разное объяснение мотивов своих действий. Надо, разумеется, уметь воздействовать на собеседника, добиваясь нужного результата, но более тонкими методами. В этом и заключается дипломатическое искусство.
Скажем, на переговорах с арабами нельзя показывать свое разочарование, скептицизм, недовольство. Надо демонстрировать дружелюбие и оптимизм, даже если переговоры идут ко дну. Этим и объяснялась широкая улыбка Примакова, которая не сходила с его лица, пока он ездил по Ближнему Востоку. А эту улыбку ошибочно трактовали как проявление радости от встречи с Саддамом Хусейном или покойным сирийским президентом Хафезом Асадом…
А в Японии дипломату не стоит удивляться, если все собеседники сидят с закрытыми глазами и, кажется, спят. На самом деле это они особенно внимательно слушают.
Американцы не выносят партнеров-жалобщиков, которые просят войти в их положение. Так можно с европейцами — поплакать им в жилетку, посетовать на трудную жизнь… Американцы воспримут это как слабость. Американцы уважают сильного партнера и не любят играть. Классическая дипломатия им не подходит. Они предпочитают ясность и определенность.
По мнению Александра Бессмертных, дипломату рекомендуется играть в шахматы, без комбинационных способностей он немногого добьется. Дипломат мыслит так же, как шахматист, просчитывает все вероятные повороты дискуссии, чтобы добиться нужного результата. Но в отличие от шахмат победа над противником в дипломатии невозможна: ломать противника нельзя, нужны диалог и компромисс. Примаков прожил большую жизнь и хорошо знал, как убеждать людей.
Жесткая дисциплина в Министерстве иностранных дел располагала самих министров к диктаторству. Нравы были суровые. Молотов не признавал за подчиненными права на ошибку, ругался:
— Вы селедка, а не дипломат.
Если кто-то из помощников заболевал, Молотов его увольнял, считая, что взрослый и серьезный человек не позволит себе простудиться. Болезнь — свидетельство расхлябанности. Андрей Вышинский измывался над подчиненными. Из его кабинета людей выносили с сердечным приступом.
Шепилов был самым демократичным и доступным министром. Когда он вылетал в Каир для встречи с новым египетским лидером Насером, его спросили, кому из помощников с ним лететь. Шепилов удивился:
— А зачем? Переводчик есть в посольстве, а портфель я сам могу носить.
Советские дипломаты обрели тогда министра, совершенно не похожего на своих предшественников. Шепилов, возможно, единственный министр, который ни разу ни на кого не накричал. Он с уважением относился к работе дипломатов, не придирался к своим помощникам.
Андрей Козырев, впрочем, тоже никогда не кричал на подчиненных, потому что склонен был говорить шепотом и почти никогда не выходил из себя.
— Вы когда-нибудь выходите из себя, повышаете голос? — спрашивал я Козырева.
— Редко. Толку-то от этого никакого нет. Но это не значит, что я глубоко не переживаю, что у меня нет сильных страстей и пристрастий, скажем, политических. Просто я считаю необходимым держать их при себе.
Попасть в кабинет Громыко на седьмом этаже высотного здания на Смоленской площади было невероятно трудно. Громыко превратился в небожителя. Рядовые сотрудники министерства видели своего министра только на портретах, которые по праздникам носили по Красной площади. Андрей Андреевич внешне был очень суров. Своих помощников и заместителей называл только по фамилии, даже если работал с ними не один десяток лет. Но в реальности он не был злым и даже снисходительно прощал ошибки.
Евгений Примаков заботливо относился к своим сотрудникам, готов был выручить их из беды, но предпочитал людей сильных, самостоятельных и способных постоять за себя. Начальник одного из департаментов рассказывал, что, когда его повышали в должности, последовал вызов к Примакову. Министр сидел за столом мрачный. Рядом расположился его помощник Роберт Маркарян, не менее мрачный. Примаков, глядя в бумаги, стал говорить:
— Мы хотим назначить вас… Это ответственная должность. Будет трудно. Как вы считаете, справитесь?
Кандидат на ответственную должность бодро ответил:
— Если бы я не считал, что смогу справиться, я бы не согласился занять этот пост.
— Хорошо, — сказал Примаков. — Вы назначены.
Потом начальнику департамента передали, что Примакову ответ понравился. А почему же министр был мрачным? Он проверял новичка, хотел посмотреть, способен ли тот держать удар.
К Примакову сотрудники ходили на доклад с некоторой опаской. Не потому, что боялись разноса или дурного настроения. Зная его колоссальный опыт, знания, интеллект, понимали, что разговаривают с человеком, который на несколько голов их выше, и боялись опростоволоситься.
Примаков вообще не распекал. Он огорчался, если выяснялось, что дело не сделано:
— Как же так? Ведь очевидно, что надо было сделать…
Если он кому-то пообещал, то обязательно делал. Поэтому и сам огорчался, когда его поручения не исполнялись. По-человечески расстраивался. Видно было, что это не сердитый начальник, который требует беспрекословного подчинения, а человек, который болеет за дело. И он всё помнил. Мог неожиданно, через пару недель, спросить: а как то поручение, которое я вам дал? Причем помнил даже второстепенные задания, которые вовсе не имеют судьбоносного значения…
Неутомимый и добросовестный труженик, идеалист, преданный делу Георгий Васильевич Чичерин казался странным человеком. Его революционный аскетизм отпугивал. Убежденный холостяк, затворник, он превратил кабинет в келью и перебивался чуть ли не с хлеба на воду. Единственным развлечением Чичерина была кошка. Чичерин жил рядом со своим кабинетом, считая, что нарком обязан находиться на боевом посту, требовал, чтобы его будили, если надо прочитать поступившую ночью телеграмму или отправить шифровку полпреду. Он вообще мало спал, ложился под утро. Иностранных послов мог пригласить к себе поздно ночью, а то и под утро.
Молотов на прелести жизни тоже не обращал внимания. Расслабляться не умел. Выпивкой не увлекался. Не одобрял даже игру в шахматы, считал, что единственное стоящее занятие в жизни — это работа.
Литвинов в сравнении с ними был жуиром, любил светскую жизнь, с удовольствием носил введенную тогда дипломатическую форму, которая ему шла, ходил на приемы, охотно танцевал, играл в бридж.
Вышинский был сибаритом — любил жизнь во всех ее проявлениях, ценил хорошие вина, тонкую европейскую кухню. В министерстве у него была одна дама пышных форм, которая в конце концов стала решать все кадровые вопросы. Дипломаты перед ней унижались. Вышинский находил время для тесного общения и с другими юными барышнями, желавшими устроиться на работу в МИД.
Шепилов был страстным любителем и ценителем музыки, прекрасно в ней разбирался. Дмитрий Трофимович при первой же возможности отправлялся в Большой театр. В компании пел дуэтом с Иваном Козловским. Дмитрий Шостакович дорожил его мнением и всегда приглашал послушать, когда исполнялось что-то из его произведений.
Громыко даже скрывал от подчиненных, что когда-то в молодости курил. Он практически не пил, рассказывая близким, что в детстве в Белоруссии хлебнул спирта, страшно отравился и с тех пор не выносил алкоголя. На официальных приемах держал в руке фужер с шампанским, но отхлебывал чисто символически. На своем юбилее первым делом попросил гостей тостов не произносить.
Он много читал — особенно увлекался исторической литературой. Один из его помощников регулярно прочесывал букинистические магазины в поисках редких книг. И пока Громыко книгу не прочитывал, в шкаф не прятал.
Громыко вел размеренный образ жизни, следил за собой. Делал зарядку с гантелями. Много ходил — в день вышагивал километров десять. В отпуске плавал и заносил в специальную тетрадочку, сколько проплыл. Из еды предпочитал гречневую кашу, пил чай с сушками и вареньем. Друзей у него не было. Он был похож на машину, даже родные находили в его характере что-то немецкое. Один раз он рассказал дома анекдот, и все его запомнили.
— Что было до Сотворения мира? — хитро спросил Громыко и, сделав паузу, торжествующе ответил: — Госплан!
Еще одну шутку Громыко пересказал его заместитель Михаил Капица. Во время разговора с премьер-министром Вьетнама Фам Ван Донгом Громыко вдруг спросил:
— Знаете, что такое обмен мнениями?
И сам ответил:
— Это когда товарищ Капица приходит ко мне со своим мнением, а уходит с моим.
И Громыко радостно захохотал.
Молодой Козырев увлекался теннисом и горными лыжами. Примаков человек неспортивный, но каждое утро начинал с бассейна и не отказывал себе в хорошем и веселом застолье.
В сравнительно небольшом, вытянутом, как пенал, кабинете на седьмом этаже высотного здания на Смоленской площади Примаков был девятым хозяином. Первым стал Андрей Вышинский, при нем Министерство иностранных дел в 1952 году переехало сюда с Кузнецкого Моста.
Общего между сменявшими друг друга министрами было мало, но обстановка в кабинете почти не меняется. Возможно, из скромности, возможно, из суеверия — только ремонт затеешь, тут тебя и уволят, — министры на внутренние перестановки в кабинете не решались.
Мебель скучная, канцелярская, большой стол, крытый зеленым сукном, сбоку — приставка с традиционным набором телефонов: внутриминистерские, обычные городские, два аппарата правительственной связи — АТС-2 (для разговора с чиновниками средней руки) и более важная АТС-1 (это уже для министров и некоторых заместителей), массивный аппарат междугородной ВЧ-связи (можно поговорить с губернаторами, командующими военными округами, начальниками местных управлений Федеральной службы безопасности и послами в бывших социалистических странах) и, наконец, признак принадлежности к узкому кругу высших государственных чиновников — аппарат, на котором две буквы «СК».
Это спецкоммутатор, который позволяет в считаные минуты связаться с президентом, главой правительства и еще примерно с тридцатью абонентами. Телефонистки найдут нужного человека из-под земли и соединят.
За столом — дверь в комнату отдыха, откуда и появился Примаков, когда летом 1998 года я пришел к нему для подробного интервью.
— Вот вы оказались в кабинете министра иностранных дел, сели в это кресло и сказали себе: ну, теперь я наконец сделаю то, что давно хотел осуществить…
Примаков покачал головой:
— У меня не было такого чувства. Я не стремился стать министром, чтобы что-то такое осуществить. Может, это черта моего характера. Я работал до этого и в «Правде», и на радио, потом был в Академии наук, руководил двумя крупными институтами, и в Верховном Совете, и где бы я ни был, мне везде казалось, что я работаю на очень важном участке. Ну и в разведке, конечно. Так что это не было целью всей жизни — стать министром иностранных дел. Но я пришел сюда не как новичок. У меня был опыт, и я стал работать без раскачки.
— Чего бы вам хотелось добиться на посту министра? Может быть, это нечто недостижимое, тогда о чем вы мечтаете?
— Нет, всё достижимо. Я считаю, что задачи, которые мы решаем, вполне посильны. Задачи ставит президент, решаем мы вместе с коллегами. У нас очень дружная команда работает во главе министерства. Мы все единомышленники. Мы хотим облегчить стране решение всех внутренних проблем, а это можно сделать только одним путем — сохраняя Россию в качестве великой державы одним из главных игроков на международной арене. Мы стремимся к этому, и кое в чем нам это удается. Вот вам пример. В то время, когда мы вынуждены просить различные кредиты, с нами считаются в международных делах и от нас очень многое зависит. И все понимают, что нами пренебрегать нельзя. Разве этот контраст не важен для страны, для того, чтобы наши люди сознавали себя гражданами великой державы? Так что кое-чего можем добиться.
— Какие главные направления во внешней политике вы считаете для себя главными?
— Я бы не формализовал цели, — ответил Примаков. — Философия внешней политики для России состоит в том, чтобы защищать национально-государственные интересы, но при этом сделать всё, чтобы не сползать к конфронтации. Можно ведь посчитать по-разному. Кончилась холодная война, и кто-то думает, что мы проиграли. Я так не думаю. Демократическая Россия холодной войны не проигрывала. Поэтому мы не можем себе позволить быть ведомыми в международных отношениях, идти за единственной сверхдержавой и любой ценой добиваться принятия в цивилизованный мир. Отнюдь нет. Я считаю это неправильным. Безусловно, нам нужно выправить отношения с бывшими противниками по холодной войне, переведя эти отношения в разряд партнерских. У нас огромное поле совпадающих интересов. Есть новые опасности, против которых мы должны бороться вместе. Всё это так. Но давайте поговорим о цене! Если мне скажут, что вы должны вопреки вашим интересам, вашему видению ситуации, вопреки общественному мнению вашей страны повторять то, что предлагает НАТО, я на это не пойду. Вопреки всему я действовать не могу. Например, нам удалось предотвратить удар по Ираку (напомню, разговор проходил в июне 1998 года. — Л. М.). Цель у нас одна — запретить орудие массового поражения. Но мы же не могли, пренебрегая собственными интересами и наперекор общественному мнению, подключиться к силовым акциям и ударить по Ираку. Никто меня не заставит как министра это сделать. Мы пошли по другому пути, успешно сыграли и при этом чувствовали себя частью мирового сообщества.
— Евгений Максимович, общественное мнение имеет для вас значение при формировании внешней политики?
— Разумеется. Есть очевидные вещи. Есть консенсус в отношении НАТО. Может быть, существует тончайший слой людей, который считает благом расширение НАТО, а все другие считают, что это плохо. Преобладающее большинство и создает общественное мнение, его и учитывает МИД…
Назначение Примакова на пост министра иностранных дел было неприятным сюрпризом для западных стран. Там его знали как начальника разведки и как человека, который на глазах всего мира обнимался с иракским лидером Саддамом Хусейном — накануне первой войны с ним. В Соединенных Штатах эту поездку восприняли с обидой. А Примакова зачислили в разряд политиков, настроенных антиамерикански. Хотя Примаков летал к Саддаму не по собственной инициативе, а выполняя поручение президента Горбачева. Объятия в арабском мире носят ритуальный характер. Обниматься могут и злейшие враги, если они встречаются на публике.
Уклониться от объятий Примаков не мог и не хотел, потому что расчет и строился на том, что иракский лидер прислушается к человеку, которого он знает, к которому на Ближнем Востоке относятся с уважением, выведет войска из Кувейта и военная операция не понадобится. Причем и Горбачев, и Примаков полагали, что, если бы американцы не торопились с военной операцией, можно было всё-таки дипломатическими средствами заставить Саддама в 1991 году уйти из оккупированного им Кувейта.
Саддам Хусейн доводы Примакова отверг и сам себя наказал: Ирак потерпел оглушительное военное поражение. Но кадры, запечатлевшие дружескую встречу Саддама и Примакова, вошли в историю и стали для американцев символом антиамериканской деятельности.
Назначение Примакова на пост министра иностранных дел в начале 1996 года на Западе приравнивалось по значению с приходом когда-то Юрия Андропова на пост генерального секретаря. Не столько по сходству биографий — Евгений Максимович тоже пришел из спецслужбы, а потому что предполагали в Примакове готовность так же жестко и безжалостно служить российскому империализму.
Американцы писали и говорили, что Примаков — сторонник восстановления единого Советского Союза и попытается восстановить контроль Москвы над ближним зарубежьем. В ущерб отношениям с Западом он постарается оживить стратегическое партнерство с наиболее опасными режимами в мире — Ираком, Северной Кореей, Ливией и Ираном…
Впрочем, личное знакомство с Примаковым несколько успокоило западных политиков.
Первым посмотреть на Примакова приехал министр иностранных дел Германии Клаус Кинкель, который тоже когда-то возглавлял разведку ФРГ. Так что они дважды коллеги. Вслед за Кинкелем с Примаковым встретился французский министр иностранных дел Эрве де Шаретт. Примаков пустил в ход всё свое обаяние и даже, по словам французских дипломатов, отругал Ирак и Ливию за поддержку терроризма.
— В нем не было и следа советской агрессивности, — успо-коенно заметили французы.
Министр Шаретг с галльской галантностью добавил:
— Я не считаю, что господин Примаков жесткий человек, — он достаточно теплый.
Что же в целом изменилось во внешней политике за те два с половиной года, что Примаков был министром?
Игорь Иванов, когда еще был первым заместителем Примакова, сформулировал это так:
— Важнейшее достижение российской дипломатии состоит в том, что в нелегкий период реформирования страны удалось утвердить статус России как великой державы.
Свою главную задачу Примаков видел в том, чтобы объяснить миру: Россия — великая держава, которая испытывает всего лишь временные трудности, и весьма близоруко пытаться на этом нажиться. Примаков считал своим долгом твердо напоминать всем, что Россия существует и ее мнение надо учитывать. Примаков показал, что не позволит уменьшить вес и влияние России там, где они есть, во-первых, и будет биться за их повсеместное расширение — во-вторых. Больше никаких уступок — так можно охарактеризовать лозунг Министерства иностранных дел при Примакове.
Примаков заговорил о многополюсном мире. Что он имел в виду? Плохо, когда в мире осталась одна сверхдержава, то есть Соединенные Штаты, и всё крутится вокруг нее. Примаков говорил, что мы будем развивать отношения и с Западом, и с Востоком, и с теми, кто нам нравится, и с теми, кто нам не нравится.
Российская дипломатия возобновила сотрудничество со старыми друзьями — Ираком, Ираном, Сербией. Открыто демонстрировала трения и противоречия с Соединенными Штатами — единственной страной, с которой Россия любит себя сравнивать.
В Минске Примаков сказал: для России Белоруссия — «особый союзник, особый партнер, особый брат». Поехал в Иран, где заявил, что выступает против наращивания военного присутствия в зоне Персидского залива. А чьи там военные корабли? Американские.
Примаков счел нужным побывать на Кубе. Его предшественник, Андрей Козырев, Фиделя Кастро избегал принципиально, считая, что экономических интересов на Кубе у России нет, а вести пустые разговоры с Кастро — времени жалко. А Примаков был на острове не в первый раз.
Двадцать пятого октября 1994 года Примаков (еще в роли директора СВР) прилетел на Кубу для переговоров с начальником кубинской разведки Эдуардо Дельгадо. В Гаване Евгений Максимович отметил свое шестидесятипятилетие. Российский посол, Арнольд Иванович Калинин, устроил прием в честь московского гостя. Поздравить его пришли Фидель и Рауль Кастро, хотя по соображениям безопасности они старались вместе не появляться. Примаков вел беседы с братьями о том, как восстановить отношения двух стран на новой основе, не идеологической. Куба попала в трудную экономическую ситуацию. Фидель просил Примакова передать американцам, что заинтересован в улучшении отношений с Вашингтоном.
Примаков совершил длительные поездки по Ближнему Востоку. Он продемонстрировал знание Востока и умение ладить с восточными лидерами. Побывал и в арабских странах, и в Израиле. Но стало заметно возвращение к прежней расстановке фигур на доске: Соединенные Штаты больше поддерживают Израиль, а Россия тяготела к старым друзьям в арабском мире, прежде всего к Сирии.
Внешняя политика должна была помогать внутренней, это Примаков считал своей важнейшей задачей. В январе 1996 году он ездил по арабским странам, обеспечивая их поддержку российской политике в Чечне. По его просьбе хозяин Ливии полковник Муамар Каддафи позвонил генералу Джохару Дудаеву, чтобы «остудить» эмоции чеченского лидера.
В ноябрьские дни 1990 года в Грозном был создан Общенациональный конгресс чеченского народа. В Москве на это событие мало кто обратил внимание. Председателем исполкома конгресс избрал соотечественника, которым гордились, — генерал-майора Джохара Дудаева, командира дивизии авиации стратегического назначения с афганским опытом. Судя по всему, генералу Дудаеву отводилась чисто представительская роль. Но не таков был генерал. Он оставил службу, вместе с семьей переехал в Грозный и очертя голову ударился в политику.
После августовского путча, 4 сентября 1991 года, Дудаев объявил Верховный Совет республики низложенным и заявил, что Чечня должна стать независимой. 27 октября Дудаев был избран президентом Чеченской Республики. 1 ноября первым же своим указом Дудаев объявил Чеченскую Республику суверенным и независимым государством.
Первые годы в Москве вовсе не знали, что с ним делать. С ноября 1994 года началась силовая операция — не слишком удачная, но очень кровопролитная. Люди каждый день видели на экранах телевизоров, как гибнут наши солдаты. Хотя у федеральной власти бывали и успехи. В ночь на 22 апреля 1996 года был убит Джохар Дудаев. Считается, что запеленговали его спутниковый телефон и нанесли удар самонаводящейся ракетой. Во главе Чечни встал вице-президент Зелимхан Яндарбиев. Реальная власть была в руках командующего чеченскими войсками недавнего полковника-артиллериста Аслана Масхадова.
Шестого августа 1996 года на рассвете в Грозный, не встретив сопротивления, вошли отряды боевиков, которые по сообщению военного командования уже давно были уничтожены. Федеральные силы были раздроблены и блокированы в разных частях города. В эти дни в Грозном погибло около полутысячи солдат федеральных войск. Это был удар по репутации армии и спецслужб.
Девятого августа Ельцин, вновь избранный президентом, вступил в должность. На следующий день он объявил траур в связи с потерями в Чечне и назначил секретаря Совета безопасности Александра Ивановича Лебедя своим представителем в Чечне. Лебедь предложил Ельцину прекратить боевые действия и вывести федеральные войска из Чечни. Ельцин принял план Лебедя.
Тридцатого августа в Хасавюрте секретарь Совета безопасности и помощник президента генерал Лебедь и командовавший войсками чеченских сепаратистов бывший полковник Советской армии Аслан Масхадов подписали совместное заявление о принципах дальнейшего переговорного процесса. В этом документе был заложен принцип «отложенного статуса» Чечни, смысл которого — оставить решение этого болезненного вопроса на будущее, а пока что попытаться наладить какое-то сотрудничество. Договорились, что политическое соглашение о статусе Чечни будет подписано до 31 декабря 2001 года. В конце 1996 года закончился вывод федеральных войск.
Тогда некоторые генералы обвиняли Лебедя чуть ли не в предательстве, что он помешал им полностью уничтожить чеченские боевые отряды. Александр Лебедь многим не нравился, однако же трудно увидеть в нем антиармейски настроенного человека, который только и думал о том, как бы нагадить товарищам по оружию. В 1996 году генерал-лейтенант Лебедь еще не сносил своего первого гражданского костюма и лучше других видел состояние Российской армии, увязшей в Чечне. По его мнению, усталые и равнодушные солдаты войну выиграть не могли.
Ельцин твердо сказал, что Чечне не будет предоставлена независимость. Министр иностранных дел Евгений Примаков предупредил иностранных послов, что признание независимости Чечни повлечет за собой разрыв дипломатических отношений.
Когда Примаков стал министром, на первой же пресс-конференции его спросили: каким образом он намерен исправить ошибки Козырева? Евгений Максимович ответил:
— Я не считаю достойным давать публичные оценки своим предшественникам. Это не мой стиль.
Он сильно огорчил некоторое количество аппаратчиков, ненавидевших Андрея Козырева и придумывавших о нем разные небылицы. Бывший секретарь Омского обкома Владимир Степанович Новосельцев, переведенный на дипломатическую работу, возглавлял Управление комплексной безопасности МИДа (защита гостайны, соблюдение режима секретности, пропускная система в министерстве и охрана зданий). Он рассказывал:
«На прием ко мне напросился сотрудник СВР, с которым я раньше встречался в Нью-Йорке. Принимая его у себя на двадцатом этаже, я попытался обрисовать ему ситуацию в стране и в Москве. Затем разговор перешел на жизнь их постоянного представительства, проблемы и трудности. Наконец он приступил к делу, ради которого пришел.
— Владимир Степанович, нам надо вместе написать письмо президенту Ельцину о поведении Козырева.
— О чем?
— Ну, хотя бы о том, что Козырев, прибывая в командировку в Нью-Йорк, каждый раз первым делом наносит визит раввину города, то же он делает и по окончании пребывания в Нью-Йорке. Есть и другие темы для письма.
— А ваш академик знает об этом?
— Такую информацию он получает.
— Но, в таком случае, Евгений Максимович должен немедленно доводить такую информацию о министре до президента?
— Я думаю, он так и поступает.
— Тогда зачем мы будем информировать президента второй раз о том, о чем он знает, но никаких мер не принимает?»
Назначение новым министром Примакова бывшего секретаря обкома не порадовало:
«Думалось, что в МИДе произойдут благотворные изменения, команду “козырят” разгонят, но они, по чьему-то хотению, все как один остались на своих местах».
Примаков и Козырев могли себя поздравить с тем, что они отошли от практики, когда бывший министр поливает грязью преемника, а преемник, в свою очередь, всё валит на ушедшего. О линии Козырева Примаков отозвался весьма иносказательно, когда выступал в Институте мировой экономики и международных отношений:
— Нашлись и у нас последователи Мао Цзэдуна, любившего повторять: «Для того, чтобы выпрямить палку, нужно ее перегнуть».
Он имел в виду, что время безоговорочного, по его мнению, согласия с американцами (что происходило во время позднего Горбачева и раннего Ельцина) прошло. Но американские политики считали, что Примаков вообще испытывает глубокое недоверие к Соединенным Штатам. Действительно ли Примаков не любит Соединенные Штаты?
— Назвать его антиамериканистом было бы слишком просто, да и неправильно, — говорил мне академик Александр Яковлев. — Когда Примакова назначили министром, я сказал американцам: хорошо, что его назначили. Они возмутились: «Что же хорошего, он опять холодную войну начнет!» Не начнет, ответил я. А вот вам придется формулировать свою позицию с учетом того, что существует Россия. А то она для вас иногда есть, иногда нет. Примаков твердо будет напоминать вам, что Россия есть.
Почему же всё-таки Примакова считают проводником антиамериканской линии?
Владимир Олегович Рахманин, молодой высокообразованный дипломат с живым умом и очень искренний человек, назначенный Примаковым на пост начальника Департамента печати и информации (впоследствии посол в Ирландии), ответил мне эмоционально:
— Я не соглашусь с тем образом Примакова, который иногда пытаются создать. Разговоры о том, что он был руководителем разведки и поэтому он антиамерикански настроен — это чепуха. А кем был Буш-старший? Разве он не руководил ЦРУ? Это не аргумент. Или другой аргумент — друг Саддама Хусейна, друг Милошевича. Очень сомнительный тезис. Примаков — друг России. Это главная для него позиция. А то, что Евгений Максимович не только смотрел на Запад, но и был в состоянии взаимодействовать с Востоком — это его преимущество. Не знаю, почему на Западе это вызывает какую-то ревность. Примаков никогда не был недругом Запада. В его характере вообще не было недружественного отношения к окружающему миру. Евгений Максимович — это человек, который отстаивал национальные интересы России, но не на конфронтационной основе…
— Он вообще никакой не «анти», — говорил профессор Герман Дилигенский, который работал с Примаковым в Институте мировой экономики и международных отношений. — Если вспомнить формулу «деидеологизированная внешняя политика», это как раз адекватно его менталитету. Он не имеет каких-то идеологических или региональных пристрастий. И антипатий тем более. Он человек спокойный, взвешенный — и в политике тоже. Думаю, что сантиментов там вообще мало.
На эту тему я разговаривал еще с одним человеком, который прекрасно знал Примакова и почти всю жизнь занимался Соединенными Штатами. Это Станислав Кондрашов. Он был корреспондентом «Известий» в Америке. Так был ли у Примакова некий антизападный комплекс?
— Нет, — сразу ответил Кондрашов. — Комплекс — это нечто неосознанное. А Примаков руководствовался вполне осознанными мотивами. Когда он работал в Египте, он имел возможность анализировать политику Запада на Ближнем Востоке. Он оттуда вынес убеждение, что Запад не является таким уж чистеньким. У Запада есть свои интересы. Эти интересы он преследует разными методами, не всегда симпатичными, и это дает основания для очень критической оценки политики Запада.
— Америка ему не нравилась. Неужели политические лидеры Востока, такие как Саддам Хусейн, ему более симпатичны?
— Чем определяется отношение к той же Америке международника-государственника? — вопросом на вопрос ответил Кондрашов. — Тем, как Соединенные Штаты ведут себя в отношении нашей страны. Американцы считают: что хорошо для Америки, хорошо и для всего мира. Ради собственных национальных интересов они готовы ущемить национальные интересы другой страны. Это не может нравиться. Но ведь для Примакова выбор так не стоит — склониться туда или сюда. Для него всё определяется каждым конкретным случаем. Саддам Хусейн не мог быть объектом любви Примакова. Он персонаж, с которым надо делать дипломатию. Причем таким образом, чтобы интересы своей страны были защищены. Тут существует заблуждение: Примаков будто бы был готов на всё, лишь бы сохранять добрые отношения с Саддамом Хусейном. Это неверно. Он просто не готов был заранее, автоматически всякий раз разделять американскую линию. Может быть, он в ближневосточных лидерах видел больший уровень рациональности, чем другие. Не так страшен черт, как его малюют. Хотя он хорошо знал этого черта и знал, что он не ангел.
— Вы не находите, что в Примакове велика доля скептически-критического отношения к американцам, поскольку он провел несколько лет на Ближнем Востоке, где сильно не любят американцев?
— У Примакова были не антиамериканские, а пророссий-ские настроения. Он американцам менее симпатичен, чем Козырев. Но Козырев был слишком проамерикански настроен. Он американцев развратил. На его фоне Примакову было строить отношения затруднительно, хотя он их построил…
Значительную часть жизни Примаков провел, занимаясь Ближним Востоком. Многие советские арабисты переняли от своих арабских друзей ненависть к Соединенным Штатам, Западу, Израилю, евреям, либералам, демократам. Годы, проведенные на Ближнем Востоке, делают человека циником. Но Примаков не циник. Он прагматик.
Примаков, напоминали мне его коллеги-арабисты, — востоковед.
— Он любил Ближний Восток. У него был вкус к этому. Это тоже влияло на его ближневосточную дипломатию — когда он уже стал министром — в том смысле, что ему было интересно заниматься Ближним Востоком и приятно бывать в тех местах, где он провел молодость. Он европейский человек, но подспудная любовь к Востоку в нем жила.
Примаков принадлежал к типу политиков, которые привыкли говорить и действовать от имени государства. Как дипломат и руководитель внешнеполитического ведомства, Примаков искал золотую середину между великодержавными, ностальгическими тенденциями и тем, что начал делать еще Горбачев. Примаков не был сторонником отчуждения от Запада. Или, точнее, ему нужно было такое отчуждение, которое диктовалось понятиями национального престижа, как он его понимал. Он был сторонником спокойной, уравновешенной, предсказуемой дипломатии. Другое дело, что процветание, удачливость, напор Соединенных Штатов вызывали у него неосознанное раздражение. Ему бы хотелось, чтобы, когда он садится за стол переговоров, за ним стояла бы такая же экономическая и военная мощь.
Валентин Зорин, тележурналист и профессор, который дружил с Примаковым больше полувека, когда я спросил его, действительно ли Примаков — антиамерикански настроенный человек, сослался на мнение директора русского центра Гарвардского университета Маршалла Голдмана: «Может быть, он не очень хорош для Америки. Но он вполне хорош для России, а это самое главное».
Соединенные Штаты были, есть и будут главным партнером России. Это объективная реальность. Начиная с Громыко, все наши министры иностранных дел это понимали. Но иметь дело с американцами непросто. Бывший министр иностранных дел Александр Бессмертных как-то сказал мне:
— У нас с американцами разговаривать толком почти никто не умеет.
Первая встреча Примакова с американскими дипломатами была организована не в Москве и не в Вашингтоне, а в Хельсинки, на нейтральной, так сказать, территории. Познакомиться с Примаковым прилетел тогдашний государственный секретарь Соединенных Штатов Уоррен Кристофер.
Российский министр иностранных дел подчиняется напрямую президенту, но на заседаниях Совета министров он сидит не на первых местах. Выше его по положению вице-премьеры и руководители администрации президента.
В правительстве Соединенных Штатов нет вице-премьеров. Государственный секретарь, то есть министр иностранных дел, третий человек в правительстве после президента и вице-президента.
Политики и дипломаты высокого ранга переходят на «ты» для того, чтобы иметь возможность говорить друг другу неприятные вещи в глаза, не доводя дело до скандала. Но перейти с Кристофером на «ты», то есть называть друг друга по имени, — дело непростое.
Государственный секретарь Уоррен Кристофер, суховатый и невозмутимый, казался человеком в футляре, которому всё человеческое чуждо. Его наследница в роли руководителя американской дипломатии Мадлен Олбрайт писала:
«Кристофер был юристом до мозга костей. И его мимика, и его заявления были всегда очень сдержанными. Наблюдая за ним, я поняла, что если он приподнимает бровь, это уже признак очень сильных эмоций».
Долгие годы работы в юридической фирме вырабатывают своеобразное мышление, структурированное, очень четкое и слишком дисциплинированное. Шаг вправо, шаг влево — для юриста уже побег. В этом есть положительные стороны. Слово Кристофера было надежным. То, что он говорил, было как юридическая формула. Он привык отвечать за свои слова.
Но, с другой стороны, он не был в состоянии прояснить внутренние мотивы американцев. Это мешало взаимопониманию на переговорах. Кристофер вел себя как строгий юрист в консультации, который не скажет лишнего слова, чтобы потом клиент не пришел с жалобой: вы мне сказали то-то и то-то, я из этого сделал неправильный вывод, и вот печальный результат. Кристофер считал, что лучше меньше сказать, но точнее.
Можно ли было с Кристофером установить личный контакт? Притом что за Примаковым утвердилась репутация антиамериканиста и он сам не прочь ее поддержать…
— Примаков дипломат, — отвечали знающие люди. — Если было выгодно использовать этот образ, то и пожалуйста. Он и будет таким. Но первый же его контакт с Кристофером закончился как нельзя лучше. Кристофер — тот еще рубаха парень, от одного взгляда на его лицо с тоски сдохнешь. Так Примаков и такого сумел расположить к себе.
Четыре министерских года Кристофера пришлись на эпоху, когда ландшафт мира менялся и неясно было, как в этих условиях действовать. Ему пришлось хлебнуть горячего, и не было времени ни подуть, ни остудить. Как есть, так и хлебай. Кристоферу пришлось учиться самому и заботиться о том, чтобы учился президент. Молодой Билл Клинтон не имел опыта в международных делах и не очень ими интересовался. Он каждый вечер получал информационную записку от Кристофера с кратким изложением текущих проблем и постепенно вник в дела.
Во время первой встречи в 1996 году Кристофер и Примаков сформулировали четыре принципа взаимоотношений:
не готовить друг другу сюрпризы и не ставить друг друга перед свершившимися фактами;
консультироваться друг с другом;
находить развязки, где их можно найти в диалоге;
в том случае, если эти развязки не удается найти, не доводить дело до конфронтации.
Заместитель Кристофера Строуб Тэлботт, беседуя в Москве с новым министром, пытался понять, что изменится в российской политике. Вот что рассказывал Тэлботт об этой встрече:
— Примаков говорил мне, что понимает — в США у него репутация сторонника жесткой линии. Его это совершенно не волнует — дома такая репутация полезна, он таким выглядеть и хочет. Мне вместе с тем следует знать — и Примаков твердил, что я должен передать это непосредственно президенту Клинтону: нам еще повезло, что приходится иметь дело с ним, а не с этими ненормальными из Думы, с одной стороны, или беспомощными либералами, вроде его предшественника, — с другой.
Примаков напомнил американскому дипломату:
— Я уверен, вы цените, что всю свою жизнь я стремился к развитию отношений между нашими странами.
Тэлботт думал: а может быть, с Примаковым и в самом деле удастся добиться большего? Примаков, имея мощную политическую поддержку, сможет заключать с Западом такие сделки, для которых Козырев был слишком слаб?..
Строуба Тэлботта принял Ельцин, который хотел обсудить программу поездки Клинтона в Москву. В разговоре Борис Николаевич небрежно заметил:
— В июне наши выборы уже будут позади.
Примаков тихо заметил, что возможен и второй тур. Ельцин нарочито напустился на Примакова:
— О чем вы говорите? Будет только один тур!
Повернувшись к Тэлботту, добавил:
— Вы только послушайте моих министров, а? Считают, что мне для переизбрания понадобится второй тур! Я этого не понимаю.
Ельцин попросил, чтобы президент Клинтон, приехав в Москву, не устраивал отдельной встречи с его будущим соперником на выборах — главой компартии Геннадием Зюгановым. Американцы заверили Ельцина, что Клинтон только перебросится с Зюгановым парой фраз во время большого приема в резиденции американского посла в Спасо-Хаусе. В резиденцию будут званы все крупные российские политики, кроме Жириновского. Примаков советовал позвать и Владимира Вольфовича.
— Простите, — обиженно ответил Тэлботт, — его придется оставить за дверью.
Долго поработать с Кристофером Примакову не удалось. В начале 1997 года Клинтон подобрал Примакову нового партнера — Мадлен Олбрайт. Авторитетная, уверенная в себе и несколько надменная дама до этого была представителем в ООН. Олбрайт была на восемь лет младше Примакова. Она родилась в Праге. Ее настоящее имя Мария Яна Корбелова. Она предпочитала называть себя Мадленкой.
Ее семья бежала от нацистской оккупации. Войну провели в Лондоне, где она научилась говорить по-английски. Ее отец Йозеф Корбел был советником чехословацкого правительства в эмиграции. После войны он был назначен послом в Югославию, затем представителем в ООН. Когда Мадлен исполнилось десять лет, отец отправил ее учиться в Швейцарию, где она выучила еще и французский.
Но через год, в 1948 году, коммунисты взяли власть в Чехословакии. Йозеф Корбел с семьей попросил политического убежища в Соединенных Штатах. Мадлен Олбрайт — дитя холодной войны. Воспоминания о двух бегствах — сначала от нацистов, а затем от коммунистов — ее не покидают. Среди эмигрантов она не единственная, кто достиг столь высокого поста. Генри Киссинджер, родившийся в Германии, тоже стал государственным секретарем. Джон Шаликашвили, родившийся в Польше, стал председателем комитета начальников штабов американской армии. Но Олбрайт — первая женщина, которая достигла такого поста.
Она однажды сказала:
— Моя жизнь сложилась фантастическим образом. Я приехала в Америку, когда мне было одиннадцать лет, и передо мной раскрылись все возможности. Я и есть зримое выражение американской мечты.
Несколько кокетничая, Мадлен Олбрайт говорила, что достигла успеха не благодаря своим талантам в дипломатической сфере или большому интеллекту:
— Я не так уж умна. Я просто много работаю.
Она действительно феноменально трудолюбивый человек. Когда писала докторскую диссертацию на тему «Советская дипломатическая служба: краткий очерк истории элиты», каждый день вставала в половине пятого утра.
Олбрайт была предана Биллу Клинтону. Когда в ноябрьский день 1996 года поздно ночью стало известно, что Клинтон во второй раз победил на выборах, она исполнила модную тогда «макарену» прямо в своем офисе в Совете Безопасности ООН.
В ней находили нечто общее с Маргарет Тэтчер. Олбрайт, как и Тэтчер, вышла замуж за богатого человека, рано родила двоих детей и затем занялась политической карьерой. Как и Тэтчер, она уверенно чувствует себя в традиционно мужской сфере внешней политики и дипломатии. Разница в том, что Маргарет Тэтчер сохранила семью, а Олбрайт разошлась с мужем.
Газета «Вашингтон пост» отыскала еврейские корни госсекретаря Олбрайт и сообщила, что трое из ее дедушек и бабушек, ее дядя, тетя и двоюродный брат были убиты нацистами. Олбрайт сказала, что ее родители ей никогда не говорили, что она еврейка. Ее отец скрывал свое еврейское происхождение, боясь, что это повредит его дипломатической карьере. Олбрайт была воспитана католичкой. Выйдя в 1959 году замуж за Джозефа Олбрайта, перешла в епископальную церковь.
Арабские страны решили, что она однозначно займет сторону Израиля. Израиль опасался, что она, напротив, будет, как и Генри Киссинджер, нарочито строга с израильтянами, чтобы доказать свою беспристрастность. На самом деле Олбрайт предана только американским интересам. Если кто-то думает иначе, он глубоко ошибается. Коллеги сравнивали ее с бульдогом:
— Она готова буквально разорвать своих оппонентов на куски.
Она позволяла себе непарламентские выражения, особенно в адрес кубинцев и Фиделя Кастро, которого презирала от всей души. Когда вооруженные силы Кубы сбили два гражданских самолета, Олбрайт громогласно заявила, что в Фиделе Кастро нет ничего мужского — она употребила весьма сильное выражение, крайне обидное для мужчин, особенно латиноамериканцев. Это повергло чопорных дипломатов в шок, но Клинтону понравилось. Он хвалил ее за принципиальность во внешней политике.
Но Олбрайт — не железная леди. Она скорее алюминиевая. Это прочный металл, он выдерживает большие перегрузки. Из него делают самолеты. Но он достаточно гибкий. Мадлен Олбрайт знаток живописи, в том числе русского искусства. Она приятна в общении, но сохраняет дистанцию. Она интеллигентный человек, дочь профессора и сама доктор философии — подходящий партнер для академика Примакова…
Во время первой встречи, вспоминала Олбрайт, Примаков отвел нового государственного секретаря в уютную гостиную и откровенно спросил:
— Благодаря моей прежней работе я знаю о вас всё. Но я хотел бы услышать от вас, действительно ли вы, как ваш предшественник Збигнев Бжезинский, настроены против России?
— Я очень уважаю профессора Бжезинского, — ответила Олбрайт, — но у меня есть свое мнение. Я знаю, что вы решительный защитник российских интересов. Вы должны понимать, что я не менее решительно буду защищать американские интересы. Если мы оба это признаем, то сумеем хорошо поладить…
Я спрашивал Примакова, трудно ли ему ладить с Олбрайт. Как вообще он строил отношения с американцами, которые столь неприязненно встретили его назначение?
— С разными по-разному, — ответил Примаков. — С государственным секретарем Мадлен Олбрайт у меня очень хорошие отношения. Она человек однозначный и поэтому предсказуемый. Самое плохое — это когда не знаешь, что человек завтра скажет и что он завтра сделает. Сегодня он такой, а завтра другой… Бывают такие люди. А Олбрайт нормальный человек. Она борется за интересы Соединенных Штатов, это естественно. Но она понимает важность развития отношений с Россией. У меня с ней тесный контакт. — Примаков показал на батарею телефонных аппаратов на приставном столике. — Я разговариваю с ней по телефону, встречаюсь. За время моей работы в министерстве встреч у нас было больше двадцати…
Накануне первого приезда Олбрайт в Москву у Примакова родилась внучка Маша. Олбрайт подарила ей фото, на котором она запечатлена с президентом Клинтоном, и дописала: «Машенька, когда ты родилась, мы с твоим дедом пытались сделать так, чтобы мир, в котором ты будешь жить, был лучше».
Когда Примаков прилетел в Вашингтон, он побывал и в Пентагоне. Его привели в ситуационную комнату. Это был первый случай, когда министр иностранных дел другого государства был туда допущен для беседы с министром обороны и членами комитета начальников штабов. Вместе с Примаковым там побывал генерал-лейтенант Николай Николаевич Зленко, заместитель начальника управления военного сотрудничества Министерства обороны.
Валентин Зорин:
— Особенность Примакова состояла в том, что даже с большинством из тех, кому он оппонирует, он сохранял хорошие отношения. Когда Мадлен Олбрайт бывала в Москве, она встречались с Примаковым не только у него в кабинете, но и за обеденным столом у него дома. У них добрые — когда говорят о женщине, наверное, нелепо употреблять слово «товарищеские», но, скажем так, человеческие отношения.
Во время ужина в Санкт-Петербурге Олбрайт заметила, что она работает госсекретарем всего полгода, а с Примаковым они успели встретиться уже восемь раз. Евгений Максимович охотно подхватил эту тему:
— Нужно сказать прессе, что у нас состоялось восемь официальных встреч, и пусть гадают, сколько же было неофициальных…
Обеды в неформальной обстановке и галантность в отношении женщины-госсекретаря не означали готовности соглашаться с Олбрайт. Примаков отмечал три негативные тенденции в мире, с которыми российская внешняя политика будет бороться:
— Первая. Это попытка представить дело так, будто Россия проиграла холодную войну, более того, считать нашу страну чуждым элементом в Европе и на этом основании стараться оттеснить Россию от общеевропейских дел.
Вторая. Попытка создать однополюсный мир, подчинить интересы всех государств интересам одной супердержавы. Мы понимаем возможности США, реально оцениваем их роль, но мы не можем замкнуться только на американском направлении. В многополюсном мире Россия должна быть одним из таких полюсов и не примыкать к другим. Мы берем курс на равноправные партнерские отношения, иначе Россия потеряет самостоятельность во внешней политике.
Третья. Открытость экономики России не должна привести к тому, чтобы Россия вошла в мировое хозяйство в качестве сырьевого придатка.
Не только назначение Примакова означало изменение курса. С приходом Олбрайт произошла смена акцентов и в американской политике. Прежде политика определялась личным желанием Клинтона помочь Ельцину. Москве был предоставлен как бы льготный режим. Что бы ни делалось в России, главное — не навредить Ельцину и строительству демократии. Да и самому Клинтону не хотелось, чтобы его допрашивали с пристрастием: а кто потерял Россию?
Но ситуация изменилась.
Столкнувшись с некоторой жесткостью со стороны американцев, некоторые политики в Москве поддались соблазну воспринять это как антироссийскую линию и обидеться. Но антироссийского курса не было. Клинтон был связан скорее с пророссийским курсом. Однако стало ясно, что играть в льготный режим бесконечно Клинтон не станет. Любые льготные условия могут существовать определенное время, а затем они сменяются нормальными. Если к этому приготовиться психологически, то можно наладить нормальные партнерские отношения.
Примакову приходилось учитывать, что у нашего общества есть элемент истерической реакции. Это мышление человека, который сидит в темном углу и всего боится — и НАТО, и Запада, и черта с дьяволом. И, чтобы американцы ни сделали, реакция одна — это против нас!
Первый заместитель Олбрайт в Государственном департаменте Строуб Тэлботт, друг Клинтона, бывший журналист, переводчик мемуаров Хрущева и специалист по российским делам, объяснил, как это видится американцам:
— Российская элита считает, что истинная стратегия администрации состоит в стремлении ослабить Россию и даже расчленить ее. Существует российская склонность повсюду видеть заговоры. В результате такой подозрительности мы действительно станем меньше сотрудничать и больше соперничать, а ведь нашим интересам отвечает обратное. Российские политики могут стать заложниками концепции, гласящей, что национальным интересам России соответствует практически всё, что вызывает у американцев раздражение или создает проблемы для Соединенных Штатов…
При этом публичная позиция американцев была такова: никакого охлаждения отношений между Москвой и Вашингтоном не происходит. Разногласия носят исключительно тактический характер. Все проблемы порождены недоразумениями и могут быть урегулированы. Резкие выпады в Москве против НАТО, Соединенных Штатов и вообще Запада — нормальная часть демократического процесса, когда каждый может сказать, что хочет. Несколько раз казалось, что споры между Примаковым и американцами уже выходят за рамки обычной полемики. Происходило это из-за Ирака и населенной в основном албанцами сербской провинции Косово. Это две горячие точки, которыми Примакову больше всего пришлось заниматься в роли министра.
Совет Безопасности ООН принял решение в 1991 году лишить Ирак оружия массового поражения: уничтожить его запасы и средства производства. ООН сформировала международную команду инспекторов, которые должны были перевернуть всю страну, но найти запасы этого оружия и места, где оно производится.
С ракетными установками было проще всего. Обнаружили их сравнительно быстро. Но химического и биологического оружия, а также установок для его производства было так много и иракцы их так тщательно скрывали, что работа инспекторов ООН растянулась на годы. С самого начала было решено, что, пока они не закончат работу, санкции с Ирака не снимут. Пока великие державы выступали единым фронтом, Саддам Хусейн терпел присутствие в стране международных инспекторов. Когда министром иностранных дел стал Примаков и выяснилось, что между Россией и Соединенными Штатами возникают противоречия, Саддам немедленно этим воспользовался.
Он стал заявлять, что инспекторы ООН занимаются шпионажем и их нужно выгнать из страны. Несколько раз Саддам Хусейн блокировал их работу. Соединенные Штаты и Англия предупредили, что заставят Саддама подчиниться. С их точки зрения, самый убедительный аргумент для Саддама — это воздушный удар по военным целям в Ираке. Примаков не только не поддержал американцев, но и резко возразил. Он делал всё, чтобы не допустить военного удара по Ираку.
Евгений Максимович вообще хотел отменить санкции, введенные против режима Саддама Хусейна. Он доверительно сказал Мадлен Олбрайт:
— Если санкции отменят, иракцы будут продавать нефть и заплатят нам. Если санкции не отменят, они всё равно будут продавать нефть, но используют санкции как предлог, чтобы не платить нам.
— Когда я спросила Примакова, что он думает об иракском диктаторе, — вспоминала Олбрайт, — он ответил, что мы сознательно преувеличиваем угрозу, которую представляет собой Саддам.
Первый серьезный кризис разразился осенью 1997 года.
Спецкомиссию ООН по поиску оружия массового уничтожения в Ираке возглавлял австралийский дипломат Ричард Батлер. Команда экспертов состояла из представителей сорока стран. 23 октября по докладу Ричарда Батлера Совет Безопасности принял резолюцию № 1174, осуждающую отказ иракского руководства допустить инспекторов на военные объекты. Российский представитель при голосовании воздержался, но ни один из членов Совета Безопасности не проголосовал против. Международное сообщество желало разоружения Ирака.
Саддам ответил решением сначала приостановить работу инспекторов, а затем потребовал вывести из состава спецко-миссии всех американцев и выслать их из страны. Поведение Саддама поставило мир перед выбором: или применить военную силу против Ирака, или продолжать оказывать на него дипломатическое давление.
Соединенные Штаты считали, что Саддам прислушивается только к голосу оружия. Примаков был категорически против военной операции и фактически взял на себя обязанности посредника между Ираком и Соединенными Штатами. Борис Ельцин обратился с личным посланием к Саддаму Хусейну. Тот прислал в Москву своего давнего соратника вице-премьера Тарика Азиза.
Тарик Азиз прилично говорил по-английски и выглядел по-профессорски. Многие годы он представлял Саддама перед внешним миром. Азиз — исключение в окружении Саддама. Он христианин и не принадлежал к правившему в стране тикритскому клану. Возможно, именно поэтому он уцелел в кровавых чистках. Христианин никогда не станет человеком номер один в Ираке. Саддам мог не подозревать Тарика Азиза в том, что он попытается его свергнуть.
Тарик Азиз — глаза и уши Саддама Хусейна. Евгений Примаков говорил, что Азиз высокопоставленный посыльный, а не человек, которому доверено принимать решения. Тем не менее, чтобы подчеркнуть серьезность российского подхода, иракского посланца принял сам президент Ельцин. Переговоры с Тариком Азизом вел Примаков.
Его предложение: Ирак не мешает инспекторской группе работать, взамен Россия добивается постепенного снятия санкций. Логика Примакова состояла в том, что иракцев надо не только наказывать, но и поощрять. Ведь большую часть работы инспекторы сделали, значит, можно смягчать санкции против Ирака. Иначе иракцы не увидят никакого смысла в сотрудничестве с ООН.
Ирак принял предложение России и решил возобновить работу инспекторов. Узнав об этом, Олбрайт предложила срочно собраться в Женеве на уровне министров иностранных дел Англии, Франции, Америки и Китая (то есть постоянным членам Совета Безопасности ООН).
Восемнадцатого ноября Примаков провел в телефонных переговорах. Олбрайт находилась в Индии и настаивала на немедленной встрече, сказав, что готова сократить свой визит. Но Примакова ждали в Бразилии, с которой начиналась поездка российского министра по Латинской Америке. Евгений Максимович хладнокровно предложил Олбрайт прислать в Женеву вместо себя заместителя. Олбрайт сказала, что проблема слишком серьезная. Она приедет в Женеву. Но в два часа ночи.
— Отлично, — ответил Примаков, — но я уже улечу.
Иметь дело с Олбрайт было непросто.
— Евгений, — сказала она железным тоном, — будет очень странно, если российский министр не встретится с американским государственным секретарем для обсуждения ситуации в Ираке, потому что он не мог подождать ее каких-нибудь два часа! Особенно после того, как президент Клинтон поддержал вступление вашей страны в «Большую восьмерку».
Примаков вздохнул:
— Хорошо, мы встретимся в Женеве в два часа ночи, но не позже.
Встреча состоялась в назначенное время во Дворце наций, который принадлежит европейскому отделению ООН. Евгений Максимович сообщил коллегам-министрам, что Ирак согласен на возвращение инспекторов и не ставит никаких предварительных условий. Но надо несколько пересмотреть работу спецкомиссии.
Мадлен Олбрайт отвела Примакова в сторону и спросила:
— Евгений, не стоит ли за вашей договоренностью с Багдадом нечто иное?
Примаков твердо сказал, что никаких секретных договоренностей нет:
— Мадлен, я тебя ни в чем никогда не обманывал и сейчас не обманываю.
Российский план был принят. Это стало переломным моментом. Примаков, с профессиональной точки зрения, взял верх над американской дипломатией, доказав, что способен урегулировать сложнейший международный кризис.
Но раньше времени снимать санкции Соединенные Штаты и Англия не хотели. Они считали, что сначала Саддам должен выполнить все до единого требования ООН. Вместо этого в январе 1998 года Саддам вновь потребовал убрать всех инспекторов ООН. Российская дипломатия опять занялась иракскими делами.
Никто не любил Саддама Хусейна, и в российском Министерстве иностранных дел — неофициально! — говорили, что его режим — несчастье для Ирака. Но если американцы считали, что рано или поздно от Саддама Хусейна удастся избавиться, то Примаков и его арабисты были уверены в обратном: всякое давление на Ирак только укрепляет его позиции. И тем более ни к чему хорошему не приведет новый удар по Ираку. В самого Саддама ракета точно не попадет, пострадают невинные люди.
Переговоры с иракцами продолжались несколько недель, всё это время в Багдаде находился заместитель Примакова Виктор Посувалюк. Примаков не выпускал из рук телефонной трубки. Удалось договориться. Инспекторы вернулись в Ирак.
Но в последних числах октября 1998 года всё повторилось. 31 октября Багдад вновь запретил международные инспекции. Совет Безопасности единогласно осудил Ирак. Примаков, который к тому времени уже возглавил правительство, опять пытался остановить американцев и одновременно воздействовать на своих иракских друзей. Виктор Посувалюк вновь отправился в Багдад.
На сей раз президент Клинтон, потерявший терпение, был полон решимости наказать Саддама Хусейна.
На 14 ноября была намечена первая бомбардировка Ирака. Ровно за три часа до нанесения удара Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан получил письмо иракского руководства с приглашением посетить Ирак. При непосредственном участии Посувалюка Саддам Хусейн и Кофи Аннан достигли договоренности о возобновлении миссии инспекторов ООН. В это время американские бомбардировщики с крылатыми ракетами на борту уже готовились к вылету. Но американский президент предупредил, что в следующий раз он ударит по Ираку без предупреждения. Так и произошло 17 декабря 1998 года, после того, как Саддам Хусейн в очередной раз помешал инспекторам ООН работать.
Соединенные Штаты и Англия три дня обстреливали Ирак крылатыми ракетами, в налетах участвовала и авиация. Американцы и англичане пытались уничтожить заводы по производству химического и биологического оружия. Удар был нанесен также по командным пунктам армии, по казармам республиканской гвардии — элитным частям Саддама Хусейна и по его дворцам, на строительство которых ушло, кажется, всё богатство страны. После войны в Персидском заливе Саддам построил сорок восемь президентских дворцов на сумму в два миллиарда долларов. Это дворцы с водопадами, искусственными озерами, похлеще Версальского дворца.
Считается, что удар по Ираку не имел никакого военного смысла. Это не так. Это был тяжелейший удар по самолюбию Саддама Хусейна, который видел, как крошится его военная машина и рушатся его любимые дворцы.
Россия необыкновенно резко реагировала на удар по Ираку. Президент Ельцин и премьер-министр Примаков не пожалели резких слов в адрес американской политики, и впервые за многие годы из Вашингтона и Лондона были отозваны российские послы. Действия Примакова получили почти полную поддержку общественного мнения, которое симпатизирует Ираку — из-за стихийного неодобрения американцев: зачем они всем навязывают свою волю? В знак протеста депутаты Государственной думы отложили ратификацию российско-американского договора о сокращении стратегических вооружений (СНВ-2)…
Не менее острым и болезненным был югославский кризис.
В те годы во всей Восточной Европе рушились коммунистические режимы, и с ними рассыпалась Югославия. Единая Югославия существовала, пока был жив Тито. Он создал эту страну, и он ее сохранял. Он заставил молчать националистов, он повернулся лицом к Западу и открыл границы. Он сделал свою страну самой процветающей в этой части Европы. С Тито ушли идеи национального освобождения, самоуправления, братства и единства, а также югославский социализм.
Югославские республики могли бы разойтись мирно. Возможно, кто-то предпочел бы переселиться из одной республики в другую, дабы чувствовать себя комфортно. Но обошлось бы без человеческих жертв. Кровопролитие не было неизбежным. Войну в девяностые годы породили не вековечная вражда, не религиозно-этнические различия, не исторические споры, а стратегия политиков и генералов, которые увидели в хаосе распада редкую возможность сделать политическую карьеру.
Обрести самостоятельность захотела и входившая в состав Югославии Босния и Герцеговина, где сто лет назад вспыхнула Первая мировая война. Но боснийские сербы не пожелали жить в единой Боснии и Герцеговине. Отказались участвовать в общебоснийских выборах и образовали никем не признанную Сербскую республику.
Президентом республики стал психиатр Радован Караджич. Сербскую армию возглавил генерал Ратко Младич, который в принципе не признавал права Боснии на существование: все земли, на которых живут сербы, принадлежат Сербии. Он мечтал о Великой Сербии. Первые два года военное счастье было на стороне сербов. Видя, что в Боснии происходят массовые убийства и этнические чистки, мир принужден был вмешаться. Совет Безопасности ООН начал с экономических санкций против Сербии.
Четвертого января 1993 года Примаков (еще в роли руководителя разведки) обратился к президенту Ельцину с предложением: он поедет в Белград, чтобы объяснить президенту Слободану Милошевичу реальность силовой акции против Сербии и рекомендовать ему принять какие-то меры, дабы уменьшить напряженность.
Ельцин поездку санкционировал. 8 января Примаков прилетел в Белград. Из аэропорта сразу поехал к Милошевичу. «Разговор пошел о планах Великой Сербии, — вспоминал Примаков. — Я подчеркнул, что они в нынешних условиях абсолютно неосуществимы, даже ценой большой крови. Милошевич со мной согласился».
Примаков уговаривал его участвовать в мирных переговорах по Боснии и Герцеговине. Дело в том, что глава Сербской Республики Радован Караджич напрочь отвергал все предложения. Не хотел принимать мирный план, разработанный ООН и Европейским сообществом. И парламент боснийских сербов проголосовал против плана.
Милошевич назвал это решение «верхом безответственности» и прекратил помощь республике боснийских сербов. Представитель СВР в Белграде по указанию Примакова встретился с президентом Сербии, передал, что Москва одобряет его позицию. В марте 1993 года Примаков вновь тайно беседовал со Слободаном Милошевичем.
По степени жестокости война на Балканах в конце XX века не знала себе равных. Массовые убийства, уничтожение мирного населения и обстрелы городов стали методом ведения боевых действий. Вырезали целые семьи и деревни. Маленькие дети тоже считались врагами — они же вырастут и возьмут в руки оружие. Даже изнасилование женщин превратилось в инструмент войны. Полевые командиры полагали, что лучше изнасиловать, чем убить, поскольку это оскорбляет честь всей нации. На Балканах мужчина не способен простить женщину, которая подверглась насилию. И себя не может простить — за то, что не сумел ее защитить!
Но Караджич и Младич не сумели воспользоваться победами своих войск. Они упрямо отвергали любые разумные предложения международных посредников, в том числе России, и упустили момент, когда могли подписать мир на выгодных условиях. А противники окрепли и перешли в наступление. Президенту же Сербии Слободану Милошевичу нужно было во что бы то ни стало добиться от ООН снятия эмбарго на торгово-экономические отношения. Эта история — классический пример пользы международных санкций. Экономические санкции были бедствием для Сербии, где привыкли жить богато и сытно. И Милошевич заставил боснийских сербов согласиться на худшие, чем прежде, условия; им пришлось удовольствоваться скромной автономией в составе Боснии и Герцеговины.
Слободан Милошевич был известен своей потрясающей способностью легко менять политические ориентиры и лозунги. Он успешно продвигался по партийной лестнице, клянясь в верности интернационализму. Но на вершину власти бывший секретарь ЦК компартии Сербии поднялся, сменив старые партийные лозунги на националистические. Политическая карьера Милошевича представляет собой серию радикальных перевоплощений. Друзья называют это профессиональным ростом политика, а противники — циничным приспособленчеством.
Милошевич первоначально ориентировался на Запад, пренебрегая Россией. Когда Запад из-за войны с хорватами отверг его, Милошевич призвал на помощь Россию. Когда Запад вновь признал Милошевича и обратился к нему за помощью в урегулировании боснийского кризиса, президент Сербии опять забыл о России. Но очень скоро ему вновь понадобилась поддержка Москвы — в ситуации с Косово.
Примаков показал себя сторонником политики, которую немцы называют Realpolitik, это чисто прагматическая линия, исключающая всякое морализаторство и прекраснодушие; исходить надо из реально существующей расстановки сил и ставить перед собой только достижимые результаты.
Политическая линия Примакова полностью соответствовала духу времени и создала ему множество поклонников. Действия Примакова получили почти полную поддержку общественного мнения, которое симпатизировало Югославии и даже Ираку.
Но еще большую поддержку и политиков, и простых граждан Примаков получил в борьбе против расширения НАТО.
Примаков и Служба внешней разведки первыми забили тревогу: Североатлантический блок приближается к границам России! Разведка еще в 1993 году опубликовала открытый доклад «Перспективы расширения НАТО и интересы России». Мнение Примакова резко разошлось с мнением тогдашнего министра иностранных дел Андрея Козырева.
— Президенту внушают, что существует заговор против России, что страна со всех сторон окружена врагами, — жаловался Козырев. — Я пытался сделать так, чтобы ручеек информации, поступающей из МИДа, отличался от этого потока, но потерпел поражение.
Андрей Козырев говорил, что специальные службы дают президенту искаженную информацию. В Службе внешней разведки с ним не соглашались.
— Примаков хотел предупредить Запад и сказать: вот вы хотите расширяться, так учтите, что это не всем нравится, — рассказывала свою версию пресс-секретарь Службы внешней разведки Татьяна Самолис. — Я не думаю, что разведка действовала из желания что-то сделать вопреки мнению Министерства иностранных дел. И вообще — Примаков не тот человек, который капает на коллег…
Козырев в бытность министром внушал президенту: не надо слишком далеко заходить в возрождении образа врага в лице НАТО, потому что потом всё равно придется с НАТО жить и партнерствовать. А разведка предупреждала о том, что приближение Североатлантического блока к границам опасно для России.
— Разведка в клюве принесла свое представление о НАТО, — говорила Татьяна Самолис. — Разведка выполняла свои обязанности — сообщала то, что думают ее аналитики. И не только. Она представила сведения о том, что НАТО продолжает разрабатывать военный вариант с применением ядерного оружия. Президент сам говорил, что у него одиннадцать источников информации. Президент сделал выбор в пользу разведки. Я бы на месте МИДа обижалась не на того, чья точка зрения возобладала, а на того, кто ее воспринял. Мне не совсем понятно, почему они обижались на Примакова, а не на президента…
О приеме в НАТО восточноевропейские страны стали просить практически сразу после того, как им удалось выйти из-под опеки Москвы. Президент Билл Клинтон всерьез задумался о расширении НАТО в апреле 1993 года во время открытия музея Холокоста в Вашингтоне. Пока не начались выступления, воспользовавшись свободной минуткой, Вацлав Гавел и Лех Валенса, президенты Чехии и Польши, буквально зажали Клинтона в угол и стали убеждать принять их страны в НАТО.
Прежний президент Джордж Буш-старший не прислушался к их пожеланиям, но Клинтон, который всего три месяца находился в Белом доме, оказался более внимателен к восточноевропейским гостям.
Советник президента по национальной безопасности Энтони Лэйк и государственный секретарь Уоррен Кристофер в принципе не возражали против расширения НАТО. Министерство обороны не хотело тратить на это деньги, а Строуб Тэлботт, главный специалист Государственного департамента по Советскому Союзу, считал, что это разгневает Москву. После нескольких месяцев размышлений американцы решили осторожно двигаться вперед. В январе 1994 года Клинтон, выступая в Праге, заявил, что в принципе НАТО будет расширяться, но еще неясно, когда это произойдет.
Десятого января 1994 года, когда в Брюсселе собрались лидеры стран, входящих в НАТО, восточноевропейские государства испытали большое разочарование: были отвергнуты заявки всех, кто мечтал вступить в Североатлантический блок.
Соединенные Штаты не хотели злить Россию. Западная Европа не желала брать на себя обязанность охранять молодые демократии ни от России, ни друг от друга. И тем более вкладывать фантастические деньги в приведение восточноевропейских армий и их вооружений (советского образца) в соответствие с натовскими стандартами.
Польше, Венгрии и Чехии предстояло в ближайшие три года изведать все муки ревности и оскорбленного национального достоинства. Они с горечью убедились в том, что ни для Западной Европы, ни для России, ни тем более для Соединенных Штатов отношения с Восточной Европой не принадлежат к числу приоритетных. Главным партнером Запада оставалась Россия, и Запад понимал, как важно показать русским демократам, что никто не пытается их изолировать.
Американские политики соглашались с тем, что от России военная угроза не исходит, что восточноевропейские государства нуждаются не в модернизации армии, а в развитии экономики. И стремиться им нужно не в НАТО, а уж скорее в Европейское сообщество.
Но всё еще только начиналось.
В Соединенных Штатах живет двадцать один миллион выходцев из Восточной Европы. Они стали бомбардировать Белый дом телеграммами с требованием впустить Польшу, Чехию, Венгрию в НАТО. Это серьезная сила, когда речь идет о выборах. А как раз приближались президентские выборы.
Когда Билл Клинтон баллотировался в президенты в первый раз, он говорил, что его внешняя политика не интересует, он займется улучшением жизни американцев. На вторых выборах он уже охотно рассуждал о своих достижениях в мировых делах. Ему нужен был громкий предвыборный лозунг. В Белом доме его придумали: «Рейган разрушил Берлинскую стену, Буш объединил Германию, а Клинтон объединит Европу».
Но главное было не в предвыборной стратегии Клинтона. В Москве предпочитали говорить, что НАТО расширяется. Однако правда жизни состояла в том, что в НАТО буквально ломились восточноевропейские страны! Они требовали, чтобы их приняли. Ни у американцев, ни у европейцев не было оснований говорить им «нет», кроме необходимости учитывать позицию России.
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе можно встретить представителей трех основных профессий: дипломатов, которые стараются молчать, военных, которые говорят то, что им велели сказать, и вкрадчивых разведчиков, которые говорят то, что приятно услышать собеседнику. Гостям из Москвы все обитатели штаб-квартиры НАТО повторяли одно и то же:
— Мы меньше всего хотим, чтобы Россия воспринимала расширение Североатлантического блока как вызов. Мы очень озабочены тем, чтобы Россия не оказалась в изоляции. Но что же нам делать, если страны Восточной Европы просят их принять?
А в России расширение НАТО многими воспринималось как непосредственная военная угроза. «Враг уже у Смоленска!» Зачем Западу понадобилось сохранять НАТО — после роспуска Варшавского договора, — как не для того, чтобы разрушить сильную Россию?
Смысл сохранения Североатлантического договора, который закрепил систему коллективной безопасности западных стран, они сами объясняют так. Еще в 1991 году лидеры НАТО заявили: «Угроза полномасштабного нападения действительно исчезла». Но безопасность европейских государств еще не гарантирована. Существует опасность региональных, малых войн. Турцию и Грецию, которые находятся в постоянном конфликте, от войны удерживает только их членство в Североатлантическом блоке. НАТО ставит перед собой задачу предотвращать конфликты и преодолевать возникающие кризисы.
Многие члены НАТО — это сравнительно небольшие страны, которые вне блока чувствовали бы себя уязвимыми. Североатлантический блок гарантирует то, что входящие в него страны не начнут воевать друг с другом. И что ни одна из этих стран не рискнет без общего согласия на кого-то напасть. Таким образом, НАТО гарантирует стабильность и безопасность в Западной Европе.
Те, кто не считал расширение НАТО катастрофой, говорили, что опасность исходит вовсе не от Запада:
— Посмотрите, где в последние годы льется кровь российских солдат: это конфликтные зоны в странах СНГ, таджикско-афганская граница, Чечня. Но НАТО тут ни при чем. Почему мы видим опасность там, где ее нет? К тому же Россия напрасно ссорится со странами Центральной и Восточной Европы, оказавшимися в роли пешек в игре великих держав. Они сначала от натовцев добивались, чтобы те их приняли, а их долго держали в очереди, мурыжили — в том числе и по нашей просьбе. И вот они добились своего, так теперь Россия мешает. Вот вы хотите, как Золушка, попасть на бал, считая, что там вы встретите своего принца. Они считают, что НАТО — это клуб, в котором, если они туда попадут, принца и встретят. Наконец они получили входной билет, руки дрожат от радости, и тут появляется некто и говорит: а я вас не пущу…
Но в Москве мнение противников расширения НАТО было доминирующим. Итак, чем же плохо расширение НАТО?
Создается новая разделительная линия в Европе. Исчезает буферная зона между Россией и НАТО, что увеличивает риск конфликта. Боевой состав армий НАТО растет, это изменит баланс сил в пользу НАТО, что не может не быть воспринято в России как враждебный акт. Это усилит позиции националистов, приведет к власти тех, кто перечеркнет планы сотрудничества, начнет наращивание армии и военной промышленности. Возникнет новая холодная война…
Американцы скептически отнеслись к аргументам российских политиков. Они не считали, что расширение НАТО изолирует Россию, а все военные аспекты предлагали обсудить и решить полюбовно. Что касается внутриполитических последствий, то тут американцы и вовсе недоумевали. Сам глава правительства Виктор Черномырдин публично признал, что включение Венгрии или Польши в НАТО не опасно для России. Он сказал, что опасность состоит в том, что ультранационалисты станут обвинять президента и правительство в неспособности остановить НАТО.
Для нас это не аргумент, отвечали американцы. Обязанность президента и правительства, в частности, состоит в том, чтобы помогать общественному мнению сформировать правильное понимание ситуации. Если премьер-министр понимает, что прием Венгрии и Польши в НАТО не вредит безопасности России, то почему бы не объяснить это своим согражданам? Вместо этого президент и правительство присоединяют свой голос к хору националистов, фактически занимают с ними одну и ту же позицию…
На встрече с Клинтоном президент Ельцин настаивал, чтобы американцы обещали ему не принимать в НАТО бывшие советские республики.
— Послушай, Борис, — объяснил ему Клинтон, — даже если я отойду с тобой в укромный уголок и пообещаю тебе то, что ты хочешь услышать, конгресс такой вариант хартии между НАТО и Россией всё равно не ратифицирует. Я просто не могу этого сделать. У меня нет полномочий накладывать вето на вступление в альянс какой-нибудь страны и уж тем более давать такое право тебе.
У Москвы были два варианта политики в отношении НАТО.
Первый: занять непримиримую позицию, свернуть отношения с Западом, начать вооружаться и искать новых союзников. Например, звучал призыв создать анти-НАТО, то есть блок государств, которые бы противостояли Североатлантическому блоку. Хотя трудно представить себе, с кем можно было бы создать анти-НАТО. Государства, входящие в СНГ, сразу же отказались. Китай тем более давно заявил, что ни в какие блоки и союзы входить не станет.
Второй: возражая против расширения НАТО, развивать с блоком партнерские отношения.
Первый вариант Примаков отверг. От разрыва отношений с Европой и Америкой и попыток реанимировать военно-промышленный комплекс больше всего пострадала бы сама Россия. Пропагандистская атака на Запад в надежде, что он сам откажется от идеи принять в НАТО новые страны, не дала результатов. Надо было вступать в переговоры, чтобы выторговать максимально выгодные условия.
Когда в Москве началась кампания по борьбе с расширением НАТО, я побывал в Брюсселе и беседовал с нашим послом Виталием Чуркиным. Он был удивлен:
— Почему у нас дома такие пессимистические настроения? Неверно утверждать, что с Россией никто не считается. Во-первых, считаются. Во-вторых, нельзя же, в самом деле, полагать, что всё должно делать так, как мы того захотим!
Есть национальные интересы восточноевропейских стран, которые жаждут глубокой интеграции во все европейские структуры. Есть национальные интересы стран НАТО, которые учитывают позиции и Восточной Европы, и России. Именно под давлением Москвы вопрос о расширении НАТО так затянулся.
— Нужно высаживаться в Брюсселе, забираться в любую щель и вживаться, — с напором говорил Чуркин. — Причем натовцы этого хотят. Дело за Москвой, где никак не могут решить, что делать. Дипломатия должна быть активной, наступательной. Дуться просто нелепо. Что это за прецедент в мировой дипломатии — обижаться на весь свет?
Основная претензия к НАТО: вы с нами не консультируетесь! Да как же с нами будут консультироваться, если мы сами не создаем этот механизм консультаций, не создаем климат доверия. Но это улица с двусторонним движением. Если мы хотим, чтобы в Брюсселе знали и учитывали нашу точку зрения, то должны быть готовы в той же мере учитывать позиции НАТО.
Как спорить и скандалить с НАТО, это все знают. А вот как партнерствовать, как отстоять свои интересы в новых условиях, как нам внедриться в НАТО, чтобы изнутри влиять на процесс принятия решений? Не выкрадывать их документы, а добиваться, чтобы в этих документах была отражена наша точка зрения, — вот в чем состояла трудность.
Целый год Примаков провел в беседах с генеральным секретарем НАТО Хавьером Соланой. Генеральный секретарь НАТО — это политик, который должен согласовывать интересы всех стран, входящих в блок, и говорить от их имени.
Солана казался странным в этой роли. Профессор физики, бывший марксист, в 1980-е годы он активно участвовал в борьбе против решения правительства Испании войти в НАТО. Ренегат?
— То были другие времена и другие обстоятельства, — говорил Солана, когда мы с ним беседовали в Брюсселе. — С тех пор и мир, и НАТО сильно изменились. То, что было разумно тогда, перестало быть таковым сейчас.
На него легла самая сложная задача за всю историю блока. Он должен был поладить с Россией. Солана наделен неисчерпаемой энергией, он обворожителен в общении и способен добиваться компромисса и согласия. Солана очаровал своих партнеров отменной работоспособностью, природным шармом и готовностью навещать всех, чьи сердца ему надо завоевать.
— Партнеры на переговорах, условно говоря, должны вас пощупать, — говорит Солана. — Они должны видеть, что у НАТО есть лицо.
Сам он всех помнит в лицо и не жалеет времени на разговоры и дискуссии. Он не обычный международный бюрократ, который работает от сих до сих. Он доброжелателен и терпелив. Кажется, нет человека, которого бы Солана не мог расположить к себе. При этом он твердо стоит на своих позициях. Он даже «нет» произносит так, что его отказ никого не обижает.
Примаков продолжал возражать против расширения НАТО, называя этот шаг возвратом к холодной войне, но, будучи прагматиком, стал закладывать фундамент сделки на тот случай, если расширение всё-таки произойдет.
— Раз уж приходится спать с дикобразом, — говорил он, — лучше всего уложить его покомпактнее и постараться, чтобы иглы не слишком мешали.
Солана оказался живее и темпераментнее своих российских партнеров, утративших обычное преимущество, которое они имели в разговорах с чопорными аккуратистами из США или Западной Европы. Примаков, выросший в Тбилиси, и испанец Солана были подходящими собеседниками.
Примаков сам сформулировал ситуацию:
— Россия не может и не хочет накладывать вето на вступление других стран в НАТО. Но Россия вправе говорить о неблагоприятной геополитической ситуации.
Это были самые трудные переговоры после окончания холодной войны.
Остановить расширение НАТО не удалось, это было невозможно, но после шести туров переговоров Примаков и Солана договорились о том, о чем можно было договориться. НАТО брало на себя определенные обязательства: не размещать ядерное оружие на территории своих новых членов, не придвигать боевые части к границам России и сокращать тяжелые вооружения на континенте. Одновременно создавался механизм постоянных консультаций и сотрудничества с Россией.
— Я ездил с Примаковым и, честно говоря, гордился, — говорил мне Томас Колесниченко. — Знаете чем? Россия вот сейчас довольно униженная страна, но когда ездишь с Примаковым по миру, то чувствуешь себя иначе, выше, потому что — да простят меня его коллеги, министры иностранных дел, я это говорю не потому, что он мой друг, — он классом выше. Внешняя политика в общем-то зависит от внутренней, и, конечно, все недостатки внутренние отражаются на внешней политике, но он сумел, несмотря на это, поднять нашу внешнюю политику и заставить с собой считаться. И они чувствовали в нем и большого профессионала, и человека. Ему удавалось это соединить. Это редкое качество. Я знал профессионалов великолепных, но отталкивающих людей. И наоборот — человек хороший, а глядишь, тут его провели, там провели. Примакова не проведешь…
Незадолго до заключения соглашения с НАТО государственный секретарь Мадлен Олбрайт и ее первый заместитель Строуб Тэлботт вновь прилетели в Москву. Примаков пригласил американцев к себе домой.
«Для российского официального лица весьма необычно открывать свой дом иностранным гостям, — вспоминал Тэлботт. — Такое гостеприимство шло вразрез с секретностью, подозрительностью и неуверенностью советской эпохи, до сих пор широко распространенными среди российских чиновников.
Казалось, Примаков от такой ломки стереотипов получает удовольствие: за столом он завел свободный и легкий разговор. Его жена Ирина налепила сибирских пельменей, но отказалась угощать ими мужа, недавно перенесшего операцию на желчном пузыре. Мы с Мадлен, сидевшие рядом, украдкой подкармливали его со своих тарелок».
Примаков не упускал случая показать, что не приемлет никакого давления. Когда Олбрайт сказала, что Государственная дума пытается ограничить свободу вероисповедания и это вызывает возмущение американцев, Примаков устало покачал головой:
— Мадлен, Мадлен, иногда я задаюсь вопросом: сколько еще мы сможем выносить вашу дружбу?
Двадцать седьмого мая 1997 года в Париже президент Борис Ельцин подписал Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и Организацией Североатлантического договора.
Выступая в Париже, Ельцин сказал:
— Россия по-прежнему негативно относится к расширению НАТО, но отдает должное готовности стран учесть законные интересы России.
Через год подводились первые итоги партнерства России и НАТО. В конце мая 1998 года в Люксембурге прошло заседание Совместного постоянного совета Россия — НАТО на уровне министров иностранных дел. Прилетел Примаков. Выступая, он сказал:
— К Основополагающему акту мы шли долго, притирая свои позиции, и достигли документа, который удовлетворяет все стороны. Впервые военные стали встречаться на постоянной основе. Они между собой даже легче договариваются, чем политики. Да, сотрудничество идет. Теперь даже наши встречи с Соланой стали другими. Можем спокойно обсуждать острые темы. Мы можем сотрудничать и в политической сфере, и в военной. Но для нас это способ минимизировать последствия расширения НАТО. Мы к НАТО продолжаем относиться негативно. И вообще сотрудничество было бы куда более плодотворным, если бы не расширение блока на Восток…
Вечером после переговоров и заседаний в гостиничном номере Примакова я спросил министра:
— В чем конкретно грядущее расширение НАТО изменило ситуацию к худшему?
Министр выглядел усталым и хмурым, улыбался меньше обычного. С ним были его помощник Роберт Маркарян и заместитель министра Николай Афанасьевский, занимавшийся НАТО.
— Есть реальные вещи, — ответил Примаков, — а есть психологический фактор. Его нужно тоже учитывать. На нас давит это дело. На нас давит то, что расширение идет и блок приближается к нам, хотя мы Основополагающим актом несколько смягчили обстановку. По ядерному оружию они придерживаются положений Основополагающего акта. Мы включили в этот документ также положение о том, что они не могут размещать значительные военные подразделения на постоянной основе на территории новых членов НАТО. Но понимаете, всё это мешает. Если бы не расширение НАТО, мы могли бы больше говорить о миротворчестве, о превентивной дипломатии, о том, как погасить напряжение в горячих точках. Если бы не расширение, мы могли бы не оглядываться друг на друга…
Вот что тогда бросалось в глаза. В штаб-квартире НАТО было полным-полно представителей Восточной Европы, которые рассказывали о своих делах. Натовцы учитывали их мнение. В натовских коридорах не хватало русских, которые бы рассказывали, что происходит в России.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА
Еще никогда премьер-министром России не становился человек, который бы так искренне отказывался от этой должности. Примаков не хотел быть премьер-министром. Он никогда не стремился к высшей власти. Он прекрасно чувствовал себя на посту министра иностранных дел и считал, что эта должность будет прекрасным завершением его политической карьеры. Через месяц после назначения премьер-министром ему исполнилось шестьдесят девять лет. Он полагал, что это неподходящий возраст, чтобы начинать новое дело.
Почему же он всё-таки согласился?
Он понял, что дальше отказываться нельзя. В сентябре 1998 года экономический кризис усугубился политическим, и страна шла к катастрофе. В течение полугода перед его назначением — с конца марта и до начала сентября — события в России развивались стремительно, но до понедельника 17 августа большинство из нас пребывало в блаженном неведении относительно того, что же в реальности происходит в стране.
Пожалуй, всё началось в марте 1997 года, когда Виктор Черномырдин вдруг был отправлен в отставку. А ведь последние месяцы его именовали самым вероятным наследником Ельцина — и Виктор Степанович сам себя так воспринимал.
Я в эти дни был в командировке в Японии. 23 марта брал интервью у одного из руководителей Управления национальной обороны. Вдруг появился изумленный офицер и показал короткую, в несколько строчек телеграмму из Москвы на английском языке. В ней говорилось, что Черномырдин больше не премьер, а правительство России отныне возглавляет мало кому известный молодой человек — министр топлива Сергей Кириенко. Я был поражен не меньше японского военного разведчика и бросился звонить в Москву: что случилось?
Теперь мы знаем, как развивались события.
Двадцать первого марта 1998 года, в субботу, Ельцин принимал Черномырдина у себя на даче в Горках. Во время разговора неожиданно сказал:
— Виктор Степанович, я недоволен вашей работой.
Это был сигнал.
Вечером того же дня президент вызвал к себе руководителей своей администрации Валентина Юмашева и Сергея Ястржембского. Распорядился подготовить указ об отставке Черномырдина. Юмашев и Ястржембский уговорили Ельцина отложить обнародование указа хотя бы до понедельника, 23 марта, чтобы не портить стране выходные дни.
Кем он заменит Черномырдина, Ельцин в тот день не сказал. Колебался, никак не мог сделать выбор?
В восемь утра 23 марта Ельцин объявил Черномырдину, что он отправлен в отставку. Отставка была неожиданностью для всей страны. Осведомлено было только ближайшее окружение президента, которому было поручено составить список молодых реформаторов, способных возглавить правительство.
Никто не мог понять, что случилось. Одни были удивлены уходом Виктора Степановича, проявившего себя надежным союзником президента; другие, впрочем, считали, что его давно пора убрать из правительства, которое находится в состоянии застоя.
На публике Борис Николаевич многозначительно произнес, что поручил Виктору Степановичу готовить выборы. И кто-то даже наивно решил: Ельцин втайне выбрал в преемники Черномырдина и, заботливо убирая его из правительства, развязывает ему руки для ведения активной предвыборной кампании…
Один политик всерьез уверял меня, что Черномырдину при отставке твердо обещали:
— Виктор Степанович, сейчас финансы грохнутся, поэтому давай мы тебя отведем в сторону. Пусть они грохнутся при подставном каком-то дурачке, а ты потом вернешься разгребать то, что без тебя натворили…
Другие убеждали, что Виктор Степанович — такой опытный аппаратчик! — сам совершил непростительную ошибку, поверив, будто сменит Ельцина в Кремле, и потерял осторожность. Это проявилось, когда глава правительства улетел в Америку на переговоры в рамках межправительственной комиссии Гор-Черномырдин. Черномырдин и вице-президент Соединенных Штатов Альберт Гор вели себя как два будущих президента. Но в их положении была разница. Президент Клинтон поощрял амбиции Гора, потому что сам выбрал его на эту роль и обещал помочь на грядущих выборах. А Ельцин Черномырдину таких авансов не выдавал, поэтому и отправил в отставку.
Но был и другой мотив. Экономика топталась на месте, и сам президент признавался, что главу правительства следовало сменить еще год назад.
Тогдашний заместитель главы президентской администрации Евгений Савостьянов вспоминал:
— Уже в начале 1998 года стало ясно, что пирамида государственных краткосрочных обязательств вот-вот рухнет, как рушатся все пирамиды. А правительство Черномырдина вообще ничего не делало. Виктор Степанович уклонялся от принятия решений. И вот тогда, кстати, от Бориса Березовского я услышал фразу: «Мы будем менять Черномырдина» (характерно это «мы»). Видимо, президенту докладывали, что ситуация ухудшается, а Черномырдин ничего не делает. Надо ставить новых людей…
«Виктор Степанович человек неплохой, — говорил Борис Немцов, — но он постоянно путает “Газпром” с Россией. Я ему говорю, что монополии должны служить стране, а не государство и народ — “Газпрому”. А у него в голове — часто наоборот».
Американскому президенту Клинтону Ельцин так объяснил увольнение главы правительства:
— Черномырдин всегда со мной советовался и был порядочным человеком, но иногда случается так, что люди устают от какого-то официального лица. Приходится что-то менять, начинать с нуля, чтобы не потерять импульс. Но я обошелся с Черномырдиным очень хорошо. Я сохранил ему зарплату, дачу, машину, охрану.
Борис Николаевич, видимо, уже решил, что Черномырдин в преемники не годится, и потерял к нему интерес. Никакой личной обиды не было. Ельцин вскоре придет к уже отставному премьеру на пышно отмечаемое шестидесятилетие и произнесет длинную хвалебную речь. А через полгода — в критической ситуации — еще раз призовет возглавить правительство…
Президент, сообщив об отставке Черномырдина, сказал, что берет на себя исполнение обязанностей председателя правительства. Но уже через несколько часов новым главой правительства назначил мало кому известного Сергея Владиленовича Кириенко, которого Борис Немцов привез из Нижнего Новгорода и сделал заместителем министра топлива и энергетики.
Вопрос о назначении Кириенко на пост замминистра в апреле 1997 года решал Черномырдин. Немцов привел к нему кандидата на должность. Побеседовали. Черномырдину Сергей Владиленович не глянулся:
— Кириенко не дорос.
Настырный Немцов настоял на назначении. Черномырдин сопротивлялся недолго — зачем ему ссориться из-за какого-то заместителя министра, каких пруд пруди. Он не знал, что подписывает приказ о назначении своего преемника.
Теперь уже известно, что замену Черномырдину в Кремле искали с начала года, рассматривались разные варианты — среди кандидатов наиболее вероятным казался недавний директор Федеральной пограничной службы Андрей Николаев, умный и видный генерал, которому Борис Николаевич всегда симпатизировал. Утром 23 марта 1998 года первым в кабинет президента должны были ввести именно Николаева. И всё-таки в последний момент первым оказался Кириенко. Поговорив с ним (а это были смотрины), президент остановился на Кириенко. Через год Ельцин точно так же будет выбирать между Степашиным и Аксененко.
Невысокий, худенький, Сергей Владиленович казался совсем уж маленьким рядом с массивным Борисом Николаевичем, который буквально за руку отвел его в кабинет главы правительства. Президент хотел дать Кириенко шанс: а вдруг это новый Гайдар, такой же энергичный и твердый в преобразованиях? Ельцину понравился «стиль его мышления — ровный, жесткий, абсолютно последовательный».
Уже позднее Сергей Владиленович рассказывал мне, что 23 марта, в день назначения, разговор у них с Ельциным был такой.
— Вы понимаете, что происходит в стране? — спросил его президент.
— Понимаю, — ответил Кириенко. — Вкатываемся в долговой кризис. Если не принять срочные меры, последствия будут самые печальные.
— Вы считаете, что выйти из кризиса можно?
— Можно. Но для этого придется пойти на самые жесткие действия.
— Беритесь и делайте.
Сергей Владиленович Кириенко счел нужным оговорить только одно условие:
— Борис Николаевич, я политикой не занимаюсь и заниматься ею желания не испытываю.
Ельцин одобрительно кивнул:
— Правильно, и не надо! Главная ошибка прежнего правительства — слишком лезло в политику. А дело правительства — это хозяйство, экономика. Займитесь экономической программой, а политику оставьте мне, — напутствовал Ельцин нового премьер-министра.
После отставки сам Кириенко придет к выводу, что отнюдь не решения, принятые 17 августа, в день объявления дефолта, а сознательный отказ от политики был его главной ошибкой:
— Экономические проблемы в России не имеют чисто экономического решения. Они решаются только политическими средствами.
Назначение Кириенко было малоприятным сюрпризом для оппозиции. Ровно месяц ушел у Сергея Владиленовича на то, чтобы добиться утверждения его кандидатуры Думой, которая не хотела видеть в этом кресле еще одного молодого реформатора. Месяц страна жила без правительства и в ожидании роспуска Государственной думы, новых парламентских выборов. Этот месяц нанес обществу большой ущерб. И не только экономический, но и психологический. Состояние неопределенности, нестабильности, неуверенности — это то, что порождает стресс и ведет к психическим расстройствам.
Между тем само назначение Кириенко вселяло надежду. Ельцин передал власть сразу от дедов внукам, пропустив поколение отцов. Кириенко было тридцать шесть лет. Борис Немцов стал первым вице-премьером в тридцать восемь, Михаил Задорнов — министром финансов в тридцать четыре года. Между ними и поколением Черномырдина не просто большая разница в возрасте. Эти люди в реальности принадлежат к разным мирам.
Когда Черномырдин родился, Сталин и Гитлер еще с интересом присматривались друг к другу, впереди была огромная война, годы страданий и разрухи. А Кириенко родился в год, когда «Новый мир» напечатал эпохальную повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».
Разница между теми, кто всю жизнь прожил при советской власти, и теми, кто просто не понимает, что такое быть вызванным на бюро райкома и получить строгача с занесением в учетную карточку, огромна. Образ мыслей, отношение к внешнему миру, жизненные цели и методы работы — всё у них разное. Самый радикальный руководитель старого поколения привык к определенной роли государства — оно обязано предоставить жилье, образование, медицинское обслуживание, обеспечить работой да еще и спасти в случае неудачного вложения денег.
Годы зрелости Кириенко и его сверстников совпали с крушением государственного всевластия. Они взрослели, зная, что им предстоит самостоятельно принимать решения и полагаться на самих себя. У Кириенко рыночное мышление — не книжного происхождения, не заемное, он усвоил его на практике, занимаясь собственным бизнесом.
Это поколение желает преуспевать в жизни и зарабатывать деньги. Молодые руководители ценят знания, умение и образование. Всё остальное не имеет значения для успеха. Бизнес — демократичная сфера. Никакой номенклатуры и прежних заслуг. Любой может подсесть к этому карточному столу и попытаться сорвать куш. И казалось, новое правительство может двинуть дело вперед.
Сергей Кириенко сыграл немаловажную роль в карьере будущего президента Владимира Владимировича Путина. В мае 1998 года Путин стал первым заместителем руководителя администрации президента. Он занимался отношениями с регионами, выяснял, как используются кредиты, куда уходят деньги, получаемые губернаторами. Но на этом посту проработал каких-нибудь два месяца — его назначили директором Федеральной службы безопасности.
Как именно происходило назначение, Путин сам рассказывал журналистам. Его предупредили, чтобы он поехал в аэропорт встречать главу правительства Сергея Кириенко, который возвращался от президента, отдыхавшего в Карелии. Кириенко вышел из самолета со словами:
— Володя, привет! Я тебя поздравляю!
— С чем?
— Указ подписан. Ты назначен директором ФСБ.
Путин говорил потом, что не очень обрадовался: «У меня не было желания второй раз входить в одну и ту же воду».
Едва ли назначение произошло так уж внезапно. О том, что Путин возглавит органы госбезопасности, заговорили чуть ли не за год до того, как это назначение состоялось. Тогда полагали, что назначения Путина желает влиятельная питерская команда во главе с Анатолием Борисовичем Чубайсом, потому что молодые реформаторы хотят иметь своего человека в консервативно настроенных силовых структурах. Сам же Путин в сентябре 1997 года заявил журналистам, что вопрос о переходе в ФСБ с ним «никто из руководства администрации президента и правительства не обсуждал и даже не намекал на такую возможность»…
Есть люди, которые компетентно утверждают, что с Путиным, естественно, заранее, за несколько месяцев, обсуждали это назначение. А что он не очень хотел идти на Лубянку — это похоже на правду. Путин вел интересную и насыщенную жизнь, ездил с семьей за границу, свободно общался с иностранцами, а надо было вернуться в закрытую сферу. Тем более что ни один из предшественников хорошо с Лубянки не ушел. Да и думал, наверное, как примут человека, который в 1991 году так демонстративно покинул КГБ?
Проницательный Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета России, заметил в газетном интервью: «Только не преувеличивайте его чекистское прошлое. Мне кажется, что он больше играет в чекиста, чем является им».
Двадцать пятого июля 1998 года Путин был утвержден директором Федеральной службы безопасности. Коллегии ФСБ его представил премьер-министр Кириенко.
— Задачи Федеральной службы безопасности очень серьезные, а наиболее важным сейчас является обеспечение экономической безопасности. Назначение Пугина директором ФСБ не случайно, — сказал Кириенко. — Новый руководитель службы — профессиональный разведчик, имеет опыт работы в спецслужбах. Деятельность Владимира Пугина в Главном контрольном управлении администрации президента помогла ему накопить знания и опыт в борьбе с экономическими преступлениями.
Новый директор ФСБ сказал, что вернулся в родной дом.
А Сергей Кириенко был утвержден главой правительства только 23 апреля 1998 года, после месячного мучительного торга с Думой. Депутаты проголосовали с третьего захода, испугавшись, что Ельцин и в самом деле может распустить Думу. Только 12 мая Кириенко закончил формировать правительство. Тут началась рельсовая война, шахтеры перекрыли движение на железных дорогах. И почти сразу страна попала в финальную стадию долгового кризиса.
Выступая в Государственной думе с программной речью, премьер-министр Сергей Кириенко предупредил, что экономике России нанесен тяжелый удар азиатским финансовым кризисом. Последствия этого кризиса страна еще просто не заметила. Но потери федерального бюджета, по словам премьер-министра, уже оцениваются почти в тридцать миллиардов долларов.
Люди слушали и не верили: о каком азиатском кризисе он говорит? В Таиланде и Индонезии что-то стряслось, а мы-то здесь при чем? На самом деле ситуация была еще хуже, чем первоначально предполагал Кириенко. Когда он обосновался в кабинете премьер-министра в Белом доме, то обнаружил, что доходов государства не хватает даже на текущие расходы. Долги же просто не из чего выплачивать. Это оказалось для него главным сюрпризом.
— При мне люди жили как люди, — несколько раз после августовского кризиса укоризненно скажет Черномырдин.
Он имел в виду твердый курс рубля, которого добилась команда Чубайса. Инфляция почти остановилась, цены перестали расти. Казалось, жизнь улучшается. Но этот благоприятный период быстро закончился.
В 1995 году правительство отказалось от кредитов Центробанка для финансирования бюджета, то есть перестало печатать деньги всякий раз, когда государственный карман пустел. Надо было одновременно и сокращать расходы, чтобы жить по средствам: тратить не больше, чем зарабатываешь. Но не получалось по политическим причинам: война с Чечней, необходимость тратить большие деньги перед парламентскими и президентскими выборами. Неспособность отказать губернаторам и депутатам, которые требуют денег для своих территорий…
Три года правительство вело такую политику — взять кредит, с его помощью пережить несколько месяцев и взять новый. Деньги занимали и за границей, и внутри страны, продавая ГКО — государственные краткосрочные обязательства. Это была жизнь взаймы. Взаймы взяли, но когда разом упали и цены на нефть, и разразился азиатский кризис, и иностранные инвесторы стали забирать деньги из страны, оказалось, что отдавать нечем. А налоги собирались очень плохо.
Сразу возникло предложение, казавшееся разумным.
Внутренний и внешний долг настолько огромен, что надо провести девальвацию, снизить курс рубля. Подешевевшими деньгами легче расплатиться по внутреннему долгу. Логично? Но у девальвации есть другая сторона.
В долг брало не только государство. Российские банки тоже набрали кредитов за рубежом. Девальвация лишила бы их возможности расплатиться. На дешевые рубли они бы не купили достаточного количества долларов, которыми надо возвращать долг.
Финансовый кризис вызревал постепенно. Деньги уходили из страны. Центральному банку, чтобы поддержать рубль, приходилось продавать двести — триста миллионов долларов в день. 20 июля 1998 года Международный валютный фонд принял решение выделить России стабилизационный кредит. Первые 4,8 миллиарда долларов поступили в конце июля на счета российского правительства. Атаки на рубль прекратились. Казалось, получение кредита стабилизирует страну.
Кириенко считал, что выход один — резко сократить государственные расходы. Он просил депутатов либо санкционировать секвестр бюджета, либо, если они не хотят брать на себя такую ответственность, разрешить правительству самостоятельно срезать расходы.
Дума отвергла антикризисную программу правительства, которое лишилось возможности что-то сэкономить. Это имело далекоидущие последствия: упало доверие к правительству, к его кредитоспособности. Инвесторы спешили избавиться от российских ценных бумаг, переводили рубли в доллары. Курс рубля падал. Запад отказался помогать: вы просите нашей помощи, а между собой не можете договориться. Вы сами непопулярные меры принимать не хотите, а хотите, чтобы за вас это сделали мы. Так не пойдет…
Если бы в июле была принята антикризисная программа Кириенко, не было бы 17 августа. Страна жила бы с таким же жестким бюджетом, который с большим опозданием пришлось готовить уже правительству Примакова, но обошлось бы без тех страданий, через которые страна прошла осенью.
В начале августа 1998 года из-за падения цен на российские валютные бумаги банки оказались на грани банкротства. Частные банки и фирмы не могли вернуть кредиты, взятые в твердой валюте. Валютные запасы таяли на глазах. Помощь, которую Чубайс выбил из Международного валютного фонда, уже не помогала. Инвесторы всерьез испугались и стали забирать деньги. Это был прежде всего кризис доверия.
Четырнадцатого августа, в пятницу, российский валютный рынок практически прекратил существование. В понедельник от рубля могло остаться одно воспоминание.
В субботу и воскресенье на даче Кириенко руководители правительства и Центрального банка решали, что делать. Вариантов было два: либо выложить все резервы, напечатать побольше денег и расплатиться с владельцами ГКО — государственных краткосрочных обязательств, либо девальвировать рубль и частично отказаться платить долги.
Кириенко решил спасти банки и заодно пощадить государственную казну, которой надо было расплачиваться по ГКО. Он объявил то, что стали именовать английским словом «дефолт» — мораторий на выплату долгов.
Правительство разрешило частным заемщикам в течение ближайших девяноста дней ничего не платить своим зарубежным кредиторам. Кроме того, правительство увеличило верхнюю границу валютного коридора до девяти с половиной рублей за доллар. Одновременно ввели мораторий на выплаты по государственным краткосрочным обязательствам и облигациям федерального займа.
Трехмесячная отсрочка выплат должна была спасти экономику. Предполагалось, что сразу же начнутся переговоры с кредиторами. Но тут сменилось и правительство, и руководство Центрального банка. Переговоры были отложены и возобновились с большим опозданием… Кириенко и сегодня считает, что принял тогда плохое решение, — но только для того, чтобы избежать худшего.
Шестнадцатого августа, в воскресенье, Кириенко приехал к президенту и сказал, что правительство готово уйти в отставку, приняв на себя ответственность за всё:
— Если есть возможность заменить нас правительством, обладающим большей политической поддержкой… Ему не надо будет нести ответственность за уже принятые непопулярные решения. Оно сможет продолжить работу…
Ельцин сказал, что уходить в отставку не надо — работайте. Он не мог предположить, что на следующий день начнется в стране. Решение правительства вызвало бурю возмущения. Кириенко и его соратники явно не предвидели политических и психологических последствий своего решения.
Семнадцатого августа, в понедельник, после обнародования правительственных решений в стране началась паника. И она перечеркнула благие намерения правительства. Все бросились скупать валюту, у кого было на что покупать, конечно. Обменные пункты закрылись. Вкладчики побежали в банки забирать свои сбережения. Вернуть всем деньги банки не могли.
Реакция на решение правительства была в большей степени психологической. Кириенко не ожидал, что начнется настоящая паника. С экономическими проблемами можно было совладать. Но как успокоить общество?
Двадцать первого августа, в пятницу, все фракции Государственной думы выразили недоверие правительству и потребовали отставки Сергея Кириенко.
На его голову обрушились все проклятия за тяжкие социальные последствия — девальвация в первую очередь бьет по тем, у кого нет больших доходов. В Москву срочно вернулся оживившийся Виктор Черномырдин, который находился в родных местах в Оренбурге. Он правильно рассчитал, что настал его час, потому что в окружении президента заметались в поисках фигуры, которая могла бы спасти ситуацию.
Когда в апреле Кириенко боролся за утверждение своей кандидатуры и торговался с депутатами, Александр Николаевич Шохин, лидер фракции правительственной партии «Наш дом — Россия», просил только одного: утвердить оставшегося без работы Черномырдина председателем совета директоров РАО «Газпром».
Кириенко сказал, что готов подписать бумаги. Но Черномырдин отказался: он намерен баллотироваться на пост президента и других должностей ему не надо. Виктор Степанович, похоже, ждал, что у Кириенко ничего не получится и его опять кликнут на премьерство. Так и произошло. В те кризисные дни совершенно растерявшиеся чиновники в окружении президента решили, что Черномырдин — тот самый надежный и солидный человек, который сейчас нужен. Он один знает, что делать. Его примут и Государственная дума, и общество, нуждающееся в успокоении. Как только массивная, излучающая уверенность фигура Виктора Степановича появится на экранах телевизоров, кризис закончится сам по себе.
Главным сторонником возвращения Черномырдина был глава президентской администрации Валентин Юмашев. А к нему в ту пору Ельцин очень и очень прислушивался.
Двадцать второго августа, в субботу вечером, глава президентского аппарата Валентин Юмашев привез Ельцину на дачу проекты двух указов — об отставке Кириенко и назначении Черномырдина.
Двадцать третьего августа, в воскресенье утром, Ельцин вызвал к себе Кириенко. Сергей Владиленович рассказывал мне потом, что он понимал: назад он наверняка вернется уже не главой правительства. Так и произошло.
Многие жалели о его отставке. Стоило ли менять команду в такой сложный момент? Кириенко успел понравиться. Его молодость и энергия вселяли некую надежду. Кириенко не хватило времени, чтобы решить проблемы, накопленные его предшественниками, и опыта, чтобы избежать потрясений, последовавших после 17 августа.
Первый вице-премьер Борис Немцов, который тоже ушел в отставку и был сильно обижен на президента, говорил:
— Ельцин сдавал всех и всегда. Президент уже уволил пятерых премьер-министров, сорок пять вице-премьеров и сто шестьдесят министров.
Борис Ефимович напрасно обижался. В увольнениях не было ничего личного. Ельцин расставался с людьми не потому, что ему кто-то разонравился. Он освобождался от тех, кто переставал быть нужным. Личные привязанности для политика такого уровня не могут быть сильнее политической целесообразности.
Однажды, еще до кризиса, Ельцин искренне сказал своему любимцу Немцову:
— Знаешь, устал вас поддерживать.
Борис Ефимович воспринял эти слова как свидетельство общей усталости президента от жизни. Ельцин же явно имел в виду другое: он нуждался в политиках и министрах, которые бы поддерживали его, которые бы приносили ему политические дивиденды, укрепляли его позиции. А получалось, что он один должен всех подпирать остатками своего авторитета…
Кириенко предложил Ельцину назначить премьер-министром Егора Строева, бывшего секретаря ЦК КПСС, губернатора, политического тяжеловеса, против которого коммунисты возражать не станут. Президент не принял его рекомендацию. Попрощавшись с Кириенко, пригласил к себе Черномырдина, который жил неподалеку, и порадовал соседа:
— Только что у меня был Кириенко. Я отправил его в отставку.
Ельцин официально предложил Черномырдину сформировать новое правительство. Это был акт отчаяния. Президент не верил в таланты Виктора Степановича, но чувствовал себя слишком слабым, чтобы удержать Кириенко и в одиночку противостоять напору Думы. Рубль продолжал падать. Страна ожидала еще больших потрясений, полной экономической катастрофы, исчезновения продуктов, лекарств.
— Сегодня нужны те, кого принято называть «тяжеловесами», — сказал Ельцин, обращаясь к стране по телевидению.
Соскучившийся по любимому делу Виктор Степанович с удовольствием принял предложение вернуться в Белый дом, но счастья самому Черномырдину это не принесло. Во второй раз он находился на посту премьера всего восемнадцать дней и запомнился несколькими фразами:
— Какие тут прогнозы? Надо кое-кому врезать как следует, всех поставить на место, привлечь людей, поставить хозяина — и вперед!..
В разговоре с Ельциным он выставил свои условия. Он получает значительно большие полномочия, чем прежде, а президент соглашается ограничить свою власть. Виктор Степанович старался не только для себя. Он должен был получить поддержку Думы и брался добыть для оппозиции то, чего она тщетно добивалась много лет, — отказа президента от своего всевластия. Он полагал, что это предел мечтаний оппозиции — конституционная реформа, передел полномочий в пользу Думы и правительства.
Виктор Черномырдин, вспоминает тогдашний вице-премьер Борис Федоров, появился в Белом доме бодрым, энергичным, помолодевшим. Он торжествовал: наконец-то увидели, что без него не обойтись! Виктору Степановичу не терпелось взяться за дело. Отставка и несколько месяцев вне правительства помогли по-новому взглянуть на происходящее. Ему, как говорил другой персонаж недавней истории, чертовски хотелось поработать.
Черномырдин первым делом поехал в Государственную думу договариваться с депутатами. Он договаривался по-свойски:
— Пора действовать. Товарищ Кириенко растерялся, его ребята разбежались.
Черномырдин предлагал депутатам, в том числе от оппозиции, коалиционное правительство. Партии отказываются от политической борьбы, делегируют самых толковых в правительство и общими усилиями вытаскивают страну из кризиса. По словам Черномырдина, лидер коммунистов Геннадий Андреевич Зюганов его поддержал. Поддержал и Николай Иванович Рыжков, лидер фракции «Народовластие»:
— Черномырдин хорош тем, что ему не надо осваивать новое дело, он всё знает.
Виктор Степанович предложил основным думским фракциям подготовить политическое соглашение. Если президент его подписывает, то Дума автоматически утверждает Черномырдина. Президент был в таком состоянии, что соглашался на всё. В те дни казалось, что Борис Николаевич настолько болен и слаб, что вообще вот-вот сам подаст в отставку. Думу охватила эйфория: наша взяла, президент сдался.
Но произошло непредвиденное: несмотря на некие предварительные договоренности, 30 августа, в воскресенье вечером, коммунисты неожиданно отказались от политического соглашения и, следовательно, от поддержки Черномырдина.
Тридцать первого августа, в понедельник, при голосовании в Государственной думе Черномырдин получил голоса всего девяноста четырех депутатов. Против проголосовал двести пятьдесят один депутат. Полный афронт. Черномырдин был обескуражен. Те, на кого он полагался, отказали ему в поддержке. Он решил, что соперники боятся пускать его в правительство, потому что это открывает ему дорогу к победе на президентских выборах 2000 года. Есть и другое мнение: депутаты не хотели голосовать за возвращение в правительство уже надоевшего им прежнего премьера, который за столько лет так и не добился никаких успехов.
Ельцин сразу же вновь внес его кандидатуру в Думу. Но на утверждение Черномырдина, похоже, уже не рассчитывал.
Тем временем в Москву прилетел президент Билл Клинтон. Визит готовился заранее, никто не мог предположить, что американский президент появится в разгар жесточайшего кризиса. Ельцин признался Клинтону, что рассматривает еще две кандидатуры на пост премьер-министра. В кулуарах называли имена бывшего генерала Александра Лебедя и московского мэра Юрия Лужкова. Звучало и имя Примакова. Мад лен Олбрайт отвела Евгения Максимовича в сторону. Он откровенно сказал, что эта работа его совершенно не привлекает. Да и жена-врач считает, что премьерская должность опасна для его здоровья.
Второго сентября, в среду, Черномырдин встретился с губернаторами, обещал пойти навстречу их просьбам. Местных руководителей, более свободных от политических пристрастий, он считал своей опорой. Рассчитывал, что они воздействуют на депутатов от своих территорий.
Четвертого сентября, в пятницу, Черномырдин выступал в Совете Федерации (состоявшем тогда из губернаторов и председателей местных законодательных собраний) и попросил неограниченных полномочий в борьбе с кризисом. Совет Федерации поддержал кандидата в премьеры. Черномырдин делал всё, чтобы усилить свои позиции. Он предложил Евгению Примакову и Юрию Маслюкову (депутату от компартии) пойти к нему первыми замами. Евгений Максимович согласился.
Но и это не помогло.
Седьмого сентября, в понедельник, Дума вновь отказалась утвердить Черномырдина: сто тридцать восемь голосов «за», двести семьдесят три — «против».
Вероятно, у коммунистов появилась надежда на то, что ослабевший Ельцин предложит им более приятную кандидатуру. А может быть, просто боялись опозориться. Ведь весь прошлый год, несмотря на свои принципиальные речи и ненависть к «антинародному режиму», они одобряли всё, что от них требовали президент и правительство. Над ними уже откровенно смеялись.
«На Черномырдина было тяжело смотреть, — вспоминал Борис Федоров. — Он был вымотан физически и обескуражен предательствами. От триумфального возвращения до провала прошло всего несколько дней, но они оказались вечностью. Второе пришествие в правительство обернулось для него большими политическими потерями».
Россия опять осталась без правительства. Стране грозил теперь не только экономический, но и политический кризис. Курс доллара стремительно подскочил. Торги на валютной бирже пришлось остановить. Казалось, страна погружается в глубочайший экономический кризис, в хаос. Потом, после утверждения Примакова главой правительства, станет ясно, что объективных причин для такого падения рубля не было. Действовали внеэкономические категории — общество охватила паника.
Оставалось последнее, третье голосование по кандидатуре Черномырдина. Если Дума вновь говорит «нет», президент по конституции распускает Думу и назначает досрочные выборы. Депутаты лихорадочно готовились к процедуре импичмента — это лишит президента права разогнать их.
В понедельник Ельцин не представил Черномырдина на третье голосование. Проходит вторник — Ельцин молчит. Становится ясно, что президент и его окружение не знают, что им делать: рискнуть и настоять на своем или всё же подыскать новую кандидатуру?
В президентском окружении царили разброд и шатания.
Одни считали, что надо выставлять кандидатуру Черномырдина в третий раз: в последнюю минуту депутаты как пить дать испугаются роспуска и проголосуют «за». В этом предположении был резон. Депутаты не хотят роспуска Думы. Даже у коммунистов кишка тонка. Одно дело — готовиться к выборам из своих кабинетов, располагая думским аппаратом, депутатскими привилегиями, компьютерами, ксероксами, автомашинами, бесплатными авиабилетами и телефонами, другое — в решающий момент оказаться на улице и начинать всё с нуля.
Но депутаты весной уже дали слабину, когда после всех протестов и негодований с третьего раза проголосовали всё-таки за Сергея Кириенко. Они боялись вновь проявить губительное отсутствие принципиальности, не хотели накануне возможных выборов позориться в глазах избирателей. Поэтому риск третьего отказа был велик.
В ответ на роспуск Думы депутаты могли начать процедуру импичмента, и тогда страна попала бы в ужасающее положение, когда исполнительная и законодательная ветви власти не признавали бы друг друга. Страна стала бы неуправляемой. В Кремле на этот риск не решились. Это уже был не 1993 год. Борис Николаевич был слаб и болен.
В кабинете главы администрации Валентина Юмашева лихорадочно тасовали тощую политическую колоду, перебирая возможных кандидатов. Прозвучало вновь имя московского мэра Юрия Лужкова. Юмашев и Татьяна Дьяченко с порога отвергли это предложение, причем, судя по словам участников этой дискуссии, весьма эмоционально.
Если другие кандидатуры можно было рассматривать, взвешивая плюсы и минусы, то Лужков воспринимался как какой-то монстр; не только что обсуждать, но и произносить саму его фамилию в главных кабинетах Кремля считалось неприличным.
Валентин Юмашев твердо стоял за Черномырдина, видимо, полагая, что старый конь борозды не испортит. Личная преданность Виктора Степановича президенту вне сомнений.
А в Москве уже объявился отставной генерал и бывший секретарь Совета безопасности Александр Иванович Лебедь, застоявшийся в своем красноярском далёко, и сразу на двух каналах телевидения предложил себя в спасители Отечества — по своей ли инициативе или по чьему-то совету. Говорили, что Борис Березовский настойчиво предлагает назначить главой правительства Лебедя — более слабый политик просто не справится. Но Лебедя в Кремле боялись. Во время выборной кампании 1996 года его откровенно использовали, чтобы оттянуть голоса у Зюганова и укрепить позиции Ельцина, а потом довольно бесцеремонно выставили из Кремля. Так что Лебедь вернулся бы в Кремль с желанием расквитаться со своими обидчиками. Да и объективно говоря, страна нуждалась не в выяснении отношений между панами, от чего у хлопцев сильно трещат чубы, а в успокоении и замирении.
В конечном счете Бориса Николаевича уговорили не просить в третий раз Думу утвердить Черномырдина. А кого же назначать?
Государственная дума проявила инициативу и предложила президенту свой список кандидатов на пост премьер-министра: глава парламентского Комитета по экономической политике Юрий Маслюков, министр иностранных дел Евгений Примаков, банкир Виктор Геращенко, спикер Совета Федерации Егор Строев, московский мэр Юрий Лужков.
Лидер фракции «Яблоко» Григорий Алексеевич Явлинский вдруг заявил с думской трибуны, что есть кандидатура, которая устроит все политические силы, — это министр иностранных дел Евгений Максимович Примаков. Предложение показалось странным: академика Примакова — в прошлом журналиста, директора академического института, советника Горбачева, начальника разведки — меньше всего можно было считать хозяйственником.
Но вот и аргументы в пользу Примакова: в партии не входит, к финансово-промышленным группировкам не принадлежит, в президенты баллотироваться не собирается, в прежних экономических реформах не участвовал, ни в чем дурном не замешан.
Явлинский разъяснил свою позицию:
— Евгений Максимович — это компромиссная фигура. Это не кандидат «Яблока». Мы с ним как с министром иностранных дел не во всём были согласны.
И депутаты подхватили эту идею. Примаков ни у кого не вызывал аллергии. Спокойный, основательный, надежный, он казался подходящей фигурой в момент острого кризиса. Более того, он нравился не только политикам, но и значительной части общества.
Президент Ельцин пригласил Примакова на дачу:
— Евгений Максимович, вы меня знаете, я вас знаю… Вы — единственный на данный момент кандидат, который всех устраивает.
— Борис Николаевич, буду с вами откровенен, — сказал Примаков. — Такие нагрузки не для моего возраста. Вы должны меня понять. Хочу доработать нормально, спокойно. Уйдем на пенсию вместе в 2000 году.
Восьмого сентября, во вторник, Примаков сделал заявление:
— Признателен всем, кто предлагает мою кандидатуру на пост председателя правительства. Однако заявляю однозначно: согласия на это дать не могу.
Черномырдин продолжает работать в Белом доме. Что решил Ельцин, всё еще неясно.
Глава президентского аппарата Валентин Юмашев сказал Явлинскому, что разговаривал с Примаковым, но тот отказался. Это совершенно естественно, ответил Явлинский, с кандидатом в премьер-министры должен говорить сам президент, а не его помощник.
Тут есть одно важное свидетельство. Не раз упоминавшийся в этой книге заместитель американского госсекретаря Строуб Тэлботт вспоминал, как еще в октябре 1997 года он беседовал один на один с Юмашевым:
«Юмашев, входивший в ближний круг Ельцина, признал, что внутри российского правительства имеется проблема, и дал понять, что часть ее — Примаков. Это послужило первым предупреждением, что в Кремле у Примакова не всё гладко… В Москве к нам доносились слухи о закате примаковской звезды. Вскоре мы с Примаковым увиделись в Токио. Он намекнул на “непредсказуемость политики” и открыто говорил о своем ощущении: в работе его осаждают со всех сторон».
Слухи о «закате» эры Примакова еще не имели под собой оснований. Но слова Юмашева за год до кризиса свидетельствовали о том, что руководитель президентской администрации и столь близкий к Ельцину человек отнюдь не принадлежит к числу поклонников Евгения Максимовича. А Юмашева привыкли воспринимать как alter ego президента.
У Ельцина, который мечтал иметь сына, Юмашев был на положении самого близкого человека. А Валентин Борисович Юмашев рос без отца. Он работал в «Комсомольской правде», потом в «Огоньке». В перестроечные годы Юмашев написал сценарий фильма «Борис Ельцин. Портрет на фоне явления» для Центральной студии документальных фильмов. Вот тогда он и познакомился с опальным Борисом Николаевичем и сумел понравиться будущему президенту. Юмашев писал за президента его книги и очень много времени проводил рядом с Борисом Николаевичем. Он был принят в доме как член семьи — настоящей, с маленькой буквы.
В 1996 году Юмашев тоже получил свою первую должность в Кремле и стал советником президента по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации. Они работали на пару с Татьяной Дьяченко. Когда в марте 1997 года Чубайс перешел в правительство, Юмашев стал главой президентской администрации.
Для страны это был большой сюрприз; те, кто знал реальную ситуацию внутри Кремля, не удивились. Должность руководителя администрации особенная. Ее обыкновенно занимает человек, способный управлять большой государственной системой и одновременно приятный, комфортный для президента. Вторым качеством Юмашев обладал в полной мере. Большой государственный руководитель из него, судя по всему, не получился. Но от Юмашева требовалось совсем другое: облегчить жизнь президента. С этой задачей они вдвоем с Татьяной Дьяченко справлялись. Как выразился Немцов, «Татьяна Дьяченко — это Ельцин в юбке. Для нее политическая целесообразность важнее человеческих отношений».
А правительства по-прежнему нет, и возникает ощущение, что страна идет вразнос. Эти первые сентябрьские дни 1998 года — худшие за несколько последних лет. Банки закрываются. Люди скупают еду, лекарства и вещи. Настроения в стране упаднические. Предприятия закрываются, платить нечем. Все ждут увольнений, безработицы, пустых полок, очередей, холодной и тяжелой зимы, социальных потрясений, диктатуры. Кончившаяся 17 августа жизнь теперь уже представляется если не прекрасной, то по крайней мере вполне нормальной. Люди готовы согласиться на любого премьера, лишь бы он начал действовать и вернул страну к прежнему относительному спокойствию.
На дачу к Ельцину приехали руководитель президентской администрации Валентин Юмашев, секретарь Совета безопасности Андрей Кокошин и заместитель главы администрации Ястржембский. Сергей Владимирович Ястржембский предложил выдвинуть кандидатуру Лужкова:
— Лужков всегда был за президента. На всех этапах своего пути, при всех сложных ситуациях. Говорят, что сейчас он против вас. По-моему, это оговор. Я лично разговаривал с Юрием Михайловичем. Он попросил передать, что Борис Николаевич для него святое понятие. Но дело не только в этом. Лужков — реальный кандидат в президенты на следующих выборах.
Андрей Афанасьевич Кокошин, известный ученый-международник, который был первым заместителем министра обороны и отвечал за вооружение армии, поддержал Ястржембского. Кокошин и Ястржембский были известны как люди самостоятельные, не играющие в политические игры.
Категорически с кандидатурой московского мэра не был согласен Юмашев. Надо понимать, знал, что для Ельцина Юрий Михайлович неприемлем:
— Лужков рвется к власти со своим грубым напором, не брезгуя никаким скандалом. Кроме того, если Лужков станет премьером, неужели он удержится от попыток захвата власти до выборов 2000 года? Конечно нет.
Ельцин всех отпустил, сказав, что подумает, и почти сразу перезвонил Юмашеву в машину:
— Уговаривайте Примакова.
Во всяком случае, так это изложено в последней книге Ельцина «Президентский марафон», которую за него написал Валентин Юмашев. Для Ястржембского и Кокошина этот визит на дачу закончился увольнением — Ельцин заподозрил в них «тайных агентов» Лужкова.
Ельцин вел тройную игру: давил на Думу («У меня нет другой кандидатуры, это вопрос решенный, с вами или без вас, премьером будет Черномырдин»), убеждал Черномырдина не настаивать на своей кандидатуре («Виктор Степанович, нельзя вносить вашу кандидатуру в третий раз, в сегодняшней политической ситуации мы не имеем права распускать Думу») и через Юмашева уговаривал Примакова стать премьером.
Валентин Юмашев несколько раз встречался с Примаковым:
— Евгений Максимович, какие ваши предложения, что будем делать?
Примаков отвечал:
— Давайте предлагать на пост премьера Юрия Дмитриевича Маслюкова, это хороший экономист.
Юрий Маслюков большую часть жизни проработал в военной промышленности. Горбачев сделал его членом политбюро, заместителем главы правительства и председателем Госплана. В 1993 году он стал депутатом Государственной думы по списку компартии.
— Борис Николаевич ни за что не согласится на премьера-коммуниста, вы же знаете, Евгений Максимович, — отвечал Юмашев. — И что же, будем распускать Думу?
На самом деле от отчаяния Ельцин был готов на любой вариант, только бы не распускать Думу. Юрий Маслюков рассказывал позднее журналистам, что его прямо из отпуска пригласили к президенту. Утром 10 сентября он был в Кремле. Сначала с ним разговаривала президентская дочь Татьяна Дьяченко. Она предупредила:
— Сейчас папа будет предлагать вам пост премьера. Ни в коем случае не отказывайтесь.
Ельцин действительно предложил Маслюкову стать премьером. Юрий Дмитриевич ответил, что в силу его принадлежности к коммунистической партии назначение будет недоброжелательно встречено частью политического спектра страны. Маслюков сказал, что сейчас нужна такая фигура, как Евгений Максимович Примаков, а он готов работать под его руководством в качестве первого вице-премьера, ответственного за экономику. В тот же день к Ельцину вновь привели Маслюкова, а с ним Примакова, Черномырдина и Юмашева. Примаков опять отказался от поста премьера, хотя все его уговаривали. Даже Черномырдин!
Виктор Степанович уверял, что, когда они еще летом одновременно отдыхали в Сочи, он сказал Примакову:
— Евгений, в правительстве очень тяжело, нет там, по сути, хозяина. Не придется ли тебе за хозяина сесть? А ребята пусть отдохнут.
В общей сложности Ельцин трижды предлагал Примакову возглавить кабинет. Последняя беседа состоялась 12 сентября. Присутствовали Черномырдин и Маслюков. Евгений Максимович вновь отказался. Ему не хотелось браться за практически неразрешимую задачу.
Примаков, считая, что разговор окончен, вышел в президентскую приемную. К нему подошли ожидавшие итога беседы Юмашев, Татьяна Дьяченко и глава службы президентского протокола Владимир Николаевич Шевченко. Они буквально набросились на Примакова. Шевченко говорил особенно горячо:
— Как вы можете думать о себе! Разве вам непонятно, перед чем мы стоим? Семнадцатое августа взорвало экономику. Правительства нет. Дума будет распущена. Президент может физически не выдержать. Мы на грани полной дестабилизации!
Откровенность Шевченко произвела на Примакова сильное впечатление. Он спросил:
— Но почему я?
— Да потому, что Думу и всех остальных устроит именно ваша кандидатура. И потому, что вы сможете.
И Примаков согласился…
В те утренние часы я находился в Министерстве иностранных дел. Собственные заместители Примакова ничего не знали, но, предчувствуя расставание с министром, заранее горевали. Один из заместителей министра при мне позвонил главному помощнику Примакова Маркаряну:
— Роберт, что происходит?
Маркарян осторожно ответил, что ему самому пока точно ничего не известно:
— Примаков не в министерстве.
— Где он?
— У президента…
Стало ясно, что согласился. Пока мы разговаривали в здании на Смоленской площади, Ельцин подписал указ о назначении Примакова, и об этом мгновенно сообщили информационные агентства. В Министерстве иностранных дел печальные настроения. В стране — единодушный вздох облегчения. Примаков еще должен быть утвержден Думой, нужно еще сформировать правительство, предложить программу действий, но главное было уже позади — угроза роспуска Думы, импичмента президенту, безвластия, политических схваток с неизвестным результатом на фоне экономической катастрофы.
Все политические партии, кроме либерал-демократов Жириновского, единодушно поддерживали Примакова. Геннадий Зюганов говорил: Примаков — это надежда…
Владимир Вольфович Жириновский в своем духе объяснял журналистам, почему проголосовал против Примакова:
— Он с 1975 года входит в Римский клуб. Это же мировое правительство, антироссийский центр, который борется с нашей страной уже двести лет, с тех пор, когда первая масонская ложа в Париже выступила против Российской империи. Ельцин открыто вошел в Мальтийский орден, а Геращенко состоит в Сингапурском клубе банкиров, для вступления в который надо иметь пятьдесят миллионов долларов личного капитала…
В реальности Жириновский понимал, что Примаков даже в труднейшей ситуации не станет покупать голоса его фракции, поэтому такой премьер был ему не нужен.
Евгений Максимович честно сказал в Думе:
— Я даже не знаю, что для меня лучше: чтобы вы меня утвердили или провалили.
Любопытно, что больше всех Евгения Максимовича уговаривали те, кто потом его и уберет с должности. Но в тот момент они все зависели от Примакова — не согласись он тогда, они вообще могли лишиться власти. Но чувство благодарности — не самое сильное чувство у обитателей Кремля.
Предчувствия у Примакова были верные: и он тоже уйдет из Белого дома не по своей воле и не под аплодисменты… Но в тот момент подобный исход никому не мог прийти в голову. Выдвижение Примакова казалось счастливой находкой — ему доверяла вся страна.
Когда Государственная дума утвердила Евгения Максимовича на посту главы правительства, страна начала успокаиваться — у нас вновь есть правительство. Но сразу стало ясно, что самое трудное впереди. Что может и чего не может сделать Примаков? Как поведет себя новый премьер-министр? На что нам всем рассчитывать?
Достоинства Евгения Максимовича очевидны. Но возник один важный вопрос: в состоянии ли он физически и психологически справиться с такими невероятными перегрузками? Когда он работал в академических институтах, потом у Горбачева, потом в разведке, это всё же была более спокойная, размеренная жизнь. Да и он был моложе. А у главы правительства, наверное, ощущение, что он сидит на вулкане. Может ли он совладать с этим?
Он стал премьер-министром в шестьдесят восемь лет. 29 октября 1998 года отметил шестьдесят девятый день рождения. В нашей стране это серьезный возраст. В такие годы не так просто быть энергичным и напористым. С годами люди меняются — и не всегда к лучшему, появляются непоколебимое спокойствие, равнодушие, нежелание идти на рискованные и смелые шаги.
Относительно возраста Примакова ничего не говорили, потому что выглядел он очень неплохо, одевался элегантно. Друзья уверяли, что Примаков сохранил прежний темперамент и энергию, ненавидит равнодушие и цинизм. А что касается его физической формы, то люди знающие рассказывали, что каждое утро он проплывает в бассейне полкилометра и чувствует себя достаточно бодро. В аппарате правительства быстро оценили его фантастическую работоспособность и умение быстро анализировать информацию. Он не нервничал, не суетился, чувствовал себя спокойно, словно всю жизнь готовился стать премьер-министром.
Вот еще один вопрос, которым все задавались: достаточно ли у него власти, чтобы принимать все необходимые для спасения экономики страны меры?
Власти у Примакова в руках оказалось больше, чем у любого из его предшественников. Президент не мог работать полноценно. Президентская администрация в значительной степени перестала вмешиваться в дела правительства.
Валентин Юмашев был пассивен в этой должности. Его не сравнишь с Анатолием Чубайсом, Николаем Егоровым, Юрием Петровым. Вот те были людьми властными и стремились контролировать правительство. Впрочем, и времена были другие. Примаков психологически не так зависел от Кремля, как его предшественники.
Глава президентской администрации Валентин Юмашев, скромно выглядящий молодой человек, который за время пребывания в должности ни разу не дал интервью и нигде публично не выступил, казался полной противоположностью своему предшественнику Анатолию Чубайсу.
Чубайс — мощная фигура, уверенные манеры, ежеминутная готовность вступить в бой.
Юмашев — субтильного сложения, с легкой полуулыбкой, почти незаметный, сторонящийся чужого внимания.
Но Юмашев в определенном смысле оказался покруче Чубайса. Когда руководителем аппарата президента в 1996-м, трудном году сделали Анатолия Чубайса, говорили о том, что именно он во время болезни президента управляет государством, что он превратился в заместителя Ельцина. О Юмашеве такое сказать было нельзя. Он не управлял страной. Но полтора года казалось, что он управляет Ельциным.
В Кремле существуют три основных рычага власти — контроль над потоком бумаг, составление распорядка дня президента и контакты с прессой.
Прямой и регулярный доступ к президенту — это важнейшая привилегия. Тот, кто постоянно встречается с президентом, очень влиятелен. Он может изложить главе государства свои идеи, заручиться его согласием, дать ему на подпись нужную бумагу или добиться какого-то важного назначения.
Но прежде чем высокопоставленный чиновник, министр, политик сумеет изложить свой вопрос президенту, он должен убедить в его срочности руководителя аппарата президента. Именно Юмашев решал, кого примет президент, с кем он поговорит по телефону и какие бумаги лягут ему на стол.
Ельцин, как человек уже немолодой и нездоровый, вообще говоря, нуждался в своего рода личном политическом телохранителе, человеке, способном служить буфером между ним и разного рода конфликтами. Но, контролируя жизнь президента, руководитель аппарата постепенно становится тихим диктатором. Президент, особенно если он плохо себя чувствует и лишен возможности ездить по стране, встречаться со множеством людей, начинает полностью зависеть от своего главного помощника.
Администрация президента под руководством Анатолия Чубайса и сменившего его в марте 1997 года Валентина Юмашева сделала всё, чтобы отсутствие президента на рабочем месте было незаметным. Государственный механизм функционировал, но государство слабело, потому что никакой аппарат не заменит главу государства с огромными полномочиями.
Наконец наступил момент, когда Ельцин, видимо, осознал: его силы исчерпаны, то, что он предполагал, ему уже не сделать — и задумался о преемнике. Говорил-то он об этом давно. Сначала он пошутил и сказал:
— У него должен быть рост такой, как у меня.
Сергей Михайлович Шахрай и Егор Тимурович Гайдар обиделись. Все решили, что Ельцин имеет в виду статного Владимира Филипповича Шумейко, вице-премьера… Но настал момент, когда поиск преемника перестал быть поводом для шуток. Президент явно перебрал много кандидатов на эту роль. Одно время казалось, что остановился на Черномырдине, который был рядом с ним столько лет и преданно ему служил. Потом Ельцину понравился молодой нижегородский губернатор Борис Ефимович Немцов.
Весной 1997 года Ельцин несколько взбодрился и произвел большие перемены в правительстве. Выступая перед Федеральным собранием с ежегодным посланием, сказал:
— Недоволен правительством. Исполнительная власть оказалась неспособной работать без президентского окрика. Большинство обещаний, которые давались людям, и прежде всего по социальным вопросам, не выполнены. Мною подготовлен пакет важных и неотложных мер. Изменятся структура и состав правительства.
Он вновь назначил первым вице-премьером Анатолия Чубайса, на сей раз с особыми полномочиями. Затем появился еще один первый вице — Борис Немцов — тоже с большими полномочиями и, как тогда думали, с большим будущим. Уговаривать Немцова перейти в правительство в Нижний Новгород вечером 15 марта 1997 года прилетела дочь Ельцина Татьяна Дьяченко. Беседа продолжалась весь вечер и почти всю ночь в небольшой гостинице «Сергиевская» для особо важных гостей.
— Отец тебе помогал, когда был в силе и здравии, — по-свойски сказала Татьяна Борисовна, — а сейчас он больной и слабый, и пришло время ему помочь.
О Борисе Ефимовиче, который молодые годы провел в Сочи, ходило множество рассказов: что играть в карты он научился раньше, чем читать, и этим зарабатывал на жизнь, что в юности вел жизнь веселую и привольную, как положено приморскому плейбою. В реальности он был человеком честным и принципиальным, деловым и дельным, быстро соображающим и быстро принимающим решения. В Нижнем Новгороде Немцова любили и провожали в Москву с болью в сердце.
Разговор Татьяны Дьяченко с Борисом Немцовым проходил в субботнюю ночь. А в понедельник утром, 17 марта, Немцов уже сидел в кабинете президента. Он изложил свою программу. Попросил только об одном: на реализацию программы нужны два года. Ельцин твердо обещал, что Немцов проработает первым вице-премьером минимум два года. Обещания своего не исполнил…
Борис Николаевич, созвав журналистов, торжествующе объявил о новом назначении Черномырдину и Чубайсу. При этом лицо главы правительства осталось непроницаемым — Виктор Степанович понимал, как ему трудно будет иметь дело сразу с двумя полновластными замами. А Чубайс был, очевидно, доволен и произнес одну из своих коронных фраз:
— Сильный ход, Борис Николаевич!
Ельцин и сам таял от удовольствия, думая о том, как он всё здорово придумал. Он и в самом деле стал похож на заботливого, хотя и непредсказуемого дедушку, как его теперь за глаза именовали в Кремле. Президент прилюдно обещал Немцову, что тот останется на этой должности до 2000 года. И все поняли, что Борис Николаевич примеривает Бориса Ефимовича на свою роль.
Но столичная карьера у нижегородского губернатора не сложилась. Вероятно, преодолевая некоторую неуверенность провинциала, он с первого дня повел себя чересчур самоуверенно, совершил несколько непростительных ошибок, заботливо преданных гласности, и сильно повредил своей репутации. И даже разумную затею Немцова, который хотел пересадить чиновников на отечественные машины, высмеяли.
Немцов мне потом говорил:
— Белый дом — опасное место. Многие в него входили улыбаясь. Но никто из него с улыбкой не выходил.
Борис Федоров так отозвался о Немцове:
«Он всегда мне казался самым энергичным и одновременно бесцеремонным человеком России, который мог выкинуть всё что душе угодно. С другой стороны, в нем чувствовалась такая редкая в высших слоях власти позитивная энергия и желание действовать».
Немцов извлечет уроки из своих ошибок и позднее, в правительстве Кириенко, станет главной действующей силой. Он не боялся принимать самые непопулярные решения, например, даже потребовал, чтобы «священная корова» российской экономики — «Газпром» исправно платил налоги. Борис Федоров, отвечавший за налоговое ведомство, проникся к нему симпатией:
«Я тогда очень зауважал Бориса Ефимовича как единственного члена правительства, который был способен на мужественные поступки и проявил себя в минуты кризиса действительно крепким парнем».
— Мы заставили чиновников заполнять декларации о доходах, — говорил Немцов журналистам. — Благодаря этому народ узнал, сколько дач, квартир, машин и самолетов есть у наших чиновников, в том числе у Татьяны Борисовны, у Бориса Николаевича и у Юрия Михайловича… С каждым годом чиновник вынужден писать всё больше и больше правды… Этот процесс запущен, и его невозможно остановить…
Но прежняя популярность к Немцову уже не вернется. Работа в правительстве, можно сказать, погубила его как политика. В 1997 году он считался одним из вероятных кандидатов в президенты, а через два года с трудом прошел в депутаты Государственной думы от Нижнего Новгорода, своей недавней вотчины… Он уйдет в оппозицию, займет по свойству своего характера непримиримую позицию и будет убит совсем недалеко от Кремля, где когда-то был своим человеком.
С 1997 года начинается быстрая, даже слишком быстрая смена ведущих фигур в Москве. Ельцин перебирал варианты в поисках человека, которому он может доверить страну. Но это станет ясно позднее. А пока что страна недоумевает, злится и обращает свое раздражение против президента: с какой стати он постоянно трясет правительство, вновь и вновь ввергая страну в кризис? Он, понимаешь, утром не с той ноги встал, решил очередного премьера выгнать, а нам страдать…
Со стороны казалось, что Борис Николаевич пытается вновь запустить экономические реформы. В действительности на реформы он махнул рукой. Ему нужен был преемник. Наступила эпоха нового застоя. И Ельцин, как когда-то Леонид Ильич Брежнев, стал предметом насмешек.
Беда не только в том, что он то и дело оказывался на больничной койке — инфаркт, воспаление легких, ангина, трахеобронхит, язва желудка… Он как-то сразу постарел и ослабел, лишился той кипучей энергии, которая позволяла ему встречаться с огромным количеством людей и поглощать приносимую ими информацию. Он сократил круг общения и замкнулся у себя в кремлевском кабинете.
Президентская команда сменилась почти полностью.
Еще недавно вокруг Ельцина группировалось множество людей, способных дать разумный совет. Сначала его покинули политические союзники, затем из Кремля ушла вся блистательная группа помощников Ельцина — Георгий Сатаров, Юрий Батурин, Михаил Краснов. Ельцин остался на интеллектуальном пустыре. Крупной утратой было изгнание Сергея Ястржембского и Андрея Кокошина, которые предлагали вместо Черномырдина назначить премьер-министром московского мэра Юрия Лужкова.
А кто же остался? Будущий зять Валентин Юмашев и дочь Татьяна Дьяченко. Маловато для человека, который всё еще исполнял обязанности президента огромной страны.
Татьяна Борисовна играла всё более важную роль в Кремле. Во время одного из совещаний в вашингтонском Белом доме вице-президент Альберт Гор, следивший за российскими делами, назвал дочь Ельцина влиятельным политическим советником президента. Билла Клинтона его слова заинтересовали, он стал расспрашивать о ней.
— Господин президент, — пошутил Строуб Тэлботт, — надеюсь, вы не станете учреждать комиссию Челси — Татьяна?
Челси — это дочь Билла Клинтона. Тогда она была совсем юной.
— Не худшая из твоих идей, Строуб, — откликнулся Клинтон. — Похоже, нам действительно не помешает сделать хоть что-нибудь, раз мы потеряли контакт Гора с Черномырдиным, а мое общение с Ельциным иногда слишком уж хилое.
Юмашев тяготился своими обязанностями. Вместо него руководить президентской администрацией поставили генерала Николая Николаевича Бордюжу. Он окончил Пермское высшее командно-инженерное училище. Вскоре его взяли в Комитет госбезопасности. Он учился в Новосибирской школе контрразведки, служил в военной контрразведке и Управлении кадров КГБ СССР.
Когда образовалось Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте России, его назначили первым заместителем начальника управления по работе с личным составом. Но в ФАПСИ он проработал всего несколько месяцев. Видимо, не поладил с директором агентства генералом Старовойтовым. Его перевели к пограничникам. Обязанности: учеба войск, воспитание, учебные заведения. После ухода генерала Андрея Николаева в отставку он был назначен директором Федеральной пограничной службы. Известен как исполнительный аппаратчик, который умеет работать с людьми.
В Кремле генерал Николай Бордюжа сразу очертил себе круг обязанностей, вопросы экономики в них не входили. Известно было, что он симпатизирует Евгению Максимовичу.
Так что у Примакова руки были развязаны. Но он ни на секунду не забывал, что премьер-министр существует в определенных рамках. Примаков был достаточно тактичен и умен, чтобы не покушаться на прерогативы президента, пусть даже и больного. Он ни одной минуты, что бы на сей счет ни писали, не работал заместителем президента.
Ладить с Борисом Ельциным было очень непросто. Примаков прекрасно помнил незавидную судьбу всех своих предшественников. Но Евгений Максимович был к начальникам лоялен, даже понимая, что начальник, увы, таков, что может его завтра уволить без объяснения причин. Примаков почти всегда чудесно ладил с начальством. При этом никогда перед ним не заискивал. Он был наделен счастливым даром вести себя очень естественно. Он держался с начальством на равных, не фамильярничая и не заискивая.
Примаков старался не возбудить в Ельцине ревность, зная, что тот не любит успехов других политиков. Есть набор профессиональных проблем, которые надо решать самому, но необходимо постоянно информировать президента. Власть устроена так, что есть компетенция президента и есть компетенция премьер-министра. А есть вопросы, которые решает правительство, но требуется согласие президента. Иногда необходимо заранее доложить президенту и посоветоваться с ним, потому что экономические решения имеют социальные и политические последствия. Об этом президента следует поставить в известность заранее.
Ельцин назвал Примакова «самым сильным, самым надежным премьером, которого поддерживает президент, поддерживает правительство, поддерживает Государственная дума, поддерживают региональные власти на местах». Борис Николаевич сказал, что получает удовольствие, видя, как Примаков решает проблемы, находя удачные компромиссы…
Заговорили, что Евгений Максимович вместо президента контролирует силовые министерства. Это не так. Конечно, он, уходя из разведки в Министерство иностранных дел, не утратил контакта и с бывшими подчиненными, и со смежниками. Он в большей степени, чем его предшественники в Белом доме, полагался на информацию, исходящую от специальных служб. Он шире привлекал разведчиков к экономическому анализу, к внешнеторговым делам, к переговорам с Западом о возвращении долгов. Но это не новая практика. Подчиненность силовых министров президенту не означает, что они никогда прежде не появлялись в кабинете главы правительства.
Другое дело, что Примаков в отличие от своих предшественников много и охотно занимался внешней политикой. Но это было естественно для недавнего министра иностранных дел. При этом Евгений Максимович вел себя так, чтобы у Ельцина не создавалось впечатления, будто он пытается подменить президента в мировых делах.
Умелый и опытный администратор Примаков счел необходимым участвовать в итоговом сборе руководящего состава вооруженных сил. Впервые за многие годы военных почтил своим присутствием глава правительства. Примаков сказал то, что офицеры хотели услышать. О том, что предыдущая экономическая политика провалилась, что государство в долгу у армии, что забота об армии — важнейший приоритет. Военные увидели, что правительство возглавляет человек, который уважает вооруженные силы и военных. Евгений Максимович даже вдохнул в генералов и офицеров некий оптимизм.
Все правительства обещали вовремя платить зарплату офицерам и вернуть задолженность армии. Деньги пошли с назначением Примакова. Причем Евгений Максимович отдал предпочтение армии, она получила больше других бюджетных организаций. В День милиции Примаков приехал в Министерство внутренних дел, произнес прочувствованную речь и остался на концерт.
Примакову напомнили, что по должности он — начальник Гражданской обороны страны. Он не затруднился приехать и на Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. И выступил перед спасателями, за что они были ему признательны.
На демонстрации 7 ноября 1998 года митингующие коммунисты, называя президента Ельцина преступником, которого надо судить, практически не критиковали правительство и даже призвали к сотрудничеству с Примаковым в выработке экономической программы…
С рассказом о правительственных планах в Совет Федерации пришли первый вице-премьер Юрий Маслюков и председатель Центрального банка Виктор Геращенко. Губернаторы были недовольны, говорили, что они за год одобрили уже много разных правительственных программ — сначала Черномырдина, затем Кириенко, чуть бьшо опять не поддержали Черномырдина… В результате страна в тупике, им подсовывают новую программу, но поддерживать правительство надо с большой осторожностью.
Примаков уловил эти настроения и счел необходимым выступить. Он принял всех губернаторов, которые хотели поговорить с ним. Предложил губернаторам совместно управлять государственным имуществом и заниматься приватизацией к общей пользе. Его выступление, как всегда, произвело впечатление.
Губернатор Тюменской области Леонид Рокецкий сказал по этому поводу:
— Выступление Примакова нас успокоило. Правительство надо любить и уважать таким, какое оно есть.
Примаков старался общаться не только с губернаторами и военными. Накануне визита в Австрию, когда он заменял президента на встрече с лидерами Европейского союза, Евгений Максимович с женой приехал на юбилей Московского Художественного театра имени Чехова к Олегу Ефремову. Сидел долго, часов до одиннадцати, хотя утром надо было лететь в Вену.
Евгений Максимович не позволил услужливому аппарату организовать пышную церемонию по случаю его дня рождения, как это бывало прежде, — с подарками, доставляемыми со всех концов страны, красиво оформленными адресами и цветами, с кучей людей в приемной, жаждущих лично обнять главу правительства и поклясться ему в вечной любви и верности. Кто давно с ним работал, знал, что он не терпит подарков от подчиненных. В день своего рождения он уехал из Москвы во Владикавказ, где встретился с Асланом Масхадовым, который еще считался законным чеченским лидером, а также с главами Осетии и Ингушетии.
Примаков обещал возобновить денежно-экономические отношения в обмен на обязательство Масхадова бороться с террористами у себя в Чечне. Кстати, впоследствии Масхадов признал, что Примаков помог восстановить в Шалинском районе цементный завод, выделил деньги на пенсии и зарплату бюджетникам. А вот Масхадов своих обещаний не исполнил.
И только после тяжелых переговоров день рождения главы правительства отметили на даче старого знакомого Примакова — президента Осетии Александра Сергеевича Дзасохова, в прошлом руководителя Советского комитета солидарности стран Азии и Африки, посла в Сирии и секретаря ЦК КПСС…
Примаков, пожалуй, только с журналистами не нашел общего языка. Он едва не настроил против себя средства массовой информации, выговаривая им за то, что они необъективны к правительству. Его первый заместитель Юрий Маслюков, впрочем, выражался и похлеще:
— Против правительства ведется и далее, как я полагаю, будет вестись оголтелая информационно-психологическая война. Инициаторы ее — антипатриотически ориентированные фактические хозяева некоторых каналов телевидения и ультрарадикальные «реформаторы» типа Гайдара и Явлинского.
Примакову хватило ума не обвинять прессу и телевидение в непатриотичности и продажности, но и он нередко обижался и просил телевидение показывать побольше хороших новостей, что в те времена вызывало ироническую реакцию. Сейчас это опять в порядке вещей…
На главу правительства жали со всех сторон. Хотели, чтобы он закрутил гайки, приструнил телевидение и прессу, дал команду силовым министрам действовать пожестче, навести порядок. Диктатор из Примакова не получился. Он был человеком со своими взглядами. И не стал их менять. Но Евгений Максимович серьезно относился и к своим словам, и к чужим, поэтому так эмоционально откликался на недовольство газет и телевидения. А журналисты были недовольны тем, что глава правительства мало с ними встречается!
Примаков конечно же ни сном ни духом не готовил себя к такой роли. Эта ноша свалилась на него совершенно неожиданно. Причем страну он получил не просто бедную — нищую. Ему нужно было время сосредоточиться, понять, куда он попал, что у него в руках, чем он располагает, как действовать. Тем более он опасался пустых слов. Не хотел что-то брякнуть сгоряча, а на следующий день сам себя поправлять: «Вчера я думал так, а сегодня думаю иначе».
Он неоправданно остро реагировал на критику в газетах, считая, что недовольство его действиями несправедливо. Похоже, исходил из того, что журналисты недостаточно серьезно подходят к делу и потому необъективны. Кроме того, его окружение тоже играло свою роль. Ему постоянно нашептывали: смотрите, как журналисты плохо о вас говорят. Когда он в ноябре 1998 года прилетел на международную встречу в Куала-Лумпуре, корреспонденты стали добиваться встречи с ним. Появился раздраженный Примаков:
— Что вы от меня хотите? У меня нет десяти минут, чтобы побриться!
Естественно, эту сцену показали по телевидению. После чего нетрудно было сказать Примакову: вот каким телевидение вас выставляет. Евгений Максимович исходил из того, что чем меньше политик скажет, тем труднее поймать его на слове, поэтому он старался сократить общение с журналистами до минимума. Не учел обратной стороны: когда молчал он, говорили другие. В обществе создавалось о нем и о его правительстве ложное впечатление.
Заслуга Примакова состояла в том, что он добился стабилизации политической ситуации в России. Исчез страх перед тем, что будет распущена Государственная дума, что будет применена сила, что страна пойдет вразнос и к власти придет диктатор. После утверждения Примакова на посту премьер-министра страна успокоилась. Правительство получило несколько месяцев относительного спокойствия — для того, чтобы что-то сделать.
«Его неторопливая манера говорить, — считал Борис Немцов, — очень низкий, внушающий доверие голос, основательный внешний вид создавали у многих людей ощущение уверенности, предсказуемости, чувство, что «этот человек знает, что делает»».
Выступая перед депутатами, Евгений Максимович сказал:
— Я не фокусник.
Он имел в виду, что не сможет в одно мгновение, легко и просто решить все проблемы. Этого никто и не ждал. Но все хотели как можно быстрее понять, кого он возьмет в правительство и что намерен делать.
Борис Ельцин сам предложил Сергею Кириенко остаться первым вице-премьером. Это был акт вежливости. Но не только. Ельцину жаль было терять очевидно талантливого и умелого человека. И получилось бы неплохое сочетание: опытный политик Примаков и динамичный молодой экономист Кириенко.
Но Сергей Владиленович отказался. Объяснил:
— Не верю в коалиционное правительство вообще и не вижу экономической программы действий нового кабинета в частности.
Возможно, дело в другом: побывав в роли первого человека, не захотел быть вторым. Кириенко ценит свое место в истории. Егор Гайдар в свое время пытался работать в кабинете Черномырдина вице-премьером, но быстро ушел, считал, что его держат для ширмы. Хотя при Путине Кириенко, остыв, согласится и на куда меньшую должность…
Черномырдин тем более не захотел остаться первым вице-премьером у Примакова.
Отказался и Григорий Явлинский. Он был готов прийти в правительство только со своей командой, которая заняла бы все должности в финансово-экономическом блоке. Но это уже было бы правительство не Примакова, а Явлинского.
Молодой вице-спикер парламента Владимир Александрович Рыжков согласился было пойти заместителем премьера по социальным вопросам, в его годы это было весьма почетное предложение. 16 сентября президентским указом он был назначен заместителем председателя правительства по социальному блоку. Но Рыжков быстро забрал свое слово назад, сообразив, что социальные вопросы при жестком бюджете — дело рискованное. А ему не хотелось ломать свою столь многообещающую карьеру. 21 сентября указ о назначении был отменен (его должность отдали Валентине Ивановне Матвиенко). Печальный пример Бориса Немцова был у Рыжкова перед глазами — до назначения в правительство его считали возможным кандидатом в президенты, год в правительстве погубил его политическую репутацию. Впрочем, не уверен, что с карьерной точки зрения Владимир Рыжков поступил правильно. Его постепенно оттеснили на периферию политической жизни, а по его достоинствам ему бы занимать заметную должность — в Кремле, Белом доме или парламенте.
Примаков прямо в Думе остановил знающего экономиста с опытом работы в правительстве Александра Николаевича Шохина:
— Хочу предложить вам пост вице-премьера по социальным вопросам.
Осторожный Шохин засомневался:
— У вас правительство будет левым, что мне в нем делать? Примаков справедливо заметил:
— Потому и будет левым, что вы все отказываетесь.
Примаков перезвонил и предложил Шохину более весомую должность вице-премьера по финансовому блоку. Александр Николаевич принял должность — знакомое для него дело, он был вице-премьером в кабинете Гайдара. Он был назначен заместителем главы правительства одним указом с Рыжковым. Но, проработав в правительстве считаные дни, увидел, что Примаков намерен контролировать всё сам, в первую очередь кадровые вопросы, и ушел назад, в Думу, благо его депутатский мандат еще не аннулировали. 30 сентября указ о назначении Шохина был отменен.
А ведь не думали они все тогда — и Явлинский, и Шохин, и Владимир Рыжков, что для них это последний шанс войти в правительство и получить возможность влиять на политику страны…
Евгений Максимович остался с теми, кто не отказался работать в правительстве. Первый вице-премьер Юрий Маслюков представлял коммунистов. Вице-премьер Геннадий Кулик — аграриев. Министр финансов Михаил Задорнов — «Яблоко» (Михаил Михайлович был министром у Кириенко и сохранил пост главного финансиста, хотя считался одним из виновников августовского кризиса). Министр труда Сергей Калашников был человеком Жириновского. Министр по налогам и сборам Георгий Боос — Лужкова.
После 17 августа 1998 года политическая элита России изменилась так радикально, как она не менялась с конца 1991 года. После распада Советского Союза и до лета 1998 года тасовалась одна и та же кадровая колода. На ключевых должностях находились люди примерно одинаковых взглядов. Теперь у власти и вокруг власти появились новые люди. Впрочем, новыми их можно считать условно — о многих из них мы просто успели забыть за последние годы.
Сформированное Примаковым правительство порадовало одних и огорчило других. Либеральные политики называли кабинет если не красным, то розовым, во всяком случае, весьма левым. Первые заявления некоторых министров и наброски экономических программ напугали профессиональных экономистов.
В это время многие предлагали национализировать банки, вернуть государству приватизированные предприятия, увеличить роль правительства в управлении экономикой, запретить хождение доллара, ввести фиксированный курс рубля, щедро печатать деньги и вкладывать их в промышленность, в первую очередь в военно-промышленный комплекс, и конечно же побыстрее отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом, раз Запад кобенится.
Практически все пришедшие в правительство повторяли одно и то же:
— С монетаризмом покончено. Либеральная модель экономики, привнесенная с Запада, себя не оправдала. Нам нужна социально ориентированная экономика.
Сразу возник вопрос: в какой степени Примаков разбирается в экономике, в хозяйственных делах?
Обычно отвечали: что за вопрос? Он же доктор экономических наук, профессор, он избран академиком по отделению экономики.
Евгений Максимович, конечно же, был политологом и экономикой как таковой не занимался. Но долгие годы работы в академических институтах, интенсивное общение с коллегами, чтение экономической литературы — всё это помогало понять положение дел в мировой экономической науке, какие рецепты и методы используются для выхода из финансового кризиса.
Прежде чем начать действовать, Примаков должен был поставить диагноз и решить для себя, какую именно болезнь он собирается лечить. Можно было сказать, что возникший кризис — закономерный результат либеральных реформ, начатых еще Гайдаром и его командой. И тогда ясно, что делать: поворачивать назад.
А можно было оценить ситуацию иначе: реформы не удалось провести потому, что они были половинчатыми. В таком случае надо продолжать то, что делали предшественники, — с поправками и коррективами, разумеется.
Когда мы разговаривали с Евгением Максимовичем еще до назначения его премьер-министром, я спросил, какого он мнения о реформах, которые проводятся с 1992 года.
Примаков ответил так:
— Видите ли, я, конечно, имею свою точку зрения. Я считал и считаю, что макростабилизация финансов — это важно, но это не самоцель. Это метод для развития экономики. Если экономика не развивается, это превращается в самоцель. Самоцель эта не нужна, ибо имеет шоковые последствия для населения. Я эти взгляды высказывал и на правительстве, потому что налоговая политика и приватизация носили фискальный характер. Во всех странах приватизация происходит, чтобы изменить структуру производства, чтобы обновить основные фонды. Эта сторона дела была упущена…
Многие из тех, кто привел Примакова в кресло премьера, требовали, чтобы он отрекся от проведенных реформ не только на словах, но и на деле.
Россия впервые переживала настоящий финансовый кризис. Ни правительственные чиновники, ни финансисты, ни банкиры не знали, что предпринять. В самом общем виде можно сказать, что у Примакова были два варианта действий: или печатать деньги и со всеми расплачиваться, что поначалу решительно всем понравится, или проводить жесткую финансовую политику, что вызвало бы вопль возмущения.
Первый вариант постепенно привел бы к инфляции, затем к гиперинфляции и, наконец, к мощным социальным волнениям. Второй вариант мог быстро лишить правительство поддержки в Думе и отправить его в отставку.
Кадровые решения Примакова, продиктованные необходимостью ладить с Государственной думой, были истолкованы как предвестие остановки реформ. Экономисты боялись, что первый вице-премьер Юрий Маслюков, как выходец из оборонных отраслей промышленности, будет добиваться обильного финансирования прежде всего военно-промышленного комплекса. А глава Центрального банка Виктор Геращенко пустит в ход печатный станок, потому что, по его мнению, экономике не хватает денег.
Новое правительство обещало выдать всем невыплаченные зарплаты и пенсии, дать денег армии и селу. Директоров заводов Примаков освободил от долгов по налогам и обещал избавить от банкротств.
— Теория о том, что рынок всё решит сам, неверна, — сказал он. — Пока рынок не создан, государство обязано обеспечить порядок в стране.
Примаков обещал прислушаться к советам академиков-экономистов, а это были известные люди: вице-премьер в правительстве Рыжкова Леонид Иванович Абалкин, бывший помощник Горбачева Николай Яковлевич Петраков и бывший заместитель председателя Госплана Степан Арамаисович Ситарян. Много лет, с начала гайдаровских реформ, никто не приходил к ним за советом. В отделении экономики Академии наук столько академиков — и все не востребованы! Оскорбленные и обиженные, они, видимо, с горечью наблюдали за тем, что экономической практикой занимались какие-то мальчики — Гайдар, Чубайс, Шохин, Кириенко и другие.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Мишель Камдессю по-своему реагировал на планы правительства Примакова:
— Лучшее, что мы сейчас можем сделать для России, — это помочь правительству понять, что оно само должно делать в условиях рыночной экономики.
Но в Москве были уверены, что МВФ кобенится для виду, а деньги всё равно даст. Первый вице-премьер Вадим Анатольевич Густов сформулировал это просто:
— Куда они денутся?!
Густов много лет работал на урановых рудниках, потом стал партийным работником средней руки и, наконец, был избран губернатором Ленинградской области. Примаков сделал его одним из двух первых вице-премьеров после короткого телефонного разговора.
На правительство оказывали колоссальное давление губернаторы, военно-промышленный комплекс, крупные производители. Они требовали денег и были уверены, что именно это правительство пойдет им навстречу. И ошиблись. Денег правительство Примакова печатать не стало.
Как выразился один из коллег Примакова: «Когда становишься министром, нельзя не быть монетаристом». Невозможно раздать денег больше, чем есть в казне. Кто же станет предоставлять кредиты, если очевидно, что их не вернут? Глава правительства и его министры, заняв кабинеты, осознали свою ответственность. Одно дело на митинге или с думской трибуны сулить избирателям златые горы. Другое — понять, что от одного неверного шага пострадает вся страна.
Прежние правительства любило только меньшинство страны, то, которое увидело в реформах шанс начать нормальную жизнь. Остальные считали, что правительство забрало у них то немногое, что у них было. При Примакове всё изменилось: преуспевающее меньшинство боялось, что правительство не позволит ему нормально зарабатывать. А большинство населения обнадежилось, услышав обещания новых министров, и надеялось, что правительство им что-то даст…
Тогда возникли две точки зрения.
Первая. Примаков — тот человек, который благодаря своим достоинствам вытащит страну из кризиса. Вторая — Примаков добился политической стабилизации как устраивающая всех фигура. Но он человек проходной, и для исправления экономических дел всё равно понадобится кто-то другой.
В ноябре 1998 года Григорий Явлинский поставил свой диагноз:
— Примаков — это политический дублер Ельцина, фактически вице-президент, человек, способный провести общество между хаосом и диктатурой. Он способен быть политиком. Но он не может с помощью нынешней команды модернизировать экономику.
В первые месяцы премьерства Примакова не было недостатка в пессимистических оценках. И только те, кто давно знал Евгения Максимовича, сохраняли, казалось бы, неоправданный оптимизм.
Один из его сотрудников выразился так:
— Евгений Максимович исключительно рационально мыслит. Это человек, который ставит перед собой только выполнимые задачи. Когда он согласился стать премьер-министром, я удивился: либо он перестал быть таковым, либо задача действительно выполнима.
В роли главы правительства Примаков продолжал заниматься и внешней политикой. Примаков очень медленно формировал свой кабинет. Но одна вакансия была заполнена стремительно. В ту минуту, когда Евгений Максимович согласился возглавить правительство, он знал, что новым министром иностранных дел станет его первый заместитель Игорь Сергеевич Иванов.
И не потому, что Иванов — человек Примакова, его давняя креатура, старинный приятель. Вовсе нет. С равным успехом Иванова можно было бы считать человеком Козырева, который и назначил его первым заместителем министра иностранных дел России. Но Иванов не политический назначенец. Он карьерный дипломат. Иванов работал при шести министрах, начиная с Громыко, и каждый из них его привечал и повышал.
Назначение Игоря Иванова вызвало на Смоленской площади всеобщее одобрение. И в мире расценили это назначение как свидетельство того, что в тот момент, когда неясно, в какую сторону пойдет внутреннее развитие России, как минимум внешняя политика страны не изменится.
Игорь Иванов попал в МИД сравнительно поздно. Он окончил не Институт международных отношений, кузницу дипломатических кадров, а Институт иностранных языков. Специальность — испанский язык. Его родители мечтали, чтобы сын получил военное образование. В одиннадцать лет он поступил в Суворовское училище и проучился семь лет. Участвовал в парадах на Красной площади. Усиленные занятия спортом позже ему очень пригодились. Этим его биография немного напоминает жизненный путь Примакова. Ни Примаков, ни Иванов военными не стали. С учетом дальнейшей истории — это явно к лучшему. Боевых офицеров нашим вооруженным силам всегда хватало, а министры иностранных дел наперечет.
После института Игоря Иванова взяли стажером в Институт международного рабочего движения Академии наук СССР. В том же году он перешел младшим научным сотрудником в более крупное научное учреждение — Институт мировой экономики и международных отношений. Он учился там в аспирантуре, работал помощником директора института академика Николая Иноземцева, который, выходит, воспитал не одного, а двух министров иностранных дел.
В 1973 году Иванова взяли в Министерство иностранных дел вторым секретарем первого европейского отдела МИДа СССР. Возможно, этому способствовал тот немаловажный факт, что он женился на дочери известного дипломата Семена Павловича Козырева (однофамильца будущего российского министра), который семнадцать лет был заместителем Громыко. Тут его биография сходится с биографией Андрея Владимировича Козырева, который тоже был женат на дочери другого заместителя министра. Но обоим будущим министрам протекция понадобилась только для первого шага в дипломатии.
В том же 1973 году Иванова отправили в Испанию. У Советского Союза дипломатических отношений с Испанией, которой еще правил генералиссимус Франко, не было. Но первые шаги к налаживанию отношений уже были сделаны, в Мадриде открылось торговое представительство, и четыре года Игорь Сергеевич работал в торгпредстве в должности инженера — таково было штатное расписание. Иванов признается, что влюбился в Испанию с того самого дня, как туда приехал. Улыбчивый, доброжелательный и легкий в общении, Игорь Иванов прекрасно чувствовал себя среди испанцев.
В 1977 году, уже после смерти Франко, были установлены дипломатические отношения, открылось посольство, и Иванов еще на шесть лет остался в Мадриде, где вырос от первого секретаря до советника-посланника, то есть второго человека в посольстве. Иначе говоря, он проработал в Испании десять лет подряд — большая редкость для карьерного дипломата.
В 1983 году он вернулся домой, был зачислен в центральный аппарат МИДа и приступил к работе в европейском отделе. На следующий год его взяли в секретариат министра, а вскоре он стал помощником Громыко, который слабых работников возле себя не терпел.
Иванова считают стопроцентно надежным человеком. Он известен способностью запоминать документы целыми страницами. Он говорит очень четко и ясно, не сбивается, не путается. Шеварднадзе перевел Иванова в общий секретариат министерства, где он проработал пять лет, пока не возглавил это подразделение, которое является штабом МИДа. Это тяжелейшая должность, которая требует почти круглосуточного присутствия на рабочем месте. И каждый в министерстве знал, что, когда где-то в мире начинался кризис, Иванову можно смело звонить в любое время: он на месте.
Итак, он руководил секретариатом министерства при Шеварднадзе, уехал послом в Испанию при Бессмертных и стал вторым человеком в министерстве при Козыреве.
Иванову не надо было ни под кого подстраиваться, когда он сам стал человеком номер один в высотном здании на Смоленской площади. Между первым заместителем и министром дистанция формально небольшая, но на самом деле принципиально важная. У первого зама всегда есть возможность переложить ответственность на министра, укрыться за его спиной.
Иванов согласился:
— Вы правы — за такой спиной, как спина Примакова, чувствуешь себя комфортно. Теперь такой спины нет. Ответственности больше. Это не прибавляет времени для сна.
Уйдя в правительство, Примаков не оставил МИД без внимания. Он больше любого из своих предшественников занимался внешними делами и принимал каждого, сколько-нибудь значительного иностранного гостя. Стратегия российской внешней политики формировалась им. С Игорем Ивановым они были друзьями и единомышленниками, поэтому получилась прекрасно работающая внешнеполитическая команда.
Отношения с Соединенными Штатами к этому времени разладились. На переговорах со Строубом Тэлботтом Примаков упрекал американскую дипломатию:
— Вы хотите нас изолировать? Вы нас пытаетесь загнать в угол? Почему вы относитесь к нам хуже, чем к Бразилии или Болгарии? Скажите прямо об этом, и тогда мы будем думать, что нам делать и как нам поступать со своей стороны. Откуда такое отношение к нам?
Югославский кризис всё еще не находил разрешения. Кровь лилась в автономном крае Косово. Край входил в состав Сербии, но большинство населения составляли албанцы. Косово — самый отсталый и бедный район Югославии. Иосип Броз Тито старался интегрировать албанцев в единую Югославию, поднять уровень жизни. Заботился об албанцах и дал Косово широкую автономию.
Но албанцам всё равно приходилось утверждать у начальства список песен, которые исполнялись на свадьбах. Они хотели учить детей не сербскому языку, а албанскому, иметь свои школьные учебники и программы. Им это не разрешали. Они считали, что к ним относятся как к гражданам второго сорта. И всё больше испытывали чувство отчуждения от единого югославского общества. Мечтали получить право управлять своими экономическими делами самостоятельно.
Тем не менее официальным языком в крае стал албанский, основные должности заняли албанцы. Сербы не могли с этим примириться. Они чувствовали себя неуютно, видя, что албанцев становится всё больше и они начинают занимать руководящие посты. Выдвижение албанских кадров считали дискриминацией и не могли с этим примириться. Сербы оказались в Косово национальным меньшинством. Не смогли и не захотели приспособиться к этой ситуации. Постепенно между сербами и албанцами в Косово возникла вражда. Сербы стали уезжать, чувствуя себя неуютно среди албанцев и под властью албанцев.
Отъезд сербов стал истолковываться как геноцид. Косовские албанцы — в основном мусульмане. А турецкое иго сформировало определенную политическую психологию у сербов, страх перед мусульманами, который принял характер настоящей истерии.
Молодая албанская интеллигенция проповедовала идею единой и самостоятельной Великой Албании. Возрождение национальных чувств косовских албанцев привело к подъему сербского национального движения. Сербы сказали себе:
— Это наша земля. Если Косово не сербская земля, тогда у нас вообще нет земли.
Сербы называют Косово колыбелью своей культуры, святой землей, имеющей особое значение для исторического самосознания. Здесь была основана сербская автокефальная церковь, поэтому в Косово — самые известные православные монастыри. Здесь в 1389 году славяне насмерть схватились с турецкими войсками, потерпели поражение, и началось пятисотлетнее владычество Оттоманской империи.
Пятнадцатого января 1986 года в сербской прессе был опубликован первый протест сербов против албанского национализма и сепаратизма. Письмо подписали две тысячи человек. Затем появился меморандум Сербской академии наук и искусств, в котором говорилось о «физическом, политическом, правовом и культурном геноциде сербского населения Косово и Метохии». Это называлось «худшим историческим поражением» сербов за два столетия. Академия наук призывала провести деалбанизацию Косово, изменить политическую и демографическую ситуацию в пользу сербов.
И в этой ситуации начался взлет будущего президента Сербии Слободана Милошевича. Он поехал в Косово и обратился к собравшейся его послушать толпе сербов:
— Настало время не печалиться, а сражаться. Мы выиграем битву за Косово! Мы выиграем, несмотря на то, что внешние враги Сербии вместе с внутренними врагами вступили в заговор против нас.
Его выступление сопровождалось восторженными криками толпы:
— Слобо! Слобо! Сербия!
Милошевич говорил:
— Это ваша земля, ваши поля, ваши сады. Вы не должны отсюда уезжать только потому, что сейчас трудно. Вы обязаны остаться здесь во имя памяти предков. Но я не говорю, что вы должны остаться и страдать. Напротив, эту ситуацию нужно изменить.
Слободан Милошевич сам был поражен зрелищем огромной толпы, которая его приветствовала. Одно выступление сделало его национальным героем. А речь по случаю шестисотлетия битвы на Косовом поле 28 июня 1989 года стала важнейшей в политической биографии Милошевича. Рядом с ним стоял патриарх Сербской православной церкви, что означало полную поддержку церкви.
Милошевич обратился к косовским сербам со словами, которые они от него ждали:
— Никто отныне не посмеет вас притеснять в колыбели сербского государства — в Косово!
Вооруженные силы отправили наводить порядок в Косово. Танки вошли в Приштину, где был введен комендантский час. Сербский парламент изменил конституцию. Косово лишилось статуса автономного края. Ввели особый режим и распустили местные органы власти. Заодно закрыли учебные заведения, в которых учили на албанском языке, Академию наук и искусств распустили.
Албанцы возненавидели «большого брата» — Сербию. Они почувствовали себя, как на оккупированной врагом территории. Избрали собственный парламент, своего президента. От желания вернуть прежнюю автономию албанцы быстро перешли к требованию полной независимости.
Сто тысяч сербов жили среди двух миллионов албанцев, восемьдесят пять процентов которых вовсе не имели работы. Сербское меньшинство держало в руках всё — от правоохранительных органов до бизнеса. Но сербы могли жить только под охраной полиции. В 1997 году в Косово появилась подпольная Армия освобождения Косово, которая начала вооруженную борьбу против сербской полиции. АОК зародилась как марксистская повстанческая организация.
К тому времени президента Милошевича собственные сограждане обвиняли в том, что он потерял Сербскую Краину, потерял Боснию и Герцеговину. Потерять Косово он не мог. В начале 1998 года Слободан Милошевич отправил сербский спецназ — зачистить край и уничтожить повстанцев из Армии освобождения Косово.
Военно-полицейская операция была быстрой и жестокой. Армейские части уничтожили базу Армии освобождения Косово. Но во время операции, как это обычно бывает, страдали в первую очередь мирные жители, а не вооруженные албанские боевики. Из зоны боевых действий, из сожженных албанских деревень бежали крестьяне, оставшиеся без крова. Вся эта операция проходила под взглядами иностранных журналистов, которые в прямом эфире показывали механизм этнических чисток. Европа забеспокоилась.
Запад требовал от президента Слободана Милошевича прекратить боевые операции, дать беженцам возможность вернуться домой и вступить в переговоры с албанским меньшинством. Была принята соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН. Милошевич эти требования игнорировал. Тогда НАТО стало готовить военную операцию.
Президент США Билл Клинтон сказал:
— Нарушенные Милошевичем обещания переполнили все кладбища на Балканах.
Примаков, а затем сменивший его на посту министра Игорь Иванов призывали натовцев к сдержанности и одновременно пытались урезонить Милошевича.
— Россия присутствует на Балканах двести лет, если не больше, — сказал Примаков государственному секретарю Олбрайт. — Непостижимо, почему американцы хотят навязать Балканам свои рекомендации, не советуясь с нами.
Примаков и Иванов повторяли:
— Как можно спасать косовских беженцев, бомбя те дороги и мосты, по которым этим беженцам будут доставлять гуманитарную помощь? Людей разных национальностей нельзя примирить под дулом. Этого можно добиться только в результате кропотливой терапии, а никак не путем хирургической операции.
Всё закончилось в тот момент, когда совет НАТО на ночном заседании принял решение: нанести ракетно-бомбовые удары по целям в Югославии, если Слободан Милошевич не выполнит требования ООН. На следующий день президент Милошевич принял все условия. Обещал американцам прекратить боевые действия в Косово, вывести оттуда войска, помочь возвращению двухсот тысяч беженцев и начать переговоры с албанцами. Он согласился на приезд в Косово международных наблюдателей и на разведывательные полеты самолетов НАТО над краем.
Начались переговоры о судьбе Косово. Придумать идеальный вариант решения оказалось невозможным. Интересы косовских албанцев и сербского руководства были противоположны. Президент Милошевич соглашался вести только переговоры о капитуляции, албанцы — только о признании независимости Косово. Циники говорили, что албанцы и сербы еще недостаточно поубивали друг друга, чтобы мириться.
Когда Милошевич в ответ на давление Запада остановил своих бойцов, албанцы получили возможность развернуться. Как только ушли сербские войска, появились боевики Армии освобождения Косово. Они превратились в народных героев. В середине января 1999 года ситуация в Косово вышла из-под контроля. После того как албанцы взяли в заложники сербских солдат, Белград санкционировал новую войсковую операцию. Милошевич отправил в край сорок тысяч сербских солдат.
Управление верховного комиссара по делам беженцев говорило об «этнических чистках». Албанцев выгоняли из домов и уничтожали целые кварталы. Возникло ощущение, что Милошевич хочет решить косовскую проблему самым простым путем — выгнать всех албанцев. Из Косово в 1999 году двести двадцать тысяч человек бежали в Албанию, Македонию и Черногорию, правительство которой помогало косоварам.
Европейцы и американцы каждый день видели на экранах телевизоров горящие албанские деревни и беженцев. НАТО вновь пригрозило ударом по военным объектам на территории Югославии, если Милошевич не прекратит военно-полицейскую операцию в Косово. Примаков считал опасной военную акцию против режима Слободана Милошевича, говорил американским дипломатам:
— Что дадут военные удары по сербам? Вы нас опять загоняете в угол. Причем этот готовящийся удар не обоснован ни с какой точки зрения. Простите меня за эмоциональность, но нас действительно всё это задевает.
В марте 1999 года Примаков должен быть участвовать в заседании российско-американской комиссии, которой по традиции руководили вице-президент Соединенных Штатов и глава правительства России. Но личные отношения Эла Гора и Евгения Максимовича не складывались. Узнав о назначении Примакова, Гор сказал своим помощникам:
— Раньше Россия была рыночной демократией. Теперь это вотчина Примакова. Не нравится мне этот парень — и подозреваю, что это взаимно.
Примаков говорил, что вице-президент Гор зависит от внутриполитической ситуации и больше думает о грядущих выборах, но повторял, что надеется наладить с ним какое-то взаимодействие. Однако этому помешал тяжелейший кризис в российско-американских отношениях из-за Косово. Накануне поездки американцы заговорили о том, что необходимо любыми усилиями остановить военно-полицейскую операцию в Косово.
Двадцать третьего марта 1999 года утром самолет с Примаковым на борту поднялся в воздух. Когда сделали промежуточную посадку в ирландском аэропорту Шеннон, позвонил российский посол в Вашингтоне Юрий Ушаков и сообщил, что, судя по всему, переговоры американского представителя Ричарда Холбрука с Милошевичем ничего не дали и Соединенные Штаты могут применить силу.
Примаков попросил соединить его с вице-президентом Элом Гором и предупредил его:
— Я вылетаю в Вашингтон. Но если всё-таки во время моего полета будет принято решение нанести удар по Югославии, прошу немедленно меня предупредить. В таком случае я не приземлюсь в США.
В Белом доме, конечно, могли отложить начало бомбардировок до завершения визита Примакова, но не захотели идти на попятную, чтобы не обнадеживать Слободана Милошевича: он должен видеть, что никто его с крючка не снимет. Либо он прекратит операцию в Косово, либо подвергнется бомбардировке.
Ричард Холбрук, исходя из того, что сербские спецслужбы его подслушивают, прямо из Белграда позвонил в Вашингтон:
— Я полагаю, вы согласны, что мы не можем позволить, чтобы нас отвлекал или тормозил визит Примакова. Мы всё равно разбомбим Милошевича к чертовой матери, если он не выведет войска и не прекратит противоправные действия в Косово, поскольку зверства, которые он совершает, — прямой повод для бомбардировок.
— Совершенно справедливо, Дик, — услышал он в ответ. — Мы здесь тоже смотрим на это именно так.
Первый заместитель государственного секретаря Строуб Тэлботт соединился с американским поверенным в делах в Белграде Ричардом Майлзом и передал ему официальные инструкции: сжечь секретную переписку, собрать вещи и покинуть здание посольства.
В девять вечера по московскому времени вице-президент США перезвонил Примакову:
— Евгений, наши дипломатические усилия не дали результата. Ежедневно сербские силы убивают невинных людей, разрушают деревни, выгоняют людей из своих домов. И мы готовимся к удару. Прошу понять, что речь идет о том, чтобы остановить убийство ни в чем не повинных людей. Если ты примешь решение отложить свой визит, то предлагаю отметить в сообщении для прессы, что визит не отменяется, а откладывается, то есть мы как можно скорее назначим новый срок его проведения.
— Прежде всего хотел бы поблагодарить тебя за откровенность, — ответил Примаков. — Мы дорожим отношениями с Соединенными Штатами. Однако мы категорически против военных ударов по Югославии. Считаю, вы делаете огромную ошибку. В условиях, когда ты говоришь, что удары по Югославии неминуемы, я, разумеется, прилететь в Вашингтон не могу.
Примаков собрал всех, кто летел с ним. А там были, скажем, вполне независимые от главы правительства бизнесмены — Вагиф Аликперов, Михаил Ходорковский. Объяснил свое решение. Поинтересовался мнением каждого. Спросил: кто против? Все его поддержали. Тогда вызвал командира корабля. Тот объяснил, что нуждается в дозаправке. Спросил, можно ли сесть где-то на территории Соединенных Штатов?
— Нет, так дело не пойдет. До Шеннона дотянете?
— Дотяну.
После разворота самолета над Атлантикой Примаков соединился с Ельциным. Президент одобрил его решение и только спросил, хватит ли горючего. Этот разворот вошел в историю, и Примаков обрел множество поклонников. Вернувшись в Москву, Евгений Максимович позвонил Милошевичу, сказал, что готов прилететь в Белград, если югославское руководство готово подписать политическое соглашение относительно урегулирования ситуации в Косово.
— Я вам очень благодарен за предложение о помощи, за поддержку, — ответил Слободан Милошевич. — Но вчера парламент Сербии полностью отверг это соглашение.
Примаков понял, что поездка в Белград не имеет смысла. Как и в случае с Саддамом Хусейном, он пытался спасти тех, кто вовсе не желал договариваться. И Саддаму, и Милошевичу было нужно только одно — столкнуть Россию с Западом в надежде, что Москва сорвет натовскую военную акцию. Это почти удалось. Ельцин по телефону чуть не кричал на Клинтона:
— Не толкай Россию к войне! Ты знаешь, что такое Россия! Ты знаешь, что у нас есть! Не толкай Россию к этому!
В ночь на 25 марта начались бомбардировки Югославии. Примаков убеждал западных политиков:
— Под ударами натовской авиации не удастся заставить Милошевича сесть за стол переговоров. Это нереальная задача.
Бомбардировки Югославии стали важнейшим внутриполитическим событием для России. Президент, правительство, Дума — все занимались косовским кризисом. Да и лучшие умы Европы вовлеклись в поиски мирного решения. В Россию приезжал президент Франции Жак Ширак. Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Строуб Тэлботт не вылезал из Москвы. Государственный секретарь Мадлен Олбрайт чуть не каждый день созванивалась с Игорем Ивановым. Но найти формулу мирного урегулирования не удавалось.
Из Брюсселя для консультаций — это очень резкий в дипломатической практике шаг — были отозваны российский посол Сергей Кисляк и военный представитель в НАТО генерал Виктор Заварзин. Представитель Министерства обороны генерал-полковник Леонид Ивашов заявил:
— Если натовцы предпримут акцию в Косово, Россия расценит ее как агрессию против Югославии.
Слова прозвучали настолько угрожающе, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Якушкин получил указание исправить положение и публично посоветовал «не обращать внимания на заявления некоторых военных о возможности какой-либо помощи Белграду».
А в Государственной думе всерьез обсуждался вопрос о том, как и какую боевую технику следовало бы отправить в Югославию.
— Если НАТО осуществит свои военные планы, — предлагал Геннадий Зюганов, — надо полностью прервать отношения с НАТО, организовать военные поставки Югославии, решать вопрос о добровольцах.
Российские военные демонстрировали солидарность с Югославией. В переговорах с Милошевичем — невиданное дело — участвовал директор Службы внешней разведки Вячеслав Трубников. На прием в югославское посольство по случаю армейского праздника приехал не только начальник генерального штаба Анатолий Квашнин и командующий воздушно-десантными войсками Георгий Шпак, но и начальник главного разведывательного управления генерал-полковник Валентин Корабельников.
Во время приема начальник Генштаба и начальник ГРУ уединились с югославским военным атташе. Специалисты полагали, что российская военная разведка передала Югославии все данные об Армии освобождения Косово и информацию о военной активности НАТО в регионе. Хотя, возможно, это было просто выражение психологической поддержки.
И вдруг Милошевич капитулировал! Принял условия НАТО полностью! Обещал прекратить боевые действия в Косово, вывести оттуда войска, помочь возвращению двухсот тысяч беженцев и начать переговоры с албанцами. Согласился на приезд в Косово двух тысяч наблюдателей ОБСЕ и на разведывательные полеты самолетов НАТО над краем.
Президент Ельцин, который всё больше времени проводил в загородной резиденции, приехал в Кремль для того, чтобы обсудить ситуацию в Косово. Вызвал к себе премьер-министра Евгения Примакова, министра иностранных дел Игоря Иванова и министра обороны Игоря Сергеева.
Выступая в Государственной думе, Игорь Иванов гордо сказал:
— Мы отвели военную угрозу от Югославии. Среди наших партнеров возобладала наша точка зрения, что нужно чисто политическое решение.
Евгений Примаков добавил:
— Решающим фактором стала угроза России разорвать отношения с НАТО.
Есть и другая точка зрения. Президент Милошевич сдался, потому что испугался натовского удара. Если бы он прислушивался к России, что мешало ему сразу же согласиться на предложения Примакова и Иванова, не ждать, пока бомбы упадут на сербскую землю и погибнут люди? А он предпочел уступить Западу.
В Москве плохо представляли себе истинные настроения сербского руководства. Значение имели не тосты, которыми сопровождается неумеренное употребление сливовицы, а то, что произносилось в тиши начальственных кабинетов. Еще в 1998 году начальник Генерального штаба югославской армии Момчило Перишич заявил, что его стране тоже следовало бы вступить в НАТО.
В Сербии царило подавленное настроение. Когда Милошевич капитулировал, наступило внезапное отрезвление. А за что мы воевали, спрашивали себя люди. Ради чего умирали? Милошевич, карабкаясь на пирамиду власти, невероятно обострил косовскую проблему. Он обещал ее решить в интересах сербов, а сделал так, что сербам пришлось оттуда бежать. За годы правления Милошевича территория, на которой сербы могут чувствовать себя свободно и уверенно, постоянно сокращалась. До Милошевича это был самый процветающий народ на Балканах, а в конце его правления сербы оказались у разбитого корыта — с чувством ущемленной национальной гордости и горечью за постоянные поражения и провалы. Стоит ли удивляться, что очень скоро сербы расстанутся с Милошевичем и передадут Международному трибуналу, созданному решением Совета Безопасности ООН для расследования военных преступлений, совершенных на территории бывшей Югославии. И Примаков даст свидетельские показания на процессе Слободана Милошевича.
В роли главы правительства Примаков нашел элегантное решение важнейшего вопроса в отношениях с Украиной. С момента появления самостоятельного государства — Украинской Республики шли сложнейшие переговоры о разделе Черноморского флота. Помимо флота были, разумеется, и другие болезненные темы, которые надо было обозначить в общеполитическом договоре, получившем название «Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной». Вел эти переговоры посол в ранге заместителя министра Юрий Дубинин.
Примаков понимал деликатность отношений с Киевом. Вспоминал, что «твердо выступал против любых территориальных претензий к Украине, считая, что это приведет к крайне негативным последствиям и создаст, возможно, непреодолимое препятствие на пути развития наших отношений».
В Киеве были заинтересованы в общеполитическом договоре. Но, мягко говоря, не спешили договариваться насчет Черноморского флота. И только 28 мая 1997 года подписали сразу три документа — «О статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины», «О параметрах раздела Черноморского флота», «О взаиморасчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины». А 31 мая подписали и большой политический договор между двумя странами.
Но эти соглашения еще предстояло ратифицировать, иначе бы они повисли в воздухе. Большой договор Верховная рада в Киеве легко ратифицировала, а документы по флоту застряли. Что делать? В последних числах декабря 1998 года договор уже в Москве рассматривал Совет Федерации. Там была сильная оппозиция, и она не желала ратифицировать договор без документов по флоту.
В Совет Федерации приехал глава правительства Примаков. Он предложил большой договор ратифицировать, но в решении Совета Федерации записать: обмен ратификационными грамотами провести только после того, как Украина ратифицирует документы о судьбе Черноморского флота. Юрий Дубинин назвал предложение Примакова «изысканным ходом». Совет Федерации проголосовал «за», и в Киеве столь же быстро всё ратифицировали.
Впрочем, внешние дела занимали лишь малую часть его служебного времени.
Примаков много раз бывал в кабинете премьер-министра, так что, став его хозяином, ничего нового он там не увидел. Ему только пришлось освоить огромный пульт, на который заведены все телефоны. Главе правительства не надо самому набирать чей-то номер, достаточно нажать нужную кнопку с фамилией министра.
Но эти кнопки были расположены совершенно бессистемно — не в алфавитном порядке и не по функциональному признаку, скажем, силовые министры — отдельно, руководители госкомитетов — отдельно. Этот пульт создавался годами: Черномырдина напрямую соединяли то с одним, то с другим начальником… Кириенко хотел переделать пульт как-то рационально, но оказалось, что это долго и дорого, так что легче приспособиться и запомнить, какой кнопкой какого министра искать.
Еще ремьер-министру полагается аппарат экстренной связи с Министерством обороны. По этому телефону можно запросить сведения об обстановке в вооруженных силах, поговорить с дежурным генералом на центральном командном пункте Генерального штаба. Но вообще-то у главы правительства в те месяцы возникали более приземленные заботы — например, связаться с помощью этого телефона с отдаленной воинской частью и переспросить: действительно ли там получили переведенные на зарплату деньги, как это написано в справке Министерства финансов и Министерства обороны, или подчиненные просто не хотят огорчать премьер-министра дурными новостями?
Новые атрибуты власти — усиленная охрана, машины сопровождения — на Примакова впечатления не произвели. Если теперь от Белого дома до Кремля он может доехать не за пятнадцать минут, а всего за пять, значит, еще десять минут выгадываются для дела.
Глава правительства — в меньшем, чем президент, объеме, но тоже получает информацию от специальных служб. В этих сводках анализ внутриполитической ситуации, действий отдельных политиков и, как выразился один из предшественников Примакова на этом посту, всякие сплетни — кто что и кому сказал.
Есть, правда, другая сторона дела. Премьер-министр сам становится объектом пристального профессионального внимания. Его со всех сторон изучают, контролируют каждый шаг. Впрочем, Евгений Максимович был человеком опытным и осторожным. В баню с девочками не ходил, внешнеторговые фирмы на имя жены не открывал, так что ему тревожиться было не о чем.
Его предшественники исходили из того, что к ним не только присматриваются, но и прислушиваются, то есть их разговоры, в том числе телефонные, слышат чужие уши, поэтому не каждую беседу вели в собственном кабинете и не всякому телефону доверяли. Но всё это мелочи и чепуха в сравнении с реальными проблемами, которые стоят перед главой правительства.
Я спрашивал людей, которые часто бывали у него в кабинете, как чувствовал себя Примаков, когда на него не направлены телевизионные камеры, когда его не видит никто из посторонних. Отвечали, что растерянность с его характером вовсе не вяжется. Он много работает, чувствует себя уверенно и уже научился управляться с таким сложным механизмом, как правительство.
— Вот я только что был у него в кабинете и наблюдал, как в одну минуту он расщелкал труднейшую ситуацию, — рассказывал мне один человек в ранге министра. — Я свидетель того, сколько он успел сделать всего за тридцать минут. И было видно, что гигантский маховик заработал оттого, что один человек стал его потихоньку раскручивать, а потом уже машина начала действовать сама по себе.
— То есть он не похож на советского хозяйственного руководителя, который работает с криками, с матерком: навались, ребята!? — спросил я.
— Нет, это не его стиль. Ни крика, ни мата от него не услышишь. Всё-таки он ученый. Во-первых, он видит развитие ситуации в перспективе. Во-вторых, он же знает, что и как делалось в прежние времена и к чему всё это приводило. Поэтому он ищет иную методологию и иные механизмы для того, чтобы выйти из кризиса.
— Следов растерянности не видно?
— Нет, нет. Озабоченность большая, восемнадцатичасовой рабочий день. Но такого, чтобы руки опускались, — этого нет. Просто очень много трудной работы, много такого, что не вызывает улыбок, а наоборот. Но он оставался оптимистом.
— Он продолжал улыбаться, встречаясь с людьми?
— Да, безусловно.
По свидетельству предшественников Примакова, нужен минимум месяц только для того, чтобы представить себе, что происходит в экономике страны. А от Примакова стали требовать программы действий уже через неделю. Через неделю плана не было. И через две недели, и даже через три…
Евгения Максимовича упрекали в том, что работа над программой заняла неприлично большое время, что правительство никак не может ответить на вопрос: где взять деньги, если Запад нам ничего не одолжит? Говорили, что Примаков свои обещания не выполняет, что это не работа, а бег на месте, а сам он медлителен, нерешителен и вообще какой-то сонный.
Ему советовали сразу в сентябре напечатать побольше денег, расплатиться со всеми, а уж потом с 1 января 1999 года остановиться и договариваться с Международным валютным фондом о новых займах. А он, дескать, промедлил — Кутузов! — и упустил шанс… Правда, такие советчики, видимо, не вполне представляют себе, что произошло бы со страной, если бы он напечатал столько денег, сколько просили.
Потом Примакова стали обвинять в том, что он сознательно откладывает экономические дела в долгий ящик. В этом увидели хитрый расчет, нежелание раньше времени раскрывать карты… Пока он не представил программы, им все довольны. Вот он, дескать, и лавирует, не спешит с программами, формулами, лозунгами, чтобы не спровоцировать атаку на правительство. Как только он сделает выбор, то попадет под огонь критики… Даже родилась красивая формула: Примаков добился политической стабильности за счет экономической.
Но главная причина кажущейся медлительности — отнюдь не дальний расчет Примакова. Ему действительно нужно было время: понять ситуацию в экономике и решить, что можно сделать.
Что такое быть премьер-министром?
Человек приходит в огромный кабинет на пятом этаже Белого дома и садится за стол. Он знает, какие решения необходимо принять сегодня, а какие завтра. Предполагает, что именно может свалиться ему на голову в любую минуту, и должен заранее подумать, что с этим делать. И одновременно он понимает, что невозможно спланировать свой день так, чтобы хотя бы полчаса спокойно подумать. Потому что в стране постоянно что-то происходит. Есть люди, начиная с президента, на телефонный звонок которых необходимо ответить. И есть люди, которых придется принять в любой день и час.
Для премьера самый огромный дефицит, больше бюджетного, — это дефицит времени.
Главу правительства, как любого человека, могут охватывать отчаяние, дикая усталость, безудержное раздражение, желание послать всё к чертовой матери. Но при этом премьер-министр понимает, что он наделен счастливым правом действовать. Ругать происходящее могут все, но только он способен что-то изменить.
Это тяжкая должность. Премьер-министр знает, что он должен сократить расходы. Но, взявшись за ручку, чтобы поставить свою подпись, он понимает, что, когда этот документ станет законом, жизнь многих людей сделается еще тяжелее. Эти конкретные люди совершенно не виноваты в том, что бюджетные расходы приходится сокращать. И ему не хочется портить им жизнь. Он ищет другой выход. Проходит время. Он убеждается в том, что другого выхода нет, и ставит подпись…
В приемной главы правительства скапливаются люди, которые мечтают попасть к премьер-министру, чтобы решить с ним разного рода вопросы. Поток людей делится на две категории. Одних вызывает глава правительства. Они ему нужны — он дает им поручения, спрашивает об исполнении. Общение с людьми помогает понимать, чем дышит страна.
С одной стороны, глава правительства получает бездну информации — сил нет ее переварить. С другой — ему не хватает личных впечатлений, потому что сам он видит страну из окна правительственного лимузина и ниже, чем с министром или губернатором, редко с кем общается.
Вторая категория посетителей — те, кто пробивается к премьер-министру, потому что это им надо. Часто у них неотложные нужды. Приятно, когда можешь помочь. Но это бывает редко, возможности небезграничны. Необходимость принимать людей и говорить им «нет» тяжка. Иногда возникает желание произвести на людей приятное впечатление и дать им, что они просят.
Известный кинорежиссер и председатель думского Комитета по культуре Станислав Говорухин рассказывал:
— Я пришел к Примакову и полтора часа требовал у него денег на культуру, искусство и кинематограф. Он отказал мне по всем позициям. И всё подробнейшим образом объяснил. Даже на пушкинскую программу не дал. Вице-премьер Матвиенко ему говорит: «Всего семьдесят восемь миллионов рублей!» А он отвечает: «Это не так мало. Это половина того, что мы должны студентам!» И я вышел от него довольный, потому что увидел: во главе государства стоит спокойный, рассудительный, бережливый человек.
Примаков остался галантным и на посту премьер-министра. Валентина Матвиенко вспоминала позже, как ей долго не удавалось убедить Евгения Максимовича принять какое-то решение:
— Евгений Максимович твердо стоял на своем, и тогда я попросту расплакалась, сказав, что не уйду, пока не добьюсь положительного результата. Это подействовало. Впрочем, слезы были абсолютно искренними…
Примаков получил в свое распоряжение исправный и налаженный правительственный аппарат. Но этот гигантский бюрократический механизм совершает множество ненужных оборотов, бумаги движутся в аппарате с черепашьей скоростью, потому что они ходят от одного чиновника к другому. Потому даже премьер-министр не знает, что именно произойдет с его поручением: когда оно дойдет до исполнителя и будет ли выполнено?
Огромное количество документов движется по иерархической лестнице не потому, что это необходимо, а потому, что чиновник, который мог бы принять решение сам, не хочет брать на себя ответственность и с удовольствием переправляет документ вышестоящему начальнику. Система родилась еще в сталинские времена, когда старались собрать побольше виз на документе — труднее потом найти одного виноватого.
Прежде Примаков имел дело с более компактными и налаженными аппаратами разведки и Министерства иностранных дел. И очень надежными! А можно ли доверять аппарату правительства? При той зарплате, которую платили рядовому чиновнику, неудивительно, что тот или иной документ, который оценивался в миллионы, нес в себе следы чьего-то личного интереса. Или же просто чиновник поленился и не собрал всей нужной информации. С этим в разведке и в МИДе Примаков тоже не сталкивался. Так что ему приходилось принимать во внимание очевидную возможность того, что поступивший к нему документ содержит в себе неправду, сознательную или несознательную. Впрочем, Примаков никогда заранее не подозревал своих сотрудников в корысти.
Когда в конце октября 1998 года Григорий Явлинский в интервью британской газете «Дейли телеграф» сказал, что в российском правительстве существует коррупция, Примаков на пресс-конференции отчеканил:
— Я могу сказать совершенно твердо и однозначно: господин Явлинский должен назвать этих людей. Если не публично, то пусть напишет в прокуратуру. Иначе либо он укрывает преступление, либо клевещет.
И это при том, что именно Явлинский выдвинул кандидатуру Примакова на пост премьер-министра! «Яблочные» депутаты отправили Примакову запрос по некоторым фамилиям и получили «отлуп» от главы правительства по всем пунктам. Заканчивалось ответное письмо Примакова повторным обращением к Явлинскому: «Прошу Вас представить конкретные факты взяточничества при назначении на работу в Правительство, о наличии которых Вами было заявлено публично».
Некоторые бумаги, поступающие в Белый дом, вовсе бессмысленны. Например, министерства знают, что дополнительных денег им всё равно не дадут, но, получив от кого-то просьбу о помощи, пересылают ее главе правительства. Он, разумеется, отказывает. Ответ пересылается в министерство. Министерство передает отказ дальше… Это симуляция деятельности. Но таким образом министры снимают с себя часть неприятной обязанности говорить всем «нет». Кроме того, обилие бумаг устраивает клерков, которые благодаря этому документообороту не остаются без работы.
Есть и другая причина, по которой поток бумаг захлестывает Белый дом. Опытный чиновник знает, что обо всех проблемах надо своевременно докладывать начальству. Чем больше проблем вывалишь на стол премьер-министру, тем спокойнее. Как только доложил, то вроде уже и не сам должен их решать, а начальник.
Но Примаков, выслушав подчиненного, всегда спрашивал:
— Что вы предлагаете?
Поток бумаг настолько чудовищный, что глава правительства может превратиться в каучуковый штемпель. Только сидеть и подписывать то, что приносят, — и на одно это рабочего дня не хватит. И не остается времени размышлять над стратегией.
Как бы ни был опытен премьер-министр, всё равно он ставит подпись на множестве бумаг, смысл которых остается для него неясен. Основные документы Примаков правил сам. В других случаях вынужден был доверять тем, кто читал этот документ до него, — своим заместителям, помощникам, экспертам. Это касается постановлений и решений по каким-то непринципиальным проблемам.
Он взял с собой в правительство своего помощника Роберта Маркаряна. Он работал с Примаковым не одно десятилетие. В Службе внешней разведки Маркарян стал генералом, в Министерстве иностранных дел получил орден. Руководитель аппарата правительства Юрий Зубаков тоже работал с Примаковым много лет — еще со времен горбачевского Совета безопасности. В Службе внешней разведки и в Министерстве иностранных дел Зубаков отвечал за кадры; разумный и спокойный человек, без следов высокомерия.
Примаков действовал совсем не так, как этого многие ожидали. Но он успешно двигался вперед. Первым крупным его успехом стало одобрение Государственной думой предложенного им проекта бюджета. Такой бюджет раньше депутаты бы никогда не приняли. Да три месяца назад правительство такой бюджет бы и не составило.
Утверждение бюджета было чудом. Ни одному из предшествующих правительств такого бюджета бы не простили. Зато если бы такие бюджеты принимались раньше, жили бы мы в более благополучной стране. За бюджет проголосовало триста три депутата, против шестьдесят пять, трое воздержались. Правительственный проект отвергла только фракция «Яблоко», которая выдвинула Примакова в премьеры.
Лидер фракции коммунистов Геннадий Зюганов:
— Мы проголосовали за плохой бюджет, но его приняли, потому что это необходимо на сегодняшний день.
Вице-спикер Государственной думы Сергей Бабурин:
— Речь сейчас идет не об экономических аспектах главного финансового документа страны, а о поддержке парламентом правительства Примакова — Маслюкова.
Это верно. Государственная дума действительно проголосовала за бюджет не по экономическим, а по политическим соображениям. Примаков хладнокровно предупредил: если Дума не примет бюджет, правительство уйдет в отставку.
Председатель Совета Федерации Егор Строев:
— На месте Примакова я поступил бы точно так же.
Бескомпромиссная позиция Евгения Максимовича исключала возможность игр вокруг бюджета. И депутаты Думы, и члены Совета Федерации, которые собирались критиковать бюджет и требовать переделок и поправок в пользу своих территорий или своих клиентов, вынуждены были смириться. На сей раз больше всех беспокоились о принятии бюджета коммунисты. Они готовы были на всё, чтобы убедить губернаторов, которые заартачились. А ведь в прежние времена было иначе. Правительство, напротив, просило Совет Федерации вразумить думцев.
Видно было, с каким уважением пожимал Примакову руку Геннадий Зюганов. Коммунистам никак нельзя было отправлять правительство в отставку отказом проголосовать за бюджет. Тогда они приняли бы на себя ответственность за все пагубные для страны последствия. Но и Примаков проявил сговорчивость. Он позвонил Егору Строеву и сказал, что готов учесть поправки членов Совета Федерации. Встретившись с ними, сразу заговорил в конструктивном тоне и сделал большой шаг навстречу губернаторам — согласился поделить бюджетные доходы пополам: половина — Центру, половина — регионам. Губернаторы сняли свои возражения против бюджета.
Это был самый жесткий бюджет за все последние годы. Он прежде всего означал резкое сокращение расходов на социальные нужды. Министр экономики Андрей Шаповальянц прямо сказал об этом депутатам:
— Прогнозируемый рост инфляции и величина доходов федерального бюджета не позволят в 1999 году обеспечить стабилизацию уровня жизни населения на уровне предыдущего года.
Секрет Примакова, как говорили, состоял в том, что в его речах все слышали то, что хотят услышать. Либерально настроенные граждане — обещание рыночных реформ и свобод. Коммунисты — государственное регулирование и контроль.
И верно. Некая двусмысленность постоянно присутствовала в высказываниях Примакова.
Он рассуждал о необходимости чрезвычайных мер, но тут же замечал, что это отнюдь не введение чрезвычайного положения. Обещал «круто взять курс на то, чтобы продолжить движение к демократии, к реформе общества, к строительству многоукладной экономики, плюрализму политической жизни». И тут же бросал фразу:
— Мы не можем идти дальше, рассчитывая, что всё решит рыночная стихия.
Евгений Максимович — дипломат, поэтому не так важно было прислушиваться к его словам, как следить за его действиями. Примаков убедил коммунистов резко изменить свое отношение к закону о разделе продукции. Этот закон дает правовую основу для иностранных инвестиций в добычу природных ископаемых. Поскольку инвесторы получают право на часть добычи, левые депутаты возражали против закона.
Примаков заявил, что соглашения о разделе продукции — приоритетная задача правительства. А откуда еще брать иностранные деньги? Накануне голосования в Государственной думе Примаков пригласил к себе лидеров думских фракций и групп и попросил их поддержать законопроект. Депутаты к Примакову прислушались, и против проголосовало всего шесть депутатов. Общение с Примаковым производило сильное впечатление на иностранцев, работающих в России, и на потенциальных инвесторов.
Примаков со своими министрами поехал в Белгород, где собрались губернаторы «красного пояса». Как водится, проехались по молодым реформаторам, порадовались тому, что с новым премьер-министром можно говорить на одном языке. Примаков сначала рассказал о том, что именно делает правительство, как бы отчитался перед губернаторами. Выступая, не поучал их, вел себя на равных. Но совершенно не поддавался на давление:
— Я не согласен, что нужен Госплан. Возврата к планированию быть не может. Но вмешиваться в экономику необходимо. Вот канцлер Эрхард в Германии — какие жесткие меры в свое время принимал, а никто пикнуть не смел.
У него просили денег на развитие местной промышленности. Он отвечал:
— Никто вам ваши производства не запустит. Если у вас такая хорошая продукция, почему ее никто не берет? Не умеете продавать? Учитесь.
Примаков сказал, что он против массовой эмиссии, что страна будет платить долги иностранным кредиторам, и даже пообещал пустить в страну иностранные банки, на что никто из его предшественников не решался, потому что российская банковская система такой конкуренции, конечно же, не выдержит.
Выступая перед западными финансистами, Примаков сказал, что готов разрешить российским гражданам размещать деньги на номерных счетах иностранных банков, работающих в России.
— По самым мягким подсчетам, — сказал Примаков, — из России ежегодно уходит около пятнадцати миллиардов долларов. В этом есть и вина правительства. Она заключается в том, что правительство не создало условий для размещения этих капиталов в России. Пусть не вывозят, а оставляют здесь, а государство закроет глаза на источник этих денег.
Что же произошло? Примаков переменил свои взгляды?
Он много лет работал в правительстве и получал всю необходимую информацию. Но только оказавшись в кресле премьер-министра, увидел, насколько велики проблемы. Он знал, что бюджетники не получают столько денег, сколько им выделено. Но и не предполагал, что они получают так мало!
Открытый, видимый дефицит бюджета — это лишь часть реальности. Проблема не только в том, что министерство не получает обещанного бюджетом. Составление бюджета до такой степени не воспринимали всерьез, что туда изначально закладывали лишь малую часть истинных потребностей. Когда это узнаёшь, становится ясным масштаб проблем.
Нелепо было считать Примакова партийным бонзой, бюрократом старой школы, который тащит страну назад. У него не было идеологических пристрастий. Стало ясно, что он менее советский человек, чем одни опасались, а другие надеялись, конечно же, не консерватор, но и не революционер-романтик. Он был сторонником модернизации, реформирования. Но не либералом в том смысле, в котором мы сейчас употребляем это слово. Скорее умеренным реформатором. Он предпочитал предсказуемый, уравновешенный стиль работы.
Примаков стал премьер-министром, потому что два его предшественника — Черномырдин, с его огромным хозяйственным опытом, и Кириенко, с явно разумными идеями, — не добились поддержки.
Беда в том, что в те годы разумная экономическая программа отвергалась различными политическими силами — это произошло с правительством Кириенко. Понадобилась сильная политическая фигура, чтобы поддержать и попытаться осуществить такую программу. Глава правительства должен был убедить общество и депутатов по собственной воле сделать то, чего они делать не хотят, то есть принять свободную рыночную экономику, осознать важность привлечения иностранного капитала.
Поддержка, которую получил Примаков, — результат того, что он с первого своего шага в большой политике сделал упор на стабильность и на согласие в обществе. Причина того, что Примаков прошел на ура в Думе и пользовался поддержкой левой оппозиции, не только в том, что он взял бывшего первого заместителя председателя Совета министров СССР по оборонному комплексу Юрия Маслюкова и бывшего первого заместителя председателя Совета министров РСФСР по агропромышленному комплексу Геннадия Кулика вице-премьерами, а в том, что он с самого начала искал согласия и компромисса.
Больше всего сил и времени уходило у него на то, чтобы убедить в своей правоте политических оппонентов и союзников, добиться их согласия на реализацию своих идей. Примаков был по натуре осторожен, он продумывал каждый шаг и двигался, как по минному полю, поэтому на посту премьер-министра, возможно, допустил куда меньше ошибок, чем его предшественники.
Но вместе с тем его упрекали в том, что он не идет на решительные, радикальные, хотя и непопулярные меры, которые только и могут вытащить страну из кризиса. Он следовал формуле «Политика — это искусство возможного». Знал, что надо сделать много больше, и готов был это сделать, но понимал, что сейчас это невозможно.
Многих тогда интересовал вопрос: важно ли для Примакова, что люди вокруг о нем думают? Влияет ли это на него в том смысле, что он прикидывает — раз это не понравится, я этого делать не стану? Или, наоборот, что бы себе люди ни думали, я сделаю так, как решил, и то, что необходимо?
Знающие его люди говорили, что в разных ситуациях он вел себя по-разному. Были ситуации, когда он знал: в интересах страны это необходимо сделать немедленно, как больному принять нужное лекарство. Вот тут Примаков делал то, что должно, не принимая в расчет, что о нем подумают. Хотя пытался объяснить больному, что ему надо лечиться.
А были вещи, от которых он отказывался. Не потому, что боялся утратить народную любовь. Это слишком просто и примитивно. Если он от чего-то отказался, значит, понял, что это дело не сегодняшнего дня и оно невозможно в текущей ситуации.
Но в этом предельном прагматизме было очевидное противоречие. Для общего блага нужны весьма непопулярные меры, а Примаков идти на них не хотел. Не желал делать то, что людям будет тяжело пережить. Этого никто не хочет. Но без реформ невозможно движение вперед. Кто-то в правительстве, условно говоря, должен исполнять функции Чубайса, человека, который упрямо и даже с вызовом идет наперекор общественному мнению и не дает денег, если их нет. Но кто же на это решится? Да и не всякий сумеет.
Некоторые политики не понимают, что нельзя печатать ничем не обеспеченные деньги. А другие до сих пор не принимают простой истины: если не собираются налоги, то нет возможности платить зарплату и пенсии, бороться с преступностью и лечить больных. Людям всё кажется, что государство достает деньги из никому не известных источников и проблема состоит в том, чтобы заставить правительство потрясти мошной.
Виктор Черномырдин, поработав в правительстве, знал, что это делать нельзя:
— Вы думаете, я не хотел вовремя платить зарплату, рассчитываться с пенсионерами, студентами? Еще как хотел. Что, я не мог бы напечатать деньги? Мог бы. Но я понимал, что это была бы катастрофа…
Более искушенные сторонники печатания денег доказывали, что экономике просто не хватает оборотных средств.
— Мы потратим их не на потребление, а на производство. Не зарплату выплатим, а дадим кредиты производителям. Они начнут работать, и вложенные деньги будут обеспечены товаром…
Так не получается. Дармовые государственные деньги разворовывают. Льготные кредиты Центробанк раздавал в 1993— 1994-м, пока не убедился, что это напрасная трата средств. Если директор получит деньги от государства, он тут же переправит их в коммерческий банк, чтобы получать приличный процент, и будет заинтересован не в том, чтобы вложить их в дело, а в том, чтобы они подольше лежали на счету. Проценты-то идут ему в карман.
Считается, что за последние месяцы 1998 года было напечатано примерно тридцать миллиардов рублей. Они привели только к падению курса рубля. Напечатанные, то есть пустые, деньги знают один путь — они идут на скупку долларов. Больше денег нужно тогда, когда реально растет конкурентоспособное производство. А производство не росло.
Рост производства, оживление экономики — это и есть главная задача правительства. Но она требовала колоссальных многоплановых усилий, законодательных прежде всего, а не работы печатного станка.
Примакова уличали в том, что у него нет ни ясного плана действий, ни единомышленников, которые бы пришли вместе с ним выполнять его идеи. Григорий Явлинский сказал в октябре 1998 года, что в правительстве создан клуб лоббистов, где каждый отстаивает свои интересы. Это не настоящая команда. Такой кабинет может решать только частные вопросы…
Пока Примаков формировал правительство, говорили, что у всех министров разные взгляды, что правительство соткано из сплошных противоречий и столь разнородный кабинет работать не сможет. Прогноз не оправдался.
Один из его друзей выразился так:
— Евгению Максимовичу нужны специалисты. Те из них, кто выдержит эту нагрузку и будет брать планку, будут работать в правительстве. Кто не сможет, исчезнет из правительства. Но это не искусственное объединение разных и противоположных мнений. Правительство Примакова — это не правительство красных или белых. Это правительство Евгения Максимовича Примакова.
Примакова упрекали в том, что его министры строят безумные и безграмотные экономические планы. Первые варианты правительственной программы повергли грамотных экономистов в ужас. Но Евгений Максимович своей рукой вычеркнул отгула все нелепости. Примаков оказался в ту пору, возможно, самым опытным в стране менеджером. Проявилась его сильная сторона — он умел быстро объединить коллектив в единую команду. Он не старался рассадить на ключевые должности только тех, кому доверяет, с кем связан личными, неформальными отношениями. У него в коллективе не бывало раздрая, склок, интриг. У него все работали.
Причем сам Примаков вызывал у своих подчиненных искреннее уважение. Они поняли, с кем работают, и ценили такую возможность. Уже через два месяца после прихода в правительство министры перестали говорить о необходимости накачивать экономику деньгами и поддерживать промышленность и сельское хозяйство любыми путями. Идеи национализации были сразу отвергнуты — это свидетельствовало о больших изменениях в обществе.
Эволюция министерских взглядов шла очень быстро. Если сравнить сентябрьскую программу академиков и декабрьский бюджет, то видно, какая интеллектуальная работа проделана и насколько точно осознана реальность. Были люди, которые приходили в Белый дом с искренней верой, что они сейчас вернут плановую экономику, напечатают денег и всё будет хорошо. Вступая в должность первого вице-премьера, Юрий Маслюков говорил:
— Эмиссия — это катастрофа. Но мы можем пойти на ограниченную эмиссию.
Прошло несколько месяцев, и министры увидели, что и это невозможно: тратить можно только то, что заработано. Денег правительство напечатало, но не катастрофически много. Цены постоянно росли, но рубль не обвалился. Импорт стал восстанавливаться. Магазины не опустели.
Сначала звучали совсем уж нелепые идеи: обратиться за помощью к Ираку, Ирану, Ливии, Индии и Китаю. Они не любят Запад, поэтому помогут России… Но ведь Ирак и Ливия свои немалые долги России так и не вернули. Иран и Китай просто так денег никому не дают, с какой стати?
Международный валютный фонд осенью 1998 года утверждал, что правительство России исходит из ложного посыла. Кризис в стране порожден не рыночной экономикой, а тем, что рыночная экономика так и не смогла заработать в полной мере.
В тот день, когда Примакова утвердили в должности премьер-министра, он разговаривал по телефону с государственным секретарем Соединенных Штатов Мадлен Олбрайт. Евгений Максимович сказал Олбрайт, что знает, как бороться с финансовым и экономическим кризисом. Он просил американцев подождать, пока будет сформирована его команда, и понаблюдать за ее действиями.
Олбрайт потом говорила, что американцы смущены разговорами российских министров о денежной эмиссии, о восстановлении государственного управления некоторыми секторами экономики.
— В связи с этим возникает вопрос, — сказала Олбрайт, выступая перед участниками Российско-американского совета делового сотрудничества, — понимают ли некоторые члены команды Примакова азы глобальной экономики?
Если российское правительство напечатает слишком много рублей, заметила Мадлен Олбрайт, то инфляция разрушит надежды и мечты людей. Законы экономики иногда работают самым загадочным образом, но, как и законы физики, они действуют во всех странах одинаково… А вот составленный правительством Примакова бюджет произвел на западных экономистов более благоприятное впечатление.
В чем преимущество жесткого бюджета? Нет инфляции и не растут цены. Люди могут чувствовать себя спокойно: заработанный рубль и завтра будет рублем, а не полтинником.
Через три-четыре месяца любой премьер-министр начинает понимать, что может действовать только в рамках имеющихся ресурсов. Осознаёт, что только он отвечает за всё происходящее в стране. Со стороны можно посоветовать всё что угодно, любые радикальные меры. Но только когда садишься в кресло премьер-министра, понимаешь, чем отзовется неверный шаг. Вопреки первоначальным обещаниям правительство Примакова не так уж сильно вмешивалось в экономику. Людям не мешали работать. Не сбылся ни один из катастрофических сценариев, которые сулили правительству Примакова.
Его кабинет, впервые за десять лет, составил честный бюджет, в котором доходы превышали расходы, и фактически удержал рубль. Через несколько месяцев наступило некоторое улучшение ситуации в стране, начался рост производства. Девальвация рубля помогла отечественному производителю, и от этого выиграли села и небольшие города России, где сосредоточены производители. Провинция была ему благодарна — ей стало легче. Кроме того, при Примакове стали выплачивать зарплаты и пенсии — без опозданий.
Между тем либеральные экономисты ругали Примакова за пассивность. Если к хирургу пришел больной с нарывом, хирург, конечно, должен подумать о том, как сделать операцию максимально безболезненно, но вскрывать нарыв необходимо, иначе будет заражение крови. Примакова обвиняли в том, что он, ссылаясь на волю пациента, не решается вскрыть нарыв, а дает только обезболивающее. Но пациент-то может и умереть…
Вот и президент Ельцин в мае 1999 года объяснил стране, что расстался с Примаковым потому, что его правительство не преуспело по экономической части. Некоторые экономисты согласились с президентом. Другие напоминали, что Примаков стал премьером, когда страна находилась в кризисе, люди были в панике. От этого он страну спас и дал экономике возможность восстановиться.
Из всех премьер-министров именно Примаков менее всего поддавался давлению лоббистов. Сергей Генералов, министр топлива и энергетики в кабинете Примакова, рассказывал журналистам: узнав, что его заместитель Виктор Калюжный дал льготы нефтяным компаниям «ЛУКойл» и ТНК, он решил его уволить, да не успел — сменился премьер.
— Если бы Примаков остался еще хотя бы на месяц, Калюжный был бы уволен, — считал Генералов.
Новый премьер-министр Сергей Степашин чувствовал себя не так уверенно и уволил министра Генералова. Буквально через час после увольнения Генералова его недавний заместитель Виктор Калюжный облагодетельствовал еще одну нефтяную компанию, а вскоре сам стал министром.
У всякого правительства есть выбор. Когда ситуация в экономике ужасна, то любые решения будут жесткими и не прибавят правительству популярности. Кабинету министров приходилось выбирать между стремлением сохранить политическую стабильность и собственную популярность и необходимостью жестких действий, которые оно обязано совершать, потому что в этом его долг. Этот выбор можно откладывать, но его всё равно приходится делать. Бюджет показал, что Примаков сделал выбор в пользу реальных жестких действий, менее заботясь о сохранении популярности.
Андрей Николаевич Илларионов, который долгое время был советником президента Путина по экономическим вопросам, не принадлежит к числу поклонников Примакова. Но он не раз признавал заслуги Евгения Максимовича на посту главы правительства:
— Мне вспоминается конец 1998-го — начало 1999 года. Тогда премьер-министром был Евгений Примаков, чьи публичные выступления вряд ли могли сойти за образец либерализма, за что он и получил в свой адрес немало критических стрел. Однако именно тогда у нас начался экономический рост. А чуть позже стало ясно, что экономическая политика, проводившаяся в тот период, по своему качеству оказалась наилучшей за несколько десятилетий.
Пребывание на посту премьер-министра никому не пошло на пользу. Ивану Силаеву в спину много чего приятного наговорили. Егора Гайдара считают погубителем страны. Карьера Виктора Черномырдина завершилась экзекуцией, которую ему устроила Государственная дума. Сергей Кириенко взлетел на миг, а что потом?
Примаков приступил к работе с большим, невиданным кредитом доверия. Ни один глава правительства не имел такой массовой поддержки. Но всякий кредит, в том числе и кредит доверия, рано или поздно исчерпывается. Понимал ли Евгений Максимович, что и его премьерство может оказаться недолгим? Что, если он не сумеет справиться с кризисом, на него обрушится бешеный шквал критики, справедливой и несправедливой? Способен ли он в какой-то момент, увидев, что ничего не получается, махнуть на всё рукой и уйти?
Я задавал этот вопрос всем его друзьям.
Ответы были почти одинаковые:
— Он не способен так поступить. Он невероятно настойчивый и упорный человек. Евгений Максимович не хотел становиться премьер-министром и отказывался искренне. Но теперь это значения не имеет. Он согласился, значит, принял на себя ответственность и уверен в том, что справится. Не справиться — это же для него означает опозориться. Этого он никогда не допустит…
Опросы общественного мнения показывали, что Евгений Примаков — самый популярный и влиятельный человек в стране. Раньше эту позицию занимали только два человека: как правило, Борис Ельцин и иногда, в порядке исключения, Виктор Черномырдин. Теперь же президент России отступил на второе место.
В конце октября 1998 года рейтинг доверия Примакова был самым высоким в России. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, ему доверяли 14 процентов россиян. На втором месте был Зюганов (10 процентов), третье и четвертое делил Явлинский и Лужков (по 7 процентов). Пятое место занял Лебедь (5 процентов).
В середине ноября 68 процентов опрошенных одобрили идею поручить Примакову исполнять обязанности вице-президента (хотя такой должности уже не существовало). На вопрос о том, кто из политиков способен объединить политические силы, на первом месте оказался Примаков — 30 процентов опрошенных. На втором московский мэр — 21 процент.
В конце года опрос общественного мнения показал, что число одобряющих действия Примакова за два месяца еще выросло. Его называли самым популярным политиком 1998 года. Конечно, в этих опросах была некая неточность. Оценивается скорее не популярность, то есть благорасположенность публики, а степень интереса к нему и мера его влияния на общественную жизнь. Начиная с сентября всё внимание было сосредоточено на Примакове. Вот и казалось, что он самый популярный политик в стране.
Социологи уже прикидывали, есть ли у него шансы на победу в президентских выборах 2000 года, вычисляли, кто именно за него проголосует, какие силы поддержат нынешнего главу правительства. Многие желали видеть Примакова президентом именно потому, что он ни разу не заявил о своем желании стать президентом. Избиратели инстинктивно верят неамбициозным людям.
Видели: Евгений Максимович — человек честный и некорыстный, поэтому никто и не пытался искать у него счета в швейцарских банках или недвижимое имущество за границей. Понимали — у него другие ценности, не материальные, а духовные. Ценили и то, что он не стремился к власти и не боялся ее потерять.
Заговорили о том, что Примакову и Лужкову нужно объединиться, поскольку они, собственно, почти единомышленники, программы у них сходные, делить им нечего. За каждым сила, вместе они непобедимы. Председатель Думы Геннадий Селезнев уверенно сказал:
— Если у правительства всё получится, у Примакова будут все шансы баллотироваться на пост президента.
Но вот что я думал в ту пору: будет ли Примаков столь же интересен публике, если перестанет руководить правительством? Мне трудно было представить его лидером партии, агитирующим за свое избрание.
Опаснее всего для Примакова было втянуться в предвыборную борьбу. Ему и так приходилось постоянно маневрировать, чтобы не нарушить хрупкий баланс сил, никого не оттолкнуть, иначе всё может рухнуть. Собственного ресурса прочности у правительства не было. Кабинет держался, потому что это было выгодно разным политическим силам. Примаков же понимал: если президенту Ельцину что-то не понравится, он может запросто сместить главу кабинета. Евгений Максимович видел: он может спокойно работать до тех пор, пока не скажет, что намерен заняться политикой и готов выставить свою кандидатуру.
Но главное — он и не собирался баллотироваться в президенты! Говорил об этом. Впрочем, ему не все верили. Он от поста министра иностранных дел отказывался, а всё равно стал им. И премьер-министром не хотел быть, а потом всё-таки согласился. Может, опять передумает?
Друзья Евгения Максимовича на вопрос, может ли он выставить свою кандидатуру в президенты, отвечали однозначно:
— Нет! Он своей кандидатуры выдвигать не будет.
Но добавляли:
— В той мере, в какой это будет зависеть от него, он этого делать не станет…
Очень метко высказался академик Александр Яковлев:
— Он человек ученый, бренность жизни признает (засмеялся). Один из тех людей, которые не считают себя вечными. В чем беда наших вождей? Пока не станут президентами, считают себя людьми, которые пришли на эту землю на какой-то период. И если во власть пришли, то тоже на какой-то период. То есть их не покидает чувство реальности. Но как только на самом верху — чувства эти исчезают. Люди начинают считать себя вечными. У Примакова есть добротное чувство юмора, чтобы так не считать.
Сам Примаков относительно выдвижения его кандидатуры на пост президента выразился в ту пору предельно откровенно:
— Всякое безумство должно иметь пределы. Я исчерпал свое, согласившись на премьерство…
«Возможно, Евгений Максимович себя недооценивает, — писал я в начале 1999 года. — В нынешних обстоятельствах он, несомненно, не станет баллотироваться в президенты. Но ведь обстоятельства могут перемениться.
А что касается пессимистичных прогнозов относительно будущего России, которыми нас со всех сторон обильно потчуют, то, как известно, любое предсказание действенно только для данной ситуации. Если человек выберет иной путь, то и предсказание не сбудется».
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ ПОЧЕМУ ОН НЕ СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ?
Первоначально Ельцин зависел от Примакова и даже в определенном смысле заискивал перед ним. Евгений Максимович потом расскажет, что через две недели после его назначения президент вдруг многозначительно и доверительно заговорил с ним:
— Я хотел бы обсудить ваши перспективы как моего преемника. Что нам следует делать в этом отношении.
Примаков благоразумно отказался развивать эту тему:
— У меня нет никаких президентских амбиций. Вообще считаю, что не смог бы по-настоящему работать во главе правительства, если бы нацелился на президентскую гонку…
Президент поощрял его активность:
— Больше берите ответственности на себя.
Но едва кризис миновал, страна успокоилась, стало ясно, что Примаков неприятен Ельцину. Вот его молодой предшественник Сергей Кириенко президенту Ельцину нравился, потому что не имел никакого политического веса.
А тут, совсем наоборот, в кресле главы правительства — совершенно самостоятельная фигура. Заговорили о том, что между Ельциным и Примаковым пробежала черная кошка, что президент обижен на премьер-министра, который за его спиной договаривается с Государственной думой о том, чтобы вывести правительство из-под контроля президента. Известно, как Ельцин любил, когда в его окружении кто-то занимается самостоятельной политикой…
Говорили и другое: что в момент обострения президентской болезни Примаков пытался взять под контроль силовые министерства. Это не так. Министры обороны, внутренних дел, директор Федеральной службы безопасности подчиняются только президенту. Это не значит, что они никогда не появляются в кабинете премьер-министра и не выполняют его просьб. Просто о каждом таком поручении премьер обязан поставить в известность президента, что Евгений Максимович и делал. Другое дело, что с Примаковым силовые министры явно сотрудничали с большим удовольствием, чем с его предшественниками. И он, уйдя из разведки, не утратил контакта и с бывшими подчиненными, и со смежниками.
Надо всё назвать своими словами. Назначение Примакова премьер-министром и президент, и его окружение воспринимали как проигрыш: Ельцин дал слабину и позволил сделать главой правительства не того человека, которого хотел. Евгений Максимович пытался установить рабочие отношения с Татьяной Борисовной Дьяченко, объяснить, что у них единые цели, но дочь президента демонстративно не хотела откровенничать с главой правительства и делиться с ним своими планами.
Девятого апреля 1999 года Ельцин публично сказал:
— Не верьте слухам о том, что я хочу Примакова снять, правительство распустить и так далее. Всё это домыслы и слухи. Такого нет и не предвидится. Я считаю, что на сегодняшней стадии, на таком этапе Примаков полезен, а дальше будет видно. Другое дело, что надо укреплять правительство. Этот вопрос стоит.
Это было крайне болезненное для Примакова заявление — фактически президент говорил стране, что он в любую минуту готов расстаться с Евгением Максимовичем.
Примаков тут же ответил, выступив по телевидению:
— Пользуясь случаем, хочу еще раз заявить, особенно тем, кто занимается этой антиправительственной возней: успокойтесь, у меня нет никаких амбиций или желания участвовать в президентских выборах, и я не вцепился и не держусь за кресло премьер-министра, тем более когда установлены временные рамки моей работы: сегодня я полезен, а завтра посмотрим…
Примакова пытались отговорить от этих слов — «не стоит раздражать президента», но он вел себя уверенно и смело. Не стал молчать.
Знатоки кремлевской жизни поняли, что и Евгений Максимович не задержится в своем кресле. В 1998 году сменилось три премьер-министра. Все понимали: на то, чтобы сменить главу правительства, у слабеющего и больного президента в любом случае сил хватит. Так и получилось. В 1999 году тоже сменилось три премьера.
В мемуарной книге Ельцина «Президентский марафон», написанной Валентином Юмашевым, так объясняются причины отставки Евгения Максимовича. Это, собственно, развернутый обвинительный вердикт. Начинается он с обвинений в зажиме прессы:
«Журналисты с самого начала почему-то не очень жаловали правительство Примакова. Как чувствовали, что нелюбовь будет взаимной и страстной. Вскоре выяснилось, что именно спровоцировало прессу на такую скорую и, как мне сначала казалось, несправедливую критику: абсолютная закрытость нового кабинета. Было дано четкое указание аппарату правительства скрывать информацию от прессы, минимум интервью, всё общение с журналистами — только под жестким контролем… Сказывалась многолетняя школа работы Евгения Максимовича в закрытых учреждениях — ЦК КПСС, МИДе, СВР».
Заметим, что в аппарате ЦК партии Примаков — в отличие от самого Бориса Николаевича — не работал…
Борис Николаевич пишет, что был удивлен, когда Примаков принес пачку критических публикаций о правительстве и стал жаловаться президенту на журналистов.
Ельцин успокаивающе ответил премьер-министру:
— Евгений Максимович, я уже давно к этому привык… Обо мне каждый день пишут, уже много лет, знаете в каких тонах? И что же, газеты закрывать?
— Нет, но вы почитайте, Борис Николаевич, это же полная дискредитация нашей политики.
«Вот в таком духе мы могли разговаривать с Примаковым по часу, — рассказывает в своей книге Ельцин. — Было очень печально, что Евгений Максимович не может избавиться от старых советских стереотипов, от этой тяжелой нервозности при виде газетных страниц… Особо памятен разнос, который Евгений Максимович устроил Российскому телевидению. Собрав творческий коллектив, он в течение чуть ли не часа распекал журналистов, указывал на недопустимый тон, на ошибки, на то, что можно и нельзя говорить о правительстве».
Примаков пишет в своих мемуарах, что никаких подборок из статей, написанных против него, он президенту не приносил: «Это всё досужие домыслы».
Следующий пункт обвинений — подготовка массовых репрессий.
Борис Ельцин:
«Весной того, 1999 года произошел еще один очень знаменательный эпизод нашей общественной жизни. На заседании правительства министр юстиции Павел Крашенинников докладывал вопрос об амнистии… Всего из мест заключения выйдут на свободу 94 тысячи человек. Неожиданно министра юстиции перебил Евгений Максимович Примаков. Это проявление гуманизма, всё правильно, сказал он. Но это необходимо сделать и для того, чтобы “освободить место для тех, кого сажать будем за экономические преступления”. Той весной многие российские граждане в массовом порядке начали паковать чемоданы…
Возбуждались непонятные уголовные дела. Под арест попадали невинные люди. Часть сотрудников спецслужб не скрывала при допросах и обысках бизнесменов, что ждет реванша за прежние годы… Эта ситуация грозила настоящим расколом страны в главном вопросе — вопросе экономических реформ…» Странно сейчас читать эти ельцинские слова.
Наступление на свободу слова, реванш спецслужб, возбуждение непонятных уголовных дел против видных промышленников, аресты и обыски — всё это скорее описывает то, что происходило уже после отставки Примакова, когда президентом стал ельцинский преемник Владимир Владимирович Путин.
Евгений Максимович впоследствии сам рассказывал о мотивах своей политики:
«Я не обрушился на своих предшественников, не требовал объяснения, кто виноват в событиях 17 августа, не пошел на передел собственности. Хотя, если бы я затеял национализацию, аплодисменты заглушили бы тоненькие голоса “против”. Передо мной стояла задача — вывести страну из кризиса. Для этого нужно было стабилизировать обстановку, не раскачивать лодку — это раз. И в то же самое время сохранить демократическую ориентацию, не дать возможности отката в командно-административную систему. Я никогда не пошел бы на массовые репрессии».
Валентин Юмашев от имени президента старался выставить Примакова в книге «Президентский марафон» в самом неприглядном свете:
«Примаков с каждым днем становился для огромной части бизнеса, а значит, и для среднего класса, средств массовой информации, для многих политиков и целых думских фракций раздражающим фактором. Вольно или невольно Евгений Максимович консолидировал вокруг себя антирыночные, ан-тилиберальные силы, вольно или невольно наступал на свободу слова, и журналистов не могло это не волновать.
Дальнейшее пребывание Примакова у власти грозило поляризацией общества. Разделением на два враждующих лагеря. Это была тяжелая тенденция. Затягивание этого процесса, сползание к прежним, советским, методам руководства могло превратить его отставку в настоящий гражданский конфликт. Стало понятно, что ждать до осени, тем более до 2000 года, как я запланировал раньше, просто нельзя».
Примаков не ходил к президенту с папкой «компромата». Это хлеб силовиков. Они его премьер-министру не отдадут, сами понесут президенту. Примаков принес Ельцину только аудиозапись высказываний нового руководителя президентской администрации Александра Стальевича Волошина, который собрал журналистов и говорил им, что Примаков ведет собственную игру и не может считаться сторонником президента.
Евгений Максимович закономерно возмутился: как это чиновник президентской администрации смеет выступать против главы правительства?
Примаков сам описал эту историю:
«Вскоре после заседания Совета безопасности, которое я проводил в отсутствие Ельцина, я попросил всех задержаться. Смотрю, все остались, а Волошин собирается уходить. Спрашиваю:
— Куда вы?
— У меня намечена встреча.
— Нет, останьтесь… Объясните, кто дал вам право, пока я еще премьер-министр, собирать журналистов и выступать против меня? Вы — руководитель администрации президента. Что это за игры?
Меня поддержали и Строев, и Селезнев. Но я не ограничился этим и пошел к Ельцину. Показал волошинский текст. Президент вызвал Волошина и сказал ему:
— Кто вы такой? Вы мелкий чиновник, вы стоите в моей тени, вы еще ничего сами не сделали. Как вы смеете сталкивать меня с председателем правительства! Я положу эту бумагу в сейф, и она всё время будет висеть над вашей головой. Идите…
А потом обратился ко мне:
— Теперь вы видите, что это идет не от меня?
Я сказал Борису Николаевичу, что благодарен ему за поддержку. А меньше чем через месяц меня сняли».
Борис Николаевич был мастер разыгрывать такие спектакли. Глава кремлевской администрации Волошин действовал не по собственной инициативе. В Кремле уже было решено любыми средствами избавиться от Примакова.
Евгений Максимович возглавлял правительство всего восемь месяцев. 27 апреля 1999 года Ельцин отправил в отставку первого вице-премьера Вадима Густова, его должность перешла к министру внутренних дел Сергею Степашину. Назначение, сделанное с дальним прицелом, правда, было обговорено с Примаковым.
Двенадцатого мая глава правительства пришел к Ельцину с очередным докладом. Оживленный и приободрившийся президент внезапно сказал:
— Вы выполнили свою роль. Теперь, очевидно, нужно будет вам уйти в отставку. Облегчите мне эту задачу, напишите заявление об уходе с указанием любой причины.
Примаков в эти недели чувствовал себя очень плохо, страдал от тяжелого радикулита, нуждался в операции. Но присутствия духа не потерял и твердо сказал:
— Нет, я этого не сделаю. Облегчать никому ничего не хочу. У вас есть все конституционные полномочия подписать соответствующий указ. Но я хотел бы сказать, Борис Николаевич, что вы совершаете большую ошибку. Дело не во мне, а в кабинете министров, который работает хорошо: страна вышла из кризиса. Люди верят в правительство и его политику. Сменить кабинет — это ошибка.
Характер Примакова в Кремле знали, поэтому предусмотрели все варианты. Ельцин вызвал главу администрации Волошина, который вошел в кабинет с уже готовым указом об отставке главы правительства.
Ельцин вдруг поинтересовался у Примакова:
— Как у вас с транспортом?
Примаков равнодушно ответил, что для него машина — это не проблема, может и такси взять. Президенту стало нехорошо, вызвали врачей. Примаков деликатно хотел уйти, Борис Николаевич удержал его. Когда медики ушли, Ельцин встал, обнял Примакова и сказал примирительно:
— Давайте останемся друзьями.
— Мы сделали всё, что могли, и нам не за что краснеть, — сказал Примаков, прощаясь с правительством.
Провожали его стоя и аплодисментами. Он поехал в тот вечер на футбольный матч. Хотел, чтобы его увидели в добром здравии. И жаждал, наверное, эмоциональной разрядки.
Примакову было предложено занять любой зарубежный пост, например, взять на себя курирование всех ближневосточных проблем в ранге специального представителя президента. Он отверг предложение. Накануне Дня России, которое отмечается 12 июня, у Примакова поинтересовались, как он отнесется к награждению его высшим орденом страны. Ответил что не примет. Его пригласили к Ельцину. Отказался.
— Меня обуревали смешанные чувства, — скажет потом Евгений Максимович, — с одной стороны, безусловно, обида, а с другой — потрясающее чувство свободы, я бы даже сказал точнее, освобождения.
А вот цитата из ельцинской книги «Президентский марафон»:
«Еще раз посмотрел на Евгения Максимовича. Жаль. Ужасно жаль. Это была самая достойная отставка из всех, которые я видел. Самая мужественная. Это был в политическом смысле очень сильный премьер. Масштабная, крупная фигура».
Так почему же Ельцин его уволил?
Самый очевидный ответ — Борису Николаевичу не нравилась самостоятельность премьер-министра. Не в том примитивном смысле, что Примаков не слушался Бориса Николаевича или принимал решения, противоречащие указаниям президента. Премьер-министр вел себя независимо, не спешил по каждому поводу кланяться Кремлю и советоваться с президентским окружением — у Примакова в прямом и переносном смысле оказался негибкий позвоночник. От радикулита его спасла операция, а характер остался прежним. Чем популярнее становился Примаков, тем большим был страх «семьи» перед ним. В ближайшем окружении президента Ельцина смертельно боялись Примакова.
Евгений Максимович никогда не был единомышленником Бориса Николаевича.
Примаков сожалел о распаде Советского Союза и о соглашении, подписанном Ельциным в Беловежской Пуще. Примаков не был сторонником гайдаровских реформ и не скрывал своей точки зрения, только его мнением тогда не интересовались. Примаков не разделял страстного желания Ельцина сблизиться и подружиться с Западом. И Примаков не питал такой ненависти к коммунистам, к лидерам левой оппозиции.
Одним словом, Примаков был первым непрезидентским премьер-министром. Его и выбрал-то не Ельцин. Евгений Максимович был ему навязан ситуацией. У президента той драматической осенью был выбор: либо распустить Думу, либо принять кандидатуру Примакова. Ельцин выбрал меньшее зло, потому что был в очень плохой форме, сильно болел.
Примаков сам сформировал правительство, чего не было ни до него, ни после, и в минимальной степени зависел от президентской администрации. Примаков с первого дня опирался на поддержку левой оппозиции, во-первых, потому, что она составляла большинство в Государственной думе; во-вторых, потому, что — в отличие от президента — не видел в коммунистах опасности для страны.
Противники Примакова говорили: премьер-министр позволяет оппозиции использовать себя, он слишком ей удобен. В Кремле считали, что Примаков блокируется со злейшими врагами президента. Коммунисты готовили импичмент, а Примаков продолжал заседать вместе с ними, обсуждать дела. А у коммунистов действительно в руках был сильный козырь: если отправим Ельцина в отставку, то до выборов управлять страной по конституции будет такой уважаемый человек, как Евгений Максимович Примаков.
Со стороны казалось, что на сей раз давно готовившийся импичмент может увенчаться успехом.
В июне 1998 года Государственная дума единогласно приняла постановление «О Специальной комиссии Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по оценке соблюдения процедурных правил и фактической обоснованности обвинения, выдвинутого против Президента Российской Федерации».
Депутаты-коммунисты предъявили Ельцину пять обвинений: государственная измена (Беловежские соглашения 1991 года); государственный переворот (события осени 1993 года); военные действия в Чечне; нанесение ущерба обороноспособности и безопасности страны; геноцид народа, ставший результатом президентских реформ.
И коммунисты были уверены, что большинство депутатов как минимум согласятся признать Ельцина виновным в чеченской войне. Увольнение Примакова в этом смысле считалось сильным ходом — импичмент терял всякий смысл для оппозиции: коммунисты рассчитывали, что власть перейдет к Примакову. Интуиция Ельцина оказалась сильнее, если это он, конечно, всё сам придумал.
Несколько человек из высшего эшелона власти говорили мне, что были против увольнения Примакова. Не потому, что его любили, — боялись народного возмущения. Евгений Максимович был очень популярен. И как выяснилось позднее, уходу Примакова в отставку предшествовала некая попытка организовать восстание против президента.
Глава компартии России Геннадий Зюганов рассказывал, что накануне отставки правительства у Примакова прошло совещание с лидерами фракций, с руководством Государственной думы:
— Затем мы остались — я, Рыжков и Харитонов — и еще два часа с Примаковым и его заместителями обсуждали ситуацию в стране. У Примакова была редкая возможность. Мы ему сказали, что завтра Ельцин отправит его в отставку, и просили рассмотреть сложившуюся ситуацию на совместном заседании Федерального собрания и правительства. К сожалению, правительству не хватило мужества это сделать. Мы пригласили их в Думу, но они не появились. А затем не появились и в Совете Федерации. Если бы тогда они решились, уверен, две палаты и правительство Примакова нашли бы выход…
Если бы законодатели и правительство обратились ко всем силовым ведомствам с совместным призывом соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации, уверял Зюганов, то ни один солдат, ни один генерал не выступили бы против законного правительства, поддержанного народом… Тогда была бы реальная возможность рассмотреть поправки к конституции и перераспределить полномочия, появилась бы стопроцентная возможность поставить правительство под контроль двух палат.
Почему же, спросили Зюганова, коммунисты, как они это обещали, не вывели людей на улицы в знак протеста против отставки Примакова?
— Это можно было сделать при одном условии. Если бы Примаков сказал: «Да, я приду в Думу» — и официально обратился к стране. А когда он сказал, что уходит в отставку, ситуация поменялась кардинально… Мы собрали Совет Федерации, но и там не хватило мужества честно оценить происходящее. Звать людей на улицы, когда сами отставляемые не делают и шагу навстречу Думе, — смысла нет…
Депутат того состава Государственной думы Владимир Лысенко тоже считал, что у Примакова был шанс изменить свою политическую судьбу и, может быть, судьбу страны:
«Авторитет Примакова был настолько велик, что если бы он в этот период не подчинился Ельцину, если бы он обратился к народу, то, я думаю, мы смогли бы пережить еще один сложнейший кризис в нашей стране и, возможно, с иным политическим результатом, чем получился после отставки Примакова. Но Евгений Максимович, как человек системы, привык подчиняться руководству, хотя в этом отношении, может быть, это был не самый лучший вариант его поведения».
Да, Евгений Максимович не был человеком, который во имя обиженного самолюбия способен устроить мятеж и сломать государственную машину.
— Ельцин хорошо знал политическую элиту, знал людей, с которыми имеет дело, и это помогало его интуиции, — говорил мне его бывший помощник Георгий Сатаров. — Вот пример — отставка Примакова. Если бы в тот момент я был помощником президента, я бы ему сказал, что ни в коем случае этого не надо делать. Нельзя трогать Примакова — будут большие потрясения. Я был в этом уверен на сто процентов. Он бы мне так же протянул бы руку: давай поспорим, что всё пройдет спокойно! И он оказался прав…
Ельцин рискнул и выиграл. Абсолютно непопулярный президент избавился от необыкновенно популярного премьер-министра, и ничего в стране не произошло — ни демонстраций, ни забастовок, ни массового возмущения! Примаков безмолвно ушел. Дума покорно проголосовала за нового премьер-министра Сергея Вадимовича Степашина.
Убрав Примакова, Ельцин нанес левым тяжелый удар. Они увидели, что президент абсолютно уверен в себе, но не могли понять почему, и растерялись. Поэтому и импичмент провалился. Кстати, и Примаков, и член КПРФ Маслюков неоднократно просили левое большинство в Госдуме отказаться от попытки импичмента, так как эта, к тому же несбыточная затея негативно влияла на положение правительства, на его отношения с президентом. Коммунисты потерпели катастрофическое для них поражение. Еще вчера громогласно говорили о полевении России, о том, что вся страна поддерживает коммунистическую оппозицию, и вдруг замолчали. Коммунисты даже не решились сопротивляться назначению Степашина на пост главы правительства, хотя ни у кого не было сомнений: Сергей Вадимович — президентский премьер, полностью ему преданный человек и единомышленник.
Отставка едва ли была для Евгения Максимовича неожиданностью. Примаков помнил незавидную судьбу всех своих предшественников и наверняка понимал, что президент его не очень любит. Хотя обставлен был его уход с должности отвратительно — люди, которых он, по существу, спас в критические дни осени 1998 года, даже не нашли в себе силы сказать положенное в таких случаях «спасибо».
Отставку Примакова одобрили всего два процента опрошенных. У многих в стране осталось ощущение, что с ним поступили непорядочно. Еще ни один глава правительства не уходил со своего поста в ореоле народной любви. Примаков поставил рекорд. И сменщик, надо отдать ему должное, не смотрел Евгению Максимовичу презрительным взглядом в спину, а говорил, что продолжит курс Примакова. Едва ли тогда Сергей Степашин предполагал, сколь краткий срок ему отмерен на посту главы правительства. И они оба не сознавали, чего именно хотят в Кремле.
Наверное, всё началось с того, что генерального прокурора России Юрия Ильича Скуратова попросили подать в отставку. Но лишь много позже, когда уже закончилась не только скандальная история бывшего генерального прокурора, но и завершилась вся эта запутанная интрига, стал понятен ее истинный смысл.
Юрий Скуратов стал четвертым по счету генеральным прокурором самостоятельной России. Ни один из четырех не снискал себе лавров на этом посту. Всех перепробовали на посту генпрокурора — и праведника, и грешника, и человека от сохи, и высоколобого профессора. Ни у кого не получилось. Один из них сам ушел в отставку, остальных выгнали. Не везет России с генеральными прокурорами.
Валентин Степанков, юрист из Перми, стал генеральным прокурором России в декабре 1990 года, когда еще существовал Советский Союз. Степанков втянулся в политическую борьбу и в момент яростного противоборства между парламентом и президентом сделал неверный выбор и потому утратил свой пост сразу после октябрьских событий 1993 года.
Вместо Степанкова назначили Алексея Казанника, юриста из Омска. Казанник известен тем, что когда-то уступил Ельцину свое место в Верховном Совете СССР. Стыдливый и застенчивый человек, Казанник продержался всего полгода.
Прекраснодушного Казанника сменил на диво практичный Алексей Ильюшенко, юрист из Красноярска и мастер спорта по вольной борьбе в полутяжелом весе. В 1993 году его поставили во главе контрольного управления президента. Он активно участвовал в политической борьбе президента Ельцина против вице-президента Александра Руцкого. Борьба эта велась сомнительными средствами. Но Ильюшенко отличился и был поставлен во главе прокуратуры. Совет Федерации его кандидатуру не утвердил. Он некоторое время исполнял обязанности, а потом его — молодого человека — отправили на пенсию.
А вскоре Алексея Ильюшенко арестовали. Два года он просидел в Лефортовском следственном изоляторе по обвинению в получении крупных взяток от руководителя нефтяной компании «Балкар-трейдинг» Петра Янчева. Предельный срок содержания Ильюшенко под стражей до суда истек в 1998 году. Выйдя из тюрьмы, он лег в больницу лечиться от туберкулеза. В прессе появились распечатки телефонных разговоров Ильюшенко со своим другом, хозяином нефтяной компании. Это были поразительные по откровенности разговоры. Если это не фальшивка, а запись подлинных разговоров, то понятно, почему было возбуждено уголовное дело, и совершенно непонятно, почему оно не было доведено до конца.
Предположения строились разные. Ильюшенко убрали с поста генерального прокурора перед началом второй избирательной кампании Бориса Ельцина. Президент тем самым показывал, что избавляется от коррумпированных чиновников. Но прошли годы, власть потеряла интерес к делу Ильюшенко и не знала, что с ним делать. Прокуратура должна была утвердить обвинительное заключение и передать дело в суд. Но заместитель генерального прокурора Василий Колмогоров направил дело на дополнительное расследование. А потом нашли повод, и дело вообще прекратили.
Кстати, уголовное дело по обвинению Алексея Ильюшенко в получении взяток возбудил его сменщик Юрий Ильич Скуратов, земляк Ельцина. Он трудился в Свердловске, потом его тоже перевели в ЦК КПСС.
Вадим Бакатин, став председателем КГБ, пригласил Скуратова на Лубянку консультантом. Генеральным прокурором Скуратова назначили с поста директора Научно-исследовательского института проблем укрепления законности и правопорядка. Ну, думали, этот не подведет — профессор, интеллигент. Но и со Скуратовым не получилось.
Первого февраля 1999 года генерального прокурора попросил приехать в Кремль глава президентской администрации и секретарь Совета безопасности генерал Николай Николаевич Бордюжа. На столе у него лежала обычная видеокассета с любительской записью сюжета, который вскоре станет знаменитым — голый человек, очень похожий на генерального прокурора, познает радости жизни под руководством опытных профессионалок. Удивительно, что эти истории происходили именно с главными законниками: то с министром юстиции, то с генеральным прокурором…
Когда появился Скуратов, Бордюжа показал ему эту кассету. Генеральный прокурор был потрясен и в тот момент, по словам Бордюжи, даже и не пытался отрицать, что на видеопленке запечатлен именно он.
Но как кассета попала к самому Бордюже? Запись, как выяснилось, была сделана годом ранее, в январе 1998 года. Кто ее передал в Кремль? Ну не почтальон же ее притащил… Кроме того, на кассете не портретная съемка, и вообще качество записи неважнецкое. Прежде всего следовало точно установить, кого именно снимали и при каких обстоятельствах, то есть провести профессиональную экспертизу.
Ни прокуратура, ясное дело, ни Министерство внутренних дел в этом не участвовали. Есть только одно ведомство, которому всё это под силу, — Федеральная служба безопасности. Как же должно действовать это ведомство, получив такого рода информацию? Я спросил об этом предшественника Путина на посту директора ФСБ генерала Николая Дмитриевича Ковалева.
— Мы проверяем информацию, — ответил Ковалев. — Основанием для взятия человека в проверку являются признаки преступлений, находящихся в компетенции ФСБ. Если информация подтвердилась, следует доклад президенту.
Но если речь идет о высокопоставленном лице, разве не обязана госбезопасность немедленно, еще до окончания проверки, которая потребует времени, сообщить президенту, что у одного из высших чиновников государства возникли серьезные проблемы?
— Мы не обязаны это делать и не делаем, — сказал тогдашний директор ФСБ, — потому что неизвестно, чем закончится проверка, а доклад президенту повлечет за собой, если пользоваться старой терминологией, некоторое поражение в правах. К человеку будут относиться с сомнением: на него что-то есть у ФСБ. Это абсолютно неправильно и незаконно. Я всегда старался этого избежать. Вот если есть документы, подтверждающие его вину, тогда следует докладывать президенту.
Когда возникло дело Скуратова, ФСБ уже возглавлял Путин. Владимир Владимирович с самого начала вошел в узкий круг людей, которые принимали важнейшие решения. Его предшественник на посту директора ФСБ не был допущен в этот круг, у Николая Ковалева не сложились личные отношения ни с президентом, ни с его ближайшим окружением.
После совместного просмотра кассеты Бордюжа, человек воспитанный и деликатный, сказал Скуратову:
— Я даже не знаю, как себя вести, какие слова подобрать для этого момента, но в этой ситуации вам лучше уйти.
Он посоветовал генеральному прокурору написать заявление об отставке. В принципе, если прокурор балуется с проститутками — за чужой счет, кстати, да еще позволяет, чтобы его фотографировали, то есть становится беззащитным перед элементарным шантажом, ему, конечно же, следует покинуть свой пост.
Но рискнул бы Бордюжа по собственной инициативе отправлять генерального прокурора в отставку? Не было у него таких полномочий. Значит, выполнял поручение? Тогда возникает другой вопрос: почему в Кремле решили избавиться от Скуратова?
Чем же Скуратов вызвал недовольство в Кремле?
Сам он полагает, что причиной стали слишком активные действия его подчиненных.
Его подчиненные занимались такими громкими делами, как злоупотребления при реставрации кремлевских помещений, чем ведало Управление делами президента (управляющим был Павел Павлович Бородин), сомнительные финансовые операции в «Аэрофлоте» (в этом обвинялись соратники Бориса Абрамовича Березовского), деятельность частной охранной компании «Атолл», которую обвиняли в незаконном прослушивании видных политиков.
Скуратов рассказывал, как за месяц до описываемых событий, в начале января 1999 года, пришел к главе правительства Примакову:
«Мы всегда общались с ним без всяких проблем, стоило мне поднять телефонную трубку, — он ни разу не отказал во встрече, всегда находил время. И всегда разговор с ним был очень откровенный, я всегда получал у него поддержку. А последняя встреча оставила какое-то невнятное ощущение. Словно бы Евгений Максимович что-то недоговаривал».
Скуратов сказал главе правительства:
— Я возбуждаю уголовное дело против Березовского.
— В связи с чем? — спросил Примаков.
— В связи с тем, что Березовский прокручивает деньги «Аэрофлота» в швейцарских банках. Прошу вашей поддержки, прежде всего политической.
Примаков ответил:
— Обещаю!
Когда швейцарский прокурор знаменитая Карла дель Понте не могла получить российскую визу, Скуратов позвонил Примакову:
— Евгений Максимович, будет большой ошибкой, если вы откажете госпоже дель Понте во въезде в Россию. Визит срывается.
— Впервые об этом слышу, — ответил Примаков, — сейчас свяжусь с Ивановым, узнаю, в чем дело.
Разговор с министром иностранных дел Игорем Сергеевичем Ивановым состоялся. Визу дали. Неукротимая Карла дель Понте привезла в Москву материалы, относящиеся к «Мабетек-су» (это швейцарская компания, которую наняло Управление делами президента для ремонта кремлевских помещений), компании «Андава» (дело «Аэрофлота»), «Меркате-трейдингу»…
Коллеги, впрочем, полагали, что генеральный прокурор слишком внимателен к политической конъюнктуре. Это были очень тяжкие месяцы для Бориса Ельцина. Будущее было совершенно неясно. На ключевой должности генерального прокурора — на случай всяких непредвиденных обстоятельств — хотелось иметь надежного союзника. Юрий Скуратов тоже не знал, как сложится будущее, и держался отстраненно, поэтому в Кремле не считали, что могут на него положиться.
«У Юрия Ильича редкостное чувство грядущих перемен, — вспоминал тогдашний министр юстиции. — Задолго до того, как былые соратники побежали с корабля „бесперспективного“ Ельцина, Юрий Ильич сделал выбор. Служить слабому, полагаю, он не станет ни при каких обстоятельствах».
Тогда в Кремле решили избавиться от Скуратова, пустив в ход кассету. Это были очень тяжкие месяцы для Ельцина. На ключевой должности генерального прокурора — на случай непредвиденных обстоятельств — хотелось иметь надежного союзника.
Обескураженный видеопросмотром Скуратов тут же, в кабинете Бордюжи, написал заявление об отставке:
«Уважаемый Борис Николаевич!
В связи с большим объемом работы в последнее время резко ухудшилось состояние моего здоровья (головная боль, боли в области сердца и т. д.). С учетом этого прошу внести на рассмотрение Совета Федерации вопрос об освобождении от занимаемой должности генерального прокурора РФ.
Просил бы рассмотреть вопрос о предоставлении мне работы с меньшим объемом».
Вернувшись домой, Скуратов решил взять тайм-аут и подумать. Он позвонил лечащему врачу и сказал, что ему нужно лечь в больницу. Для персон его ранга проблем нет — утром его ждали в Центральной клинической больнице Управления делами президента.
Ельцин тем временем подписал заявление Скуратова об отставке. Но Скуратов уже отказался от своего заявления и сказал Бордюже, что остается на должности генерального прокурора.
Скуратов вспоминал, как ему в больницу позвонил Примаков: «Человек умный, информированный, сам проработавший много лет в спецслужбе, он прекрасно понимал, что телефон прослушивается, поэтому не стал особенно распространяться и вести длительные душещипательные беседы».
Евгений Максимович, по словам генпрокурора, спросил:
— Юрий Ильич, надеюсь, вы не подумали, что я сдал вас?
— Нет!
— Выздоравливайте!
В Кремле рассчитывали, что Скуратов уйдет тихо — как в свое время министр юстиции Валентин Ковалев, которого сфотографировали во время такого же рода банных развлечений. Но министр Ковалев никому не был нужен, за него даже товарищи-коммунисты не вступились. А Скуратов перешел в контратаку, стал говорить, что его преследуют по политическим мотивам, не дают расследовать громкие коррупционные дела в президентском окружении. И у него тут же появились союзники.
Семнадцатого марта Совет Федерации обсуждал вопрос об отставке Юрия Скуратова с поста генерального прокурора. Сенаторы высказались против отставки. Кремль пошел ва-банк. Ночью по российскому каналу показали кустарно сделанный порнофильм. Видеопленка запечатлела, как человек, похожий на генерального прокурора, развлекается с профессионалками. Утром 18 марта Скуратова вызвали к Ельцину.
В палате президента присутствовали глава правительства Примаков (Борис Николаевич специально попросил его приехать) и директор Федеральной службы безопасности Путин.
Ельцин сказал Скуратову:
— В такой ситуации я с вами работать не намерен и не буду. Путин добавил:
— Мы провели экспертизу, Борис Николаевич, кассета подлинная.
Ельцин с нажимом:
— Надо написать новое заявление об отставке.
— Но Совет Федерации же только что принял решение, — возразил Скуратов.
— Пройдет месяц. На следующем заседании Совет Федерации рассмотрит новое заявление.
«В разговор включился Примаков, — вспоминал Скуратов. — Но он говорил мягко, без нажима — Евгений Максимович, как никто, понимал эту ситуацию, но понимал и другое: его пригласили для участия в этом разговоре специально, чтобы связать руки — ему связать, не мне, чтобы он потом не мог влиять на историю со мной с какой-то боковой точки зрения».
Примаков сказал:
— Юрий Ильич, надо уйти. Ради интересов прокуратуры. Да и ради своих собственных интересов.
Скуратов ответил, что напишет заявление, но дату поставит другую — 5 апреля, потому что следующее заседание Совета Федерации намечено на 6 апреля. Заявление осталось у Ельцина.
Вышли на улицу, и, по словам Скуратова, Примаков ему сказал:
— Юрий Ильич, вы знаете, я скоро тоже уйду. Работать уже не могу. Как только тронут моих замов — сразу уйду…
Второго апреля Скуратов был отстранен от исполнения обязанностей «на период расследования возбужденного против него уголовного дела». Скуратова перестали пускать в здание прокуратуры. Уголовное дело по части первой 85-й статьи Уголовного кодекса, где речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями, возбудила прокуратура Москвы — при очень странных обстоятельствах, ночью, в Кремле, куда внезапно вызвали первого заместителя городского прокурора Вячеслава Всеволодовича Росинского.
Исполняющий обязанности генерального прокурора Юрий Яковлевич Чайка заявил, что уголовное дело возбуждено правильно, хотя Московский городской суд придет к выводу, что прокуратура превысила свои полномочия и отменит постановление о возбуждении уголовного дела против Скуратова.
Дело Юрия Скуратова не имело, как говорят юристы, судебной перспективы, это было ясно с самого начала. Никто его, впрочем, судить и не собирался — его надо было убрать с должности генерального прокурора. Но доказательств, похоже, не хватало: всё та же видеокассета да еще четырнадцать костюмов, которые, как уверяет Скуратов, ему распорядился сшить сам президент, да еще бесплатно — то есть за счет налогоплательщиков. Но потом выяснилось, что костюмы прокурору подарил не заботливый президент, а хитрый заграничный бизнесмен. Скуратов, кстати, уверял, что хотел расплатиться. Сказал, что дал управляющему делами президента Павлу Бородину десять тысяч долларов. Это, между прочим, зарплата генерального прокурора за два года.
История с костюмами оставила, конечно, неприятный осадок. Трудно представить себе, что должность генерального прокурора может занимать человек, который позволяет себе принимать в подарок дюжину костюмов — бесплатно — и искренне считает, что он имеет на это право. Но в высших эшелонах власти творились дела и похуже. Почему именно со Скуратова начали?
Странным показалось и другое. Бывший министр юстиции Валентин Ковалев отчаянно защищался, уверяя, что съемки в бане — это фальшивка. Скуратов ни разу не сказал, что снимали не его. А ведь эта видеопленка, если она подлинная, действительно не позволяла ему оставаться на посту генерального прокурора. Любое его решение вызывало бы сомнение — а не шантажируют ли его? А не действует ли он под влиянием тех, кто владеет оригиналом этой пленки?
И чего может добиться какой-нибудь провинциальный прокурор, если ему, смеясь, в лицо говорят: твой генеральный ходит по девочкам и не отказывается от борзых щенков, то есть от костюмов… Чего же ты от нас хочешь?
Идеальный прокурор — это, видимо, однолюб и богатый человек. Он не должен участвовать в политике, чтобы быть абсолютно независимым от власти. Да разве это возможно? Генерального прокурора постоянно вовлекают в политическую борьбу и ставят перед жестким выбором: если ты не с нами, значит, ты против нас. И прокурор понимает, что ему не надо ссориться с властью, а стоит позаботиться о личных интересах — от получения квот на экспорт нефти до замечательно сшитых костюмов из импортного материала.
Двадцать первого апреля, в день, когда вновь рассматривалось заявление Скуратова об отставке, в Совет Федерации приехал Примаков.
«Евгений Максимович, — пишет Скуратов, — к сожалению, еле двигался, так допек его ревматизм, чувствовалось, что всякое движение доставляет ему боль — даже по глазам было видно, как трудно ему.
— Юра, — сказал Примаков. — Вам, наверное, надо уйти. Я понимаю — вы человек честный, всё воспринимаете обостренно, с позиций закона, но у вас грязное окружение. Вас обязательно подставят. Да и с самой прокуратурой происходит нечто невероятное. Прокуратуру трясет так, что как система она может развалиться.
С этим я был согласен».
Но заменить Скуратова своим человеком администрации долго не удавалось, потому что Совет Федерации никак не соглашался на увольнение Скуратова. Губернаторы надеялись, что он выдаст важные кремлевские тайны и поможет им в борьбе с Ельциным. Ничего важного Скуратов так и не поведал, чем напомнил незабвенных Гдляна и Иванова. Страна жаждала разоблачений, даже их требовала, но ни прославившиеся в горбачевские годы «узбекским делом» следователи, ни отставленный генпрокурор так ничего и не рассказали. Но скандал, крайне болезненный для Бориса Ельцина, разразился. Ответственность за провал операции со Скуратовым в Кремле возложили на Николая Николаевича Бордюжу. В апреле 1999 года его отправили в отставку. Так завершилась многообещающая карьера человека, на которого в окружении Бориса Ельцина делали крупную ставку.
Последние месяцы 1998-го и начало 1999 года были временем отчаяния и тревоги в жизни обитателей Кремля. Стало ясно, что президент Ельцин тяжело болен, и неизвестно, сколько времени он продержится.
В октябре 1998 года Борис Николаевич полетел в Узбекистан и Казахстан. Но чувствовал себя очень плохо. Прямо под прицелом телевизионных камер в аэропорту он едва не упал. Его удержал Ислам Каримов, президент Узбекистана. Поездку свернули, и президент досрочно вернулся в Москву. Врачи сообщили, что у президента трахеобронхит с высокой температурой. Но по Москве поползли слухи, что президент совсем плох, что у него развилась болезнь Паркинсона.
История болезни Бориса Ельцина в основном остается тайной. Но академик Евгений Иванович Чазов, руководитель кардиологического центра, в котором Ельцину делали операцию, пишет, что у Бориса Николаевича было пять инфарктов. Шестой мог стать смертельным. Чазов считает, что здоровье Ельцина было подорвано не только физическими и эмоциональными перегрузками, но и злоупотреблением горячительными напитками, а также неумеренным приемом успокаивающих и снотворных препаратов.
И страшная мысль: кто придет после него и как он себя поведет? — не покидала ни самого Ельцина, ни его окружение. Ведь тогда сильны были позиции тех, кто говорил, что президента надо судить за развал страны. И в устах некоторых политиков это звучало угрожающе.
В какой-то момент Ельцин, кажется, даже был готов передать государство Примакову. Евгений Максимович благоразумно отказался развивать эту тему. Да и Ельцин быстро понял, что Примаков слишком самостоятелен.
Идея подыскать преемника самому казалась разумной. Но кого выбрать? Эскизный портрет преемника набросать было несложно: молодой, энергичный, располагающий к себе, желательно из военных, из тех, кто в политике недавно и еще не успел примелькаться. Такие качества, как верность и надежность, обязательны. Он должен хранить верность своему крестному отцу в политике и после того, как сменит его в Кремле.
Первым на этот пост и опробовали Николая Николаевича Бордюжу. Казалось, он подходит идеально. Из военной семьи, двадцать лет прослужил в военной контрразведке КГБ, занимался кадрами, политико-воспитательной работой, потом в ФАПСИ — Федеральном агентстве правительственной связи и информации и в пограничных войсках.
Дорогу наверх ему расчистил генерал армии Андрей Николаев, который, не согласившись с Ельциным, по принципиальным соображениям ушел в отставку с поста начальника Федеральной пограничной службы. Вместо Николаева назначили Бордюжу. Он стал регулярно приходить в Кремль и многих буквально очаровал. Худощавый, подтянутый, улыбчивый — военная косточка, спокойный, внимательный, умеет ладить с людьми. Чем не кандидат в преемники?
В сентябре 1998 года нового ельцинского фаворита сделали секретарем Совета безопасности, а в декабре еще и поставили во главе президентской администрации. Такой концентрации власти не было ни у кого из кремлевских администраторов. Даже у Анатолия Чубайса, когда он возглавлял президентский аппарат, потому что ему приходилось вести незримую войну с секретарем Совета безопасности Александром Лебедем. А Бордюжа стал одновременно и Чубайсом, и Лебедем.
Генерала призвали в Кремль в тот момент, когда Ельцин был очень слаб и левая оппозиция требовала его отставки.
В книге «Президентский марафон» мотивы назначения Бордюжи изложены весьма откровенно:
«Легко стучать кулаком по думской трибуне, в очередной раз “отправляя в отставку” ненавистного Ельцина, выводить на площади колонны демонстрантов под красными флагами, когда он лежит в больнице.
Труднее это сделать, когда рядом с президентом возникает фигура генерал-полковника, который одновременно совмещает две важнейшие государственные должности — и главы администрации, и секретаря Совета безопасности».
Ельцин и его окружение надеялись, что молодой генерал-полковник станет им надежной защитой. Бордюжа, условно говоря, был Путиным номер один. Но исполнительный и доброжелательный офицер оказался непригодным к этой работе. Он не только не разобрался в сложнейших кремлевских интригах, но и не проявил к ним ни малейшего интереса и склонности. Он либо совершенно не понял, чего от него ждут, либо не желал этим заниматься. Не проявил генерал и других искомых качеств — беспредельной жесткости и твердости. Не хватило ему, видимо, и политического кругозора. Ельцин в Бордюже разочаровался.
К тому же Бордюжа еще имел несчастье тесно сотрудничать с Примаковым, которого уважал и которого в Кремле многие ненавидели и боялись. На совещании в администрации Николай Николаевич сказал:
— Активизация позитивных ожиданий у населения после формирования нового правительства во многом связана с именем Примакова — прагматика и человека дела.
Об этих словах главы администрации, о контактах Примакова и Бордюжи соответствующим образом докладывали президенту.
Ельцин в своей книге объяснил, что к чему:
«Я вызвал Юмашева и сказал:
— Валентин, а вы уверены, что нет ошибки? Что-то я не чувствую Бордюжу.
Юмашев удивился. Внешне всё шло гладко. Бордюжа старался изо всех сил, пытался стать командным человеком. Но я с самого начала видел — с ним что-то не то.
Позднее мне стало ясно, что же происходит с Бордюжей. Офицер, сделавший прекрасную карьеру в строгой военной системе, он плохо понимал устройство современной политической жизни, не улавливал ее тонких нюансов, не замечал подводных течений. Вся работа главы администрации была, с его точки зрения, нелогичной, нерегламентированной, странной. И он растерялся… Единственным, с кем Бордюже было комфортно, оказался Евгений Максимович Примаков».
Девятнадцатого марта 1999 года Ельцин позвонил Бордюже, который в результате всех переживаний попал в больницу:
— Николай Николаевич, я принял решение разъединить должности секретаря Совета безопасности и главы администрации, так как считаю, что совершил ошибку, объединив эти должности. На пост главы администрации думаю назначить Волошина, а вас оставить на посту секретаря Совета безопасности.
Бордюжа поблагодарил и отказался от должности:
— Это решение не ваше, а навязанное вам вашей дочерью Дьяченко по рекомендации группы лиц. Причина этого кроется не в ошибочности объединения двух должностей, а в том, что я инициировал снятие Березовского с поста исполнительного секретаря СНГ и отказался участвовать в кампании по дискредитации Примакова и его правительства. Остаться работать в Кремле — значит принимать участие в реализации тех решений, которые вам навязывают Дьяченко, Юмашев и другие…
Положив трубку, Бордюжа записал разговор и передал его содержание Примакову.
В тот же день вечером Николай Николаевич потерял обе должности. Евгений Максимович удивленно спросил президента:
— Борис Николаевич, зачем вы Бордюжу уволили?
Президент ответил коротко:
— Не справляется.
Бордюжа поехал послом в маленькую Данию, потом получил назначение генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности, должность эта полувоенная, полу-дипломатическая, но во всяком случае далекая от власти…
С чем именно не справился Бордюжа, стало ясно, когда выяснилось, что на посту руководителя администрации его сменил широко известный в узких кругах экономист Александр Стальевич Волошин, который находился в контрах с Примаковым. По указанию президента Александр Стальевич позвонил Примакову:
— Евгений Максимович, это Волошин. С сегодняшнего дня президент назначил меня главой администрации.
Примаков понял этот демонстративный звонок так: администрация президента начинает борьбу с главой правительства. На Волошина обратили внимание в Кремле после августовского финансового кризиса.
Татьяна Дьяченко, дочь Ельцина, в газетном интервью говорила о Волошине:
«На работе он напоминает какую-то сложную, хорошо отлаженную, не знающую усталости машину. Я иногда просто не понимала, как он выдерживает. Вот идет подготовка послания президента к Федеральному собранию: папа звонит в два часа ночи, в четыре ночи, когда угодно — и он бодрым голосом отвечает. Волошин до двух ночи непрерывно работал, в четыре его папа поднимал, давал задания, а в восемь утра он уже снова на работе».
В советские времена Волошин работал в отделе исследований текущей конъюнктуры Всесоюзного научно-исследовательского конъюнктурного института. Этот институт обслуживал Министерство внешней торговли, и его сотрудники хорошо представляли себе механизм работы западной экономики.
После перестройки Волошина приметил Борис Березовский. Александр Стальевич трудился у Березовского в ЛогоВАЗе, занимался ценными бумагами. Потом занялся чековыми инвестиционными фондами, приватизационными аукционами и тендерами. Газеты прямо обвиняли его в соучастии в уводе из бюджета многих миллионов долларов.
Считается, что Березовский и привел Волошина в администрацию президента. Рассказывают, впрочем, что, когда отношение к Березовскому в Кремле изменилось, Волошин перестал узнавать своего бывшего покровителя.
А директор ФСБ Владимир Путин 29 марта 1999 года получил второй пост — секретаря Совета безопасности. Один из бывших коллег Путина уверял меня, что Владимир Владимирович задолго до увольнения Евгения Примакова с поста премьер-министра точно назвал день, когда это произойдет. Коллега возразил:
— Этого нельзя делать, ведь тогда Дума объявит президенту импичмент!
Путин уверенно сказал:
— Не беспокойся.
Угол поиска у Ельцина сузился. Борис Николаевич подбирал людей определенного склада: офицер Бордюжа, офицер Степашин, офицер Путин. В какой-то момент мелькнуло еще одно имя — министр иностранных дел Игорь Иванов. Он из военной семьи, окончил Суворовское училище, сохранил офицерскую выправку. Иванова прощупали по поручению Ельцина. Игорь Сергеевич категорически отказался возглавить правительство и не захотел отречься от Примакова.
Время уходит катастрофически быстро, а окончательный выбор всё еще не сделан. В полуфинал выходят двое — генерал Степашин и путейский генерал Аксененко, министр железнодорожного транспорта. У каждого свои достоинства.
Сергей Вадимович Степашин тоже военный человек, достаточно молод, предан Ельцину, надежен. Известно, что он своих не выдает. Николай Емельянович Аксененко — новый человек, и это плюс. Он всю жизнь проработал на железной дороге, чистый хозяйственник. Политикой не занимался, ни в депутаты, ни в губернаторы не баллотировался.
Степашина президент знал давно. Преподаватель Высшего политического училища МВД полковник Степашин в 1990 году выиграл выборы в Ленинграде на демократической платформе и стал народным депутатом РСФСВ В российском Верховном Совете Степашин возглавил Комитет по обороне и безопасности, вошел в президиум Верховного Совета. Он всегда поддерживал Ельцина, и Борис Николаевич обратил на него внимание. В 1994 году Степашин получил пост директора Федеральной службы контрразведки.
Но его карьеру погубил буденновский рейд Шамиля Басаева. Степашин принял на себя ответственность за провал спецслужб и гибель людей и подал в отставку. Четыре месяца сидел без работы. Он уже думал заняться преподаванием, благо докторская диссертация защищена. Но о нем вспомнил тогдашний первый вице-премьер Олег Сосковец и, заручившись поддержкой Виктора Черномырдина, предложил ему номенклатурную, хотя и невидную должность начальника административного Департамента аппарата правительства в ранге первого заместителя министра.
Степашин согласился. Ему поручили заниматься Чечней. Но когда генерал Александр Лебедь в 1996 году стал секретарем Совета безопасности и помощником президента, он отставил Степашина от чеченских дел, которыми занялся сам.
В газетном интервью Степашин говорил с уважением о незаменимом опыте работы в аппарате правительства. Есть такие нюансы, тонкости, о которых, даже будучи министром, не узнаешь. Это всё еще пригодится, заметил Сергей Вадимович, и не ошибся… Его опыт, кстати, показывает, что никогда не надо отчаиваться.
Летом 1997 года разразился скандал из-за министра юстиции Валентина Ковалева, который развлекался в бане с профессионалками и позволил заснять эти развлечения на видеопленку. Владимир Путин, уже работавший тогда в администрации президента, предложил кандидатуру Степашина, которого хорошо знал по Ленинграду. Он сам позвонил Степашину:
— Сергей, надо встретиться.
Разговор происходил в парке возле Белого дома. Путин прямо сказал:
— Ковалев ушел. Почему бы тебе не стать министром юстиции? У тебя опыт. К тому же ты доктор юридических наук.
Степашин ответил, что с удовольствием станет министром, а то надоело бумажки носить по коридорам Белого дома. Поинтересовался:
— А как отнесется президент?
— Не знаю, что получится, — уклончиво ответил Путин, — но я готов тебя поддержать.
Через два дня Степашина вызвал Черномырдин и официально предложил возглавить Министерство юстиции. Назначение не всем понравилось. Но вскоре его деятельность стали оценивать положительно. До Степашина Министерство юстиции считалось второразрядным. Сергей Вадимович с его административным даром и нерастраченной энергией сразу же стал заметным. Он хотел показать, что справится с любой должностью. Министерство получило большие полномочия. В частности, он добился передачи тюрем и колоний из МВД в Министерство юстиции.
Весной 1998 года вслед за Черномырдиным в отставку отправили министра внутренних дел Анатолия Куликова. Это было неожиданностью для всех, прежде всего для самого министра, который стал генералом армии, вице-премьером и считал, что Ельцин у него в долгу хотя бы за операцию против Лебедя. Но в Кремле считали, что Куликов придерживается ястребиных взглядов, недостаточно гибок и не улавливает настроений президентской команды. А на такой должности нужен свой человек.
Кем его заменить? Вспомнили о Степашине.
Его вытащили прямо из-за праздничного стола и вызвали в Кремль. Глава президентской администрации Валентин Юмашев сказал, что Борис Николаевич предлагает Степашину возглавить Министерство внутренних дел. Сергей Вадимович сказал, что он и в Министерстве юстиции совсем недавно и неудобно так быстро менять место работы. Юмашев выслушал Степашина и обещал передать его слова президенту. Это была суббота, а в понедельник утром его вызвал президент. Борис Николаевич был крайне любезен и тут же подписал указ о назначении Степашина. Юмашев отвез его в министерство и представил членам коллегии.
Степашин оказался первым министром внутренних дел, которого почти не критиковали. Он вел себя активно и разумно. Расставил на ключевые должности профессионалов с большим опытом оперативной работы. Проводил масштабные операции по очистке отдельных территорий от преступных элементов и нещадно боролся с преступниками в собственном ведомстве. Возможно, это был лучший министр внутренних дел за последние годы. И тут Ельцин еще раз к нему пригляделся и решил, что надо бы попробовать Степашина в роли премьера.
Двенадцатого мая 1999 года Степашин выступал на Высших академических курсах МВД, где повышали квалификацию руководящие сотрудники местных аппаратов. Он призывал своих подчиненных к смелости:
— За каждым из вас стоит и министр, который никогда никого не бросит и никого не предаст.
Ельцин до последнего момента колебался и не знал, кого предпочесть — Степашина или министра путей сообщения Николая Аксененко. Сначала Ельцин вроде бы остановился на Аксененко и даже назвал его фамилию в телефонном разговоре с председателем Государственной думы Геннадием Селезневым. А потом всё-таки прислал в Думу письмо с просьбой одобрить кандидатуру Степашина. Селезневу оставалось только развести руками:
— У нашего президента семь пятниц на неделе.
Николай Аксененко, говорят, чисто внешне приглянулся Ельцину. Он симпатизировал высоким, статным мужикам с рабочей биографией, которые так напоминают его самого в молодости. По этой причине в Кремле пользовались особым расположением Владимир Шумейко, который был вице-премьером и председателем Совета Федерации, Павел Бородин, управляющий делами президента…
Рассказывают, что в последний момент к Ельцину прорвался Чубайс и переубедил, сделав акцент на достоинства Сергея Степашина: молод, предан, надежен.
Задним числом Ельцин уверял, что изначально брал Степашина на очень короткий срок:
«Да, уже внося кандидатуру Степашина, я знал, что сниму его. И это знание тяжким грузом висело на мне. Честно говоря, чувство страшноватое… Я знаю это чувство — когда посреди разговора, посреди обычной встречи вдруг как черная тень по комнате пробежит. Предрешенность того или иного поступка, той или иной политической судьбы дает о себе знать постоянно. И ты вынужден держать эту ношу, не выпускать наружу свои мысли».
Едва ли это было так. Ельцин подбирал себе наследника, и каждому из возможных кандидатов он давал равный шанс. Степашин фигурировал в этом списке, и ему тоже позволили себя проявить на посту председателя правительства. Следующим в списке, надо понимать, значился Аксененко. Вот поэтому Сергей Степашин при назначении услышал мало вдохновляющее напутствие:
— Надо еще посмотреть, как у вас получится…
Иначе говоря: пока побудешь премьер-министром, но, если не справишься, тебя сменит Николай Емельянович.
А в разговоре с Аксененко Ельцин, видно, произнес нечто утешительно-обещающее:
— Вы будете первым заместителем главы правительства, единственным первым замом и будете заниматься всем. Поработайте немного на этой должности, а потом…
На новичка в политике Аксененко интимное общение с президентом и такие громкие слова, видимо, произвели неизгладимое впечатление. Неискушенный в кремлевских интригах, Аксененко с прямотой и решительностью путейского генерала взялся проводить слова Ельцина в жизнь.
Николаю Аксененко было пятьдесят лет. Он окончил Институт инженеров железнодорожного транспорта и Академию народного хозяйства. Всю жизнь проработал на железной дороге.
Бывший первый вице-премьер Борис Немцов говорил мне:
— Это я предложил его сделать министром. Аксененко в своей области талантливый человек. Поставил дело. Он жесткий руководитель, у него дисциплина. Николай Емельянович в семь утра начинал летучки в Белом доме, где не привыкли собираться раньше девяти часов…
Дебют первого вице-премьера Аксененко произвел на публику невыгодное впечатление. Он с трудом формулировал свои мысли, зато громогласно заявлял, что будет заниматься решительно всем, даже тем, что входит в обязанности главы правительства. Николай Емельянович вел себя так, словно не Степашин, а он премьер, и преспокойно отменял распоряжения главы правительства.
Скоро станет ясно, что Николай Емельянович на премьера не тянет. Но Степашин-то оказался в неудачном и неприятном положении.
Сергей Степашин однажды произнес ключевую фразу: «Я пришел с этим президентом, я с ним и уйду». Но одной только искренней преданности президенту оказалось недостаточно, чтобы остаться на посту главы правительства.
Много ли сделает премьер-министр, если ему в затылок жарко дышит дублер и тикают часы, неумолимо отсчитывая отведенное ему время? Степашин давно бросил курить, но когда стал главой правительства, как он сам говорит, «сорвался и выкуривал по две пачки в день».
Еще никогда общество не видело, чтобы администрация президента так откровенно командовала правительством, решала, кому быть министром, а кому нет. Именно в тот момент стало понятно, что все важнейшие кадровые решения в стране принимает узкая группа лиц, не наделенная никакими государственными полномочиями. Тогда и возник термин «семья», обозначавший окружение Ельцина, которое обрело самостоятельность и проводило свою политику.
Ельцина страна когда-то поддержала как человека, выступившего против привилегий, готового разделить с людьми тяготы их жизни. А кончилось это святочным рассказом перед телезрителями о том, что жена будто бы жарит ему котлеты, купленные в магазине, чему уж точно никто не поверил, и красивой жизнью его окружения, которое даже не стеснялось демонстрировать свое процветание. Вот это, наверное, больше всего отвратило людей от Ельцина.
Да сможет ли Степашин, даже лишенный права подобрать себе заместителей, нормально работать? — Многие тогда задавались этим вопросом.
Борис Немцов говорил:
— Мы когда работали в правительстве, то вместе с Чубайсом спорили, конечно, с Черномырдиным, но всё-таки не претендовали на его кресло. По закону министров предлагает глава правительства. А тут дурацкая история. Если Татьяна Дьяченко хочет работать в правительстве, пусть идет…
Вместе с тем Сергей Степашин с такой легкостью прошел утверждение Думой, что далекие от кремлевских интриг люди задумались о том, каким будет его следующий политический пост — а не станет ли он баллотироваться в президенты? — и заранее подсчитывали его шансы на победу…
И даже неуемный Борис Березовский завел речь о будущих президентских выборах. Степашин сказал, что пока перед собой такую задачу не ставит. Березовский, который не понимал вялых и мнительных, призвал премьера быть более решительным:
— Чего ты волнуешься? За три месяца я гориллу выберу президентом.
Сергей Степашин прислушался и попытался сформировать свою партию. Придумал для нее название — «Клуб губернаторов». Почти полсотни губернаторов были готовы его поддержать. Летом 1999 года восемнадцать региональных лидеров собрались в кабинете главы президентской администрации Александра Волошина и прямо сказали:
— Мы готовы «выстроиться» под Степашина, но долго ли он пробудет премьером?
Волошин, который уже знал, что вскоре произойдет, им ничего не ответил.
Степашин привел губернаторов к президенту. Они задали Ельцину тот же вопрос:
— Надолго ли правительство?
И снова никакого ответа.
Это был дурной знак. Примакову сулили еще более блистательное будущее, а он и года не пробыл на посту премьера. Так что и Степашин, говорили скептики, возможно, не станет последним премьер-министром президента Ельцина. Сергей Вадимович старался честно исполнять свои обязанности и в первые же дни успел завоевать симпатии в обществе. Когда все видели, что ему ставят палки в колеса, навязывают не очень достойных министров, это вызывало ненависть к кремлевской администрации. Со Степашиным, искренне преданным президенту Ельцину, вели себя столь пренебрежительно, будто хотели от него отделаться. Зачем тогда назначали?
Борис Немцов:
— Обидно, когда Степашина вынуждают говорить, что он хозяин. Это крик отчаяния. Я не понимаю, почему в Кремле топят честного человека. Можно подумать, у них в резерве есть кто-то еще…
Борис Ефимович как в воду смотрел. Сергея Степашина сменили на Владимира Путина. Степашин продержался в Белом доме всего три месяца, точнее — восемьдесят два дня. Чем же Степашин не угодил Ельцину?
Ельцин и его окружение были недовольны тем, что Степашин не в состоянии помешать Юрию Лужкову заниматься политикой, формировать свою партию, устанавливать контакты с другими губернаторами, завоевывать симпатии избирателей. Московский мэр воспринимался Кремлем как главная опасность на будущих выборах, на борьбу с ним были мобилизованы все силы.
Ельцин недовольно говорил Степашину:
— Ведь это же очевидно, Сергей Вадимович. Нужно создать твердый центр власти, собрать вокруг себя политическую элиту страны. Проявите решимость, попробуйте перехватить у них инициативу.
Но Степашин не помешал Лужкову.
Рано утром 5 августа Ельцин вызвал к себе Путина:
— Я принял решение, Владимир Владимирович, и предлагаю вам пост премьер-министра. Вы примерно представляете, почему я вынужден отставить вашего предшественника. Я знаю, что Степашин ваш друг, тоже петербуржец, но сейчас нужно думать о другом. Ваша позиция должна быть твердой.
— На кого будем опираться на выборах? — деловито поинтересовался Путин.
— Не знаю, — ответил Ельцин, — будем строить новую партию. Но главное — ваш собственный политический ресурс, ваш образ.
У Путина был опыт политической борьбы в Санкт-Петербурге. Неудачный. Он принимал участие в предвыборной кампании Анатолия Собчака, и тот проиграл выборы. Путин признался:
— Предвыборной борьбы не люблю. Очень. Не умею ею заниматься и не люблю.
— А вам не придется этим заниматься, — утешил его Ельцин. — Главное — ваша воля, уверенность в себе. Вы готовы?
— Буду работать там, куда назначите, — сказал Путин.
Президент сказал Владимиру Владимировичу, что ему придется не просто сменить Степашина, но действовать предельно жестко. Теперь Ельцин мог распрощаться со Степашиным. Эта сцена тоже описана в «Президентском марафоне». Борис Николаевич вызвал в кабинет Степашина и Волошина. Степашин, уловив, о чем пойдет разговор, разволновался, покраснел.
— Сергей Вадимович, сегодня я принял решение отправить вас в отставку, — сказал Ельцин. — Буду предлагать Владимира Владимировича Государственной думе в качестве премьер-министра. А пока прошу вас завизировать указ о назначении Путина первым вице-премьером.
— Борис Николаевич, — с трудом выговорил Степашин, — это решение… преждевременное. Я считаю, это ошибка.
— Сергей Вадимович, но президент уже принял решение, — заметил железный Волошин, желая поскорее избавить Ельцина от неприятных объяснений.
Степашин, не взглянув на главу администрации, обратился к президенту:
— Борис Николаевич, я очень вас прошу… поговорить со мной наедине.
Ельцин кивнул, Волошин вышел, и они остались один на один. Сергей Вадимович говорил в основном о своей верности президенту:
— Я всегда был с вами и никогда вас не предавал.
Но Ельцин уже принял решение, хотя и выдавил из себя:
— Хорошо, идите, я подумаю.
Когда Степашин ушел, Ельцин вызвал Волошина:
— Несите указы! И сами скажите Степашину об отставке. Я с ним встречаться больше не буду.
Волошин резонно ответил:
— Вы лучше меня знаете, что только президент может говорить премьер-министру об отставке.
А Степашину показалось, что он сумел переубедить президента, снять все его замечания и развеять сомнения. Разговор с президентом, по словам самого Сергея Вадимовича, получился «просто замечательный». Ни сам Степашин, ни люди со стороны, даже очень искушенные политики, не подозревали, что замена ему найдена.
«Степашин слишком мягок, — говорится в последней книге Ельцина. — Я не уверен в том, что он будет идти до конца, если потребуется, сможет проявить ту огромную волю, огромную решительность, которая нужна в политической борьбе…»
Вот этого никто, кроме Ельцина, не уловил: Степашину не хватает характера. Властители такой страны, как наша, делаются из другого, куда более жесткого материала.
Степашин говорил:
— Я не Пиночет.
Вот поэтому с ним и расстались.
Уже потом Степашин откровенно скажет журналистам, что разговоры о возможности, находясь во власти, оставаться порядочным — это чепуха. Надо быть абсолютно циничным человеком.
— Я никого обслуживать никогда не хотел, меня никто никогда не покупал. Не всё же продается и не всё же покупается в нашей стране… Ошибка это или не ошибка, но меня просто нельзя переделать. Я не стал обслуживать интересы определенной группы, которая посчитала, что в этой ситуации я ненадежен.
Степашин признавался журналистам, что у него есть одна слабость как у политика:
— Я доверяю людям. За неделю до снятия ко мне в гости приезжала, как говорится, группа товарищей. Жена приготовила ужин. Всё было замечательно, а потом они же меня снимали. И ведь они в тот момент уже об этом знали, понимаете? Хотя бы сказали по-дружески!.. Не пришло еще время таких, как я. В очках, да еще и улыбается… Не пришло пока. Березовский так прямо мне и сказал: «Быдлу сейчас нужен Лебедь. А твое время еще не пришло…»
Борис Березовский тоже ошибся. Настало время не Александра Ивановича Лебедя, а Владимира Владимировича Путина.
Скоро станет ясно, что на сей раз Ельцин не промахнулся. Он нашел того, кого столько времени искал. История, которая началась с увольнения генерального прокурора, завершилась. Множество людей, мечтавших стать президентом, остались у разбитого корыта. Впервые главой России стал человек, который этого совершенно не ожидал.
И Бордюжа, и Степашин были искренне расстроены и потрясены тем, что с ними так обошлись. Они не понимали, что механизмы власти не учитывают человеческих чувств. Действует только один принцип — политическая целесообразность. Как только человек перестает быть нужным, с ним расстаются без колебаний и даже не говорят на прощание «спасибо».
Путин, как говорится в книге «Президентский марафон», понравился Ельцину «холодным взглядом и военной точностью формулировок». Владимир Владимирович — в отличие от своего предшественника — не смущался и не краснел, было ощущение, что он «готов абсолютно ко всему в жизни, причем ответит на любой вызов ясно и четко». И главное — его не смущали постоянные столкновения президентского окружения с Примаковым и Лужковым.
А обнадеженный Степашин — еще в роли премьер-министра — отправился в поездку по стране. В эти дни началось вторжение чеченских боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба в соседний Дагестан. Казалось, вот-вот заполыхает весь Северный Кавказ. В воскресенье премьер-министр прилетел в Махачкалу, оттуда позвонил президенту, получил санкцию на ведение военных действий против боевиков, прорвавшихся в Дагестан. Вернулся в боевом настроении в Москву, а на следующий день, 9 августа, в понедельник, рано утром Ельцин отправил его в отставку.
На сей раз разговор был очень коротким. В восемь утра на президентской даче в Горках собрались всё те же — Степашин, Аксененко, Волошин и Путин.
Ельцин сразу сказал:
— Сергей Вадимович, я подписал указы о назначении Путина первым вице-премьером и о вашем уходе в отставку. Прошу завизировать.
Для Степашина это был тяжелый удар. Он-то считал, что гроза миновала, и сначала отказался визировать указы. Но, поколебавшись, вынужден был поставить свою подпись.
— Из уважения к вам, Борис Николаевич, — сказал он.
На прощание Борис Николаевич, как всегда многозначительно, сказал бывшему премьер-министру:
— Сергей Вадимович, мы с вами остаемся в одной команде.
Президент произносил эту фразу всякий раз, когда с кем-то расставался. Но каждый увольняемый слышал ее впервые и испытывал благодарность к Ельцину. Так и Степашин искренне ответил:
— Борис Николаевич, я ни в какой другой команде не состою, а с вами я остаюсь — это факт. — Добавил, как положено офицеру: — Честь имею!
Приехав в Белый дом, Степашин, прощаясь с министрами, сказал очень достойные слова. Телевидение это снимало, видно было, что он никак не ожидал отставки и потрясен, переживает, чрезвычайно расстроен, еле сдерживается, чтобы не дать волю своим эмоциям. Он рассказывал, как рано утром его вызвал президент Ельцин, поблагодарил за работу… и отправил в отставку.
При этом Степашин произнес:
— Я был, есть и буду с президентом — до конца. Я благодарен ему за то, что он меня, мальчишку, ввел в большую политику.
Когда Ельцин снял с должности Степашина — без причин, без объяснений, — реакция общества была возмущенно-презрительной: да что же президент опять творит? Совсем опозорился. Почему Ельцин сместил Примакова — понятно: Евгения Максимовича трудно назвать единомышленником президента. Но Степашин всегда был исключительно предан Ельцину. Неужели его убрали из-за того, что в роли премьер-министра и Сергей Вадимович показался излишне независимым? Он вел себя самостоятельно, оспаривал кадровые назначения, на которых настаивала президентская администрация, очень успешно съездил в Соединенные Штаты, где произвел хорошее впечатление.
В реальности были и другие причины, определившие его отставку, но о них мы узнаем позднее. Борис Ельцин своим указом ввел в состав кабинета министров должность третьего первого заместителя премьер-министра, назначил на этот пост Владимира Путина, поручил ему временно исполнять обязанности главы правительства и направил в Думу письмо с просьбой дать согласие на назначение Путина главой правительства.
Владимир Владимирович стал третьим подряд — после Примакова и Степашина — руководителем спецслужб, добравшимся до кресла главы правительства.
За три дня до назначения в правительство Путин похоронил отца — Владимира Спиридоновича. Путин-старший почти два года провел в онкологической больнице. Он лег в больницу одновременно с женой, но Мария Ивановна вскоре умерла. Владимира Спиридоновича лечили от радикулита, а оказалось, что он поражен раком, который уже дал метастазы. Онкологи продлили ему жизнь на полтора года. Он вновь смог ходить. Сын прилетал к нему почти каждую неделю, навешал. Но Владимир Спиридонович так и не успел порадоваться за сына…
Родителей Путина похоронили на Серафимовском кладбище, где потом найдут вечное упокоение моряки затонувшей подводной лодки «Курск». Несмотря на смерть отца, Владимир Владимирович в первый премьерский день держался спокойно.
Выступая по телевидению по случаю назначения Путина премьер-министром, Борис Ельцин уверенно сказал:
— Ровно через год будут президентские выборы. И сейчас я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России. Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом XXI веке предстоит обновлять великую Россию. Это секретарь Совета безопасности, директор Федеральной службы безопасности Владимир Владимирович Путин…
Нового премьер-министра Владимира Путина никто всерьез не воспринял. Казалось, пришел еще один калиф на час, думали: ну и этого через неделю-другую уберут. До выборов всё равно придется терпеть ельцинские трюки…
Средства массовой информации встретили назначение Путина скорее с недоумением.
«Объявлять мало известного стране руководителя сил безопасности Владимира Путина, — удивлялась “Парламентская газета”, — человека, похоже, умного, но сугубо военного, лишенного не только харизмы, но и опыта управления делами государства, своим официальным преемником иначе как очередной причудой президента назвать нельзя».
«Как известно, Б. Ельцин всегда отдавал предпочтение политикам большим и сильным, с кулаками, плечами и чтоб голос гремел, — отмечали “Аргументы и факты”. — В. Путин по типажу абсолютно выбивается из круга президентских любимчиков. Небольшого роста, лысоватый и вообще какой-то незаметный».
«Ни один чиновник не доставил журналистам столько проблем, сколько Владимир Владимирович Путин, — писала «Комсомольская правда». — ВВ, как его называли в Питере, относится к тем людям, про которых известно лишь то, что они пожелают рассказать сами».
«Он очень нравится женщинам: голубоглазый, спортивный, — сообщал журнал “Профиль”. — Голубые глаза, видимо, действовали на женщин Смольного гипнотически, и, несмотря на путинские залысины, они до сих пор называют его блондином. Когда Собчак проиграл выборы и Путин прощался с коллективом, женщины плакали».
Анатолий Чубайс считал, что назначение Пугина — ошибка. Депутаты его не утвердят, тогда Ельцину придется распустить Думу. А на выборах победят злейшие враги Бориса Николаевича — коммунисты в компании с Примаковым и Лужковым…
Александр Волошин же отстаивал иную точку зрения: депутаты недооценивают Путина, они сочтут его слабым кандидатом и утвердят кандидатуру. При голосовании в Думе 16 августа 1999 года Путин набрал всего двести тридцать три голоса — меньше всех своих предшественников. Это была унизительно маленькая цифра. Слова Ельцина в поддержку Путина всерьез никто не воспринимал.
В конце августа 1999 года Наина Иосифовна Ельцина рассказывала корреспондентам:
— Это просто глупо думать, что президент снимает премьер-министра, потому что на него кто-то влияет. Это было (назначение Путина. — Л. М.) абсолютно продуманное решение. Сейчас его трудно объяснить, но пройдет некоторое время, и все поймут, что решение было правильным…
Сам Путин причины собственного выдвижения объяснял просто:
— Московская политическая элита сама себя истребила в непрекращающейся борьбе то ли за власть, то ли за имущество. Так что выбор был невелик.
Когда Путин возглавил правительство, закончилась, собственно, эпоха Ельцина. Ни мы, ни он сам об этом еще не подозревали. Но в тот день, когда удивленная и раздраженная страна узнала, что появился новый глава правительства, началась эпоха мало кому известного Путина.
На Путина обратили внимание в стране, когда он возглавил Федеральную службу безопасности. Отметили, что он сохраняет хладнокровие, не выходит из себя, не повышает голоса, не допускает оплошностей. Он тверд, но старается ни о ком плохо не говорить. По характеру жесткий и резкий. Очень точен и настойчив в достижении цели. С юмором и хорошей реакцией. Несколько высокомерен и чуть-чуть кокетлив.
Путин держался крайне осторожно, старался быть незаметным и, судя по всему, избегал всего, что таило в себе опасность для его карьеры. В личных отношениях вел себя по-иному. Против привычных в бюрократическом мире правил он публично произнес, что отставленный от должности его предшественник Николай Бордюжа хороший товарищ.
Евгений Максимович Примаков с удовольствием вспоминал, что, когда его убрали с поста премьер-министра, многие из тех, кто именовал себя его друзьями, перестали ему звонить, а Путин, наоборот, привез к нему на дачу всю коллегию Федеральной службы безопасности.
Борис Березовский рассказывал журналистам:
— Когда для меня наступили худшие времена, когда Примаков пытался меня посадить, когда люди разбежались, когда я вечером приходил в театр и люди веером рассыпались в разные стороны, Путин просто пришел на день рождения моей жены. Я его не приглашал — собственно, как и не пригласил других своих друзей, которые работают во власти. Я его спросил, зачем он это сделал. Он сказал: «Я сделал это специально», — а он был тогда директором ФСБ. Таким образом, у меня нет сомнений, что Путин верен тем людям, которых он считает своими товарищами или друзьями.
Возможно, Борис Березовский сгустил краски, описывая свое положение. Примаков действительно плохо к нему относился, но он не был президентом. А окружение Ельцина по-прежнему благоволило к Березовскому. Ему, как хозяину ОРТ, еще предстояло сыграть немалую роль в избирательной кампании «Единства» и самого Путина. Так что Владимир Владимирович не сильно рисковал, навестив Березовского. Скорее наоборот — он навещал человека, к которому прислушивались в ельцинском окружении, где именно в тот момент настойчиво искали преемника Борису Николаевичу.
В начале сентября 1999 года, судя по опросам общественного мнения, за Путина готов был голосовать всего один процент. Через два месяца — больше тридцати процентов. Разгорелась вторая чеченская война, и жесткость и решительность Путина оказались как нельзя кстати.
Седьмого августа 1999 года отряд чеченских боевиков во главе с Шамилем Басаевым и приехавшим из Иордании Хаттабом вторгся на территорию Дагестана. Операция боевиков оказалась для страны полной неожиданностью, хотя естественно было бы предположить, что армия и спецслужбы пристально следят за тем, что творится на мятежной территории.
Вторжение боевиков в Дагестан готовилось несколько месяцев, если не лет. Военные потом с раздражением говорили, что там были созданы долговременные оборонительные сооружения, и возмущались поведением местных властей, которые ничего не замечали.
Удивлялись и бездействию Федеральной службы безопасности.
В реальности и ФСБ, и военная разведка завалили высшее руководство предупреждениями. Тогдашний премьер-министр Сергей Степашин рассказывал потом в газетном интервью: «Каждый день шли шифровки от разных спецслужб, соперничающих друг с другом: вторжение вот-вот начнется. А даты назывались разные. Есть у спецслужб такой элемент внутренней подстраховки: “если что — я доложил”. И когда ничего не происходит — появляется элемент расслабления».
Боевики вошли в Дагестан под зеленым знаменем джихада — священной войны против неверных — и обещали создать исламское государство, которое объединит Чечню и Дагестан. В самом Дагестане к ним присоединились ваххабиты. О них уже несколько лет говорили как о новых и опасных врагах, которые будут пострашнее обычных бандитов из Чечни, потому что ваххабиты намерены оторвать от России Северный Кавказ и создать самостоятельное исламское государство.
Боевики, верно, считали, что Москва не решится на вторую чеченскую войну. Тем более что правительство возглавлял Степашин, однажды погоревший на Чечне. Он приказал организовать отпор бандитам, но развязывать настоящую войну не хотел. Желание Сергея Вадимовича избежать жертв стоило ему карьеры.
Боевики не ожидали, что получат мгновенный и жесткий отпор. В Дагестан перебросили дополнительные силы, и 11 августа началась крупномасштабная операция по уничтожению боевиков. Федеральные войска действовали умело, не так, как в первую чеченскую войну. Новая тактика формировалась под влиянием современного мирового опыта — подавление авиацией и артиллерией огневых точек противника, расчленение и окружение отрядов противника, отказ от традиции брать населенные пункты к заранее установленной дате или к празднику.
Но тут произошла новая беда. 4 сентября 1999 года взорвали дом в Буйнакске — погибли больше шестидесяти человек, 9 сентября прозвучал первый взрыв в Москве, погибли около девяноста человек, 13 сентября — второй взрыв, больше ста двадцати жертв. И уже после того, как боевиков выбили из Дагестана, прогремел взрыв в Волгодонске, семнадцать погибших… Это были хорошо подготовленные террористические акты.
Тогда возник резонный вопрос: почему же ФСБ при таком огромном и разветвленном аппарате не смогла предупредить эти страшные взрывы, которые унесли столько жизней? Удивляло и то, что проходил месяц за месяцем, а организаторы и исполнители террористических актов в Москве и других городах продолжали гулять на свободе.
В отсутствие достоверной информации ходили самые безумные слухи. В том числе писали о том, что эти взрывы были провокацией, организованной для того, чтобы получить предлог для нанесения удара по Чечне и тем самым обеспечить избрание Владимира Путина президентом. Рассказывали о том, что есть люди, которые знают правду. Предположение о том, что взрывы на самом деле были провокацией органов безопасности, — чудовищное. Но законы, которым повинуется массовое сознание, известны: пока не будет проведено полное расследование и не состоится открытый и гласный суд, люди могут предполагать всё что угодно. Впоследствии сообщили, что дома взрывали не чеченские боевики, а участники подпольных исламистских организаций Карачаево-Черкесии.
Тогда никто и представить себе не мог, что эти события радикально изменят политическую жизнь России. В конце сентября на пресс-конференции в Казахстане глава правительства Владимир Путин произнес фразу, которая сделала его знаменитым:
— Мы будем преследовать террористов везде. В туалете поймаем, то и в сортире их замочим.
Путин стал символом порядка и стабильности. Его поддержали в значительной степени на эмоциональном уровне.
Осенью 1999 года руководители операции на Северном Кавказе решили довести до конца то, что не удалось в первую войну: то есть подавить организованное сопротивление в Чечне, взять республику под контроль и ввести войска во все населенные пункты. Они исходили из того, что гнойник нужно вскрыть, иначе гной будет отравлять всю страну.
Все считали, что репутация и политическое будущее Путина зависят от итогов второй чеченской кампании. Премьер-министру победоносная операция в Чечне нужна была не меньше, чем Борису Ельцину накануне предыдущих президентских выборов. Тогда думали, что любая неудача в Чечне, новый крупный теракт, кровопролитие, необходимость остановить наступление на позиции боевиков из-за плохой погоды и перейти к позиционной войне окажутся гибельными для репутации кандидата в президенты.
Потом станет ясно, что люди готовы проголосовать за Путина не только из-за Чечни. А тогда, похоже, и сам Владимир Владимирович был потрясен внезапным ростом своего рейтинга, то есть популярности в народе.
Его главным соперником в будущей борьбе за президентское кресло считался Примаков. Евгений Максимович оставался самым популярным политиком в России и после отставки. Судя по опросам общественного мнения, люди хотели видеть на посту президента именно Примакова как олицетворение взвешенной, спокойной, разумной политики.
В один из сентябрьских дней 1999 года на небольшой дружеской вечеринке я видел, как друзья и соратники Примакова совершенно искренне поднимали тосты:
— За Евгения Максимовича — надежду России!
У него были все основания баллотироваться в Государственную думу, а потом и в президенты. Он тем не менее не спешил с решением.
Во-первых, после вынужденного ухода в отставку он сделал операцию по замене тазобедренного сустава, которая избавила его от невероятных страданий. Но не желал показываться на публике с костылями. Ждал, когда сможет обойтись без костылей и даже без палки. Во-вторых, он не хотел идти на выборы в одиночку, а своей политической организации у него не было.
Впрочем, я, честно говоря, думал, что он вообще откажется от политической деятельности. Он ведь не принадлежал к числу политиков до мозга костей, которые себе иной жизни не мыслят. У него были интересы за пределами политики: книги, друзья, семья.
Правда, было у него одно качество, сыгравшее решающую роль. Евгений Максимович вырос в Тбилиси, и он не прощает обид. А его сильно обидели, когда уволили так бесцеремонно. Со всех предыдущих должностей Евгений Примаков уходил только на повышение. Почти вся его жизнь — в смысле карьеры — это стремительное движение вперед и вверх. И вдруг такое увольнение. Он был крайне обижен и уязвлен в самое сердце тем, как с ним поступили, когда Ельцин и его окружение выбросили Примакова из правительства — после того, как он перестал быть нужным. Желание если не отомстить, то как минимум взять реванш и конечно же притягательная сила большой политики, вероятно, и заставили его пойти на выборы. Академик Иноземцев когда-то назвал Примакова легкоранимым.
Он многое делал как бы играючи. Защищал диссертации, не собираясь посвящать себя полностью науке, а получилось, что академическая карьера стала главной. Ушел из научного института, не предполагая, что со временем займет крупные посты в правительстве и, в конце концов, возглавит кабинет министров.
Кажущаяся легкость карьеры — свидетельство многих талантов, хотя во всякой карьере имеет значение и элемент случайности, а точнее, везения. А вот в личной жизни он пережил настоящую трагедию — потерял жену и сына. Для человека его типа, его тбилисского воспитания эта утрата непереносима. Но Примаков никогда не жаловался, не показывал, как ему тяжело, и не впадал в тоску.
А ведь главным в жизни, несмотря на карьеру и профессиональные успехи, для него была семья. Он рано женился, но с годами их чувства с Лаурой Васильевной Харадзе нисколько не угасли. Они были не только мужем и женой, но и друзьями, дополняли друг друга. Они родили двоих детей — сына и дочь: Александра и Нану.
Всеволод Овчинников рассказывал:
— Когда мы с Примаковым работали в «Правде», общение было довольно интенсивное. Редакция владела однодневным домом отдыха в Серебряном Бору, куда выезжали семьями. Гуляли вместе, разговаривали. Были редакционные дачи, в том числе на Рижском взморье, в Дзинтари, старенькие такие, еще дореволюционные, деревянные. Так как мы с Примаковым работали корреспондентами в жарких странах, нам на юг не хотелось, и четыре лета подряд мы с семьями проводили отпуск в Прибалтике. Там я увидел, как Евгений Максимович разговаривает со своими детьми, в частности с сыном Сашей. Он с ним говорил как с совершенно взрослым человеком, на равных, с большим уважением к личности сына.
Однажды, когда Евгения Максимовича не было, Лаура пришла к жене Овчинникова:
— Как тебе это нравится? Мой Саша объявил голодовку!
Что-то ему не понравилось. Он выдвинул какие-то требования перед мамой, желал компромисса и в конце концов объявил голодовку. То есть воспользовался международными методами борьбы за права человека. Два или три дня он отказывался обедать и ужинать. Дети Овчинникова тайно носили ему печенье. Мама очень переживала…
— Саша был потрясающий мальчик, — вспоминал Томас Колесниченко. — Для меня это идеал. У меня таких детей нет, и ни у кого я их не видел. Он пошел в Евгения Максимовича. Саша Примаков приехал в Нью-Йорк на практику, а я работал там корреспондентом «Правды». Как раз в этот момент у меня произошел конфликт с одним из наших местных начальников. Первым заместителем представителя СССР в ООН был такой Михаил Аверкиевич Харламов. Что-то он не то сделал, не помню, но я на него обиделся.
А Саша Примаков должен был к Харламову пойти с каким-то материалом. Он объявил Томасу Колесниченко:
— Дядя Том, я к нему не пойду.
В Тбилиси друга отца принято называть дядей.
— Да ты что? — удивился Колесниченко. — Почему не пойдешь?
— Он вас обидел!
— Ты-то какое к этому имеешь отношение? Ты иди, у тебя дело.
Саша покачал головой.
— Я человек клановый, — твердо сказал младший Примаков, — я к нему не пойду…
Отцовский характер.
— Знаете, когда люди за границей оказываются, им есть чем заняться, столько соблазнов, — вспоминал Колесниченко. — А Саша приходил после работы ко мне, потому что он далеко жил, садился в моем кабинете и работал. До вечера сидел, писал. Он бы, конечно, далеко пошел. Это был необычайный парень.
Он учился в аспирантуре. Ему предлагали и корреспондентом в Каир поехать, и в науку идти. Но этому не суждено было случиться. Саша Примаков ушел из жизни совсем молодым человеком, внезапно, на руках у друзей.
— Это один из самых черных дней моей жизни, — говорил Валентин Зорин. — Трое аспирантов пошли дежурить в праздничный день — это было первого мая 1981 года. Прекрасный весенний день. Вдруг Саша схватил товарищей за руки и сказал: «Я умираю». И умер мгновенно. Сердце не выдержало, как потом у матери, Лауры… Видимо, что-то такое по наследству от матери передалось. Саше Примакову было всего двадцать семь лет.
— Первым о смерти Саши узнал Виталий Журкин, будущий академик и директор Института Европы, — вспоминал Леон Оников. — Он позвонил мне, и мы вместе повезли Сашину жену в больницу, зная, что он уже умер, и по дороге из последних сил старались не сказать ей об этом раньше времени. У Саши Примакова было больное сердце, но умер он так неожиданно, что никто к этому готов не был и не думал, что это может произойти.
— Сердечная болезнь у Саши проявилась внезапно? — спросил я у Оникова.
— Наш общий друг академик Бураковский мне сказал однажды: Саша умрет неожиданно. Так и получилось.
Когда это случилось, Примаков был в самолете, возвращался из командировки на Кубу. Друзья встретили его на аэродроме. Не сказали ему, и он ничего не понял. Узнал о смерти Саши только на квартире Владимира Ивановича Новицкого, к которому заехал как бы по дороге.
— Он мальчика очень любил, — говорил Томас Колесниченко. — Это была жуткая трагедия. Для него это оставалось трагедией до конца жизни. А в то время и говорить нечего: невыносимое горе. До сих пор мы ходим на Сашину могилу, не забываем. Его друзья, взрослые теперь люди, тоже помнят Сашу Примакова и ходят к нему…
Рассказывает Алексей Малашенко, доктор исторических наук, сотрудник Института востоковедения:
— Я помню, что как раз после смерти его сына был назначен ученый совет у нас в институте. Все собрались, и стояла мертвая тишина. Сидели почтенные ученые и не знали, как им выразить свое сочувствие. А Примаков держался замечательно, ни жестом, ни словом не показал, каково ему сейчас.
Томас Колесниченко:
— Он продолжал работать. Да, вот в этом его воля. Он уходил в работу, он спасал себя работой.
От Александра Примакова остался сын — Женя, названный в честь дедушки. Евгений Максимович позаботился о его воспитании. Евгений Примаков-младший стал журналистом-международником, пошел на телевидение, по семейной традиции работал на Ближнем Востоке. Уже после смерти Евгения Максимовича рассказал, что дедушка иногда, забывая, называл его Сашей — как сына. Примаков так и не привык к мысли, что его мальчика больше нет…
Смерть сына была первой из двух трагедий, которые обрушились на Примакова.
Все, кто знал Лауру Васильевну Примакову-Харадзе, сохранили о ней наилучшие воспоминания. Очаровательная женщина, великолепная мать и умелая хозяйка. Она изумительно готовила, была гостеприимна, доброжелательна. Чудесно играла на фортепьяно. И всё у нее получалось легко, просто. Всегда полон дом гостей. Они жили весело и интересно.
Томас Колесниченко:
— Как сейчас помню наши встречи… Расположились на кухне. На столе тарелка с грузинским сыром, ему из Тбилиси присылали. Вокруг стола сидят человек двадцать и что-то горячо обсуждают. Лаура Примакова была одаренной и талантливой женщиной, общительной, у нее было множество подруг.
Подруг жены Евгений Максимович не только терпел, но и любил по-своему. И не забыл никого! В день рождения Лауры он приглашал к себе всех ее подруг. Точно так же, приезжая в Тбилиси, обязательно ездил на кладбище, где похоронены его мать и теща, и собирал старых друзей, которых всё меньше…
Одним из самых близких друзей Примакова был Владимир Иванович Бураковский, крупнейший кардиохирург, директор Института сердечно-сосудистой хирургии, академик медицины, лауреат Ленинской и Государственной премий, последний Герой Социалистического Труда, получивший звезду из рук Брежнева.
Бураковский тоже вырос в Тбилиси, но он был старше Примакова на семь лет — в детстве и юности это имеет значение. Потом эта разница перестала быть заметной. Они подружились уже в начале 1970-х, когда Примаков вернулся с Ближнего Востока.
Лилиана Бураковская, вдова Владимира Ивановича, вспоминает:
— Мы приехали к Примаковым в маленькую квартиру на улице Ферсмана. Я знала, что, как в каждой нормальной семье, у них были проблемы, трудности, в том числе материальные. Но жили интересно. Ничего у них не увидела роскошного, да они и не привыкли к роскошной жизни. Ни Примаков, ни Бураковский не создавали себе сокровищ на земле. Они знали Библию, они знали жизнь. Они понимали: когда мы уходим, мы с собой ничего не берем, кроме доброго имени.
— Но можно кое-что детям, внукам оставить. И это многими руководит.
— Да, можно обеспечить потомство в седьмом колене. Но они это не делали. Не потому, что не любили своих детей. Они считали, что того, что есть, достаточно. А остальное пусть сами зарабатывают.
Евгения Максимовича ценили как блестящего рассказчика. Он умел рассказывать анекдоты, любил пошутить. Когда собиралась вся компания, это был фейерверк остроумия.
— Каким я впервые увидела Евгения Максимовича, таким он и остался, — вспоминала Лилиана Бураковская. — Всегда с улыбкой, доброжелательный. И Лаура была такая же. Не полюбить эту семью и не сблизиться с ней было невозможно. Они никогда не относились к себе слишком серьезно, у них не было никакого чванства. Всегда были самокритичны, подшучивали друг над другом. Евгения Максимовича никто бы не назвал тщеславным и напыщенным.
Но Лаура искренне гордилась своим мужем:
— Я же говорила, что мой Женя — номер один!
Она всегда понимала, что Евгений Максимович в чем-то выше других.
Лилиана Бураковская:
— Жена ведь тоже влияет на мужа. Мы незаметно сблизились. Лаура стала моей подругой. Она была необыкновенная, обаятельная, притягивала людей. Разносторонне образованная, всем живо интересовалась, ходила на концерты, на выставки. Она сама играла великолепно, напевала.
На ее день рождения — 8 февраля — собиралось много подруг, наверное, тридцать. Потом Примаковы с улицы Ферсмана переехали на Ленинский проспект, у них уже была хорошая квартира, но и она всех не могла вместить. Подруги ее обожали. Лаура была такая жизнерадостная — друзья и предположить не могли, что она неизлечимо больна. Однажды вечером Владимир Иванович Бураковский грустно сказал жене:
— Лауре было сегодня плохо. У нее что-то серьезное.
Когда у нее случился первый приступ, Бураковский первым к ней прибежал, потому что Примаковы жили рядом с его институтом на Ленинском проспекте. Приступ купировали, а ее заставили обследоваться. Лаура тоже не очень серьезно относилась к своему здоровью. Но ей пришлось лечиться. Сначала Бураковский положил ее к себе в институт, затем она легла в Центральную клиническую больницу Четвертого главного управления при Министерстве здравоохранения СССР.
Врачи поставили тяжелый диагноз — миокардит. Миокард — это сердечная мышца. Миокардит — воспаление мышцы, она слабеет и перестает работать. Это неизлечимое заболевание. Юный Саша Примаков умер от миокардита.
В таких случаях показана пересадка сердца. Владимир Бураковский хотел начать операции по пересадке сердца, но тогдашний министр здравоохранения Борис Васильевич Петровский, сам хирург-кардиолог, ему это запретил. А лекарства при миокардите не помогали, восстановить работоспособность миокарда не удавалось.
Наступил момент, когда врачи сказали, что жить Лауре Примаковой осталось всего лет пять. Они, конечно, сообщили это не ей, а мужу. С этим страшным известием Евгений Максимович пришел к Бураковским. Он выглядел подавленным. Он мог говорить только с Бураковскими. Не только потому, что Владимир Иванович врач. Они тоже пережили страшную трагедию — в автомобильной катастрофе погибла их дочь. Ее могила недалеко от могил Саши Примакова и Лауры.
— Евгений Максимович сказал жене о диагнозе? — спросил я Лилиану Альбертовну Бураковскую.
— Нет, нет! Никто не говорил. Делали вид, что всё нормально. Примакова пригласили в Японию с женой. Он советовался, можно ли ей ехать. Решили: пусть Лаура съездит, отвлечется. И хорошо, что она поехала… А потом она чувствовала себя всё хуже и хуже, лежала на даче, очень ослабела… Лаура и пяти лет не прожила.
Томас Колесниченко:
— Мы знали, что у Лауры слабое сердце. Она лежала в больнице. Мы ее навещали. Но, конечно же, никто из нас не мог предположить, что так произойдет. В июне 1987 года Лаура и Евгений Максимович вышли во двор. Она вдруг замерла и произнесла: «Женя, у меня остановилось сердце».
Вызвали «скорую», но уже было поздно. Она умерла на руках мужа. Ей было всего пятьдесят семь лет, она на год младше Евгения Максимовича. Они прожили вместе тридцать шесть лет. Евгений Максимович любил Лауру до конца своих дней, думал о ней и страдал…
Наверное, поэтому у Примакова исчезло то искрящееся веселье, каким он отличался в молодые годы. Как тут не стать сумрачным?
Леон Оников считал, что с годами он мало изменился.
— Вот я изменился, остальные друзья изменились, а он нет. С точки зрения склонностей, характера, резкости, прямоты — такой же, каким был пятьдесят лет назад. Его отношение к людям сохранилось — вот это самая характерная его черта. Он не менялся в своих принципиальных оценках этического плана. Личное достоинство, скромность, привычка отвечать ударом на удар — неизменны.
— А способность владеть собой у него врожденная? — спросил я Томаса Колесниченко.
— Да, он был очень волевым человеком, — ответил Колесниченко. — Это качество позволило ему добиться всех целей, которые он перед собой ставил. И в трагические минуты он тоже умел держать себя в руках.
— Даже со стороны было видно, что он всегда собой владел, самообладание очень сильное. Но это не означает, что он был холодным и циничным человеком?
— Нет, нет. Ну что вы! Он, наоборот, ненавидел равнодушие, цинизм — больше всего ненавидел именно эти качества, если не говорить о предательстве. В нашем кругу таких не было и нет. Если он замечал в ком-то холодность и цинизм, ему это претило.
В дни памяти Лауры и Саши Евгений Максимович обязательно собирал друзей — у могилы, потом вез на поминки. У Примакова осталась дочка — Нана.
Лилиана Бураковская рассказывала:
— Евгений Максимович обожал дочь и внуков. Нана — психолог. Она работает с отставшими в развитии детьми. Я ей говорю: ты святая… Она смотрит на тебя как-то вопросительно, изучает тебя. Она скромная и немногословная, сдержанная, может быть, не очень улыбчивая, но вдруг что-то скажет с большим чувством юмора, совсем как отец.
Старшая внучка Примакова — Саша, ее назвали в честь умершего Александра Примакова. От второго брака у Наны тоже дочка — Маша.
— Когда Евгений Максимович остался один, он очень часто к нам приезжал, — продолжала Лилиана Бураковская. — Он разъехался с дочерью. Молодой семье нужно жить отдельно, он и дачу дочери отдал. Сам получил небольшую двухкомнатную квартиру в центре. Мы приходили к нему, там были книги и фотографии Лауры. Он много пережил в эти годы. Нам тяжело было видеть, как он страдает. Но ведь в какой-то степени страдания и облагораживают. Он всегда был благородным человеком. Может быть, он стал глубже. Он не сломался, не утратил интереса к жизни. Очень мужественный человек.
И Бураковский был такой же.
— Вы никогда не почувствуете в этих людях слабинки. Я похоронила мужа без слезинки. Меня так учили. Нельзя показывать свои страдания и несчастья на людях. Это твоя и только твоя проблема…
В апреле 1991 года в Москве побывала группа американских сенаторов. Примаков пригласил их к себе на дачу. Американский посол Джек Мэтлок поразился:
«Традиционно иностранцев принимали только в ресторанах либо в особых “домах приемов”, содержавшихся для этой цели. Советские руководители никогда не приглашали иностранцев домой.
Дача Примакова была уютной, но не роскошной. Большинство высокопоставленных персон пользовались государственными дачами, но Примакову было явно удобнее и уютнее в собственном жилище, и он с гордостью показывал свой дом.
Хозяйкой дома была дочь Примакова. Рассматривая фотографии и семейные реликвии, мы вспомнили о личных горестях, обрушившихся на хозяина. Семья была дружной и сплоченной, и у Примакова еще не зарубцевалась психологическая травма, порожденная тяжкими утратами. Показывая нам фото покойной жены, он заметил, что, хотя после ее кончины минуло четыре года, у него нет абсолютно никакого желания снова жениться. Работа заменила ему всё».
Примаков даже в детстве не занимался спортом и не отличался богатырским здоровьем.
— Работая в институте, я унаследовал огромный письменный стол Примакова, — вспоминал сотрудник ИМЭМО Владимир Размеров. — Ему отвели кабинет с новой мебелью. А его старый стол достался мне. Я с ужасом обнаружил, что один из ящиков был полон лекарств. Он, бедный, глотал всякие таблетки. Но он держался. Знаете на чем? Я увидел это в совместных поездках. Он, как Черчилль, мог спать в любое время, пользуясь любой минуткой. Я думаю, этим он компенсировал свои болячки и перенапряжение.
Когда Евгений Максимович был директором разведки, перенес операцию на щитовидной железе. Став министром иностранных дел — операцию на желчном пузыре. Но до последнего времени он на нездоровье не жаловался. Соблюдал режим, и никто не смел сказать, что он не справляется со своими обязанностями.
— У него всё наладилось, — рассказывал Томас Колесниченко. — Рядом с ним очень хорошая женщина, новая жена. Мы, старые друзья Евгения Максимовича, ее очень полюбили, потому что она создала ему полноценную жизнь, заботилась о нем.
Во второй раз Примаков женился на своем лечащем враче — Ирине Борисовне Бокаревой.
Ирина Борисовна работала в санатории «Барвиха», который был самым комфортабельным и престижным в системе Четвертого главного управления при Министерстве здравоохранения СССР. Хотя санаториев и домов отдыха для начальства было много — от Рижского взморья до Сочи, от Курской области до Валдая, в советские времена все большие начальники предпочитали «Барвиху».
Мягкий климат средней полосы, показанный практически при любом заболевании, близость Москвы, большие комнаты, хорошее диетическое питание и настоящая медицина — это привлекало отдыхающих даже не в сезон. Получить путевку в «Барвиху» было особой честью. Здесь отдыхали высшие начальники. Менее высоким чиновникам в путевке отказывали.
Во время войны в «Барвихе» был госпиталь. Тех, кому врачи не сумели помочь, похоронили рядом — военное кладбище сохранилось и по сей день.
Врачи живут в доме для персонала — рядом с санаторием.
Ирина Борисовна Бокарева с семьей приехала из Ставрополя, где окончила медицинский институт, — землячка Горбачева, о чем тогда рассказывала не без гордости. Ее муж тоже работал в «Барвихе» врачом. Дочка училась в школе, на лето ее отправляли к бабушке с дедушкой.
На Ирину Борисовну сразу обратили внимание: милая женщина, улыбчивая. Для всех у нее находилось доброе слово. Она приходила утром к своим пациентам в прекрасном настроении и этим настроением заражала: доброе утро, как вы спали? И спрашивала искренне, участливо. Запоминала все просьбы и пожелания отдыхающих. Говорила не о себе, а о больных, что не так уж часто бывает среди врачей. Пишу об этом со знанием дела — в конце 1980-х в санатории отдыхали мои родители, Ирина Борисовна была их лечащим врачом, и они остались очень довольны.
Ирину Борисовну любили отдыхающие, ценили обслуживающий персонал и, видимо, начальство, потому что она получила большое повышение. Ее поставили заведовать отделением для высшего руководства. Когда в «Барвихе» отдыхал Примаков, Ирина Борисовна сама им занималась. В 1989 году Евгения Максимовича избрали кандидатом в члены политбюро. Отныне ему полагался личный врач, который постоянно наблюдал пациента и в случае необходимости призывал на помощь любых специалистов.
Примаков сам выбрал себе личного врача. Ирина Борисовна много позже рассказала об этом в газетном интервью. Примаков позвонил ей:
— Ирина Борисовна, мне в моем нынешнем положении полагается личный врач. Не хотите им стать?
Она ответила сразу:
— Да.
Это был, несомненно, счастливый случай.
После смерти Лауры Примаков не женился и даже не думал об этом. Но Ирина Борисовна оказалась именно той женщиной, которая ему нужна. Отношения между ними развивались несколько лет.
— Евгения Максимовича, — рассказывала Ирина Борисовна, — останавливала большая, как ему тогда представлялось, разница в возрасте. Меня же пугало, что его родным, друзьям может прийти в голову мысль: не человек мне нужен, а то, что за этим человеком стоит. Положение, должность…
Со временем отношения между ними приобрели чисто личный характер.
— Когда надо было возвращаться домой, я обычно вздыхала: «Как не хочется уходить», — рассказывала Ирина Борисовна. — В одну из таких минут он сказал: «И не надо. Останься навсегда». Вот так и выглядело предложение, которое Евгений Максимович мне сделал за два года до свадьбы.
Он женился во второй раз через семь лет после смерти первой жены. Дочь его поддержала. У Примакова, можно сказать, открылось второе дыхание. Не будь рядом с ним такого человека, как Ирина Борисовна, едва ли бы он справился с теми испытаниями, через которые ему предстояло пройти.
— Его новая жена очень обаятельная, красивая, душевная, — говорила Лилиана Бураковская. — Умница, скромная. Она хорошо, трогательно относится к нам, его друзьям.
Всеволод Овчинников разделял это мнение:
— Его старые соратники очень рады, что рядом с ним была не только дочь Нана, но и другой близкий человек, который в какой-то степени эти утраты может восполнить. Конечно, такие удары судьбы не каждый способен выдержать…
Компенсацией всех горестей было обилие преданных друзей, окружающих Примакова. Он любил друзей, друзья любили его.
На экранах телевизоров Примаков часто представал мрачноватым, кажется, что он был чем-то постоянно недоволен. Когда он стал министром иностранных дел, то первое время появлялся на публике в непроницаемых темных очках. Это производило не очень приятное впечатление. И я, помню, написал полосный материал в «Известиях» о Примакове под заголовком «Темные очки мешают увидеть истинное лицо министра». Видимо, кто-то еще ему сказал об этом, и он вскоре очки сменил, чтобы можно было видеть его глаза.
Его друзья в один голос уверяли, что в жизни он совершенно другой человек.
В день, когда Примакова утверждали в Государственной думе на пост премьер-министра и он выступал перед депутатами со словами: «Я не фокусник», его друга Валентина Зорина увезли в больницу с подозрением на перитонит. Вечером, узнав об этом от жены, новый глава правительства приехал в больницу, чтобы навестить товарища.
Когда на перекрестке Рублевского и Успенского шоссе открылось новое здание Научно-исследовательского института кардиохирургии имени В. И. Бураковского, глава правительства, отложив другие дела, побывал на открытии и сказал несколько теплых слов. Телекамеры показали лицо Примакова, который печально смотрел на бюст своего покойного друга, чьим именем назван институт. Примаков сыграл не последнюю роль в том, что эта стройка, которая началась еще при жизни Бураковского, завершилась.
Когда академик Александр Яковлев отмечал свое семидесятипятилетие, Примаков, разумеется, приехал к нему на работу. Все ушли, оставили их вдвоем за накрытым столом. Примакову предстояли трудные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Мишелем Камдессю. Это не помешало ему произнести несколько тостов и выпить за здоровье юбиляра энное число рюмок водки — без ущерба для сложных отношений России с Международным валютным фондом.
Двадцать пятого декабря 1998 года, на следующий день после того, как Государственная дума в первом чтении утвердила проект представленного правительством бюджета, Примаков в девять утра приехал в здание «Известий» на Тверской, чтобы поздравить Станислава Кондрашова с семидесятилетием. Попил с ним чаю, посидел часок и только после этого поехал в правительство, где его ждала встреча с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко.
Если он кому-то поверил, сложились дружеские отношения, тут хоть что — даже если человека снимали с должности, с грязью мешали, — Примаков к нему не менялся. Он продолжал созваниваться с этим человеком, встречаться. Один из политиков, чье имя не так давно гремело, а теперь почти забыто, лишенный должностей и, кажется, вообще работы, говорил о Примакове:
— Я оценил, какой он хороший товарищ. Когда он бывал в наших краях, то заходил и ко мне. Это всегда приятные встречи. Примаков широких взглядов человек. Чужое мнение принимал и уважал — так мне, во всяком случае, кажется. Веселый, искренний, жизнерадостный человек. С ним было легко.
Дружить по-примаковски означало не только троекратно лобызаться и поднимать рюмки за здоровье друг друга. Он бережно хранил память об ушедших. Обычно люди в жизненной суматохе теряются. А он — нет. Он всегда оставался близок с семьями тех, кто ушел. Для него это было очень важно.
Маргарита Максимова, вдова академика Иноземцева, рассказывала:
— Моя внучка буквально погибала. В больнице, где она лежала, не оказалось нужного детского врача, а надо было срочно откачать гной. И ее никак не могли перевести в детскую клинику. Я не выдержала и позвонила с просьбой о помощи помощнику Примакова Роберту Вартановичу Маркаряну. Евгений Максимович был тогда в Верховном Совете и возглавлял Совет Союза. Через пятнадцать минут больница получила указание немедленно связаться с детской клиникой, ребенка отправили туда, выкачали гной и спасли. Я благодарна ему по гроб жизни.
Евгений Максимович сохранил всех своих друзей, в том числе еще со школьных времен. И какую бы должность он ни занимал, это ничего не меняло в его отношении к друзьям. Он прошел с ними по жизни, ничего не растеряв.
— У нас есть свой кодекс дружбы, — говорил Леон Они-ков. — В дружбе не имеет значения ни нация, ни религия. Возраст надо почитать — больше ничего. Вот это всё Примаков впитал с детства.
Повсюду, где он был, он заводил дружбу с людьми, крепкую, надолго. В ИМЭМО его другом стал Григорий Морозов, бывший муж Светланы Аллилуевой. На радио — Вениамин Попов, Гелий Шахов, Бабкен Серапионянц, Валентин Зорин. В «Правде» — Томас Колесниченко.
— Один человек уверял меня, что политика и дружба несовместимы, — продолжал Оников. — Я ответил ему: брось политику, несчастный, займись дружбой! У нас могут быть разные взгляды, свои симпатии и антипатии, но дружбе они не помеха.
— Его трудно было дома застать, — рассказывала Маргарита Максимовна Иноземцева. — В субботу вечером он на дне рождения у кого-то из друзей, в воскресенье утром поехал в больницу товарища навестить, потом на кладбище помянуть кого-то из ушедших. Он был щедр на дружбу и поэтому постоянно окружен людьми. Мы ездили с ним в Грузию. Он в Тбилиси по двору ходил, где вырос, его там все помнили. Он собирал старых знакомых. Что мне в нем нравилось? Для него если друг, то друг. Не обязательно, чтобы тот был при погонах или высоких должностях. Ни зазнайства, ни чувства собственного превосходства. На все крупные торжества, юбилеи он обязательно приглашал старых друзей из Грузии. Они приезжали, садились за стол. И не было никаких различий: этот академик, а этот рабочий.
— Друзей у него было много, — говорил Томас Колесниченко. — Но никто не сможет сказать, что он кого-то по дружбе назначил. Это не в его правилах. У него в разведке работал близкий друг, но генерала он ему не дал. А вот выслушать, поговорить с ними, попросить совета — это всегда.
— Умение и желание дружить в течение всей жизни — это, конечно, порождено первозданными традициями того места, где мы выросли, — считал Леон Оников. — Наша дружба была основана на общности взглядов, характеров, принципов. Причем речь шла о принципах нравственных, поэтому кто-то из приятелей отсеялся. Евгений Максимович порвал с одним из своих близких друзей — резко и бесповоротно. Моя попытка их примирить закончилась безуспешно.
— Повод серьезный был для разрыва? — спросил я Оникова.
— Серьезный. Женя в таких вещах очень твердый человек.
— Повод личный или общественный?
— Личный. Это был недостойный поступок. Такие вещи прощать нельзя. Я это умом понимаю, но я более мягкий человек, чем Примаков. Я об этом специально говорю, чтобы не создалось впечатления, что он всеядный какой-то. Он не из тех, кто со всяким будет дружить, — и с хорошим, и с плохим.
Сердечность своего отношения к друзьям Примаков словно переносил и на многих других людей. Когда он стал начальником разведки, министром, главой правительства, в окружении Примакова подчас отмечали его промахи в кадровых делах, неправильные назначения.
Первая жена Примакова Лаура Васильевна очень беспокоилась, считая, что Евгений Максимович излишне доверчив. У них было множество приятелей. Они приходили к ним домой, но ей далеко не все нравились. Кто-то совсем не нравился. Лаура считала, что Евгений Максимович не способен распознать в людях дурное и это ему вредит.
Ошибки у всех случаются. Но его помощники действительно иной раз изумлялись: и этого человека он назначил на такую важную должность? Как это могло случиться?
— Он парадоксально сочетал в себе государственный ум и душу ребенка, — говорила Татьяна Самолис. — Мне иногда казалось, что я старше его бог знает на сколько лет. Он исходил из презумпции порядочности любого человека — так бы я это определила. Людей можно условно поделить на две категории — одни оценивают человека исходя из того, что каждый хорош, пока не станет очевидным, что он плох, а другие полагают, что каждый плох, пока он не докажет, что хорош. Вот для Примакова абсолютно все хорошие. Все мои товарищи, умные, гениальные, замечательные. Но вот потом что-то накапливается — одно, другое. Он долго скрипит. Ему не хочется вслух произнести, что не так уж хорош этот человек. Но потом смирится, что надо расставаться… Но уж чтобы он на кого-то так сильно осерчал, чтобы не захотел о нем говорить, — это редкий случай! Мне приходилось бывать с ним в ситуациях, где собирался узкий круг людей, которым он доверял и, видимо, говорил то, что думает, — за исключением каких-то невероятных государственных тайн. Но никогда не говорил плохого о тех, кто о нем отзывался, мягко говоря, неодобрительно… Когда его в чем-то обвиняли, он так всегда расстраивался, руками разводил. Он понимал, что может быть расхождение во взглядах. Безусловно. Но почему вокруг столько грязи, оскорблений — этого не понимал.
— Примаков такой опытный администратор. Он постоянно сталкивался с серьезными конфликтами, и вы хотите сказать, что ему было странно, что кто-то занимается интригами? — спросил я Татьяну Самолис.
— Нет, конечно, теоретически он об этом знал. И практически знал — у него, может быть, тысяча была конфликтов на работе. Но у него всё равно оставалась наивная вера в то, что все люди неплохие. И любая моя попытка его образумить ему очень не нравилась. Пока он уже сам не убеждался в том, что не прав в отношении того или иного человека. Вот для меня это парадокс. Сочетание такого жизненного опыта и наивности в отношении людей… И в любых ситуациях — когда вокруг него клокотали какие-то интриги и бог знает что еще и люди в этом купались, — у него такая наивность сохранялась. Когда он говорил о людях, его лицо расплывалось в улыбке. Для него удовольствием было произнести имя его друга, а у него их невероятное количество. Да я бы от этого уставала, я бы физически не могла с ними со всеми общаться. А потом, я бы не могла любить так много людей. Я бы ограничилась узким кругом друзей. Он — нет, он всех любил.
— Так что же, он не в силах был расстаться с негодным работником?
— Это зависело от того, чем этот человек его от себя оттолкнул, — считает Татьяна Самолис. — Это могло произойти очень быстро — если человек — такая помеха делу, что каждый день, проведенный им на важном посту, опасен. Он быстро его убирал. Примаков мог быть жестким. Он знал, чего он хочет, к чему идет. Иначе у него и жизнь была бы другая. Но он вполне был способен работать с человеком, который ему лично неприятен. Скажем, Примаков в ком-то заметил какие-то недостатки. Но если он считал его хорошим профессионалом, такого человека Примаков терпел. И мало того — создавал вокруг него хорошую рабочую обстановку, не позволял другим играть на этих недостатках и настраивать себя против этого человека. Принцип простой — раз он нам нужен, дело делает хорошо — всё, ребята, прекращаем пустые разговоры.
Его комплекция наталкивала на мысль, что Примаков — человек вялый и рыхлый.
— Это абсолютно ложное впечатление, — в один голос утверждают все, кто его знал. — Он быстр и энергичен. А уж что касается его интеллектуальной энергии, то тем более.
— Он казался нерешительным. Это так?
— Ну, это заблуждение, — говорил Виталий Игнатенко. — Он был очень решительным и очень волевым в проведении своих идей, политики. Когда он стал главой правительства, это, наверное, почувствовали и в глобальном, геополитическом масштабе. Он не повышал голоса. Но он был исключительно решительным и принципиальным человеком. В этом-то заключалась его сила.
— Вы никогда не видели его грустным, тоскливым?
— Никогда, — уверенно ответил Игнатенко. — Он мог быть, конечно, как и всякий человек, подвержен сомнениям, грусти, печали — у него для грусти и печали было много поводов в жизни. Но на людях он был всегда оптимистичен, рядом с ним чувствуешь любую свою неудачу такой маленькой. Около него было хорошо.
— Он заставлял себя быть таким?
— Нет, это черта характера — уверенность в том, что всё можно преодолеть, переломить. Эта черта характера, думаю, помогала ему во всей его работе, в любых начинаниях.
— Он неконфликтный человек, — говорил Валентин Зорин. — Он любил обсуждать проблемы. Если в узком дружеском кругу, то обсуждение бывало на очень высоких тонах. Можно было от него услышать при несогласии его любимое ругательство «горшок ты!». Это не мешало ему принимать иные точки зрения… Большое значение имело одно его личное качество. Он производил впечатление уравновешенного, спокойного, солидного человека. Так оно, наверное, и было. Но в нем был стальной стержень. И если он в чем-то был убежден, согнуть его оказывалось нельзя. Сломать можно, согнуть нельзя. В его жизни были нелегкие политические испытания. Он в журналистские годы и позже оказывался просто в опасных ситуациях. И проявил себя так, как полагается проявить себя настоящему мужчине.
— Я постоянно сравниваю Евгения Максимовича со своим мужем, — говорила Лилиана Бураковская. — У них много общего. В критические минуты у таких людей проявляются те же черты, что и в обычной жизни, — мужество, стойкость. Что касается мелких неприятностей, то они — над этим. Они не опускаются до сплетен, до выслушивания сплетен. Он не нытик, как и Владимир Иванович, который часто скрывал от меня неприятности. На них писали доносы, они спокойно это переносили. Если человек знает, что он прав, он всё перенесет. И они не злобились. Это особое воспитание. Они знали, что они правы, они были уверены в себе и не боялись потерять кресло. Вот Владимир Иванович — директор института, лауреат; казалось бы, живи спокойно, оперируй. А он видел, что в Академии медицинских наук застой, не занимаются наукой, не думают о прогрессе отечественной науки. Он написал резкое письмо, выдвинул разумные предложения и подвергся невероятным гонениям… В чем его только не обвиняли. Придумали, что он ребенка, еще живого, отправил в морг.
Евгений Максимович был очень интеллигентным человеком, в старом понимании этого слова. Он был воспитанным человеком, а воспитание помогает человеку понять, как поступить, чтобы не уронить свое достоинство…
— Что Примаков больше всего не любил? — спросил я Валентина Зорина.
Он ответил не задумываясь:
— Предательства. Правда, он — человек везучий в этом плане. Он очень мало с этим сталкивался. Но это стопроцентно неприемлемое качество, какими бы мотивами — политическими, неполитическими — оно ни мотивировалось. Предательство со стороны друга, сподвижника — это для него более чем смертный грех. И он этого не прощал и не забывал, хотя вообще-то он был незлопамятный. Он не мог обидеть. Он находил какую-то форму отказа, чтобы человек ушел не разобиженный и не со слезами на глазах.
— Если дружба входила в противоречие с интересами дела, что он выбирал?
— Бог его избавил от таких коллизий. Его друзья — они же и единомышленники. Кроме того, Евгения Максимовича его друзья очень любили. Поэтому и под ножом не сделали бы ничего такого, что поставило его перед выбором — личные интересы или интересы дела.
Примаков обладал редким сочетанием двух качеств — с одной стороны, серьезный, с другой, как принято говорить, — компанейский, жизнелюбивый.
— Он отводил душу в общении с друзьями, — говорила Татьяна Самолис. — Количество людей, с которыми он общался, невероятно. Он словно и не уставал. После тяжелого рабочего дня, вместо того чтобы домой и к телевизору, отдыхать, он в театр или к друзьям. Он и театр знал, и поэзию, и в искусстве разбирался. Человек разносторонних интересов. Он засыхал, если лишался общения. Он подпитывался от друзей. Ум у него был цепкий, неленивый, он быстро всё схватывал. И Примаков — не из тех, кто уверен, что только он один может всё сделать правильно. Он своим заместителям полностью доверял — если бы не доверял, сменил. И потому вечера посвящал встречам с друзьями, светской жизни. Он выстраивал себе недельный график работы и включал в него разные встречи. Уж кого мы там только не видели — и политиков, и писателей, и поэтов, и наших, и иностранных, кого угодно…
Леон Оников рассказывал:
— Чаще всего мы собирались у Володи Бураковского, пока он был жив. Два-три раза в неделю созванивались вечером, встречались у него в институте. Выпивали. И в длинной ванночке, в которой дезинфицировались шприцы, варились сосиски. Всегда собирались, когда приезжал кто-нибудь из Тбилиси. А они часто приезжали — его школьные друзья. Многие у него дома останавливались. Если к нему кто-то приезжал, меня звали. Если ко мне приезжали — я его звал. Конечно, мы помогали друг другу. Если заболел, не дай бог. Если с детьми проблемы. Если с работой трудности. Но это не блат, который требует обязательной взаимности. Если мерить современными категориями: ты — мне, я — тебе, то у нас было нечто другое. Мы разговаривали обо всём — о детях, о бытовых проблемах. О высокой политике не говорили. Я, например, считал бестактным расспрашивать его о чем-то, когда он работал в разведке. Если он был не согласен, он коротко излагал свою точку зрения и замолкал. Говорили о друзьях, о верности, о ценностях, кто друг, кому надо помочь, кто негодяй. Или шутили, рассказывали анекдоты.
Примаков был большой любитель анекдотов. Вот один из его любимых. Встречаются два старика. Один говорит: «Беда со мной! Полностью потерял память. Всё забыл, что знал».
Второй его успокаивает: «Да не бойся ты. У меня было то же самое. Но мне прислали пилюли из Америки, и теперь всё в порядке». Первый: «Слава богу. А как пилюли называются?» Второй задумался: «Знаешь, есть такие цветы, высокий стебель, заканчивается белым или красным цветком… Как они называются?» — «Гвоздики». — «Нет, не гвоздики. На стебле колючки…» — «Розы, что ли?» — «Точно, Роза!» Он поворачивает голову и кричит в сторону кухни: «Роза, Роза, как называются таблетки, которые мне полностью восстановили память?»
— Для нас застолье — это времяпрепровождение, это беседы, — продолжал Оников. — Разговоры у нас были не стандартно-застольные, как принято в Москве. Никого не хочу обидеть, но кавказское застолье имеет свои принципы, свои цели. В молодости мы пили только вина. Когда он сменил вкусы, я не уследил. Но потом рядом с ним ставили именно водку. Даже если стояло множество разных напитков — коньяк, виски, водка, вино, он предпочитал водку. Пьяным, когда голову теряют, я его никогда не видел. У нас культ тостов. Тамадой он был очень хорошим, но когда мы бывали вместе, то обычно я тамада. И он, когда хотел произнести тост, обязательно на меня оглядывался. Что важно в тосте? Во-первых, изюминка — не просто «за здоровье такого-то», надо что-то придумать оригинальное. Он умел. Во-вторых, искренность. В-третьих, доброжелательность. И немногословность. Болтливость не годится. Тосты есть изысканные, есть обязательные. Вот, например, тост: выпьем за здоровье тех, кто пьет за наше здоровье в наше отсутствие. За российским столом считается, что каждый должен высказаться. Если кому-то не дают слова, он обижается. У нас на Кавказе наоборот. Говорит только тамада, и обижается тот, за кого не выпили. Переняли в Москве выражение «алаверды». В порядке алаверды… И что теперь? Я пью за твое здоровье, а он в порядке «алаверды» пьет за мое. Так нельзя. Один тост за одного человека — так положено…
По словам друзей Примакова, рыбалка его не увлекала, страсти к игре у него никогда не было. Карты, шашки, шахматы — не для него. Отдыхал Примаков на юге. Любил море. Всё-таки чуть было не стал морским офицером. В отличие от Бураковского никогда не увлекался охотой. Бураковский многих друзей приобщал к охоте, даже жена с ним ездила, но не Примаков. Общение с друзьями и чтение — вот его досуг. То, что он писал стихи, помогло ему и в трудные минуты жизни. Поэзия дает выход тревогам и печалям.
Непонятно одно: как два таких безумно занятых человека, как Примаков и Бураковский, находили время встречаться?
— Находили и почти что ежедневно, — улыбнулась Лилиана Бураковская. — Если несколько дней не виделись, Владимир Иванович обиженно звонил Евгению Максимовичу: «Ты почему меня бросил? Ты не бросай меня».
— Но как они вырывались из тысячи дел, которыми должны были заниматься? Да разве это мыслимо?
— Потому что они очень талантливы! Талант придает легкость всему. Это умение схватить быстро всё нужное, отбросить ненужное, аккумулировать, пропустить через себя и выдать свое. Владимир Иванович говорил, что хирургические операции — это серьезная работа. Всё остальное — руководство институтом, строительство — это всё ерунда, это игра, это можно сделать так, между прочим.
— И они не уставали от общения? Им не хотелось побыть в одиночестве, закрыться от всех?
— Нет, они очень душевно общались. У них были общие духовные интересы. У них находилось время даже для того, чтобы вместе ходить в мастерские художников.
— И не ссорились?
— Нет, никаких обид. Это же большие люди. Они всё понимают. Я не говорю, что они идеальные, что они святые. Они не были чужды всего человеческого, земного. Но они никогда не жили мелочами. Мелочная суета, мелочные интриги — всё это было далеко от них. Они были выше. Они постоянно спорили о происходящем в стране. Бураковский горячо говорил: «Вот сделайте меня министром внутренних дел, и я вам всю преступность искореню». Примаков ему в шутку отвечал: «Ты хирург, вот и занимайся своим делом». Однажды Евгений Максимович приехал к нам. Сели обедать. Перед обедом надо же по рюмочке выпить. Какие тосты были? «За ушедших» — то есть за родителей и всех, кого мы потеряли. За детей. За друзей. Владимир Иванович сказал тост в честь Жени. А я прибавила: «А у нас Женя еще и лакмусовая бумажка». Он понял, что я имею в виду: я на нем выверяла какие-то вещи, что правильно и что неправильно. Владимир Иванович с ним постоянно советовался. У меня проблемы потом были, уже после смерти Владимира Ивановича. Женя пришел. Как он сказал, так я и сделала. Он знал, как правильно поступить. Я ему доверяла.
— Вы общались с Евгением Максимовичем и когда он руководил правительством, был вторым человеком в стране?
— Общались.
— Когда же он находил время?
— Он всё делал легко.
— И вы запросто могли до него дозвониться?
— Я звонила Ирине Борисовне. Когда он еще был министром иностранных дел, они жили на даче, он сам всегда снимал трубку. Когда стал главой правительства, был страшно занят. Я звонила Ирине Борисовне, напоминала: мы двадцать второго числа собираемся, будет день памяти Владимира Ивановича. Она отвечала: да, да, обязательно придем.
— И приходили?
— Приходили. У нас умер общий друг. Евгений Максимович его очень любил. Он полтора часа стоял на панихиде, опустив голову. Потом еще раз приехал, когда было сорок дней…
Я сделал это отступление, рассказал о личной жизни Евгения Максимовича, совершенно сознательно, чтобы понятнее были мотивы его поступков и решений, имевших немалое значение для судьбы страны.
Семнадцатого августа 1999 года Евгений Максимович Примаков принял предложение блока «Отечество — Вся Россия» возглавить федеральный список для участия в выборах в Государственную думу и был избран председателем координационного совета блока. В августе и даже в сентябре мало кто сомневался, что на грядущих парламентских выборах победу одержит этот мощный блок «Отечество — Вся Россия».
А выборы в Думу воспринимались как репетиция президентских выборов.
За поведением Примакова в 1999 году многие следили с затаенным интересом, понимая, что он может сильно помочь избирательному блоку, к которому присоединится, и сильно помешать другим кандидатам в президенты, если бы решился участвовать в президентских выборах. Первым ему предложил союз московский мэр Лужков.
Юрий Михайлович сам подумывал об участии в президентских выборах, но колебался, реально оценивая свои шансы. Тем не менее в 1999 году он создал движение «Отечество». Когда Примакова отправили в отставку, Лужков сразу заговорил, что Евгений Максимович очень близок к «Отечеству». Союз Лужкова и Примакова казался довольно сильным. Но Евгений Максимович не хотел быть чисто московским кандидатом.
А в апреле 1999 года по инициативе президентов Татарстана Минтимера Шаймиева и Башкортостана Муртазы Рахимова образовался оргкомитет избирательного блока «Вся Россия». Первый съезд прошел в мае в Санкт-Петербурге. И группа влиятельных губернаторов, вошедших в блок «Вся Россия», предложила Лужкову союз, с тем чтобы общий избирательный список возглавил Примаков. Тон в этой организации задавали президент Татарстана Шаймиев, губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев (он выиграл выборы у Собчака, в результате чего остался без работы Владимир Путин) и президент Ингушетии Руслан Аушев. Все трое воспринимались как сильные региональные лидеры, на которых ориентируются другие губернаторы. К блоку присоединилась часть расколовшейся Аграрной партии во главе с Михаилом Лапшиным и бывшим вице-премьером Куликом. Получилась внушительная предвыборная сила.
Семнадцатого августа «Отечество» и «Вся Россия» объединились. Сопредседателями движения стали московский мэр Юрий Лужков и питерский губернатор Владимир Яковлев. Вместе с Примаковым они составили первую тройку в предвыборной борьбе.
Местные начальники по всей стране охотно строились под примаковские знамена, считая, что формируется новая партия власти (вместо той, что руководил Черномырдин), а в таких случаях главное — не опоздать. Правда, пока Сергей Степашин возглавлял правительство и готовился к выборам, некоторые региональные начальники старались и на него равняться. 9 августа Степашина отправили в отставку, и губернаторы взяли курс на Примакова.
Ельцина к тому времени списали окончательно, считая, что он тяжело болен, ни на что не способен и уже никому не опасен. Говорили, что у Ельцина серьезные проблемы с сосудами головного мозга, что иногда во время беседы он вдруг выключается, теряет нить разговора и потом не может вспомнить, о чем говорил. В обществе были уверены, что его политическая карьера закончилась и ему пора уходить.
Лидер коммунистов Геннадий Зюганов уверенно заявлял:
— Режим уже изжил себя окончательно. Он агонизирует. Ельцин уже не может управлять по-старому, а по-новому он не умеет. В ближайшее время «семья» его изолирует, чтобы он не мешал. Администрация президента растеряна, ослаблена, она не имеет авторитета. Время либералов ушло, народ их ненавидит…
Кто-то, правда, вспоминал, что прежде Борис Николаевич был хорош именно в критических ситуациях, когда его зажимали в угол. Но его взлеты и победы, казалось, остались в прошлом. Он не в состоянии был целый день высидеть в Кремле и всё больше времени проводил в загородной резиденции. Его появление на телеэкране производило странное и жалкое впечатление.
Он казался далеким не только от народа, но и от собственного правительства. Многие министры видели его только по телевидению. Он замкнулся в узком окружении, где главную скрипку играли его дочь Татьяна Дьяченко и журналист Валентин Юмашев. Пошли разговоры, что за него всё делает окружение. И, не спрашивая президента, выпускает указы с помощью резиновой печатки с факсимиле подписи Ельцина, которая хранится в сейфе заведующего канцелярией президента России…
Когда человек становится президентом, он понимает, что у него есть друзья, сторонники, подчиненные и враги. Потом с каждым днем друзей и сторонников у него становится меньше, а врагов всё больше. Может так получиться, что к концу срока у него останутся только подчиненные и враги. Нечто подобное произошло и с Ельциным.
Власть в любом случае обрекает на одиночество. И жалобы на то, что Борис Николаевич слишком подвержен чужому влиянию, скорее отражали недовольство тем, что он слушал советы одних, а не других, что одни лишились «доступа к телу», а другие его получили.
«А прислушиваться к чьим-то рекомендациям Ельцин никогда не любил, — говорил в интервью «Собеседнику» один из его бывших референтов Андрей Шторх, — то есть он всегда выслушает тебя с интересом, но думаю, что это тоже чисто русская черта — любопытство. Если он в душе не согласен, то на следующий день всё сделает наоборот».
Но пока Борис Николаевич был силен и здоров, он общался с огромным количеством людей. Постепенно состояние его здоровья привело к тому, что он стал встречаться со всё меньшим числом людей, закрылся для общественного мнения. Он принимал только несколько человек из администрации и министров-силовиков. Конечный результат оказался плачевным. Он остался один. А какой у него был круг соратников! Среди них попадались, конечно, и серые персонажи, и вовсе никудышные. Но были и блестящие политики. Всех растерял!
Как только президент замкнулся в узком кругу особо близких и доверенных лиц, сложилось впечатление, что эти люди и принимают все ключевые решения в стране. Летом 1999 года общество было убеждено, что вся власть сосредоточилась в руках этих людей. Со страниц газет не сходил термин «семья», потому что часть этого доверенного круга была связана с президентом не только служебными, но и родственными отношениями.
Что касается Валентина Юмашева, то у Ельцина, мечтавшего иметь сына, он был на положении самого близкого человека. Он работал на пару с Татьяной Дьяченко. Когда уже после ухода Ельцина в отставку Валентин и Татьяна поженились, это никого не удивило. И до того их часто видели вместе — они ездили за границу, играли в теннис, учили английский язык. А ведь когда-то утверждали, что у Татьяны роман с Чубайсом. Промахнулись. Чубайсу в ту пору некогда было романы заводить. А у Юмашева полно времени — и в теннис поиграть, и на вечеринку закатиться, и за границу съездить. Валентин Борисович Юмашев принадлежит к типу тихих и как бы робких мужчин, от ласковых манер которых тают женские сердца.
Нет, наверное, второго такого автора, который бы всего из трех книг, написанных от имени Ельцина, извлек столь масштабные дивиденды — не только в смысле денег.
Забавно, что в эти книжки Юмашев сам себе вписывал благодарственные слова от имени Бориса Николаевича. В первой: «Если бы не помощь молодого журналиста Валентина Юмашева, которому часто приходилось, подстраиваясь под мой ритм, работать без выходных и ночами напролет, — трудно сказать, появилась ли бы эта книга». Во второй: «Нас связывает более чем пятилетняя творческая дружба… Все три года, пока работал над рукописью, я знал, что он рядом со мной. Наши разговоры, иногда ночью в кремлевском кабинете, иногда в самолете, иногда у камина… позволяли мне постоянно чувствовать образ будущей книги…» В третьей: «Валентин — талантливый журналист, аналитик замечательный. Работать готов сутками».
Некоторые его подчиненные уверяли меня, что Валентин Юмашев, напротив, — гений ничегонеделания:
— Он очень способный человек в смысле человеческих отношений: уговорить, переубедить, свести кого-то с кем-то, уладить конфликт. Но работать с ним просто невозможно. Возникает проблема. Надо ее обсудить, говорит он, давайте проведем совещание. Обсудили, совещание заканчивается. Нормальный руководитель должен закончить совещание принятием какого-то решения. Юмашев говорит: давайте-ка еще соберемся и всё заново обсудим. А дело не двигается с мертвой точки…
Самого Юмашева каждодневная чиновничья работа тяготила. Его вполне устраивало положение неофициального советника президента. В конце 1998 года он ушел с поста руководителя администрации. Никто не мог понять, почему это произошло. Гадали, за какие грехи Ельцин расстался со своим любимцем. А дело было в другом: Юмашев почувствовал, что его отношения с Борисом Николаевичем становятся официальными. А он не хотел превращаться в еще одного чиновника. Он дорожил личными отношениями с президентом, поэтому ушел и сохранил свое место при дворе.
Самовластие «семьи» особенно наглядно проявилось летом 1999 года, в период короткого премьерства Степашина, когда он не в состоянии был назначить ни одного министра против воли администрации. Это очень настроило людей против Ельцина и его окружения. И практически одновременно в мировой прессе появились сообщения о том, что в различных иностранных банках обнаружены личные счета Ельцина, его дочерей, зятьев и ближайших к президенту чиновников.
Эти сообщения — особенно в отношении Ельцина — вызывали большие сомнения. Президентская пресс-служба опровергала обвинения, заявляла, что президент, его жена и их дети никогда не открывали счета в зарубежных банках. Борис Николаевич привык к тому, что все заботы о его жизни несет на себе государство. Ему никогда не надо было думать о деньгах, он сам ни за что не расплачивался. Для этого существовали Служба безопасности и Управление делами.
Виктор Степанович Черномырдин сказал по поводу разговоров о счетах Ельцина в заграничных банках:
— Наш президент денег уже лет пять или десять в глаза-то не видел. Он даже не знает, какие у нас деньги…
Коррупция в Кремле стала одной из главных тем предвыборной кампании 1999 года.
«Семья» восприняла разговоры о кремлевских махинациях как личную угрозу. Тем более что один из руководителей предвыборного штаба «Отечества» напомнил о судьбе семьи румынского вождя Николае Чаушеску, сметенного волной народного гнева. Это прозвучало зловеще, потому что Николае и Елена Чаушеску были расстреляны без суда и следствия, а их сына посадили на скамью подсудимых… В Кремле ощущали себя, как в осажденной крепости.
Многие влиятельные и очень богатые люди решили, что приход к власти Лужкова и Примакова для них смертельно опасен. Юрий Михайлович призывал проверить, насколько честно была проведена в стране приватизация, и расторгнуть незаконные сделки. Евгений Максимович требовал расследовать сомнительный бизнес олигархов.
Слова лидеров «Отечества» воспринимались всерьез. Большая группа стоящих у власти и распоряжающихся большими деньгами людей считала, что победа Примакова и Лужкова может стоить им не только власти и положения, но и свободы. Поэтому они, зажатые в угол, дрались отчаянно. Тогда, в начале осени 1999 года, объединились разные силы — администрация президента и некоторые олигархи; их интересы совпали: во что бы то ни стало не допустить победы Примакова и Лужкова.
Стратегия была разработана такая: во-первых, разрушить репутацию обоих политиков в глазах общественного мнения; во-вторых, сформировать новую политическую партию, способную составить конкуренцию предвыборному блоку «Отечество — Вся Россия».
Кремль с его административным ресурсом быстро перешел в контратаку. Ответ был симметричный. Поскольку жена московского мэра Елена Батурина занимается бизнесом, то принялись за нее. Московские прокуроры и чекисты, надо понимать, к этому не захотели иметь отношения. Нашли более исполнительных людей во Владимире, где Елена Батурина имела свои деловые интересы.
По указанию владимирского прокурора сотрудники областного управления Федеральной службы безопасности, расследуя дело о незаконном переводе денег за границу, занялись компанией «Интеко», которую возглавляла жена московского мэра. В офис компании явились чекисты, забрали документы. Об этом рассказали по телевидению: жена Лужкова подозревается в незаконном вывозе денег за границу!.. Чем же в таком случае семья Лужкова лучше семьи Ельцина?
Разразился скандал.
Директором ФСБ был уже тогда Николай Платонович Патрушев. Владимир Путин сказал, что Патрушев принадлежит к числу людей, которым он безоговорочно доверяет. Они познакомились еще во время совместной работы в Управлении КГБ по Ленинграду и области. И все сразу обратили внимание на личную преданность нового директора ФСБ Путину. Владимир Владимирович был еще главой правительства, а Патрушев уже повсюду его сопровождал, хотя обычно руководители ФСБ с премьер-министрами держатся, конечно, корректно и любезно, а подчиняются всё-таки только президенту. Но тут был особый случай.
Действия владимирских чекистов были восприняты как ответный удар по Лужкову, хотя на Лубянке это отрицали. «Дело Елены Батуриной» со временем оказалось полной липой, но ущерб репутации Лужкова был нанесен серьезный.
В начале сентября политическое пространство нашей страны превратилось в поле боя. Как в Чечне, здесь рвались снаряды и авиабомбы и орудовали снайперы.
Теоретически в безжалостной атаке на политиков есть свои плюсы. Кандидаты в депутаты перестают быть небожителями и предстают перед нами обычными людьми, грешными и ошибающимися. В странах с давними демократическими традициями политику не прощается то, что любому другому сойдет с рук. Ошибки, допущенные политиками, часто непоправимы. Если они совершили нечто непорядочное и аморальное, им этого никогда не забудут. Это логично — завоевав наши голоса, политики получают возможность распоряжаться не только нашими деньгами, принимая бюджет и устанавливая налоги, но и нашими жизнями, например, начав войну…
Но в избирательную кампанию 1999 года всё получилось иначе. Теоретически в ходе кампании мы должны были услышать, что именно предлагают кандидаты, с какой политической и экономической программой они собираются войти в Государственную думу, что могут для нас сделать.
Но вот об этом решительно никто не вспоминал и даже не спрашивал кандидатов! Избирательная кампания превратилась в натравливание общественного мнения на тех или иных лиц. Юрия Лужкова пытались просто уничтожить. Для телекомпании ОРТ (Первый канал) он превратился в главную мишень. Ему предъявлялись самые фантастические обвинения. Московский мэр неизменно подавал в суд и выигрывал процессы. Но это не имело никакого значения. На телеэкране его продолжали смешивать с грязью. Даже те, кто возмущался такими методами, смотрели эти передачи. Эта пропагандистская кампания нанесла невероятный урон Лужкову. Из солидного и уважаемого хозяйственника он превратился в предмет насмешек.
Конечно же, люди охотно верят, что все вокруг воруют, что все кругом преступники и негодяи, что любой начальник — взяточник и хапуга. Многие даже и не нуждаются в доказательствах. Они это знали заранее! А если им об этом еще и говорят с телеэкрана, то они всего лишь сладострастно убеждаются в собственной правоте. Можно не любить Лужкова и быть его противником, можно расследовать его работу в качестве мэра или коммерческую деятельность его жены, но всякое обвинение должно строиться на доказательствах, фактах, документах. Мы же видели на телеэкранах пустое ерничество, издевку и просто глумление, заигрывание с чернью и обращение к низменным инстинктам. Люди, которые этим занимались, распространяли мерзкие нравы коммунальной кухни на сферу политической борьбы. Они охотно разжигали в публике ненависть к преуспевающему соседу и непреодолимое желание нагадить ему в кастрюлю с супом или прищемить хвост его кошке.
Лужков меньше других был готов к тому, что на него выльют такие ушаты грязи. Пока его политические интересы не выходили за пределы Москвы, его в основном хвалили. Он привык к комплиментам. Похоже, он даже не подозревал, что настоящая политическая борьба — это драка без правил. В последние дни перед выборами 19 декабря 1999 года Юрий Михайлович выглядел неважно. Ему эта предвыборная кампания дорого обошлась.
Ошибка Лужкова состояла в том, что он с самого начала занял неверную позицию: реагировал на каждый выпад телевидения. Получилось, что крупный политик Лужков ведет борьбу не с другими политиками, не со своими соперниками, а всего-навсего с телевизионным журналистом.
Досталось и Евгению Примакову. В успех его партии на думских выборах поверили не только друзья Примакова, а многие были уверены, что следующим шагом станет избрание его президентом России. Поэтому он попал под прицельный огонь пропагандистских орудий крупного калибра. С одной стороны, доказывали, что он неизлечимо болен, а стране не нужен президент в инвалидной коляске, с другой — его обвиняли в диктаторских замашках.
Его, например, обвинили в попытке организовать убийство президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Наверное, это кому-то кажется логичным. Шеварднадзе предлагал сделать Грузию членом НАТО, то есть вредил российским интересам. А Примаков такой крутой человек, что ему замочить, как у нас теперь выражаются, какого-нибудь президента ничего не стоит…
Много позже, в 2009 году, в интервью «Комсомольской правде» Примаков рассказал:
— Я был в Тбилиси года два назад. Позвонил Шеварднадзе. В трубке молчание. «Эдуард Амвросиевич, я счел необходимым позвонить. Вам уже исполнилось восемьдесят лет. Мне скоро будет. Может быть, мы и никогда не увидимся». Он говорит: «Почему? Приходите». Поехал к нему на дачу. Сели за маленький столик. Первую рюмку подняли за упокой его жены. Она похоронена прямо на территории дачи, могила недалеко от дома. Поговорили. Шеварднадзе заметил: «А знаете, Евгений Максимович, у нас с вами в основном были хорошие отношения. На девяносто пять процентов». Задумался и произнес: «На девяносто три». Я очень доволен, что эта встреча состоялась.
Говорили в те предвыборные месяцы, что Примаков так и не оправился после операции, что его ждет следующая операция и закончится всё это инвалидностью. Как можно голосовать за инвалида, который не сможет исполнять свои обязанности? При этом на экране телевизора возникали лужи крови, которые должны были вызывать определенные ассоциации.
Именно в те дни, когда стране рассказывали, что Примаков с трудом передвигается, я наблюдал Евгения Максимовича в неформальной обстановке — на подмосковной даче. Он пребывал в прекрасном настроении, за столом ни в чем себе не отказывал, а после застолья пел и пританцовывал. Но это вместе со мной видели человек двадцать, страна же верила телевидению. Тем более что на телеэкране Евгений Максимович по-прежнему появлялся мрачным и недовольным. Это не множило ряды его сторонников.
Примаков так и не сумел наладить отношения с прессой и телевидением и многих журналистов настроил против себя. Тем не менее не стоит говорить, что выборы в Государственную думу в декабре 1999 года выиграло телевидение. Ведь Юрий Лужков всё равно был переизбран мэром Москвы абсолютным большинством голосов. А вот за политический блок «Отечество — Вся Россия», в котором он играл ключевую роль, проголосовало значительно меньше людей, чем ожидалось, — всего 13 процентов избирателей. Оппоненты из «Единства» завоевали почти вдвое больше. Государственная дума перешла под контроль Путина и его союзников.
В чем причина поражения на выборах в Государственную думу блока «Отечество — Вся Россия», который в начале кампании казался очевидным фаворитом? Ответов много.
Главный предвыборный лозунг блока ОВР: избавиться от Ельцина в Кремле — уже устарел к моменту выборов. Никто и не сомневался в том, что Борис Николаевич вскоре уйдет. А вот кто и что будет после него? Жесткие атаки на Ельцина и «семью», обвинения в коррупции били мимо главного соперника Примакова — нового в политике человека Владимира Путина и его блока «Единство». Сила Владимира Владимировича оказалась в том, что в тот момент никто ничего о нем не знал. Он был совершенно новым в политике человеком без отягчающего прошлого. И это оказалось неоспоримым преимуществом на выборах.
От политиков ждали не жесткой критики, а позитивной программы действий. А ее внезапно стал олицетворять новый глава правительства Путин. Молодой премьер выгодно смотрелся и на фоне семидесятилетнего Примакова. Да не только Примакову — всем политикам карты спутало появление Путина. Опрос общественного мнения в декабре 1999 года показал, что на будущих президентских выборах за Путина готовы голосовать 52 процента избирателей, за Примакова — только 12.
В Вашингтон прилетел Валентин Юмашев. Он рекламировал Путина как современную альтернативу Примакову, который так и не отказался от своего советского менталитета.
— Примаков, — доверительно говорил Юмашев первому заместителю государственного секретаря Соединенных Штатов Строубу Тэлботту, — будучи премьер-министром, использовал спецслужбы для запугивания своих политических противников, а вот Путин обуздает спецслужбы и позаботится о том, чтобы они превратились в законопослушные ведомства демократического государства…
Та избирательная кампания поначалу носила разочаровывающий характер, рождая чуть ли не отвращение ко всем политикам. Средний избиратель ведь не верит в себя. Он не считает, что его голос на выборах имеет какое-то значение. Скорее наоборот. Он опускает в избирательную урну бюллетень, будучи уверен, что результаты выборов зависят от кого-то другого. И власть всё равно достанется человеку, лишенному каких бы то ни было достоинств.
А тут еще избирателю со всех сторон внушали, что честных людей в политике нет и быть не может. Зачем тогда голосовать? Чувство, что мы живем в состоянии непрекращающего-ся обмана, становилось всеобщим, рождало ощущение бессилия, растерянности и опустошенности. Люди желали смены политических поколений, они были недовольны прежней политической элитой и мечтали увидеть новые лица.
На волне таких настроений победу обычно одерживают будущие диктаторы.
Осенью 1999 года Москва полнилась самыми разнообразными слухами. Говорили, что одряхлевший Ельцин отменит выборы и назначит премьер-министром Александра Ивановича Лебедя, избранного губернатором Красноярска. В столь критической ситуации лишь у генерала-десантника хватит характера удержать страну в руках… Считается, что это была идея Бориса Березовского, который всячески поддерживал Лебедя, видя в нем наилучшего кандидата в данный момент. Обнадеженный красноярский губернатор, должно быть, вспоминал старую китайскую пословицу: если долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно мимо тебя проплывет труп твоего врага.
Лебедь действительно как-то воодушевился. Он стал объяснять журналистам, что власть демонстрирует бессилие, что страна разваливается и впору вводить чрезвычайное положение, а Ельцин — слишком пожилой и слишком больной человек. Красноярский губернатор впечатляющим басом говорил, что ему понадобится полтора месяца, чтобы въехать в Кремль на белом коне. И неделя, чтобы коня перековать и почистить. Ведь неприлично гарцевать в Кремле на усталом и грязном коне…
При этом Александр Иванович вроде бы заранее отказался от должности, дескать, под руководством «семьи» реально ничего сделать нельзя. Но публичный отказ всего лишь свидетельствовал о том, что на самом деле предложение ему не сделано.
На фоне чехарды тех лет кресло премьер-министра казалось привлекательным, но опасным — не успел обжиться в кабинете, как приходится паковать чемоданы и освобождать место преемнику. Однако же не было ни одного политика, который отказался бы от предложения возглавить правительство, даже сознавая мимолетность сей славы. Верно, есть что-то упоительное в возможности — хотя бы ненадолго — взяться за штурвал управления страной.
Никто из бывших премьер-министров не захотел вернуться к прежнему делу, которым они занимались до того, как попали в Белый дом, — ни Гайдар, ни Черномырдин, ни Примаков, ни Кириенко, ни Степашин… Все отравлены властью и ни о какой иной жизни, кроме как в политике, и думать не могут. И Александр Лебедь наверняка мечтал о возвращении в Москву. Но возвращение должно быть триумфальным. Он потому и предпочел стать не депутатом Государственной думы — одним из многих, а губернатором далекого Красноярского края, потому как при его гордыне лучше быть первым в деревне, чем последним в городе. Но если бы ему реально предложили пост второго человека в стране, он бы, наверное, не отказался.
Потом появились другие слухи: под предлогом боев в Дагестане в стране точно введут чрезвычайное положение. Выборы, естественно, отменят, но страной будет управлять не давно отвергнутый Лебедь, а железный Путин, новый премьер-министр, которому «семья» полностью доверяет.
Тогда в первый раз заговорили о том, что Ельцин неожиданно объявит о своей досрочной отставке. В подобном случае по закону президентские выборы должны пройти не позднее чем через три месяца, то есть 19 декабря, одновременно с парламентскими. Это поставит в труднейшее положение всех вероятных кандидатов — и Примакова, и Зюганова, и Явлинского, и Лужкова, и Степашина. Зато Владимир Путин, как действующий премьер-министр, получит все возможности для того, чтобы стать фаворитом и быть избранным на пост президента.
Рассказывали, что президентская дочь Татьяна Дьяченко запросила у юристов документы о процедуре отречения. А самому президенту будто бы грозит новая операция на сердце, и он работает над текстом последнего обращения к народу…
Позиции Ельцина казались настолько слабыми, что даже обычно очень осторожный председатель Совета Федерации Егор Строев в интервью американским журналистам позволил себе намекнуть, что президенту пора уходить. Казалось, Совет Федерации готов поднять мятеж против Бориса Николаевича и предложить ему досрочно уйти в отставку. Председатель Государственной думы Геннадий Селезнев поспешил сказать, что, если Ельцин это сделает, Россия скажет ему «спасибо».
Эта идея досрочных выборов реализуется, но позже, когда Путин проявит себя. А в тот момент этот слух пренебрежительно отвергли — Ельцин, даже старый и больной, не очень был похож на человека, который способен по собственной воле отказаться от власти.
Совет Федерации на бунт не решился.
Говорят, Ельцин оказывал на губернаторов гипнотическое действие. У себя дома они клянут Бориса Николаевича на все лады. А как доберутся до Первопрестольной, их охватывает непонятная робость. В кремлевской приемной еще кулаками размахивают, а войдя в президентский кабинет, мигом забывают о своей фронде и покорно кивают: да, Борис Николаевич, конечно, Борис Николаевич… Даже главный его критик Геннадий Зюганов в присутствии президента терялся. Как заметил бывший референт Ельцина Андрей Шторх, Борис Николаевич никогда не кричал, но умел сделать так, что человек чувствовал себя полным ничтожеством.
Похоже на правду: строгого начальства в России всегда смертельно боялись. Председатель Совета Федерации Егор Строев хотя от своих слов и не отрекся, но поспешил исправиться и сказал, что «в верхней палате бунта на корабле не будет». А Ельцин великодушно согласился считать интервью «недоразумением».
И всё же Борис Николаевич в те месяцы явно нервничал.
Девятого октября 1999 года, в субботу, его госпитализировали с диагнозом «грипп», а в понедельник рано утром уже выписали. Конечно, врачи не любят, когда больные залеживаются. Это вроде как их плохо лечат. И пожилых людей неохотно кладут в больницу, потому что лечить их трудно. Но в данном случае навряд ли Центральная клиническая больница Управления делами президента спешила избавиться от своего главного пациента…
В возрасте Бориса Николаевича при гриппе провести на постельном режиме меньше недели — непростительное легкомыслие. Остаться в больнице было бы разумнее, но Ельцин потребовал его отпустить. Создалось впечатление, что Борис Николаевич поспешил выписаться, дабы не подумали, что он уже совсем не участвует в политической жизни страны.
Последние четыре года Ельцин часто болел. Любая его болезнь, даже просто посещение медицинского учреждения, вызывала в стране раздражение и подозрения. Борис Николаевич в конце концов стал чувствовать себя неуверенно, боялся показаться слабым и немощным. Общество возмущалось больным президентом, как суровый работодатель — хилым и нерадивым подчиненным, который постоянно хворает. Всякий раз, когда Ельцин попадал в больницу, от него требовали немедленно подать в отставку или на худой конец передать полномочия премьер-министру.
Ельцин явно опасался провести в больнице лишний день, что едва ли шло на пользу его здоровью. Борис Николаевич испытывал неодолимое желание доказать всем и вся, что он полон сил. Пошли разговоры о том, что и Путин пришел ненадолго, что и новый премьер нервничает, торопится себя показать. Боится то ли не успеть, то ли не угодить. Потом всё это оказалось слухами, хотя Владимир Владимирович действительно еще должен был доказать свою способность сменить Ельцина.
Решительность и твердость Путина в новой чеченской кампании более всего принесли ему симпатии. Недаром тогдашний министр внутренних дел Владимир Борисович Рушайло, прилетев в Чечню, поднял тост за Путина и сказал, что военная победа в Чечне будет вкладом в предвыборную кампанию Владимира Владимировича.
В Путине увидели молодого и уверенного в себе человека, который не только еще ничем не опорочен, но и не боится взять на себя ответственность. Он продемонстрировал те качества, по которым люди соскучились, — решительность и твердость.
Вторая война в Чечне была воспринята как свидетельство восстановления былой моши государства и единения общества, хотя бы на почве противостояния общему врагу. Это привело к неожиданному эффекту: социологи зафиксировали ожидание позитивных перемен в стране. Хотя реальных сдвигов в экономике не происходило, люди стали оптимистичнее смотреть на происходящее. Путин предстал как сильная фигура, которую есть смысл поддержать. Первыми эти настроения почувствовали местные начальники, которые всегда стараются оказаться в лагере победителя.
В сентябре тридцать девять губернаторов вдруг заявили о своем желании повлиять на исход избирательной борьбы. Им не нравились те, кто уже баллотировался в парламент. 21 сентября тридцать девять губернаторов подписали обращение к согражданам, заявив, что они не намерены участвовать в «примелькавшихся политических блоках». Они хотят видеть в Думе честных и ответственных народных избранников. Обращение подписали настолько разные люди (курский губернатор Александр Руцкой, екатеринбургский — Эдуард Россель, приморский — Евгений Наздратенко), что было совершенно невозможно понять, что способно их объединить, кроме желания не остаться в стороне от большой игры.
Губернаторский блок вроде бы поначалу сколачивал Борис Березовский в надежде создать базу для поддержки своего кандидата Александра Лебедя. Потом такой же блок собирали под Сергея Степашина. Но теперь за дело взялась президентская администрация — с задачей отобрать как можно больше голосов у Примакова и Лужкова и потопить на выборах их предвыборный блок «Отечество — Вся Россия».
В Кремле пустили в ход последний сухой патрон — министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергея Кужу-гетовича Шойгу, далекого от политических игр и потому ничем себя не скомпрометировавшего. Ему Ельцин присвоил звание Героя Российской Федерации и попросил без отрыва от работы возглавить новый предвыборный блок «Единство» (он же «Медведь»).
Сергей Шойгу пережил семерых премьер-министров и всегда благоразумно избегал политики. В 1993 году его включили было в избирательный список партии «Выбор России», но Шойгу благоразумно уклонился от такой чести (как чувствовал, что у этой партии нет большого будущего). Он попал и в оргкомитет черномырдинской партии «Наш дом — Россия», но опять-таки политиком не стал. Осенью 1999 года Шойгу не устоял перед искушением. После выборов — в благодарность за поддержку — Путин произведет его в вице-премьеры, правда, ненадолго…
Губернаторы обеспечили блок «Единство» своими людьми. Чем ближе к выборам, тем больше местных начальников присягали на верность Путину и обещали поддержать «Единство». Это был избирательный блок, фактически не имевший никакой программы, кроме как «мы — за Путина». За исключением первой тройки лидеров (министр Сергей Шойгу, борец Александр Карелин и милицейский генерал Александр Гуров), избирательный список состоял из никому не известной провинциальной номенклатуры средней руки. 9 декабря два десятка губернаторов, вспомнив знакомую формулу, призвали общество сплотиться вокруг «правительства во главе с Владимиром Путиным».
Уже после выборов «Единству» создадут региональную структуру, а потом уже объединят с лужковским «Отечеством» в новую партию «Единая Россия». В феврале 2002 года заместитель главы президентской администрации Владислав Юрьевич Сурков на встрече с активистами партии высказался совершенно откровенно:
— Что скрывать, партия создана с помощью административного ресурса, как КПСС. Но в КПСС никто не заботился о том, чтобы партия побеждала, — не было конкурентов. Люди рассчитывают так: Кремль и губернаторы всё за нас сделают. Всё это действительно так: делают Кремль и губернаторы. Партия — полурожденная, она должна отбросить пуповину и отделиться от бюрократии! Нельзя же всё время на искусственном дыхании, под капельницей. Отнеситесь как к работе в фирме. Если в вас вложили — дайте прибыль! Интеллектуальная жизнь в партии равняется нулю…
Тем не менее в 1999 году только что явившееся на свет «Единство» получило почти четверть всех голосов — только потому, что избиратели считали этот блок путинским. Владимир Путин публично заявил, что он сам проголосует за своего друга Сергея Шойгу и за «Единство». Но дело было не только в этом. Многие голосовали просто за новых людей, потому что старые — причем все! — надоели. У старых ничего не вышло, пусть другие попробуют…
Многие избиратели охотно откликнулись на призыв голосовать за «молодых, энергичных, грамотных». Это был лозунг Союза правых сил, но он помог и Путину тоже. К власти должны были прийти новые люди, которые, в представлении многих наших сограждан, лучше знают, как устроен современный мир и как в нем надо действовать. Чиновники, оставшиеся «со старого времени», уже исчерпали свой ресурс. Это был выбор между старым и новым поколениями. Всеобщая жажда обновления помогла Путину.
«Единство» поддержали и те, кто — не будь этого блока — отдали бы голоса за самые разные партии, в том числе и за компартию, и за Жириновского. Это люди, которые тосковали по сильной личности и увидели ее в Путине.
На выборах ОВР, как выразился Примаков, была оттеснена на третье место. Блок «Отечество — Вся Россия» обогнал «Единство» только там, где местные лидеры твердо поддержали Примакова и Лужкова. Например, в Татарии за ОВР проголосовало более 40 процентов избирателей (за «Единство» — всего 16), в Башкирии — 35 (за «Единство» — 14).
Руководители блока «Единство» в ночь с 19 на 20 декабря, когда стали известны первые итоги голосования, собрались на загородной даче Шойгу в неформальной обстановке. Атмосфера была праздничная. Приехали министр внутренних дел Рушайло, глава правительства Путин. Они поздравляли друг друга. Чуть позже появились руководитель президентской администрации Александр Стальевич Волошин и его заместитель Игорь Владимирович Шабдурасулов, который занимался всеми избирательными делами. Очень скоро их дороги разойдутся. Шабдурасулов, еще по работе на первом телевизионном канале связанный с Березовским, уйдет из администрации…
Радостный Шойгу предложил спеть «Работа у нас такая, забота у нас простая, жила бы страна родная, и нету других забот». Вместе с руководителями победившего блока пел и Путин. Собственно говоря, он и стал главным победителем на декабрьских выборах в Государственную думу. Путин уже научился очень серьезно относиться к себе. Подсчитал, что он двадцать девятый премьер-министр в истории России, поставив себя в один ряд с Петром Аркадьевичем Столыпиным и графом Сергеем Юльевичем Витте.
Выборы декабря 1999 года дали Борису Ельцину повод покинуть Кремль. Но еще до выборов положение самого Бориса Николаевича изменилось. Совсем недавно чуть ли не все считали своим долгом продемонстрировать пренебрежение к Ельцину, походя пнуть президента. Его называли жалким человеком, который ничем не управляет, которого никто не уважает. Но в последние месяцы на Ельцина перестали нападать. Стихли и разговоры о том, что сам он давно ничего не решает и пляшет под дудочку своих советчиков.
Люди, близко соприкасавшиеся с ним в последние месяцы работы в Кремле, уверяли, что, хотя он выглядел больным стариком, его политический инстинкт, властность и умение маневрировать сохранились полностью. Его последний проект под названием «Путин» удался. И Борис Николаевич, казалось, непоколебимо сидит на пирамиде власти, которой все спешат присягнуть на верность. Но где-то в октябре он решил для себя, что уйдет. Его помощники заметили, что он как-то вдруг успокоился.
Владимир Путин на посту премьер-министра был сверхлоялен, всё согласовывал с Кремлем, не позволял себе ни намека, ни шага, которые бы кого-то в президентском окружении смутили. Недаром в своем телеобращении Ельцин, оценивая нового главу правительства, веско произнес:
— Я в нем уверен.
Почему Борис Николаевич остановил свой выбор на Владимире Владимировиче?
Логику отца попыталась воспроизвести Татьяна Дьяченко — в своем интернет-блоге:
«Вы уже смогли убедиться, что перед вами серьезный, сильный руководитель, политик… Вам нравились его содержательные доклады, его аргументация, его спокойный, сдержанный подход к острым проблемам, которые тут и там возникали в регионах страны. Вы не могли не оценить, как он достойно повел себя, когда на его учителя Анатолия Собчака произошла атака со сфабрикованными уголовными делами, и он, рискуя и должностью, и своим положением, фактически спас его.
И когда премьер-министр Сергей Кириенко предложил Путина на должность директора ФСБ, вы с удовольствием поддержали это предложение. Вам нравится в нем и то, что он не рвется на должности. Когда вы с ним говорили о назначении директором ФСБ, он ответил, что ему нравится та работа, которую он делает сейчас. И ему было бы жаль ее покинуть. Вас совсем не смущает его прошлая работа в КГБ. Наоборот, в советское время образ разведчика всегда был светлым образом, и почему молодой человек пошел в разведчики, конечно, понятно. Но в 91-м году он пришел к одному из главных лидеров новой демократической России Собчаку и прошел с ним весь путь до конца.
Вы наблюдали его во время работы Совбеза, во время различных совещаний, вы изучаете его во время встреч один на один, директор ФСБ постоянно на докладе у президента. Он один из самых содержательных людей в вашей команде. Вы решаете, что он — ваш главный кандидат.
Он поведет страну демократическим курсом. Он — за рыночные реформы. Он с сильным характером, он продолжит движение России вперед. У вас нет сомнения, что он победит во время предвыборной кампании Зюганова. Да, сейчас его никто не знает. Но вы уверены в том, что его обаяние и его внутреннюю силу сразу почувствуют люди. У вас нет сомнения, выиграет ли он выборы. Точно, выиграет. Вы только продолжаете думать и анализировать — Путин или не Путин. А потом всё-таки решаете. Путин».
Ельцин уверяет, что первый разговор с Путиным о передаче власти у них состоялся 14 декабря 1999 года, еще до выборов в Государственную думу. Ельцин сказал премьер-министру, что принял решение уйти досрочно: Путин становится исполняющим обязанности президента и в этом качестве участвует в выборах.
Владимир Владимирович, по словам Ельцина, не спешил с ответом. Борис Николаевич добавил, что намерен уйти до Нового года.
— Думаю, я не готов к этому решению, Борис Николаевич, — ответил Путин. — Понимаете, это довольно трудная судьба.
— Я тоже когда-то хотел совсем иначе прожить свою жизнь, — ответил Ельцин. — Не знал, что так получится. Но пришлось… Пришлось выбирать. Теперь вам надо выбирать.
Путин, как положено, продолжал отказываться:
— Вы очень нужны России. Вы мне очень помогаете. Очень важно, что мы с вами работаем вместе. Может, лучше уйти в срок?
Но Ельцин своих решений не менял.
— Ну так как? — настаивал он. — Вы мне не ответили.
— Я согласен, Борис Николаевич.
И Путин, и Ельцин потом порознь описывали этот разговор. Похоже, они упустили один важный момент, который не мог не обсуждаться: некие обязательства, которые Путин берет на себя. И речь должна была идти не только о личной судьбе Бориса Николаевича, семьи и некоторых фигур его окружения. Татьяна Дьяченко говорила журналистам, что Владимир Владимирович связан «человеческими обязательствами»:
— И не перед какой-то абстрактной командой, а перед папой.
Теоретически они должны были обговорить те ключевые направления политики страны, которые Путин возьмется продолжать. Но эту важнейшую часть разговора оба участника судьбоносной беседы в Кремле нам не пересказали.
Ельцин ушел досрочно не потому, что ему стало невмоготу, хотя физически он был очень плох. И он сам, и его окружение пришли к выводу, что досрочные выборы дают Путину все шансы на победу. Его соперники не успеют подготовиться.
Предвыборный штаб Путина уже работал, хотя и в обстановке секретности. Боязливые эксперты предупреждали, что сейчас Путин — абсолютный фаворит, но настроения могут измениться. Через полгода, когда должны были пройти президентские выборы, его образ неизвестно откуда появившегося героя-чудотворца может померкнуть, и уже никто не гарантирует ему победы.
Во всём мире правящие партии норовят объявить досрочные выборы в выгодный для себя момент — обычно, когда экономика на подъеме, чтобы собрать побольше голосов. В случае с Путиным всё выглядело иначе: казалось, что его хотели поскорее избрать, пока никто о нем ничего не знает. Словно боялись, что потом разберутся и проголосуют против.
Ельцин с удовольствием вспоминал, как ловко он организовал передачу власти Владимиру Путину. При этом не задумывался — или не хотел задуматься — над тем, что эта операция носила достаточно циничный характер. Формально всё было сделано по закону, а по существу право российских граждан выбрать себе такого президента, которого они хотят, было ограниченно.
Двадцать второго декабря 1999 года, сразу после выборов в Государственную думу, глава правительства приехал к Ельцину с обычным докладом, говорил об экономической ситуации, о положении на Северном Кавказе. Но президент думал о другом.
Борис Николаевич ходил по кабинету, смотрел в окно и говорил, что ему трудно расставаться с Кремлем, потому что многое связано с этими стенами, с людьми, которые здесь работают, тем не менее он повторил:
— Я думал и принял твердое решение. Я это сделаю.
Они разговаривали еще несколько раз. Все необходимые документы юристы подготовили давно — вариант досрочного ухода и в самом деле не раз рассматривался за закрытыми дверями в Кремле. Текст последнего обращения Ельцина писали руководитель президентской администрации Александр Волошин и Валентин Юмашев — никому другому не доверили.
Двадцать девятого декабря 1999 года в кремлевский кабинет Волошина пришли Путин и Татьяна Дьяченко. «Владимир Владимирович, — вспоминала дочь Ельцина, — рассказал, что попросил папу не уходить, всё-таки подумать о том, чтобы остаться на своем посту до конца срока, что ему еще необходимо время, чтобы набраться опыта, что ему легче, когда рядом президент. Но папа сказал, что решение принято. Я видела, что, на самом деле, Путину нелегко свыкаться с мыслью, что уже через два дня вся ответственность за страну ляжет на его плечи. Никого сзади уже не будет. И с этим придется жить долгие годы».
Тридцатого декабря новогодний прием в Кремле давали от имени президента. Но Ельцин на приеме отсутствовал. Хозяином стал глава правительства Владимир Путин. Он произнес тост:
— За благополучие и покой в каждом нашем доме, в каждой нашей семье! За новые победы в новом году! За великую Россию!
Сделаю маленькое отступление. В тот день, 30 декабря вечером, я выступал со своим обычным комментарием в программе новостей телекомпании ТВ Центр, где тогда работал. Почему-то в тот последний рабочий день года я решил попрощаться с Ельциным. И вот что сказал (цитирую по записи):
— Если вы сейчас смотрите нашу программу, значит, вы тоже не пошли на большой новогодний прием в Кремле, который сегодня — впервые за все годы своей власти — решил дать президент Ельцин. В последний момент он всё-таки не пришел и поручил Путину исполнять обязанности хозяина.
Помимо очевидного желания уязвить Юрия Лужкова, а раньше такие приемы устраивал московский мэр, Ельциным руководило, наверное, и желание использовать последнюю возможность. К следующему новогоднему приему в Кремле обоснуется новый хозяин. 2000 год станет не просто годом президентских выборов, но и прощанием с целой эпохой, которую вполне можно назвать эпохой Ельцина. Всё, что происходило с нами в последние десять лет, связано с этим человеком. Кто бы сейчас ни был избран президентом, он станет им потому, что его выдвинул Ельцин…
Итак, вечером 30 декабря я публично попрощался с президентом Ельциным, а на следующий день он действительно ушел в отставку.
Тридцать первого декабря Ельцин подписал Указ № 1761:
«1. В соответствии с частью 2 статьи 92 Конституции Российской Федерации прекращаю с 12 часов 00 минут 31 декабря 1999 г. исполнение полномочий Президента Российской Федерации.
2. В соответствии с частью 3 статьи 92 Конституции Российской Федерации полномочия Президента Российской Федерации временно исполняет Председатель Правительства Российской Федерации с 12 часов 00 минут 31 декабря 1999 г.
3. Настоящий указ вступает в силу с момента его подписания».
Это был последний указ президента Ельцина.
Он всегда придавал особое значение этой процедуре. Никогда не ставил поспешную закорючку, подписывался очень аккуратно, тщательно выводя все буквы своей фамилии. Подпись на указе ставил специальной ручкой — только перьевой. Когда ему приносили указ, Ельцин спрашивал:
— Где ручка, которой я буду подписывать?
Владимир Владимирович Путин подписал следующий по номеру указ — первый в своей жизни:
«В связи с отставкой Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина приступил в соответствии со статьей 92 Конституции Российской Федерации к временному исполнению полномочий Президента Российской Федерации с 12 часов 00 минут 31 декабря 1999 г.».
Вскоре к ним присоединился Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Своим присутствием он как бы освятил церемонию передачи власти. Волнующая публику передача «ядер-ного чемоданчика» прошла самым простым образом. Дежурный офицер-оператор, обладатель переносного терминала «Чегет», обеспечивающего постоянный доступ президента к закрытой системе связи «Казбек», стал теперь сопровождать не Ельцина, а Путина. Эта система связи дает возможность в любой точке и в любой момент устроить совещание между президентом, министром обороны и начальником Генерального штаба и — в случае необходимости — принять решение о нанесении ядерного удара.
В восемь утра телевизионная съемочная группа уже была в Кремле, хотя для маскировки 28 декабря Борис Николаевич записал стандартное поздравление с Новым годом. Это была операция прикрытия, чтобы никто ничего не заподозрил. 31 декабря Ельцин приехал в Кремль необычно рано — к десяти утра. Запись настоящего обращения была назначена на одиннадцать. Он распорядился пригласить Путина, который находился в тот момент в Белом доме, и силовых министров.
Телеобращение Ельцина должно было выйти в эфир в полдень по московскому времени, когда на Дальнем Востоке уже готовились отмечать Новый год. На телевидение кассету отвез сам Валентин Юмашев в бронированном лимузине, впереди мчалась машина ГАИ.
Прощальное выступление Ельцина было, как всегда, ясным и точным. Конечно, речи президенту пишут помощники (над этим обращением работали всё те же Татьяна Дьяченко, Александр Волошин и Валентин Юмашев). Но помощники пишут такие речи, которые президент желает произнести. Вслед за Ельциным и Путин прочитал свое первое обращение — в том же кабинете, только ему принесли другой стол.
Ельцин заплакал, заплакала и Татьяна Дьяченко. Борис Николаевич приказал принести шампанского, потом устроил небольшой обед для силовиков и официально представил им нового президента — Владимира Владимировича Путина. В час дня Ельцин поднялся, чтобы уехать. Договорились, что на следующий день, 1 января, Путин, Волошин и министр обороны маршал Игорь Сергеев приедут к Ельцину на дачу обедать.
Гостей угостят пельменями, которые так любят в семье Ельциных. Татьяна Дьяченко соберет свои вещи и покинет кабинет в первом корпусе Кремля. Ритмоводитель президентской администрации Волошин отыщет на даче главного редактора «Российской газеты» Анатолия Юркова и попросит срочно опубликовать Закон «О выборах Президента Российской Федерации».
Любой закон вступает в силу только после публикации в «Российской газете». 5 января 2000 года обещал собраться Совет Федерации, чтобы назначить президентские выборы на 26 марта. Если бы закон к тому времени не опубликовали, пришлось бы откладывать выборы. А этого в Кремле не хотели…
Путин подписал давно подготовленный Указ «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».
Главное в этом указе состоит в том, что Ельцину был предоставлен полный иммунитет от уголовного преследования: он «не может быть привлечен к уголовной или к административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру». Столь же неприкосновенными оставались его жилье и транспорт.
Вспомним, что в 1991 году президент России Борис Ельцин, завоевав Кремль, категорически отказался наделить такой же неприкосновенностью Михаила Сергеевича Горбачева, уходившего с поста президента СССР, и посоветовал тому сразу покаяться во всех своих грехах — пока не поздно.
Через год Государственная дума рассмотрит законопроект «О гарантиях Президенту России, прекратившему исполнение полномочий, и членам его семьи». Законопроект фактически повторял указ, подписанный Путиным 31 декабря 1999 года.
Путинский указ сохранил за Ельциным практически все блага и привилегии, которыми Борис Николаевич пользовался до отставки: государственную дачу, спецтранспорт, охрану, медицинское обслуживание, все виды правительственной связи и деньги на помощников и секретарей. Многое из этого распространяется и на семью бывшего президента, что особенно не понравилось депутатам, поэтому администрация президента согласилась уточнить и по возможности сократить число привилегированных членов семьи.
Депутаты говорили, что предоставлять бывшему президенту иммунитет от уголовного преследования опасно, потому что тем самым ему позволяется совершать любые преступления. Поэтому предусмотрели такую ситуацию: если бывший президент, уже находясь в отставке, совершит уголовное преступление, то Государственная дума может по докладу генерального прокурора и после тщательного изучения обстоятельств дела принять специальное решение о привлечении бывшего главы государства к уголовной ответственности.
Когда в стране многие семьи буквально замерзали, сидели без тепла и света, когда не отапливались больницы, школы и детские дома, как-то не очень уместно было оглашать тот огромный список привилегий, который положен бывшему президенту и его семье. Людям, которые находятся в бедственной ситуации, неприятно слышать, что за их счет семья одного человека обретает невиданно комфортную жизнь, что чьих-то детей и внуков будут лечить, возить и охранять за счет налогоплательщиков. Граждане готовы признать право на привилегии для действующего президента, но не для прежнего. Тем более что у многих людей в нашей стране был личный счет к Борису Ельцину.
Конечно же, те льготы, которыми Путин наделил Ельцина, это больше, чем следует давать бывшему президенту. Понятно, что это было частью политической сделки, в результате которой Ельцин досрочно покинул Кремль и тем самым фактически гарантировал Путину победу на выборах. И тем не менее такой закон следовало принять. В России очень молодая демократия, у нас демократические механизмы еще не действуют в автоматическом режиме. Теперь-то мы знаем, сколько раз Ельцин собирался отменить президентские выборы и остаться у власти без нашего благословения. В частности, такая мысль приходила ему в голову еще и потому, что он понимал: если к власти придут его политические противники, они могут устроить над ним расправу.
Он ушел тогда, когда убедился, что бояться ему нечего.
Когда-нибудь, когда демократические механизмы отдалятся, можно будет пересмотреть этот закон и сократить перечень привилегий, которые полагаются бывшему президенту. Но сейчас мы все заинтересованы в том, чтобы президенты безбоязненно покидали Кремль, когда их срок закончится…
Тридцать первого декабря 1999 года Ельцин и Путин проговорили еще часа два. Напоследок Ельцин зашел в свой кабинет, обвел его глазами, констатировал:
— Здесь всё государственное. Моего уже ничего нет.
Все его личные вещи и документы увезли на дачу. Путину он подарил ручку, которой подписывал указы. Потом Борис Николаевич уехал из Кремля, сказав на прощание:
— Берегите Россию.
Владимир Владимирович остался. Наступили новый год, новый век и новая эпоха. Жизнь в Кремле продолжалась. Уже без Ельцина.
Двенадцатого января 2000 года инициативная группа трудящихся выдвинула Владимира Путина кандидатом в президенты Российской Федерации. Состав инициативной группы произвел впечатление: политики широкого спектра — от Александра Руцкого до Анатолия Чубайса и деятели культуры — от Марка Захарова до Михаила Боярского. Самые заметные люди в стране спешили выразить свою поддержку Владимиру Путину и заявить, что лучшего президента они себе и представить не могут.
Завидная интуиция и прозорливость! Люди тертые, опытные, они почувствовали, что личная преданность при новом хозяине Кремля будет высоко цениться и не стоит упускать свой шанс. Лишь немногие политики рискнули тогда выразить недовольство. Самарский губернатор Константин Алексеевич Титов заявил, что говорить о демократических выборах не приходится:
— Сейчас мы имеем вариант коммунистических выборов. Нам дали кандидатуру. Наша задача только прийти на избирательные участки и организованно проголосовать.
Ксения Юрьевна Пономарева, в прошлом генеральный директор ОРТ и заместитель руководителя предвыборного штаба Путина, рассказывала в интервью газете «Коммерсантъ», что еще осенью 1999 года, до ухода Ельцина и назначения досрочных президентских выборов, была сформирована группа, которой поручили готовить избрание Владимира Владимировича. Кстати, осталось неизвестным, кто финансировал предвыборную кампанию Путина, кто оплачивал услуги его команды, Центра стратегических разработок Германа Оскаровича Грефа.
Предвыборный штаб пришел к выводу, что Путин — клиент не очень пластичный, что в нем личностного меньше, чем в Ельцине, который умел и любил играть. Но на экране телевизоров Пугин выглядел достаточно убедительно, и многие люди ему поверили.
— В общем было понимание, — вспоминает Ксения Пономарева, — что, даже если русский народ не знает, кто такой Путин, так народу этого и не надо. Народу достаточно вот этого — «мочить в сортире», то есть нужны фразы, которые лепят образ.
Его первого пресс-секретаря Михаила Кожухова спрашивали, кто придумал Путину эту фразу, ставшую знаменитой.
— Ему вообще никто ничего не придумывает, — ответил Кожухов. — Это экспромты. У Путина шикарное чувство юмора.
Владимир Владимирович не поддавался давлению своего предвыборного штаба, делал только то, что считал нужным. Он сам захотел полетать на истребителе или отправиться на Новый год в Чечню — поздравить солдат.
— Тому, чего он не умел делать, научить его не удалось, — рассказывала Ксения Пономарева. — Я, конечно, не могу сказать, что он чувствует, но он совершенно не умеет выражать сочувствие. Когда он приходит в госпиталь, где лежат раненые солдаты или больные дети, возможно, у него сердце кровью обливается, но он не умеет этого показывать, и люди это чувствуют. Возникает острое ощущение дискомфорта.
Со временем Владимир Владимирович и этому научился, целуя детей в животик.
Еще ни один кандидат не вступал в предвыборную гонку с такими отличными стартовыми позициями. В начале 1996 года, когда Ельцин решился баллотироваться, его рейтинг был ничтожен, и многие с ужасом думали, что во втором туре придется выбирать между Зюгановым и Жириновским.
Но и во время первых президентских выборов, летом 1991 года, когда Ельцин был народным любимцем, ему противостояли серьезные конкуренты или казавшиеся серьезными — в первую очередь бывший глава союзного правительства Николай Иванович Рыжков. Он был тогда очень известен и многим нравился.
Среди тех, кто в 2000 году изъявил желание баллотироваться в президенты, серьезного конкурента у Путина не оказалось. Так что политологи прикидывали не шансы других кандидатов, а скорее пытались понять, может ли что-то помешать Путину завоевать избирателя. Хотя значительно важнее было бы понять, как он поведет себя в случае победы на выборах.
Когда ночью 26 марта 2000 года подводили итоги президентских выборов, выяснилось, что общество расколото. Очень многие, значительно больше, чем предполагалось, проголосовали за лидера коммунистов Геннадия Зюганова и за кемеровского губернатора Амана Тулеева. Столица разошлась во мнениях с остальной Россией. В Москве поддержали Григория Явлинского, хотя накануне выборов его со всех сторон обливали грязью.
Либерально настроенная публика не знала, что делать. Она не хотела голосовать ни за Путина, ни, разумеется, за Зюганова. Оставалось только одно — либо против всех, либо за Григория Явлинского. Он на этих выборах был олицетворением либерального, демократического начала, но, к сожалению, при всём уважении к Григорию Алексеевичу его трудно представить в кресле президента.
Большинство поддержало Путина. Люди были рады видеть новое лицо. Они устали от Ельцина и его невыполненных обещаний, от политиков его эпохи, несмотря на их личные достоинства. При этом никто, даже те, кто проголосовал за Путина, не представляли себе, каким именно он будет президентом.
А почему же самый серьезный соперник — Примаков — не участвовал в президентских выборах?
За день до выборов в Государственную думу, 17 декабря 1999 года, он специально появился на телеэкранах, чтобы заявить о своем твердом намерении баллотироваться в президенты. Нужды в этом не было, но Евгений Максимович желал подчеркнуть свою решимость идти до конца и добиваться победы.
Однако результаты голосования оказались разочаровывающими.
Впоследствии он объяснил, что те слова накануне парламентских выборов в декабре 1999 года ему навязали советники. Они доказывали, что это надо обязательно сделать, чтобы прибавить голосов блоку «Отечество — Вся Россия».
Потом будут задавать вопросы: почему Примаков совершил так много ошибок в предвыборную кампанию? Зачем организаторы и планировщики кампании позволили ему втянуться в прямую полемику с тележурналистом Первого канала Сергеем Доренко, хотя это не его уровень? Зачем критиковал чеченскую войну, хотя ясно было, что избирателю это не понравится?
Примаков признавал, что избирательная кампания была организована из рук вон плохо, что ему давали неудачные советы. Но всё это скорее детали. В аппарате блока «Отечество — Вся Россия» недооценили подвижность массового сознания. Взрывы в Москве изменили настроения общества. Люди предъявили новые требования к власти и к первому человеку в стране, и идеальной фигурой на этом месте оказался Путин. Кроме того, наша страна в общем и целом голосует за власть, а не за оппозицию. А Примаков и заметить не успел, как оказался в несвойственной ему роли оппозиционера.
Правящий класс, губернаторы, большие и малые чиновники уже переориентировались на нового хозяина.
В новой Государственной думе Евгений Максимович принял на себя обязанности лидера фракции «Отечество — Вся Россия», получившей — 75 мандатов. А победители на каждом шагу, начиная с распределения мест в комитетах Думы, напоминали ему о неудаче на выборах.
Работа третьей Государственной думы началась с неприятного для Примакова сюрприза. «Единство» поделило руководящие портфели в Думе вместе с коммунистами и Жириновским. Эта акция была направлена не против «Яблока» и Союза правых сил, которые провели в Думу сравнительно небольшие фракции, а против Примакова и Лужкова. Обделенные фракции покинули зал заседаний и в знак протеста некоторое время не участвовали в работе Думы.
Надо отметить, что президент Путин неизменно демонстрировал Примакову свое уважение. Владимир Владимирович еще будучи главой правительства пришел на семидесятилетие Примакова, которое тот отмечал в одном из московских ресторанов. А ведь в тот момент, в конце октября 1999 года, они были политическими конкурентами.
Примаков 4 февраля 2000 года, выступая по телевидению, отказался участвовать в заведомо проигрышной президентской кампании:
— После 17 декабря 1999 года, когда я сказал о согласии на участие в президентской гонке, я получил поддержку, тысячи телеграмм и писем. Это меня должно было утвердить в положительном решении, однако во время выборов и в начале работы в Госдуме я почувствовал, как далеко наше общество от гражданского облика, от истинной демократии. Я не думаю, что положение может коренным образом измениться за несколько недель.
Чтобы противостоять Путину, Евгений Максимович должен был возглавить оппозицию — левую или правую, но он не принадлежал ни к той, ни к другой. Об отказе баллотироваться Примаков сам сказал Путину. Надо полагать, для Владимира Владимировича это было приятное известие. Он уже понимал, что выиграть у него Примаков не сможет, но если бы тот выставил свою кандидатуру, мог быть второй тур. А важно выиграть сразу.
Когда стало ясно, что первоначальные планы — завоевать большинство голосов в Думе и баллотироваться в президенты — не удались, Примаков сразу решил покинуть политическое поприще. Он остался в Думе, уступив просьбам и не желая выглядеть дезертиром. Отбыл половину срока и заслужил право на «условно-досрочное освобождение». Тем более что весной 2001 года начались переговоры о слиянии «Отечества» и «Единства». Они шли без ведома Примакова. Когда он выразил недоумение, Лужков как ни в чем не бывало объяснил Евгению Максимовичу: вы же не член движения «Отечество».
Третьего сентября 2001 года Примаков покинул пост руководителя фракции. Его сменил в Думе Вячеслав Володин, со временем он станет первым заместителем руководителя администрации президента.
— Это не политический шаг, — говорил Евгений Максимович журналистам. — Первая причина, главная — я считаю, что руководитель фракции должен быть обязательно представлен в высшем органе той партии, которая образует эту фракцию. «Отечество» становится партией, будет съезд. А я в партийном строительстве не участвую. В этих условиях я считаю, что на мое место должен прийти человек, который займет одно из руководящих мест в партии.
Решение Примакова для многих всё равно оказалось неожиданностью. Но ведь когда он возглавил избирательную кампанию блока «Отечество — Вся Россия», то вовсе не собирался работать в Думе. Тем более что именно работу в парламенте Примаков никогда не любил. Евгений Максимович в частной жизни был человеком веселым, живым, остроумным, компанейским, но для публичного политика ему не хватало некоторой доли позерства, самоуверенности, самолюбования и склонности к витийству. Он, как я понимаю, считал, что красиво говорить надо за дружеским столом, когда бокал поднимаешь и произносишь тост, а не на рабочем месте. Лучше всего — он много раз это повторял — ему работалось в Службе внешней разведки, подальше от телевизионных камер.
— Если Евгений Максимович Примаков уходит из большой политики, то я крайне сожалею об этом, — эти слова я сказал тогда в прямом телеэфире. — Он один из тех немногих политиков, кому авторитет позволяет иметь собственную точку зрения, ее безбоязненно высказывать и отстаивать. Дума без Примакова станет более одинаковой и более послушной.
Так и произошло.
Предположения относительно его будущего строились самые разные. Говорили, что Путин либо поставит Примакова во главе Совета Федерации, либо даже вновь доверит ему правительство как человеку, обладающему бесценным опытом и значительным авторитетом.
Мне эти предположения казались наивными. Несмотря на преувеличенно вежливое отношение к Примакову в Кремле, думаю, что там несказанно обрадовались его уходу из политики.
Четырнадцатого декабря 2003 года на внеочередном съезде Торгово-промышленной палаты Примакова единодушно избрали ее президентом. Он обещал расширить полномочия палаты, поднять ее статус, защищать предпринимателей и бороться против вымогательств со стороны чиновников во время постоянных проверок.
На очередной встрече с президентом Примаков говорил:
— Мы делаем всё возможное, чтобы установить хорошие связи предпринимателей с властью. Торгово-промышленная палата много делает для развития работы российских предпринимателей за рубежом.
Его первым заместителем стал Борис Николаевич Пастухов, человек очень известный. Бывший руководитель комсомола, он работал заместителем у Примакова в Министерстве иностранных дел, министром по делам СНГ в его правительстве, депутатом в его фракции. Борис Пастухов известен кипучей энергией и трогательной заботой о друзьях.
Пока Примаков руководил правительством, многие журналисты жаловались, что он не любит прессу. Но в трудные для журналистов времена именно Евгений Максимович пришел к ним на помощь.
В избирательной кампании 1999 и 2000 годов телекомпания НТВ, как и все средства массовой информации, принадлежавшие Владимиру Александровичу Гусинскому, не поддержали Путина и «Единство» (ныне «Единая Россия»), скорее симпатизировали Примакову. В окружении президента исходили из того, что НТВ выполняет политический заказ. «Мощнейшая медиагруппа Гусинского во главе с НТВ уже работала против власти», — писала дочь Ельцина в своем интернет-блоге. Сами журналисты считали, что верны профессиональному долгу.
— Как вы можете доверять Путину? — спросил Валентина Юмашева один из руководителей НТВ Игорь Евгеньевич Малашенко, политолог по профессии (его в свое время Ельцин приглашал в Кремль руководителем администрации).
— Он не предал Собчака, — был ответ. — И нас не предаст.
В тот момент угрозы из лужковского лагеря — наказать коррупционеров из ельцинской «семьи» (в широком смысле) казались вполне реальными. НТВ обвинило главу президентской администрации Александра Волошина и президентскую дочку Татьяну Дьяченко в коррупции. Так что борьба против НТВ была делом личным, борьбой за выживание. Рассказывали, что на одном совещании Волошин обещал сломать «Мост» Гусинского, пока «Мост» не сломает государство… На самом деле не государству угрожал «Мост», а некоторым чиновникам. Что представлял собой «Медиамост» в 2000 году? Это телекомпания НТВ, ежедневная газета «Сегодня», еженедельный журнал «Итоги» и радиостанция «Эхо Москвы».
В одну апрельскую ночь 2001 года у НТВ появилось новое руководство и другая редакционная политика. Значительная часть творческого коллектива покинула четвертый канал. Декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Ясен Николаевич Засурский, уважаемый в журналистском мире человек, назвал эту операцию «кастрацией НТВ». Впрочем, многим даже понравилось, что прежнего НТВ больше нет: они устали от бурь и потрясений и не хотели слушать дурные новости.
Примаков пытался помочь команде старого НТВ продолжить работу в эфире на шестом канале. Вместе с Аркадием Ивановичем Вольским, в прошлом крупным партийным работником, а тогда главой Союза промышленников и предпринимателей, Примаков уговорил чиновников дать им такую возможность. Вольский и Примаков возглавили некоммерческое партнерство «Медиасоциум». Группа предпринимателей должна была финансировать телекомпанию.
— Надо было сохранить коллектив, вывести его из кризиса и создать такую ситуацию, при которой этот канал был бы полностью независим ни по олигархической линии, ни по государственной, — сказал Евгений Максимович. — Но началась катавасия с лицензией. Постоянную лицензию не давали, Министерство печати продлевало временную, а олигархи не могли прийти к единому знаменателю.
Дело было не в олигархах. Они быстро уловили: власть желает, чтобы и старая команда НТВ, и весь этот неподконтрольный канал исчезли из эфира.
— Примаков был самым оптимистично настроенным, — вспоминала телеведущая Светлана Сорокина. — Потом конструкция рухнула, и Примаков очень переживал. Несмотря на огромный опыт и знание реалий, он всё равно верил, что люди могут договариваться. А договорившись, держать слово. Кто-то назовет это старомодной наивностью. А я думаю, это порядочность. Как умудрился Евгений Максимович Примаков сохранить это реликтовое в большой политике качество, одному Богу известно.
История с шестым каналом была, пожалуй, последней попыткой Евгения Максимовича участвовать во внутриполитических делах страны. И он подчеркнуто редко высказывался на эти темы. Предпочитал говорить о международных проблемах.
Широкой публике так и осталось неведомо, почему весной 2004 года президент Путин решил сменить министра иностранных дел. Претензий Игорю Сергеевичу Иванову, высокопрофессиональному и уважаемому дипломату, никто не высказывал. Предположения строились разные.
Игорь Иванов — специалист по европейским делам, испанист по образованию. Поначалу Путин старался сблизиться с европейскими лидерами — канцлером Германии Герхардом Шрёдером и британским премьер-министром Тони Блэром. Потом Путин сделал ставку на особые отношения с президентом Соединенных Штатов. Может быть, новый министр Сергей Викторович Лавров, который больше половины дипломатической жизни проработал в Америке, показался самым подходящим человеком для проведения такой политики?
Я спрашивал об этом самого Лаврова. У нас была возможность поговорить в неформальной обстановке. В частной жизни министр иностранных дел вовсе не таков, каким он выглядит на экране телевизора. Друзья, однокурсники и коллеги знают совсем другого человека — веселого, доброжелательного и компанейского, бывшего бригадира студенческого стройотряда в Якутии, хранящего верность друзьям, любителя игры на гитаре, капустников и экстремальных видов спорта.
— Итак, что же сказал новому министру президент при первой встрече: «Я хочу, чтобы отныне внешняя политика была другой»? А какой?
— Такие слова не произносились, — ответил Сергей Викторович. — Президент желает преемственности в нашей внешней политике.
В школе Сергей Лавров увлекался физикой и математикой и собирался подавать документы в Московский инженерно-физический. Но мама, которая работала в Министерстве внешней торговли, уговорила попробовать поступить в Институт международных отношений. Как серебряному медалисту, ему надо было сдать только два экзамена.
Дипломатическая карьера Лаврова начиналась с должности стажера в посольстве на острове Цейлон (ныне Шри-Ланка), поскольку в институте он учил сингальский язык. Природа и нравы на острове экзотические, но для дипломата это не самое интересное место.
Один из ветеранов советской разведки в генеральском чине рассказал мне, что заскучавший на острове стажер даже подумывал, не перейти ли ему в разведку. Но сами же разведчики отсоветовали. Когда Лавров стал министром иностранных дел, генерал с мрачной иронией заметил:
— Правильно сделал, что к нам не пошел. Наши бы его загубили.
После четырех лет на Цейлоне Сергей Лавров пять лет провел в аппарате министерства, в отделе международных экономических организаций. А в 1981-м Лавров получил назначение в Нью-Йорк в советское постпредство при ООН. Это одна из самых престижных дипломатических точек. Там он проработал вдвое больше обычного срока — семь лет и дважды повышался в должности.
Уезжал Лавров в Нью-Йорк при Громыко, а вернулся при Шеварднадзе. Что бы потом ни говорили про Эдуарда Амвросиевича, умных и талантливых людей он замечал и продвигал. В сорок лет Лавров стал в МИДе начальником управления. Он был в дружеских отношениях и с первым министром иностранных дел России Андреем Козыревым. Весной 1992 года Лавров стал заместителем министра. Но через два года с удовольствием расстался с креслом замминистра и вновь уехал в ООН. В Нью-Йорке Лавров проработал больше десяти лет.
В отличие от своего предшественника Игоря Иванова Лавров не улыбается на публике и выглядит мрачным или очень напряженным. Резкий тон и нежелание перемежать серьезные пассажи шутками, разряжающими атмосферу, создают ему репутацию жесткого политика. Но это вовсе не отражает его взглядов и отношения к политике и людям. Видимо, он считает, что ситуация в стране и в мире не располагает к шуткам и улыбкам. Кажется, впрочем, что в нынешнем составе правительства мало кто не улыбается.
А может быть, всё-таки Игорь Иванов считался примаковским министром, поэтому ему и пришлось уйти из высотного здания на Смоленской площади?..
Помощь Примакова понадобилась, когда начиналась вторая война в Ираке. О его давних личных отношениях с багдадскими руководителями вспомнили в Кремле.
Ровно десять лет спустя после первой войны в Персидском заливе команда, организовавшая операцию «Буря в пустыне», чтобы жестоко наказать диктатора, вновь оказалась у власти. Ее собрал Джордж Буш-младший, который в январе 2001 года вступил в должность президента Соединенных Штатов. Он не только внешне похож на отца, но и является его полным единомышленником.
У Буша была одна реакция на трагедию 11 сентября:
— Мы избавим мир от этих негодяев.
Буш сформулировал свою доктрину самым простым образом. Америка не станет ждать следующей атаки. Соединенные Штаты будут первыми наносить удары по террористам, где бы они ни находились. Надо заботиться не о том, как потом наказать террористов за содеянное, надо предотвратить их удары.
В один из мартовских дней 2002 года Джордж Буш заглянул в кабинет своего советника по национальной безопасности Кондолизы Райс и уверенно сказал:
— Чертов Саддам, мы его вышвырнем!
Вернее, президент выразился более резко, но я не рискую дословно перевести это выражение на русский язык. Через год хлесткая фраза Буша-младшего о Саддаме Хусейне («Мы его вышвырнем!») трансформировалась в военную акцию.
В ночь на 17 марта 2003 года главе Торгово-промышленной палаты Примакову позвонил президент Путин. Евгений Максимович поехал на дачу в Ново-Огареве. Владимир Владимирович попросил его утром вылететь в Багдад, чтобы передать Саддаму Хусейну устное послание с предложением уйти в отставку с поста президента и объявить в стране выборы ради того, чтобы избежать войны. Путин говорил, что Саддаму не обязательно покидать Ирак или, что называется, уходить на покой. Он мог бы, скажем, остаться лидером партии.
Вице-премьер Ирака Тарик Азиз хотел, как обычно, встретиться с московским гостем, чтобы заранее выяснить, с чем тот приехал. Но Примаков впервые отказался с ним беседовать. Он хотел передать слова Путина непосредственно Саддаму, с тем чтобы тот, не слушая советов, сам принял решение.
Саддам Хусейн, как обычно, не отказал Примакову в личной встрече и принял московского гостя в одном из своих дворцов. Он даже согласился поговорить один на один (третьим был переводчик, прилетевший из Москвы). Из уст Примакова прозвучало очень откровенное обращение российского президента к Саддаму:
— Если вы любите свою страну и свой народ, если хотите уберечь свой народ от неизбежных жертв, вы должны уйти.
Евгений Максимович обратил внимание Саддама на то, что это слова президента России:
— Я понимаю, насколько серьезно это предложение и насколько оно может изменить всю вашу жизнь. Но вы должны понимать — это делается ради иракского народа.
Не давая ответа, Саддам попросил Примакова повторить эти слова в присутствии вице-премьера Тарика Азиза и главы иракского парламента, ожидавших в приемной. Когда те вошли, Примаков повторил предложение президента России и добавил:
— Таким образом вам удастся спасти Ирак от надвигающейся войны.
Саддам Хусейн заметил:
— Накануне первой войны в Персидском заливе вы уверяли меня: если выведу войска из Кувейта, то американцы не предпримут сухопутной операции. Однако уговоры, с которыми вы приезжали ко мне, оказались обманом.
Примаков немедленно напомнил иракскому президенту, как дело обстояло в реальности:
— Если бы вы начали отводить свои вооруженные силы на иракскую территорию до того, как Вашингтон выдвинул ультиматум, всё было бы иначе. Но вы же этого не сделали.
Саддам молча похлопал Примакова по плечу и ушел. Разговор был окончен. Тарик Азиз громко произнес, чтобы Саддам услышал его слова:
— Пройдет еще десять лет, и вы, Примаков, убедитесь, что мой любимый президент и сейчас прав…
Евгений Максимович поразился тому, насколько спокоен и уверен в себе был президент Ирака. Созданный Саддамом режим лишал его самого объективной информации. И он до конца верил, что американцы не решатся его сбросить.
Срок ультиматума, предъявленного Саддаму Хусейну, истек в четверг, 20 марта 2003 года, в 4 часа 15 минут по московскому времени. Война началась в 5 часов 35 минут утра. Она закончилась полным разгромом иракской армии. Саддам Хусейн в конце концов был пойман и предстал перед судом, который приговорил его к смертной казни. Напрасно он не прислушался к своему старому знакомому из России.
Осенью 2004 года Примаков давал показания международному трибуналу по делу бывшего президента Сербии и Югославии Слободана Милошевича. Евгений Максимович сказал, что политика американского президента Билла Клинтона была антисербской, а Милошевич вовсе не собирался создавать Великую Сербию.
— Милошевич выступал за мирное решение конфликта в Боснии, — говорил трибуналу Примаков.
Прокурор Джеффри Найс спросил, известно ли было России о контактах официального белградского руководства с бывшим командующим войсками боснийских сербов генералом Ратко Младичем, которого международный трибунал обвинил в военных преступлениях.
— Да, нам было известно о таких контактах, — подтвердил Примаков.
— Из каких источников?
— Я не комментирую работу спецслужб, — отрезал Примаков.
— Вы поклялись говорить только правду, — напомнил прокурор.
— Вы хотите не услышать от меня подтверждение факта таких контактов, а выяснить, как мы получили эту информацию. Это вне компетенции трибунала.
Примаков принял деятельное участие в попытке вывезти находившегося в гаагской тюрьме Милошевича в Россию. Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева выразил готовность принять его. 16 января 2006 года Министерство иностранных дел России передало в секретариат трибунала официальные гарантии того, что после лечения Милошевич вернется в Гаагу.
Двадцать пятого февраля трибунал ответил отказом: Милошевич, «обвиняемый в очень серьезных преступлениях, находится на последнем этапе длительного судебного процесса; если он будет признан виновным, ему грозит пожизненное тюремное заключение». 11 марта надзиратель тюрьмы нашел Милошевича мертвым в его постели — бывший президент Сербии умер во сне. Заключение о причинах смерти появилось на следующий день: инфаркт миокарда, развившийся вследствие коронарной недостаточности. Примаков сожалел, что бывшего президента Сербии не удалось доставить в Москву, где обустроилась почти вся его семья.
Тридцатого октября 2004 года Евгений Максимович Примаков с размахом отмечал свой юбилей. Накануне ему исполнилось семьдесят пять лет. Часа через полтора после начала торжества приехал президент России Владимир Владимирович Путин. О его прибытии всем стало известно заранее — по количеству охранников в форме и в штатском вокруг здания, в подъезде и в самом зале ресторана.
Примаков с супругой встали и пошли встречать главу государства. Путин вошел с большой свитой. Сел на предусмотрительно оставленный ему стул между Евгением Максимовичем и его женой Ириной Борисовной. Появились многочисленные фото- и телерепортеры, запечатлели торжественный момент и исчезли. Растворилась и президентская свита.
За главный стол в центре зала усадили особо почетных гостей — министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, секретаря Совета безопасности Игоря Сергеевича Иванова, президента Академии наук Юрия Сергеевича Осипова, одного из давних друзей юбиляра — Александра Сергеевича Дзасохова, тогда еще президента Северной Осетии.
Министр Лавров подарил Примакову шарманку, сделанную в Одессе и найденную в Тбилиси. Игорь Иванов, поздравляя юбиляра, ослеплял своей обаятельной улыбкой.
Путин прошел к микрофону. Он говорил о служении Примакова отечеству, о его мужестве, мудрости, честности. Я записал несколько ключевых фраз:
— Евгений Максимович — один из самых уважаемых граждан. Ценный партнер и товарищ. Прямой: говорит то, что думает, а думает то, что основано на опыте и интуиции. Надеюсь, что и впредь смогу использовать опыт и интуицию Евгения Максимовича.
Президент преподнес подарок со смыслом: золоченый поднос с изображением Александра Македонского, разрубающего гордиев узел, — в знак уважения к дипломатическим талантам Примакова.
Тогдашний директор Службы внешней разведки Сергей Николаевич Лебедев, бывший подчиненный юбиляра, вручил Примакову медаль ветерана СВР.
Евгений Максимович произнес:
— Министерство иностранных дел и Служба внешней разведки стали думать одинаково. — Сделал паузу и добавил: — Но не потому, что МИД восторжествовал.
Министр иностранных дел Лавров что-то сказал Примакову.
Евгений Максимович опять взял микрофон:
— Сергей Викторович меня поправил. Получается, что Министерство иностранных дел — это сплошь Служба внешней разведки. Это, конечно, не так.
Оживившийся президент Путин — разговор пошел на близкую ему тему — взял микрофон и с улыбкой произнес:
— Даже Примаков совершает ошибки!
Примаков в тон подхватил:
— Так, я уже вижу, что надо следить за дипломатами.
На что сидевший рядом министр иностранных дел Лавров ответил:
— Не беспокойтесь, Евгений Максимович, следят!
Путин не торопился покидать торжество, просидел демонстративно долго, много улыбался. Когда подходил Иосиф Кобзон и просил вместе спеть музыкальную фразу, не отказывался. Кто-то в зале пошутил:
— Не важно, что у Владимира Владимировича нет музыкального голоса, зато у него есть голоса…
Гостей, по моим подсчетам, собралось несколько сотен. Поздравить Примакова пришли люди разных эпох, и правильно рассадить их мог только опытный человек, знакомый с дипломатическим протоколом. Бывшие соратники Михаил Горбачев и Николай Рыжков, предусмотрительно размещенные за разными столиками. Бывший первый заместитель главы правительства при Ельцине Олег Сосковец и бывший министр внутренних дел Виктор Ерин (он тоже был подчиненным Примакова в разведке). Второй человек в компартии Валентин Купцов и председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Сергей Степашин, который много шутил и вполне прилично спел вместе с Кобзоном.
Помимо Иосифа Давыдовича приехал еще один певец-депутат Александр Розенбаум и тоже спел. Присутствовали также Александра Пахмутова и Николай Добронравов — символы счастливой советской эпохи. Я знал далеко не всех гостей, но заметил знакомые лица. Бывшие заместители Примакова по Министерству иностранных дел Александр Авдеев и Григорий Карасин. Генеральный директор ТАСС Виталий Игнатенко, неизменный Никита Михалков, помощник президента по международным делам Сергей Приходько и кинорежиссер Станислав Говорухин. Бывший заместитель Примакова по Службе внешней разведки Григорий Рапота с очаровательной женой Татьяной Самолис. Космонавты — прекрасно выглядевшая Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Юрий Батурин, в прошлом помощник президента России. А также множество друзей, сослуживцев, журналистов…
Работая в Торгово-промышленной палате, Примаков воспринимал ее прежде всего как площадку для разработки экономической стратегии страны. Его усилиями была сформирована концепция национальной промышленной политики. Подготовлена концепция вхождения во Всемирную торговую организацию — совместно с Министерством экономического развития. Примаков счел своим долгом создать при ТПП Фонд помощи беспризорным детям, который существует на пожертвования.
— Пока не думаете на другое место? — однажды спросила его Светлана Сорокина во время интервью на радиостанции «Эхо Москвы».
— Нет, не думаю, — ответил Примаков.
— Вам здесь нравится работать?
— Видите ли, в чем дело. В моем возрасте не думают о каком-то…
— Карьерном росте, — подсказала Сорокина.
— Я и раньше не особенно думал. Решала судьба. Я отказывался в свое время от перехода из разведки, где мне очень нравилось, в Министерство иностранных дел. Отказывался и от перехода из Министерства иностранных дел, где мне тоже очень нравилось уже тогда, в руководство правительством, особенно в тот период, когда это было очень тяжело. И отказывался, когда меня снимали, от того, чтобы написать заявление «по собственному желанию». А я его не писал никогда. Я не стремился к этому, но так получалось.
— Человек судьбы, — подвела черту Светлана Сорокина.
— Да, — согласился Примаков.
Но в феврале 2011 года Примаков объявил об уходе из Торгово-промышленной палаты. Напомнил, что уже два срока занимает должность главы палаты:
— Этого вполне достаточно, на этом съезде я не буду переизбираться.
На VI съезде ТПП Примаков официально сложил с себя полномочия президента. Он устал от любых административных функций. Тем более что ему было чем заняться. Еще в мае 2008 года его избрали членом президиума Российской академии наук. Он много писал в эти последние годы. Книги получались то мемуарные, то публицистические.
Он не мог пожаловаться на невнимание со стороны власти. Его не обходили ни наградами, ни добрыми словами. Президент Путин приехал к нему на последний день рождения — 29 октября 2014 года. Евгению Максимовичу исполнилось восемьдесят пять лет. Президент преподнес ему своего рода антиквариат — старый примус, шутливо намекая на его давнее прозвище. За глаза Примакова так и называли — Примус. Он не обижался.
В последний раз Путин встречался с Примаковым за месяц до его смерти.
— Евгений Максимович прислал президенту свою новую книгу, и по этому случаю он его посетил — президент сам к нему приезжал, — рассказал пресс-секретарь хозяина Кремля. — Президента всегда интересовали глубокие точки зрения Примакова на мировые процессы, особенно в такой непростой обстановке.
До самых последних дней уже очень больной Евгений Максимович Примаков продолжал размышлять о судьбе России, предлагая свои рецепты выхода из кризиса.
Еще работая в Торгово-промышленной палате Примаков создал «Меркурий-клуб», в рамках которого шли серьезные дискуссии на политические, экономические и социальные темы. Директором клуба стал его старый друг Валерий Алексеевич Кузнецов. «Меркурий-клуб» завел традицию отмечать в Центре международной торговли Старый Новый год в большой компании видных политиков, ученых, бизнесменов, журналистов. Но прежде, чем гости располагались за щедро накрытыми столами, Евгений Максимович подводил итоги ушедшего года. Почти каждый раз его речь становилась событием.
В последний раз он отмечал Старый Новый год в январе 2015-го. Его выступление восприняли как необычно критическое. Вот как суть его предложений изложили газеты: «Российская власть в ближайшие два года обязана провести реальную диверсификацию экономики, дать максимальную экономическую свободу регионам, а также сохранять открытые двери для сотрудничества с США и НАТО в деле противодействия реальным угрозам человечеству. Угрозы «цветной революции» в стране нет, уверен экс-премьер, а реальную угрозу России представляет лишь чрезвычайная централизация власти».
Евгений Примаков отметил, что даже в разгар кризиса власть не способна «предложить обоснованный, базирующийся на конкретно намечаемых действиях проект разворота страны к диверсификации экономики и ее росту на этой основе». Иронически отозвался об амбициозных проектах, которые завораживают своими масштабами, но не имеют практического смысла:
— На арктическом шельфе рентабельность добычи нефти обеспечивается только при цене 100–120 долларов за баррель. Стоит ли нам в таких условиях форсировать добычу на шельфе Ледовитого океана? Почему при всей важности этого региона для России не сделать паузу в освоении арктических нефтегазовых месторождений? Такую паузу уже сделали некоторые наши конкуренты. США пробурили последнюю скважину на арктическом шельфе в 2003 году, Канада — в 2005 году.
Примаков говорил о том, что не может быть и речи о самоизоляции нашей страны, в том числе в экономической области:
— Мы заинтересованы в сохранении или налаживании новых экономических отношений со всеми странами и зарубежными компаниями, которые проявляют в этом заинтересованность.
Многие с интересом ожидали, что он скажет о кризисе вокруг Украины. И Евгений Максимович сформулировал свою позицию:
— Можно ли по-прежнему говорить о российской заинтересованности в том, чтобы юго-восток оставался частью Украины? Отвечаю: считаю, что нужно. Только на такой основе можно достичь урегулирования украинского кризиса. Следующий вопрос: в условиях несоблюдения минских соглашений может ли Россия в крайней ситуации ввести свои регулярные воинские части в помощь ополченцам? Отвечаю: категорически нет.
Евгений Примаков — для тех, кто его плохо знал, это оказалось неожиданностью — высказался против тотальной конфронтации с Западом:
— Должна ли Россия держать дверь открытой для совместных действий с США и их натовскими союзниками в том случае, если эти действия направлены против настоящих угроз человечеству — терроризма, наркоторговли, раздувания конфликтных ситуаций и так далее? Несомненно, должна. Без этого, не говоря уже о заинтересованности россиян в ликвидации опасных международных явлений, мы потеряем свою страну как великую державу.
Весной 2014 года он еще раз выступал на заседании «Меркурий-клуба». Накануне руководитель администрации президента Сергей Борисович Иванов вручил Евгению Максимовичу орден Александра Невского. Высокая награда и праздничное настроение не помешали Примакову говорить об острых проблемах, которые его тревожат: кадровый непрофессионализм, чрезмерный чиновничий аппарат, раздутые и непомерно высокооплачиваемые штаты государственных корпораций. Примаков призывал к снижению государственных расходов, созданию понятных правил игры для российского бизнеса, снижению налогов. И в своей манере не без грусти подытожил:
— Уверен, что ничего нового не сказал. Всё это звучало и звучит, но не воплощается в жизнь.
Евгений Максимович Примаков умер в пятницу, 26 июня 2015 года. Как принято говорить, после тяжелой и продолжительной болезни. Последние месяцы он неважно выглядел. Видно было, что он недужит и каждый шаг дается ему с трудом. Близкие сознавали, что он болен тяжело и неизлечимо, а медицина способна лишь умерить страдания. И всё равно его смерть показалась совершенно неожиданной. Мы все привыкли к тому, что он есть, и, казалось, так будет всегда.
Мало кто из российских политиков вызывал такое уважение. Мало кого провожали в последний путь с таким искренним сожалением и ощущением утраты. И я не припомню, кого еще именовали великим гражданином.
Заседания Государственной думы и правительства России начались с минуты молчания. Государственную комиссию по организации похорон возглавил глава президентской администрации Сергей Иванов, его заместителями стали вице-премьер Дмитрий Козак, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.
Двадцать девятого июня прощание в Колонном зале Дома союзов началось с восьми утра. Около полудня приехал президент Путин. Возложил цветы к гробу, выразил соболезнование родным. Сказал несколько слов:
— Уважаемая Ирина Борисовна, Нана Евгеньевна! Дорогие друзья, коллеги! В эти скорбные, тяжелые минуты мы еще больше осознаем весь масштаб личности Евгения Максимовича и уже с высоты прожитой им жизни понимаем колоссальную ценность его опыта, мудрости, интеллекта, нравственных устоев и безупречного профессионализма. Безусловно, это был великий гражданин нашей страны. Евгений Максимович умел спокойно, конструктивно, эффективно — что самое главное, решать самые сложные задачи, добивался максимальных результатов на всех постах, где бы он ни работал… Его ответственность и чуткая искренняя забота о людях оставили в наших сердцах неизгладимый след. Таким и был Евгений Максимович: порядочным, благородным человеком… Евгений Максимович мыслил глобально, открыто и смело… Мы будем помнить вас, дорогой Евгений Максимович, почитать, любить и благодарить. Вы — в наших сердцах.
Я никогда не слышал таких слов от президента страны.
Прощание в Колонном зале Дома союзов продолжалось шесть часов. Приехали министры во главе с председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым, представители фракций Государственной думы, члены Совета Федерации. Все заметили Михаила Сергеевича Горбачева.
Последним к ушедшему обратился его внук Евгений Александрович Примаков:
— Я знаю, что ты верил в хорошее в любом из нас. Так что мы тебя не отпускаем, дед, тебе еще предстоит поработать на нас нравственным ориентиром.
Примаков-младший обратился к собравшимся:
— При всей той скорби, которую мы сейчас испытываем, я хочу, чтобы мы проводили его аплодисментами.
Так и поступили.
Под звуки траурного марша гроб вынесли из Колонного зала. Траурный кортеж направился в Новодевичий монастырь, где в Успенском храме Патриарх Московский и всея Руси совершил чин отпевания. Пел хор московской областной епархии.
Патриарх Кирилл тоже попрощался с Примаковым:
— Он никогда не прогибался под обстоятельствами, хоть и был человек очень гибкий — в том смысле, что прекрасно понимал происходящее вокруг него. Он замечательно чувствовал людей, он умел говорить с ними на их языке, подыскивая аргументы, которые убеждают оппонента. Евгений Максимович оставался самим собой во все эти столь отличающиеся друг от друга исторические эпохи. А теперь следует задавать вопрос — а почему? А потому что у него внутри был очень эффективный камертон, который настраивал его на единственно правильную волну. Этим камертоном является нравственное чувство, которое живет в человеке, или голос совести. Он поступал в соответствии с этим внутренним голосом. Про таких людей говорят: это великие дипломаты, великие государственные деятели. Но лучше всего сказать, что это был великий человек, живший по совести, а значит, по Закону Божиему. Он явил нам замечательный пример того, что жизнь по Божиему Закону, жизнь по закону совести — это всегда жизнь с победным концом. Он прожил такую жизнь, и сегодня мы отдаем ему почести — церковные, государственные, человеческие. Верим, что Евгений Максимович войдет в историю нашего Отечества как удивительно светлый человек…
После заупокойного богослужения гроб водрузили на орудийный лафет, и траурная процессия направилась на кладбище. Три залпа почетного караула. Военный оркестр исполнил гимн России. Флаг России свернули и передали вдове. Под пение «Трисвятого» тело было предано земле.
В те дни часто вспоминали стихи Примакова:
Я твердо всё решил:
Быть до конца в упряжке, Пока не выдохнусь, пока не упаду. И если станет нестерпимо тяжко, То и тогда с дороги не сойду. Я твердо всё решил: мне ничего не надо — Ни высших должностей, ни славы, ни наград, Лишь чувствовать дыханье друга рядом, Лишь не поймать косой, недобрый взгляд. Я много раз грешил, но никогда не предал Ни дела, чем живу, ни дома, ни людей. Я много проскакал, но не оседлан, Хоть сам умею понукать коней.
Мы мчимся, нас кнутом подстегивает время, Мы спотыкаемся, но нас не тем судить, Кто даже ногу не поставил в стремя И только поучает всех, как жить.
Прощаясь с Евгением Максимовичем, люди вновь оценивали его жизненный путь. Вспоминали, что он сумел сделать и что у него не получилось — большей частью не по его вине. Огромное достижение Евгения Максимовича состоит в том, что, возглавив правительство после дефолта в 1998 году, он сумел успокоить страну, вернуть людям утраченное чувство надежности.
Я вспоминал, что в свое время Примаков был самым популярным и влиятельным человеком в стране. В середине ноября 1998 года 68 процентов опрошенных одобрили идею сделать Примакова вице-президентом, хотя тогда уже не было такой должности. И почти сразу пошли разговоры о том, что Примаков должен баллотироваться в президенты на выборах 2000 года. Кому же, как не ему, возглавить страну? Но вспыхнули красные огни стоп-сигнала. Кто-то очень испугался Примакова-президента.
Ему приписывали много дурного. Примаковым пугали. Один человек из ельцинского окружения даже заявил, что при мысли об избрании Примакова президентом у него возникают ужас и желание бежать из России. Чем же так напугал Евгений Максимович? Может быть, и в самом деле он намеревался железной рукой навести в стране порядок? Он много лет руководил спецслужбой, и ходили слухи, что он всегда состоял в кадрах КГБ… Говорили, что, если Примаков станет президентом, он возьмет под контроль телевидение, расправится с оппозиционной прессой, все должности займут чекисты и начнутся карательные процессы…
И действительно, у него был железный характер. Но коварство и жестокость, склонность к диктаторству ему были несвойственны. Его политика, стань он президентом, была бы твердой, но только в рамках конституции. Кто-то испугался не за страну, а за себя лично. Как договариваться с Примаковым, если он чуть ли не единственный в политической элите, кто не занимается бизнесом, не имеет доли ни в одном предприятии, никому не оказывает услуги и никого не крышует? Не потому ли Примакова так быстро вытолкнули из политики?
Евгений Максимович был неамбициозным и ненапышен-ным человеком. Такие люди, как он, то есть реализовавшиеся в полной мере, относятся к себе критически и даже с иронией. Есть качества, которые Примаков пронес через всю жизнь: любовь к друзьям и верность товариществу… Это сильно отличало его от других политиков, которые следуют неписаному правилу: друзья — это те, кто тебе нужен в данную минуту. Его, конечно же, не назовешь идеальным человеком, у него были недостатки. Но вот что показательно. Те, кто знал его близко, любили его. Те, кто наблюдал издали, постоянно в чем-то подозревали.
Сейчас очевидно, как нелепо было выставлять его в роли мрачного диктатора, одержимого властью, жестокого и мстительного. Евгений Максимович легко ушел из политики. Без обиды и гнева. Нисколько не сожалея о той должности, которую так и не занял. Сожалеют скорее те, кто считал его достойным высокого поста. И, думаю, еще и те, кто тогда так отчаянно с ним боролся. Поняли, что ошибались.
В мире к Евгению Максимовичу Примакову относились, как принято относиться к бывшему главе правительства, с полным уважением и пониманием его политического веса. В нашей стране прежде всего сознавали масштаб этой фигуры. Он ушел, и политический ландшафт заметно опустел. И еще ценили его как человека честного и некорыстного. Крайне редкое качество для политика. Примаков ни в чем не замаран, ничем себя не опорочил! Кто еще из российских политиков может похвастаться тем же?
Я и раньше так полагал и сейчас думаю, что из него получился бы хороший президент России.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Е. М. ПРИМАКОВА
1929, 29 октября — родился в Клеве.
1948–1953 — студент Московского института востоковедения.
1953–1956 — аспирант МГУ имени М. В. Ломоносова.
1956–1962 — корреспондент, ответственный редактор, заместитель главного редактора, главный редактор редакции, заместитель главного редактора главной редакции Главного управления радиовещания на зарубежные страны Гостелерадио СССР.
1962 — старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР.
1962–1965 — обозреватель, заместитель редактора по отделу Азии и Африки редакции газеты «Правда».
1965–1970 — собственный корреспондент «Правды» на Ближнем Востоке.
1969 — присвоена ученая степень доктора экономических наук.
1970–1977— заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений АН СССР.
1974 — избран членом-корреспондентом Академии наук.
1977–1985 — директор Института востоковедения АН СССР.
1979 — избран действительным членом Академии наук.
1980 — удостоен Государственной премии СССР.
1985–1989 — директор Института мировой экономики и международных отношений АН СССР.
1986 — на XXVII съезде КПСС избран кандидатом в члены ЦК.
1988 — избран академиком-секретарем Отделения мировой экономики и международных отношений, членом президиума АН СССР; избран членом Комиссии ЦК КПСС по международной политике; избран депутатом Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва.
1989 — избран народным депутатом СССР.
Сентябрь — на пленуме ЦК избран кандидатом в члены политбюро ЦК КПСС.
1989, июнь — 1990, март — председатель Совета Союза Верховного Совета СССР, председатель парламентской группы СССР.
1990, март — декабрь — член Президентского совета.
1991 — член Совета безопасности.
30 сентября — назначен первым заместителем председателя КГБ, начальником Первого главного управления.
Ноябрь — декабрь — начальник Центральной службы разведки.
Декабрь — директор Службы внешней разведки России.
1996, 10января — назначен министром иностранных дел.
1998, 10 сентября — президент Ельцин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуру Примакова на пост главы правительства.
11 сентября — утвержден председателем правительства.
1999, 10 апреля — по телевидению выступил с отчетом о работе правительства за семь месяцев. Сказал, что не намерен участвовать в президентских выборах.
12 мая — указом президента отправлен в отставку с поста председателя Совета министров.
17 августа — принял предложение блока «Отечество — Вся Россия» возглавить федеральный список для участия в выборах в Государственную думу вместе с Юрием Лужковым и Владимиром Яковлевым.
19 декабря — избран депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по федеральному списку избирательного блока «Отечество — Вся Россия».
2001, 3 сентября — оставил пост руководителя фракции в Государственной думе.
14 декабря — избран президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
2008, 26 мая — избран членом президиума Российской академии наук.
2009 — награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени.
2011, 21 февраля — ушел в отставку с поста президента ТПП.
2012, 23 ноября — избран председателем Совета директоров ОАО «РТИ».
2014 — отмечен государственной премией Российской Федерации и награжден орденом Александра Невского.
2015, 26 июня — умер. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Примаков Е. Годы в большой политике. М., 1999.
Примаков Е. Встречи на перекрестках. М., 2015.
Горбачев М. Жизнь и реформы. М., 1995 (в двух томах).
Ельцин Б. Президентский марафон. М., 2000.
Кирпиченко В. Разведка: лица и личности. М., 2001.
Иноземцев Н. Цена победы в той самой войне. М., 1995.
Черкасов П. ИМЭМО. Портрет на фоне эпохи. М., 2004.

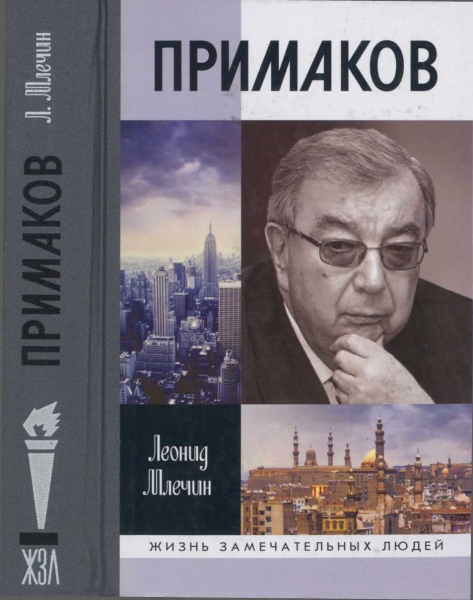



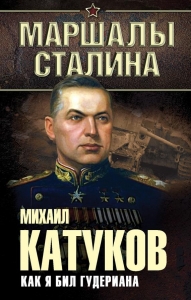





Комментарии к книге «Примаков», Леонид Михайлович Млечин
Всего 0 комментариев