Алексей Решетун Между жизнями. Судмедэксперт о людях и профессии
Моим родителям посвящается
…А вдруг все то, что ищем, обретается при вскрытии телесного родного дорогого себя…
«Гражданская оборона», «Вселенская большая любовь»Предисловие
В жизни любого человека неминуемо присутствуют два знаковых для него и его родственников события — рождение и смерть. Все остальные жизненные коллизии протекают между этими двумя точками. «Из точки А в точку Б…» — помните из школьного курса математики? Человек движется из точки Р до точки С, и у некоторых этот путь прямой, а у большинства — извилистый, как иногда кажется самому человеку, непредсказуемый, со множеством поворотов, иногда даже возвратов к начальной точке, но всегда ведущий к финалу.
Если рождение человека безусловно воспринимается в обществе позитивно (ведь даже рождению Гитлера радовались его родители и родственники, не так ли?), то смерть — это всегда трагедия, или локальная, в пределах одной семьи, или глобальная, если человек и его дела являются национальным достоянием. Однако мало кто задумывается о том, что смерть, как и рождение — процессы естественные, обуславливающие постоянное развитие человечества. Наверное, самым печальным фактом может быть смерть внезапная, особенно когда умерший относительно молод. Сами посудите, если бы ребенок рождался неожиданно, если бы не проходило многих недель, в течение которых и женщина, и ее родственники меняются, наблюдая его развитие в утробе, привыкая к факту будущего рождения и планируя свою жизнь с учетом этого факта, если бы он вдруг взял и появился — это стало бы шоком для всех. Скоропостижная смерть — тоже шок. Был человек — еще сегодня утром, еще полчаса назад — и вот его нет. Есть в этом что-то противоестественное и несправедливое. Но только до того момента, пока мы не поймем, что каждому из нас определена своя дорога, своя судьба, выбранная не нами, и если именно так должна прерваться человеческая жизнь, значит, так тому и быть.
Эта книга не автобиография, вернее, не только автобиография. В ней описаны события, происходившие со мной и с моими знакомыми или вообще никогда не происходившие. Имена собственные, указанные в тексте, — реальные, некоторых из этих людей уже нет на свете (долгая им память), города и села стоят на земле до сих пор, правда, какие-то из них уже значительно изменились, а иные за время написания книги даже обрели другие названия.
Я хочу сказать спасибо Александру Николаевичу Кузину за меткое и емкое определение сути нашей специальности, экспертам, фельдшерам-лаборантам и санитарам, с которыми я работал и работаю вот уже почти двадцать лет.
Особенная благодарность — моей жене Ирине за ее безграничное терпение, любовь и поддержку, без которых не было бы ни этой книги, ни меня самого.
Я всегда открыт для критики и общения и буду рад получить отзывы на электронную почту mossudmed@gmail.com, а также в ЖЖ (блог mossudmed.livejournal.com) и Instagram (аккаунт @mossudmed).
2 июня 2019 года Московская область, Раменский район, деревня ДурнихаПредварительные данные
«А кости черепа-то у вас, скорее всего, довольно толстые…»
«Что, простите?»
Мнение о толщине костей моего черепа, высказанное скорее утвердительно, нежели вопросительно, застало меня врасплох. Произнесший эти слова мужской голос, который внезапно появился в моей голове, был ниже среднего тембра, но не глубокий, немного с хрипотцой, однако хрипотца эта не казалась природной и больше походила на ту, что появляется у людей, вынужденных много говорить. «Наверное, таким голосом хорошо исполнять романтические песни под гитару», — почему-то подумал я.
«Да не обращайте внимания, — ответил все тот же голос, — шучу. По степени выраженности некоторых частей лица можно понять, какой толщины кости черепа у человека. Мне-то, по большому счету, все равно, а вот санитару — нет, ему пилить. Иногда, без достаточного опыта, кости черепа очень непросто распилить — фреза застревает, санитар волнуется».
«А причем тут я?»
«Ну, вы же сами говорили, что вам интересно все, все детали, — в голосе собеседника появилась легкая ирония, — а уж теперь-то сам Бог велел нам с вами поговорить обстоятельно. Я весь ваш».
После вышесказанного фраза «я весь ваш» вызывала некоторое беспокойство, тем более что человек, произнесший ее, наряду с запоминающимся голосом имел и неординарную внешность. Это был мужчина лет сорока двух — сорока трех. Его небрежно зачесанные назад волосы, темно-русые, без намека на седину, когда-то густые, неумело скрывали уже появляющуюся блестящую полянку на темечке. На мочке левого уха имелся вполне различимый точечный рубец — скорее всего, он носил серьгу. На круглом, чуть полноватом лице сидели очки в модной темно-коричневой оправе, за которыми были видны серо-голубые маленькие глаза, казавшиеся еще меньше из-за толстых, несколько затемненных стекол. Несомненным украшением лица, придававшим ему какую-то детскость, являлся нос — крупный, основательный, почти «картошкой». Губы были узкими, а рот — небольшим, в отличие от слегка оттопыренных ушей. Все вместе эти части выглядели, как ни странно, гармонично, они скрывали недостатки и подчеркивали достоинства друг друга.
«Такие люди привлекают внимание не столько внешностью, сколько харизмой. И частенько оказываются хитрожопыми», — подумал я.
Мой собеседник был среднего роста и казался чуть ниже меня — возможно, из-за легкой сутулости и короткой шеи. Крупные и очень волосатые руки придавали телу какой-то «орангутаний» вид. Синий хирургический костюм и фартук из белого полиэтилена не оставляли сомнений в происходящем.
За почти сорок лет жизни и двадцать лет журналистской деятельности я успел поработать во многих местах — в серьезных и несерьезных газетах и журналах и даже на радио. Впрочем, на радио я долго не задержался, поскольку никогда не понимал разговора с микрофоном в пустой студии. Слушатели были где-то далеко и как будто не существовали, слова мои бесследно исчезали в микрофоне, и после эфира у меня всегда оставалось ощущение какой-то шизофреничности. В прямом эфире работать не получалось: как только загоралась красная лампочка, на меня словно накатывал большой ватный ком, мысли путались, и язык не слушался до такой степени, что пару раз я допускал совсем уж неприличные оговорки. После очередного провального эфира я с позором покинул радиостанцию — как оказалось, для того, чтобы найти себя в жанре экстремальной журналистики.
Однажды вечером, будучи в состоянии легкого отчаяния и сопутствующего ему тяжелого опьянения, я встретил на улице парня лет двадцати пяти, который просил денег. Нарушив собственное правило — никогда никому, кроме старушек, не подавать, — в приступе алкогольной щедрости я вручил ему существенную сумму, попутно поинтересовавшись, почему джентльмен такого активного возраста попрошайничает. «Зачем вам деньги? Вы что, еврей?» — попытался я сострить, подражая известному журналисту. Паренек, скорее всего, даже и не слышал о Сергее Доренко, поэтому шутку мою не оценил, но, видимо, преисполненный благодарности, ответил, что деньги ему нужны «на ужин». Тогда я еще не знал, что значит для людей его круга выражение «трехразовое питание», и необходимость клянчить деньги у незнакомых людей «на ужин» меня очень удивила — так не говорят, когда не хватает на еду. Присмотревшись, я увидел большие впалые глаза на сухом желто-сером лице, выступающие скулы, обтянутые кожей, трясущиеся руки. «На дозу?» Парень усмехнулся, показав рот с черными пеньками вместо зубов. «Ну, да…» Не помню уже, чем было вызвано это внезапное желание, — то ли опьянением, то ли отчаянием, но я попросил, вернее, потребовал взять меня с собой. «Куда?» — удивился парень. «Куда угодно, — я схватил его за руку. — Хочу посмотреть!» «На что?» — удивился он еще больше, глядя на меня с подозрением. «На все!» — я упрямо мотнул головой. Сейчас я думаю, что та трехдневная алкогольная попытка справиться с кризисом среднего возраста сыграла мне на руку, вид у меня был, откровенно говоря, так себе: щетина, неопрятная одежда, перегар — типичный русский интеллигент, ищущий себя. Наверное, именно поэтому я не вызвал никаких подозрений, и произошел тот редчайший случай исключения из правил — попрошайка-джентльмен взял меня с собой, что в принципе невероятно. Хотя, может быть, он просто спешил «на ужин», и ему проще было согласиться, нежели пытаться отделаться от меня, тратя драгоценное время. Таким образом я попал в другой мир — мир так называемых «крокодиловых» наркоманов, и провел там всю ночь до утра. Наутро, совершенно трезвый, добрался до дома и, сразу сев за компьютер, написал свой первый экстремальный репортаж. В нем имелось все то, о чем не говорят в новостях и в полицейских сводках, — жуткие подробности времяпрепровождения этих потерянных молодых людей, которых и людьми-то не назовешь. После трехдневного запоя и полученных впечатлений красноречие мое было необычайным, а окончание репортажа — радикально категоричным, неполиткорректным и полностью лишенным человеколюбия. Уже «на автомате» я разместил свою писанину в блоге, который с переменным успехом вел в течение пары лет, и провалился в сон, а точнее, в забытье без снов. Может быть, тогда я даже умер ненадолго — так мне казалось потом.
Не знаю, через какое время я воскрес, но за окном было уже (или еще) светло. Я жутко вонял, весь вымок то ли от пота, то ли от чего-то другого, о чем не хотелось даже и думать, рубашка и брюки оказались прожженными в нескольких местах и испачканными какой-то белесоватой, тоже вонючей, дрянью. Телефон мой разрядился, узнать время и день недели мне не удалось, и поэтому, поставив его заряжаться, я пошел в душ. Примерно час я приводил себя в порядок и только после этого наконец смог посмотреть дату — выяснилось, что проспал я больше суток. Стала ясна и причина разрядки телефонного аккумулятора — несколько десятков неотвеченных звонков от известных и неизвестных мне людей, множество сообщений, общий смысл которых сводился к удивленному «ну ты, чувак, даешь!».
Только открыв блог, я понял, в чем дело: сотни комментариев, десятки перепостов, первая строчка в «топе» в течение суток — успех, который из локального уже перерастал в скандально-повсеместный. Так и началась моя карьера экстремального журналиста-одиночки.
За несколько лет, прошедших с той истории, я «поднялся» довольно высоко, мой блог фактически приравнялся к средству массовой информации, миллионные просмотры давали неплохой заработок, а вместе с ним и независимость, я стал популярным, даже получил пару каких-то премий за что-то там. Однако вместе с ростом популярности постепенно назревала одна проблемка: у меня кончались сюжеты для моих экстремальных репортажей. Казалось бы, я попробовал все: попадал под лавину в горах, неделю выбирался из зимней тайги после неудачной охоты, играл в подпольную «русскую рулетку», поднимался на высотные здания с руферами, жил в деревнях бомжей, лежал в провинциальной туберкулезной больнице, участвовал в гонках, торговал людьми, хоронил себя заживо и даже воевал — деньги и связи решали любые вопросы. Не скажу, что мне все это нравилось, но требовалось поддерживать образ, да и жить на что-то надо было. Судьба как будто специально давала мне шанс описать то, что до меня никто не описывал. Неоднократно я оказывался на волосок от смерти и даже ждал, что во время очередного «погружения» (так я называл свои экскурсии) со мной опять случится что-то опасное, но я снова вернусь живым, относительно здоровым и напишу новый шедевр. Такие мелочи, как, например, отмороженные пальцы на ноге или пуля от какого-нибудь барыги, меня не тревожили, хотя после посещения туберкулезного диспансера я почти месяц лечился от кожной заразы, и это было гораздо неприятнее обморожения. Судьба хранила меня.
Теперь же шокирующих тем почти не осталось. Все, что приходило в голову, либо очень дорого стоило (например, идея найти в Новой Гвинее племя каннибалов и попробовать человечины), либо было глупым или не оригинальным. Именно тогда у меня возникла мысль попасть в морг. Действительно, что простой обыватель знает о морге? Да практически ничего. А между тем, люди, которые там работают и имеют ежедневный контакт со смертью, живут рядом с нами, едят в тех же кафе, ходят по тем же улицам. Никто не подозревает о том, что всего час назад этот человек потрошил чье-то тело. Вот бы и мне удалось поучаствовать в этом процессе!
Идея захватила меня. Подключив связи и деньги, я в конце концов сумел выйти на судебно-медицинского эксперта, который после долгих переговоров согласился на интервью. Я был практически уверен в том, что уговорю его взять меня с собой на вскрытие, — многолетний опыт общения с самой разнообразной публикой плюс деньги наверняка сделают свое дело. «Я хочу посмотреть!» — вспомнил я свои давние слова, с которых начались мои «погружения».
Я никогда не считал себя самоуверенным парнем, но за годы общения с людьми, у которых все продается и покупается, стал наглее и убедился: то, чего нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги. А потому категорический отказ доктора взять меня с собой в секционный зал явился полной неожиданностью. Пообщавшись с ним несколько раз по телефону, я так и не понял до конца: он набивает себе цену (хотя и так были предложены неплохие деньги) или просто такой правильный. Наконец, я избрал единственно верный, как мне казалось, путь к осуществлению моей цели. Сначала я сделаю большое интервью с экспертом, познакомлюсь с ним поближе, войду, так сказать, в контакт (или, скорее, в доверие), дам понять, что со мной можно иметь дело, и лишь потом приложу все усилия для того, чтобы поучаствовать в исследовании человеческого тела.
Меня охватил уже знакомый по прежним «погружениям» азарт. В конце концов, судебно-медицинский эксперт — всего лишь человек, со своими человеческими слабостями, а я парень упертый.
Знакомые советовали мне обратиться к какому-нибудь патологоанатому, но мне хотелось острых ощущений. Я жаждал увидеть насильственную смерть со всеми ее отвратительными подробностями, такими, которых, конечно же, не будет у «клиента» патологоанатома. Я никогда не искал легких путей.
И вот теперь я узнал этот голос — именно с ним я несколько раз обсуждал по телефону подробности нашей встречи, темы для разговора. Однако обладателя его я представлял себе совсем иначе. Под влиянием множества фильмов и сериалов, которые я пересмотрел, готовясь к встрече, у меня сложился образ этакого эстета в дорогом костюме, шикарном галстуке, с безупречной улыбкой, с тонкими пальцами и с безумными глазами. На мой взгляд, человек, который многие годы работает с трупами, просто обязан быть творческим эстетом, иначе как не сойти при такой деятельности с ума?
Теперь же, при виде безволосой груди под синей робой, больших рук и вовсе не эстетичного лица в очках, я был немного разочарован.
Собеседник, вероятно, поняв по выражению моего лица, о чем я думаю, улыбнулся:
«Вы, наверное, надеялись увидеть более благопристойную внешность? Увы, люди находятся во власти стереотипов и обычно представляют себе судмедэксперта в образе Ганнибала из одноименного сериала или, наоборот, полусумасшедшего щетинистого полноватого мужичка, который носит одежду с высохшими кровавыми пятнами, ест там же, где работает, и похабно шутит. Можете убедиться: на мне нет пятен крови, принимать пищу я не собираюсь, а вот насчет шуток — извините. Мне показалось, что моя шутка о вашем черепе была преждевременной». — Он опять слегка улыбнулся, словно призывая меня расслабиться.
«Да, ваше мнение о моей голове несколько неожиданно, — ответил я тоже с улыбкой. — Впредь буду наготове».
«А в жизни многие вещи происходят очень неожиданно, вам ли не знать? Более того, смерть тоже чаще всего неожиданна. Помните: «…Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!» Товарищ Воланд абсолютно прав. Вы даже не представляете себе, насколько прав».
Я внимательно посмотрел на него. Улыбка с его лица исчезла, оно стало серьезным и каким-то торжественным. «Да уж, конечно, не представляю, — подумал я. — Не я ли видел, как погибали солдаты во время моей послед… нет, крайней командировки в одну из горячих точек? Или как сорвались со скалы альпинисты тогда, в Гималаях? Очевидно, никто из них не планировал приехать домой в цинковом гробу с маркировкой «ГРУЗ-200». Правда, все они знали о том, что занимаются опасным, рискованным делом, и понимали, что могут погибнуть. Если же говорить о простых, обычных людях, то для них внезапная смерть — и в самом деле фокус…»
Решив не углубляться в рассуждения и не обращать внимания на странный взгляд моего собеседника, я вкратце обозначил темы для разговора.
«Меня действительно интересует все. Например, как становятся людьми вашей профессии…»
«Специальности. Давайте сразу определимся: существует профессия «врач», в рамках которой есть множество врачебных специальностей — педиатр, дерматовенеролог, терапевт и так далее. И судебная медицина — это одна из врачебных специальностей».
«Хорошо. Как становятся людьми вашей специальности? Меня это интересует в первую очередь. Мне кажется, вы и ваши коллеги должны обладать каким-то особым взглядом на жизнь и окружающую действительность, и взгляд этот, вероятно, формируется еще в детстве».
«Вы хотите узнать о моем детстве?» — удивился он.
«Почему бы и нет? Если у вас есть время, то давайте начнем именно с этого».
«Ну что ж, часа три-четыре я на вас потрачу, — опять как-то очень серьезно сказал судебно-медицинский эксперт. — Так что, думаю, мы сможем поговорить обо всем».
Он начинал мне нравиться, этот пока непонятный для меня человек. По своему опыту я знал, что отношения между журналистом и тем, у кого он берет интервью, могут развиваться по-разному. Иногда собеседник раздражается от слишком, как ему кажется, неуместных вопросов, иногда раздражаешься сам; бывает, что очень интересный публичный человек в действительности, вне своего образа, — скучнейший серенький зануда. Удача, если оба участника интервью оказываются, что называется, «на одной волне» и время беседы пролетает непринужденно и незаметно. В такие моменты порой рождается крепкая многолетняя дружба.
«Кстати, насчет моего черепа, — слова эксперта не выходили у меня из головы. — Вы сказали, что по некоторым частям лица можете определить толщину костей. Что это — профессионализм, опыт или что-то другое?»
«Скорее, опыт. И еще наблюдательность. Большинство людей совсем не обращают внимания на то, что видят, а если и обращают, то никак не анализируют эту информацию. Задача же эксперта — уметь видеть и оценивать увиденное. Возьмем, к примеру, самое простое — одежду. Во что вы одеты? Перечислите».
«Эм-м… — вопрос был неожиданный. — Ну, рубашка, футболка и джинсы. А что?»
«Я ответил бы по-другому. На вас: рубашка с длинными рукавами, серая, в крупную черную клетку, хлопчатобумажная, которая застегивается на круглые серые пластмассовые пуговицы. На передней поверхности правой и левой полы, в верхней их трети, два накладных кармана, которые застегиваются на такие же пуговицы; футболка черная, хлопчатобумажная, с красно-белым принтом на передней поверхности; брюки синие из джинсовой ткани, застегиваются на круглую желтую металлическую пуговицу и желтую металлическую застежку «молния». На передней и задней поверхности правой и левой брючины, в верхней их трети, — по два врезных и накладных кармана. В шлевках брюк — черный кожаный поясной ремень шириной около пяти сантиметров, с блестящей белой металлической пряжкой. Носки черные, хлопчатобумажные; туфли черные, замшевые, с серыми металлическими декоративными заклепками на наружной поверхности и, пардон, хлопчатобумажные трусы с широкой серой резинкой. Я так описал бы вашу одежду».
Все было верно. «Носки он мог увидеть, но как и когда он разглядел мои трусы — совершенно непонятно».
«Мы с вами общаемся всего-то около получаса, — продолжал эксперт, — а я о вас уже способен кое-что сказать вполне определенно. Например, я могу утверждать, что вы курите, причем давно и много».
Я действительно курил больше двадцати лет, и в последнее время нормой для меня стала пачка в день. Ну, или полторы пачки. Если честно, то иногда доходило и до двух. Бывало, что во время работы в офисе над репортажем об очередном «погружении» я не замечал, как прикуривал одну сигарету от другой, при этом в пепельнице на столе всегда дымилась еще одна — на всякий случай, чтобы не отвлекаться на прикуривание новой, когда накатывает вдохновение и нельзя оторваться от клавиатуры.
Сейчас я поймал себя на мысли о том, что мне совсем не хочется курить, хотя прошло уже довольно много времени с начала нашего разговора. Не тянуло тошнотворно в животе и в груди, не выворачивало нутро, и я не испытывал потребности снова и снова вдыхать табачный дым. Это было очень странно, но сконцентрироваться на этой мысли у меня не получилось — эксперт продолжал:
«Во-первых, от вас пахнет табаком. От курящего человека всегда пахнет куревом, даже тогда, когда он пользуется одеколоном. Пахнут волосы, одежда, дыхание. Во-вторых, у вас сухая кожа, кончики пальцев бледные, а ногти — с желтым оттенком. Да и если бы вы посмотрели на себя со стороны, вы услышали бы, что дышите с этакой особенной хрипотцой. Готов поспорить, что по утрам вам приходится откашливаться всякой дрянью, и не всегда у вас это получается с первого раза. Хронический бронхит, начинающаяся эмфизема и сажа в легких — картина вполне очевидная. Я ведь прав, не так ли?»
Он был прав. Утренний кашель стал уже столь обыденным, что я не обращал на него внимания, как и на ту темно-серо-зеленоватую густую слизь, которая отхаркивалась с каждым разом все труднее.
«Ну и нюх у вас! — промычал я. — Как у собаки!»
«Нюх, как вы выразились, очень важен для эксперта. Чрезвычайно важен. Знаете ли вы, что мы специально нюхаем трупы? — вдруг спросил он. — Вид врача, который нюхает только что вскрытый череп, может вызвать психотравму у обывателя, но ведь мы исследуем тела, — он сделал акцент на слове «исследуем». — Есть визуальный метод исследования — когда я осматриваю покойника, а есть, если можно так сказать, «нюхательный». Чтобы различить в обычном трупном запахе нотки горького миндаля, прелой листвы или уловить сладковатую волну спирта, нужно активно понюхать труп, причем желательно сразу после извлечения головного мозга или вскрытия грудной и брюшной полостей. А желудочное содержимое? Святая обязанность каждого эксперта — определить, что употреблял перед смертью умерший, особенно, если он является убитым. Изучая степень заполнения желудка и характер поступившей в него пищи, а также зная сроки, через которые пища эвакуируется из желудка, мы способны сказать, когда человек ел, и это может быть очень важно для следствия. Как установить, что именно ел убитый? Промыть содержимое желудка в дуршлаге и хорошенько понюхать. Даже в обычном гнилостном запахе можно различить много вполне приятных оттенков, а иногда гнилой труп и вовсе пахнет как женские духи одной известной марки, не скажу какой. Если ваша жена, девушка или знакомая использует эти духи, они обязательно будут у вас ассоциироваться с моргом. Вы все еще хотите посетить вскрытие?»
Ответил я не сразу. Конечно, я знал… приблизительно знал, как работает судмедэксперт. Пересмотрев кучу роликов в Интернете по запросу «вскрытие трупа», я представлял себе то, с чем мне придется столкнуться. Но вот запах… О нем я как-то не подумал и теперь был совершенно сбит с толку рассказом доктора.
«А вот в иностранных фильмах патологоанатомы чем-то мажут себе под носом», — с надеждой начал я.
«Ментоловая мазь. Забудьте о ней. Мы ее не используем по тем причинам, о которых я только что говорил».
Честно говоря, другого ответа я и не ждал.
«Ну что же, — ответил я, — нюхать так нюхать».
«Вот и прекрасно, — как бы поставил точку в этой теме эксперт. — Я обещаю, что вы примете участие во вскрытии трупа, и довольно скоро, но сперва вы хотели о чем-то со мной поговорить?»
Наружное исследование
«Начнем с самого начала, — сказал я. — Расскажите о своем детстве, о том, как вы росли, чем увлекались, каким были?»
«Ну, что же, слушайте… Мои родители познакомились в Целинограде, где оба поступили в медицинский институт. Сейчас Целиноград называется Нур-Султан и является столицей Казахстана, а в то время он был небольшим областным городом. Через него протекает река Ишим, где местные жители в те времена с моста ловили раков: они опускали в воду на длинных веревках специальные рачевни — сетки с привязанными к ним кусками тухлого мяса, ждали минут тридцать и поднимали их, уже полные раков.
Надо сказать, что Казахстан был модерновой советской республикой, особенно северная его часть, куда ехали тысячи молодых людей, комсомольцев и не только, движимых призывом партии и правительства превратить целинные земли в плодородные поля. Первых целинников можно назвать настоящими героями: мало того, что работали они на голом энтузиазме, так еще и в жутких условиях. Летом — адская жара, зимой — адский холод, морозы за тридцать и постоянные метели. Жили в землянках, палатках, но были счастливы от того, что участвовали в большом и нужном деле. В наш коммерческий век такое немыслимо…
Родители мои родом из Северного Казахстана, познакомились они в Целиноградском медицинском институте, а на третьем курсе их обучения у них уже родился я. Так что я, можно сказать, медицину впитал с молоком матери. Всего через два года после своего рождения я уже помогал родителям сдавать экзамены: например, преподаватель по детским болезням совершенно искренне считал, что если у студента есть ребенок, то он знает все по этой теме, поэтому моих маму с папой не пытал и просто поставил им «отлично» автоматом. Позже, когда я сам был студентом и тоже жил в общаге, я уже смог представить себе, каково это — иметь маленького ребенка на третьем курсе, самом напряженном и сложном, который студенты называют «экватором», поскольку после третьего курса остается проучиться еще три.
После окончания института родителей распределили обратно в Северный Казахстан, вначале в Петропавловск, а потом в село под названием Соколовка. Это был районный центр, который, как сказали бы теперь, «динамично развивался». Именно в этом селе и прошло мое золотое детство. Мама работала офтальмологом, отец рентгенологом, а со временем стал главным врачом районной больницы».
«Название села не очень казахское», — заметил я.
«Так это же Северный Казахстан, бывшая Омская губерния, у нас и казахов-то было немного, да и те, скорее, русские казахи, без каких-то националистических заморочек. Изменения начались потом, гораздо позже, после распада Союза, — печально сказал доктор. — «Фартовый город» — так называл Соколовку мой дядя и не ошибался. Мое село напоминало скорее поселок городского типа: двухэтажные дома, две трехэтажные школы, множество предприятий. Практически все дороги были заасфальтированы. Кстати, тот асфальт, вернее, то, что от него осталось, там так и лежит, с советских времен, его до сих пор не меняли. Родители работали в районной больнице, которая занимала большую территорию и состояла из нескольких корпусов, стоящих среди густых зарослей кленов и акаций. Именно там мы и любили играть, особенно вечерами, когда все корпуса закрывались и можно было делать все, что заблагорассудится, например, ловить мотыльков или гонять на велосипедах. Там же, у одного из корпусов, мы часто находили спичечные коробки, которые подбирали, надеясь найти там спички, но в них всегда оказывались какашки — корпус был лабораторией, куда пациенты приносили свои анализы. Наверное, после взятия определенного количества кала на исследование остальное просто выбрасывалось.
Недалеко от дыры в заборе, через которую мы проникали на территорию больницы, стоял туалет типа «сортир» на два посадочных места. В нем имелась перегородка, в которой кто-то (все знали, кто) специально проделал отверстия для оперативного наблюдения за женскими частями тела. Ожидая узреть что-то жутко эротическое, мы по очереди пробирались в соседнюю кабинку и через дырку следили за посещающими туалет. Видно не было абсолютно ничего, однако это не мешало каждому наблюдателю рассказывать об увиденных им ого-го каких задницах, что вызывало справедливую зависть окружающих. Закрылось это окно в мир эротики следующим образом: однажды, когда к туалету направилась очередная дама, мой друг занял позицию в соседней кабинке и стал ждать, пока она снимет, пардон, трусы, но, наклонившись к смотровому отверстию, он вдруг услышал прямо над своим ухом: «Что, жопы никогда не видел?»
Дама была очень даже в теле и гаркнула голосом командира кавалерийского отряда, призывающего идти в атаку. Мой друг сразу же понял, что вопрос обращен именно к нему, но отвечать на него не стал и спешно покинул наблюдательный пост. Остальные ребята, в числе которых был и я, смотревшие, как обычно, из-за забора, сдристнули еще раньше, и это спасло нашу репутацию. А вот мой кореш Женька в тот вечер огреб от отца ремня — в селе все друг друга знали, и конечно, дама «срисовала» Женьку еще до того, как он зашел в кабинку. После этого мы потеряли интерес к туалетным наблюдениям.
Круглый год я любил пропадать на реке. Ишим протекал совсем недалеко от дома, мы ловили в нем рыбу, зимой катались с высокого обрывистого левого берега, на котором и располагалось наше село. На этом берегу, у самой воды было множество родников, которые и в мороз не замерзали; их вода, богатая железом, имела ярко-ржаво-оранжевый цвет и кислый вкус.
С рекой в моем детстве было связано многое. Весной, во время ледохода, местные жители выходили на берег и наблюдали за тем, как поток нес огромные льдины, которые иногда наползали друг на друга и ломались с грохотом, напоминающим взрывы. В годы особенно сильного половодья разлившаяся вода размывала кладбище в Петропавловске — областном городе, который находился выше по течению, и по Ишиму плыли гробы. Деревянный мост, который соединял оба берега, на время разлива убирали, и переправой служил маленький пыхтящий паромчик, перевозивший людей и велосипеды. С исчезновением СССР исчез и этот паромчик. Период разлива Ишима был для нас, пацанов, праздником. Река напоминала море; релка, на которой росли ивы, почти полностью погружалась под воду, торчали только верхушки деревьев. Если половодье затягивалось, то верхние ветви ив уже цвели, а нижние после ухода воды оставались еще совсем голыми…».
«Простите, вы сказали «релка»? — поинтересовался я, — Никогда не слышал такого слова. Что это?»
«Так все называли небольшой островок посередине реки. Была еще большая релка — выше по течению, а эта — почти напротив моего дома, малая».
Доктор улыбнулся — видно, он с удовольствием вспоминал эту пору своей жизни.
«Так вот, — продолжал он, — во время половодья наш высокий обрывистый берег уже хорошо прогревался, и пока не выросла высокая трава, наступала пора выливания тарантулов. Откуда взялось это занятие и кто его придумал, никто не знает, но каждую весну наша компания, вооружившись пустыми стеклянными бутылками или флаконами из-под шампуня (пластиковой тары для воды тогда не было), бродила по берегу в поисках нор местных пауков, которых все называли тарантулами — не уверен, что правильно. Норы эти хорошо выделялись на покрытой скудной травой земле — почти идеально круглые, диаметром с современную двухрублевую монету, с небольшой горкой у входа. Если кто-то обнаруживал такую нору, он тут же звал остальных, и начиналась спецоперация по извлечению из нее паука, называемая «выливанием тарантулов». За водой ходить далеко не приходилось — разлившаяся река была внизу. Наполнив емкости, мы приступали к делу. Среди детворы ходил устойчивый слух, будто тарантулы могут прыгать на несколько метров, поэтому принимались меры предосторожности — вода наливалась постепенно, а нора после очередного залива внимательно осматривалась. Тарантул появлялся всегда неожиданно: из темноты внезапно показывались несколько паучьих лап. В этот момент большинство пауколовов разбегались с криками ужаса, каждый боялся, что паук прыгнет именно на него. Но несчастный тарантул, будучи ночным животным, никогда ни на кого не прыгал, а просто был потрясен внезапной облавой. Дело техники — взять его двумя веточками и переместить в банку. Помимо паучьей прыгучести мы верили в то, что если в банке окажутся несколько пауков, то они устроят между собой битву, а если кинуть паука в воду, то он по ней спокойно побежит аки посуху. Несмотря на то, что пауки никогда не дрались, а при помещении в воду тонули, легенды эти передавались из поколения в поколение.
Еще мы любили лазить по помойкам. Зимой некоторые недобросовестные жители, дома которых располагались близко от берега, выносили мусор и сваливали его на склон. Мусор этот весной был доступен для осмотра, чем мы и пользовались. Но мы инспектировали помойки не просто так. Мы искали пробки (на самом деле под «пробками» подразумевались различные крышки). В «пробки» тогда играли все и везде. Смысл игры состоял в том, чтобы бросить свою пробку и, в зависимости от того, как она встанет — резьбой вверх или вниз, нанести ею определенное количество ударов по пробке соперника, после чего она становилась твоей. Пробки были разной ценности. Самые дешевые, от тюбиков зубной пасты, назывались «три на четыре»; если такая пробка вставала резьбой вверх, это позволяло ударить четыре раза, а если резьбой вниз — три. Пробки от мужского одеколона типа «Шипр» именовались «пять на шесть», от женских духов типа «Красная Москва» — «десять на двенадцать». Но самые крупные пробки были круглые, золотистые, от каких-то женских духов, они встречались очень редко и стоили «сто на двести». В поисках именно таких пробок мы и обшаривали помойки. Некоторые мальчишки носили с собой пакет, чтобы потом с важным видом положить в него добычу».
Я поймал себя на мысли о том, что мне интересно слушать рассказ доктора. В моем городском детстве ничего подобного не было. Конечно, мальчишки — всегда мальчишки, и я не походил на идеального ребенка, хулиганил, гулял на стройках, но никогда не жил в таком единении с природой. Мне даже не доводилось, как всем городским детям, уезжать на лето в деревню, потому что дачи моя семья не имела. Городские парки с аттракционами — вот и все мое общение с природой в детстве. Извлекать из земли пауков? Лазить по помойкам? Ни о чем таком я и мечтать не мог.
«А вы не боитесь пауков?» — спросил я.
«Нет. Они, конечно, не самые приятные создания, но и не самые отвратительные. Недалеко от нашего села, в сосновом бору, находился пионерский лагерь, в котором я проводил летние каникулы. В этом лесу пахло земляникой, мхом и смолой, всегда было прохладно и немного страшно. Земляника там росла отменная. Гуляя там, мы срывали высокие травинки, нанизывали на них ягоды, как мясо на шампуры, и такой «шашлык» приносили в лагерь. Частенько встречались нам и пауки — огромные, размером даже больше тех тарантулов, которых мы выманивали из нор, они сидели в самом центре паутины, натянутой между двумя деревьями. Иногда, увлекшись поиском земляники, кто-нибудь носом попадал прямо в такого паука или зацеплял паутину вместе с ним, и это было очень неприятно. Но бояться их? Нет. Наоборот, если вы когда-нибудь видели, как ведет себя паук, в паутину которого попала муха, то не могли им не восхититься. Он или сидит в центре паутины, или прячется где-то в укромном месте и ждет. Терпение — его преимущество, он умеет ждать. «Гриф — птица терпеливая» — так многие годы спустя говорил мой начальник в отношении всяких неудач. Он был прав — иногда нужно просто подождать, и проблема исчезнет сама собой. Так и паук ждет, не обращая внимания ни на ветер (я дул на него), ни на дождь (тоже проверено), он выжидает и надеется. Когда же в паутину попадает муха, он действует стремительно. Я много раз наблюдал этот процесс и могу сказать, что муха почти наверняка обречена; даже если она прилипла только одной ногой, у нее есть максимум две-три секунды на спасение. Услышав жужжание и почувствовав колебания паутины, паук моментально оказывается около жертвы и начинает обматывать ее своими нитями. Муха еще жива, она отчаянно жужжит, дергается, пытаясь освободиться, но все бесполезно. Паук очень изящно вращает ее задними лапами, перебирая ими быстро-быстро, и так образуется плотный серый кокон. Думает ли о чем-то эта муха? Понимает ли она, что ей конец?»
«Действительно, красивый процесс, — усмехнулся я. — Только красота эта какая-то страшная».
«Природная. Природная красота. Несомненным достоинством сельского детства является близость к природе. Я постоянно изучал ее, может быть, даже сам этого не понимая. Я наблюдал за стаями водомерок, которые разбегались по поверхности воды от поплавка моей удочки. Сквозь прозрачную воду видел, как охотится щука. Раскапывая прелые опилки в теплотрассе, находил личинок майских жуков и жуков-носорогов, самих жуков, новорожденных мышат. Следил за тем, как в сделанном мною скворечнике появлялись скворчата, которые разевали свои большие рты навстречу родителям, приносившим им что-то в клюве. На моих глазах из посаженной мною семечки вырастал подсолнух. После теплого дождя асфальт на дороге бывал покрыт дождевыми червями-выползками — не теми, плотными, красноватыми, с острыми концами, которых мы копали для рыбалки на берегу реки в глинистой почве, а огромными, розовато-серыми, дряблыми и почти прозрачными, обитающими в огородной земле. Зимой, в двадцатиградусные морозы, я и мой друг Женька переходили по льду на другой берег Ишима и по грудь в снегу бродили в зарослях ивняка и тополей, изучая следы зверей и птиц, лакомясь мерзлым ярко-красным ароматным шиповником. Однажды во время такого похода мы нашли мертвого пестрого дятла, у которого был выеден весь живот. Решив, что это, несомненно, сделала куница, мы чувствовали себя великими натуралистами. Зимними вечерами я часто видел полярных сов, которые появлялись у нас именно в это время года. Огромные, белые с черным крапом, с горящими желтыми глазами, они сидели на столбах или бесшумно пролетали в звездном небе. Летом, на заливном лугу, за селом, я любовался стаями чибисов, диких уток, наблюдал за ондатрами и раками. Раки деловито копошились под водой у самой кромки, но стоило только шевельнуться, как хитрый рак исчезал, оставляя после себя облако поднятого ила. Осенью, когда наступала пора ловить щуку на живца, мы с моим другом Серегой уходили по берегу на многие километры, облавливая тихие черные заводи, на поверхности которых плавали сухие продолговатые ивовые листья, а на обратном пути запекали рыбу. Нет ничего вкуснее этой рыбы — ее нужно обложить свежей мятой, растущей тут же, и засыпать углями от костра. Когда испеченной таким образом рыбине отрываешь голову, она отделяется вместе с кожей и кишками, и остается только вкуснейшее мясо с ароматом дыма и мяты. Если не везло с рыбой, мы набирали в ведра вкуснейшую дикую ежевику, заросли которой стелились по всему левому берегу Ишима. Особенно вкусны были те, ягоды, которые росли в тени, — матовые, с сероватым дымчатым налетом, очень крупные. Выезжая с семьей за грибами и ягодами в лес, я видел осиные гнезда, а иногда в дуплах старых осин — и гнезда шершней, этих огромных ос, имеющих плохие намерения в отношении любого, кто смел их потревожить.
Однажды мне довелось познакомиться с ними поближе. Как-то во время летнего отдыха у бабушки мой дядя, который был ненамного меня старше, взял меня с собой по каким-то совхозным делам. На обратном пути мы остановились на краю леса, у котлована, чтобы набрать ягод с диких низких вишен, росших там в изобилии. Котлован этот, заполненный водой, местные жители использовали как зону отдыха и купания. Нам, мелким, ходить к нему не разрешали — он был очень глубокий и без пологого захода, сразу начинался обрыв и глубина. На берегу котлована, на краю леса стояла старая деревянная будка без окон и дверей, неизвестно когда и для чего поставленная. Может быть, когда-то в ней жили рабочие. В описываемые же времена ее облюбовало семейство шершней — с низким гудением они кружили под ее крышей. Никого вокруг не было, и дядя Саша предложил потревожить эту несимпатичную семейку. Закрыв все окна в ГАЗ-53, мы очень аккуратно подъехали к будке и слегка качнули ее передним бампером. Я никогда прежде не видел столько шершней сразу и так близко. Моментально определив источник беспокойства, они устремились к нам. Осы не замечали ветрового стекла — они видели только нас и очень хотели нас уничтожить. Примерно за полметра от машины они разворачивались и летели вперед той самой своей частью, в которой располагается костяное жало. Я на секунду представил, что они смогут найти где-нибудь дырку и пролезут в кабину. Было очень страшно, удары шершней о стекло становились все громче, казалось, что оно вот-вот не выдержит напора, и тогда все, нам хана. Дядя Саша, вероятно, чувствовал тоже самое, и мы очень быстро ретировались.
В другой раз в лесу, собирая вишню, я нагнулся за ягодами и вдруг ощутил у себя под пятой точкой какую-то вибрацию и услышал недовольное гудение. Именно тогда я осознал, с какой огромной скоростью передаются сигналы от мозга к мышцам. На то, чтобы повернуть голову, посмотреть и убедиться в том, что я почти сижу на осином гнезде, бросить ведро и оказаться метрах в пятидесяти от того места, ушло секунды две, не более.
Зачем я все это вам рассказываю? Чтобы вы поняли: я с детства наблюдал те естественные процессы, которые происходят в природе. И процессы эти не всегда такие красивые, вкусные и приятные, как я вам описал… Я вас не утомил?»
«Что вы, наоборот — ответил я. — Мне вот не довелось встретить чибисов — я даже не представляю, как они выглядят. Ежевику я покупал в магазинах, а раков видел только вареных. Однако, что вы имеете в виду под неприятными процессами?»
«Я имею в виду смерть и все, что с ней связано. Сельский ребенок постоянно сталкивается со смертью, просто воспринимает ее как нечто само собой разумеющееся, а чаще просто о ней не задумывается. Насаживая на крючок червяка, мы его убиваем. И неважно, что он извивается, пытаясь выскользнуть из пальцев, что ему, наверное, больно. Если бы червяк умел кричать, он в этот момент орал бы благим матом. Но нас это не интересует — нам нужно насадить наживку и поймать рыбу. Чтобы пойманная рыбина не дергалась, мы ломали ей шейные позвонки. У нас это называлось «сломать лен». Делалось это очень просто: рыбья голова (как правило, щучья) резко сгибалась вниз до характерного хруста. Все дети делали так, если им попадалась более или менее крупная особь.
Помню, мне было лет десять, когда мой друг Женька — тот, что получил ремня за туалетные наблюдения, — решил разводить кроликов. Процесс, что называется, пошел. Кролики плодились и размножались. Однажды зимой очередная крольчиха родила. Теплые клетки стояли под небольшим навесом возле сарая, на улице же был мороз. Как-то так получилось, что Женька прозевал факт кроличьей беременности и родов, и наутро обнаружил нескольких новорожденных крольчат. Ночью они покинули клетку и поползли к сетке, огораживающей загон. Пролезть сквозь ячейки они не смогли, застряли в них и замерзли. Я пришел посмотреть, мне было интересно. Штук пять или шесть новорожденных, голых, сморщенных крольчат, плотно ущемленных в ячейках сетки, синюшно-красного цвета, буквально окаменели от холода.
Через некоторое время Женька надумал собрать первый «урожай» со своей кроличьей фермы. Для забоя он отобрал нескольких кроликов, дело осталось за малым — забить и освежевать. И Женька, и я неоднократно видели, как разделывают кур и поросят, и сам процесс мы себе, конечно, представляли, но вот со смертью кроликов не сталкивались ни разу. Вспомнили, что кто-то из знакомых рассказывал, будто кролика нужно стукнуть дубинкой между глаз. Решили именно так и поступить. Не с первого раза, однако все получилось. Уже на втором кролике мы знали, как сильно следует бить. После удара у кролика начинались судороги, он вытягивал длинные задние ноги, и тогда второй удар окончательно добивал его. После забоя мы подвесили тушки за задние лапы, неумело сняли шкуры, вытащили внутренности и получили вполне себе приличный продукт, который оказался еще и очень вкусным».
«И вы не боялись? — спросил я. Когда-то у одной моей знакомой в квартире жил черно-белый кролик, он был ручной, позволял себя гладить и смешно хрустел капустным листом. Я представил, как убиваю его дубинкой, а потом пытаюсь снять шкуру. — Вы воспринимали это как убийство или что?»
«Дело как раз в том, что ни мой друг, ни я не воспринимали все это как убийство. Мы участвовали в серьезном процессе — добывали продукт питания. Это я сейчас так выражаюсь, а тогда мы и об этом не думали. Все казалось естественным: кролик выращивался ради крольчатины, он вырос, мясо было получено. Никакого страха. И никакой жестокости.
Иногда в своих перемещениях по селу мы заходили на бойню и видели огромные вздутые внутренности, выброшенные на заднем дворе (наверное, потом их куда-то увозили). Тучи мух облепляли блестящие на солнце кишечники и желудки, от гниющей плоти исходила невыносимая вонь. И даже тогда ни у кого из нас не возникал страх, было неприятно, но интересно.
Вот скажите, как часто вы сталкивались в своей жизни с дохлыми собаками?»
Я задумался.
«Пару раз, наверное. На дороге, проезжая мимо. Знаете, когда собаку сбивает машина, и она остается лежать на асфальте».
«Это не считается, — заключил эксперт. — Я в детстве видел мертвых животных неоднократно. Бывало, забредешь куда-нибудь в лопухи во время игры в казаков-разбойников и чувствуешь характерный запах падали. Лежит мертвая собака, по ней ползают мухи, муравьи. Через несколько дней уже появляются черви, и постепенно от трупа остается скелет. Не я один — мы все с интересом следили за этими изменениями, хотя, конечно, специально не сидели часами, глядя на гниющие останки. Иногда можно было поворошить труп палкой и посмотреть, как он выглядит с другой стороны. Опять же, никакого страха — все понимали, что собака просто сдохла и ее просто жрут черви.
Так как практически у всех жителей имелось личное хозяйство, то дети с самого раннего возраста принимали участие в заготовке запасов на зиму. Происходили такие массовые заготовки, как правило, поздней осенью или в начале зимы, когда устанавливались морозы. Куры, утки, гуси забивались десятками. Уже лет с двенадцати я самостоятельно забивал кур, и это не было чем-то выдающимся. Посмотрев, как с этим управляется отец, я понял, что в этом деле главное — быстрота и уверенность. Некоторые для того, чтобы отрубить голову курице, использовали два гвоздя, вбитых в деревянную чурку. Голова курицы просовывалась между ними, фиксировалась, и человек, потянув птицу за ноги, наносил удар топором по растянутой шее. Мы же никогда не использовали гвозди, а просто клали курицу на чурку и отрубали ей голову.
Вы слышали о том, что курица без головы способна еще какое-то время бегать? Это не анекдот, все так и есть. Весной мы закупали цыплят бройлеров, которые к осени вырастали в настоящих страусов. Вот такой бройлер как-то вырвался у меня из рук и рванул в огород, только и слышно было, как трещали кусты смородины. Не догонишь! После этого случая я, отрубив курице голову, просто на несколько минут прижимал тушку к земле. Минуты через две-три способность бегать пропадала, и безголовая птица только перебирала ногами в воздухе и хлопала крыльями. Еще минут через пять тушку окунали в ведро с кипятком на пару секунд и после без труда ощипывали.
Сложнее было с поросятами. Так же, как и цыплят, их покупали по весне, кастрировали (отец делал это самостоятельно), и к зиме они превращались в огромных жирных кабанов. Для забоя выбирался выходной день, приглашались родственники или друзья, потому что работа предстояла серьезная и нелегкая. Мне вначале не разрешали присутствовать при забое (у нас это называлось «заколоть поросенка»), но потом позволили, и я охотно помогал отцу и дяде. Сперва жертву выводили из сарая — во-первых, там было недостаточно светло, а во-вторых, вытаскивать оттуда тушу забитого кабана гораздо сложнее. Животное почти всегда выходить не хотело, видимо, что-то подозревая, и отчаянно сопротивлялось, но его все-таки выводили во двор и клали на бок. Трем взрослым мужчинам это удавалось с большим трудом, поэтому сам процесс забоя старались проводить быстро, пока хватало сил его сдерживать. Большой нож вкалывался между ребер аккуратно в сердце, поросенок при этом отчаянно громко визжал и пытался освободиться. Моей задачей было подставить чистый таз под рану для сбора крови, которая сильно хлестала, — наверное, именно тогда я впервые увидел, какое бывает кровотечение при ранении сердца. Не всегда процесс забоя проходил идеально. Однажды очень крупный кабанчик вырвался после нанесенного ему удара и загнал мужиков на высокое крыльцо, где они и просидели минут тридцать, пока кабан ходил внизу. Он явно был недоволен таким раскладом. Нож пульсировал в его сердце, кровь лилась на землю, но животное, видимо, решило не умирать до тех пор, пока не отомстит обидчикам. Правда, этот случай единичный. Обычно минут через десять-пятнадцать поросенок затихал окончательно, и тогда его уже укладывали на специальный помост и дважды обрабатывали паяльной лампой: первый раз — для того, чтобы убрать щетину, а второй — для удаления верхнего слоя шкуры, чтобы корочка у сала была мягкая и нежная. Иногда подпеченное ухо или хвост давали погрызть детям, это было очень вкусно. Вторая обработка длилась около часа; после нее тушу клали на спину, подперев с боков при помощи поленьев, и начинали разделывать. Первые свои знания по анатомии я получил именно тогда. Меня интересовало все: как называются органы, как они выглядят, какие из них съедобные, а какие нет. Я видел, как аккуратно их извлекают — практически по методу Шора, как умело выделяют желчный пузырь (излившаяся из поврежденного пузыря желчь придавала мясу горький привкус). По той же причине нельзя было нарушить целостность мочевого пузыря и кишечника. Так что и первые навыки эвисцерации я получил в детстве, сам того не понимая.
Отдельные органы, такие как сердце, почки, легкое, а так же филе тут же отправлялись на сковородку и превращались в «свежину» — это блюдо можно было попробовать только раз в год. Собранная мною кровь тоже жарилась и употреблялась в пищу. Туша разделывалась на отдельные части, некоторые из них замораживались целиком, из других изготавливались всякие вкусности. Одного только сала мы делали несколько видов.
Как и в случае с кроликами и курами, меня не пугал ни момент убийства кабана, ни последующие манипуляции с его телом. Все это было неизменно интересно».
«М-да, — заметил я, — вот так покупаешь свинину для шашлыка и не задумываешься о том, каким образом она получена».
«И правильно. Не надо задумываться. Зачем, к примеру, городской пенсионерке или, допустим, современному ранимому юноше знать о предсмертном поросячьем визге и крови, которую собирает в таз маленький мальчик? Они пришли за продуктом — они его получили».
«Ну да, — согласился я. — Скажите, уже просто ради удовлетворения любопытства, а говядину вы тоже держали?»
«Вы имеете ввиду бычков?»
Я кивнул.
«Да, конечно. И корову для молока, и бычков для мяса. Хотите знать, как получается говядина?»
«Пожалуй, чего уж. Гулять так гулять», — мрачно пошутил я.
«Бычков, действительно, иногда было жалко. Маленький теленок — обаятельное и ласковое существо, не сравнить со свиньями. Знаете слово «волоокая»? Его используют, когда хотят подчеркнуть красоту женских глаз. У телят, да и у взрослых коров, очень красивые глаза: глубокие, большие и влажные, с длинными ресницами. Конечно, лишать жизни обладателя такого взгляда всегда жалко, но чувство это быстро проходило. Быка выводили из сарая и каким-то образом обездвиживали: или привязывали к забору, или просто давали ему ведро воды. Последнее было даже удобнее, поскольку во время питья бык наклонял голову к ведру, и в этот момент кто-то из мужчин сильно бил небольшой кувалдой ему по лбу. Как правило, хватало одного удара, но иногда требовалось два или три. После этого бык падал на передние колени, а потом на бок, и тогда забойщик длинным ножом перерезал ему горло до позвоночника. Все происходило очень быстро».
«А зачем бить животное по голове?» — мрачно спросил я.
«Из гуманных соображений, исключительно из гуманных. Как иначе перерезать шею быку весом в несколько центнеров? Он же не станет стоять и ждать, пока вы режете его. Раньше перед забоем связывали передние и задние ноги, валили быка на бок, но для этого нужны были несколько человек и много времени, а животное страдало. Если нанести хороший удар, то завалить даже крупного быка способен один человек, и страданий будет гораздо меньше.
Позже, обучаясь в медицинском институте, я вспоминал, что именно при забое крупного рогатого скота наблюдал артериальное кровотечение, фонтанирование крови, вдавленные переломы костей черепа, сокращение отдельных мышечных волокон после смерти. Помню, я обратил внимание на бычьи легкие, которые отличались от легких поросенка. Они были светло-розовые, почти белые, и на этом белом фоне выделялись темно-красные пятна — будто на них кто-то брызнул кровью. Естественно, меня это заинтересовало, и отец мне объяснил, что белыми легкие становятся от потери крови (при рассечении артерий и вен шеи возникает обильное кровотечение), а темно-красные пятна — это кровь, которая попала в легкие через перерезанную трахею, и называется это явление аспирацией. Потом я неоднократно видел точно такую же картину у людей, погибших от кровопотери. Людей тоже иногда убивают, перерезая им горло.
Конечно, в детстве я не предполагал, что стану судмедэкспертом, но выучившись, понял, насколько полезным в профессиональном плане было для меня участие в таких заготовках мяса…
А хотите, я расскажу вам об одном случае, который, наверное, мог бы стать подарком для моего психолога, если бы он у меня был?»
«Валяйте, — ответил я. Мое воображение вмиг нарисовало жуткую картину: я в серой рубашке в крупную черную клетку, черной футболке с красно-белой аппликацией и в джинсовых брюках стою под струей крови, бьющей фонтаном из перерезанного коровьего горла; кровь заливает мне глаза, я даже пытаюсь смахнуть ее рукой… Будто очнувшись, я повторил: — Рассказывайте, в забое какого еще скота вы участвовали?»
«Это, скорее, случайный эпизод из детства, — продолжал эксперт. — В тех местах, где обитали домашние животные, а также в помещениях для хранения кормов нередко объявлялись крысы. Уникальные животные, хитрые и очень умные. Например, они точно знали, в какое время я кормил свиней, и ждали, когда я вывалю ведро с кормом в корыто. После этого, нередко даже не дождавшись моего ухода, они подбегали и подъедали те кусочки корма, которые вываливались у свиней изо рта. Один раз слишком наглая или слишком голодная крыса залезла в корыто, но свинья зацепила ее вместе с кормом и сжевала, думаю, даже не заметив. Крыса орала как резаная, но свинье было все равно. Однажды, когда я играл во дворе с топором (я всегда любил топоры, ножи и другие острые штуки), из-под двери кладовки вышла крыса. Она медленно пересекала двор, покачиваясь из стороны в сторону. «Отравы наелась», — догадался я. Ядовитую приманку раскладывали специально для крыс, и эта наверняка была отравлена — обычно крысы бегают очень быстро, да и днем не особенно показываются. Естественное желание в такой ситуации — крысу прибить, к тому же в руках я держал топор. Я решил отрубить крысе голову, но то ли из-за того, что грызун продолжал, хотя и вяло, перемещаться, то ли из-за моей неопытности, однако удар пришелся не на шею, а чуть ниже. Я фактически разрубил крысу пополам. Крови было немного, и я увидел, как сокращается маленькое сердце. Удивительное зрелище! Сейчас существует множество фильмов об анатомии человека и животных, порой с уникальными кадрами, но тогда я впервые смотрел на то, как работает сердце. Крыса уже умерла, а сердце ее сокращалось еще несколько минут. Как завороженный, я наблюдал за тем, как оно наполнялось кровью и становилось почти шарообразным, потом выбрасывало кровь в сосуды, делаясь похожим на шляпку какого-то гриба, и эти циклы повторялись снова и снова, но с каждым разом все медленнее и медленнее — до полной остановки».
«И вам опять было интересно и не страшно?» — съязвил я.
«Нисколько не страшно. Но если вы думаете, что я совсем ничего не боялся, то вы ошибаетесь. Например, я, как и мои сверстники, боялся смерти».
«Вы? А как же все то, о чем вы только что рассказали?» — я удивился и даже подумал, что доктор шутит. Но он не шутил.
— Вы неправильно меня поняли, — продолжал он. — Мы боялись человеческой смерти. Возьмем, к примеру, похороны. Во времена моего детства они проходили следующим образом: по улице медленно двигалась колонна, во главе которой ехал грузовой автомобиль — ГАЗ-53 или ЗиЛ-130; борта его кузова были опущены, в кузове стоял гроб. Тут же, у гроба сидели самые близкие родственники умершего. За машиной шли люди: вначале родня, друзья, соседи, потом — все остальные. Иногда собиралось множество человек, и эта печальная процессия через все село тянулась к кладбищу, расположенному неподалеку в лесу. Нередко перед автомобилем шел оркестр, состоящий из преподавателей нашей музыкальной школы, и играл похоронные марши. Со стороны все это выглядело очень торжественно, но когда оркестр выдавал пронзительные ноты марша, становилось страшно.
Кладбище располагалось возле озера — одной из зон отдыха, с настоящими пляжами с желтым песком, чистой и прозрачной водой. В последний свой приезд на родину я сидел в траве в том месте, где раньше находилась середина водоема, и вспоминал те времена, когда люди здесь купались, ловили рыбу, а зимой катались на коньках… Однажды в этом озере утонул мальчик из параллельного класса. Никто из нас не видел, как он тонул, никто не был на похоронах, никто не видел тела, но с тех пор каждый раз, проходя мимо его дома, мы вспоминали, что здесь жил утопленник. Помню, когда на их воротах кто-то прибил подкову, все дети сразу же решили, что это знак: в этой семье утонул человек. Кто и почему это придумал — неизвестно.
Или другой пример. Нашими соседями была семейная пара — бабуля, божий одуванчик, и дедуля. Жили они тихо, однажды только пожаловались моим родителям на то, что я случайно закинул в их двор мяч. Как-то мы, играя около дома, увидели, что у соседей происходит какая-то движуха. Приехали скорая и милиция, чего раньше не бывало. Оказалось, что дед умер, и не просто умер, а повесился. Нам, детям лет двенадцати, стало жутко именно от факта самоубийства, и это притом, что все мы были не впечатлительными девочками, а уже почти сформировавшимися молодыми мужчинами. От самой мысли о том, что человек самостоятельно повесился, холодела спина. Гораздо позже, зная обстоятельства множества самоповешений и даже наблюдая сам процесс, я убедился: смерть при этом виде механической асфиксии особенно отвратительна и некрасива».
«Вот удивительно, — заметил я. — После таких детских переживаний вы все-таки стали тем, кем стали».
«Я вам больше скажу, — продолжал эксперт, проигнорировав мое замечание. — Как-то в нашей школе, когда я учился классе в седьмом или восьмом, то есть был уже совсем большим, прошел слух о том, что одна из учениц, имени которой никто не знал (а ведь в нашем селе все друг друга знали), умерла — причем умерла очень странно. Рассказывали, что она вышла на заднее крыльцо, ведущее на школьный стадион, и там у нее взорвалась голова. В подтверждение своих слов рассказчики показывали колонну на крыльце, на которой было большое засохшее пятно крови. При всей абсурдности этой истории школьники, особенно из младших классов, ужасались и старались обходить то злополучное место стороной. Я же к тому времени уже почти избавился от страха смерти и крыльцо-таки посетил. На одной из квадратных колонн действительно имелось большое красное пятно на высоте человеческого роста. От пятна стекали потеки, и при наличии фантазии можно было представить, что эти следы оставлены окровавленными фрагментами головы. Однако на самом деле высохшая жидкость являлась красной тушью, пузырек с которой какой-то хулиган (таких везде предостаточно) разбил о колонну.
Впервые я близко увидел труп тоже где-то классе в восьмом. Летом я, как всегда, отдыхал в пионерском лагере «Серебряный бор». Детей оттуда обычно домой не отпускали, родители навещали, привозили всякие вкусности — или забирали ребенка насовсем, если он сильно страдал вдали от семьи. Иногда, в приступе особенной тоски, некоторые дети уходили из лагеря домой, благо идти всего час-полтора, а дорогу все знали. Был уже самый конец смены, мы все перезнакомились, даже приятельствовали. Один паренек оказался моим соседом — жил на соседней улице, и почему-то его на выходные родители забрали домой. Дома у них то ли шла стройка, то ли делали ремонт, и мальчик где-то получил удар током и умер (поговаривали, что был неисправен какой-то аппарат, используемый при ремонтных работах). Суть в том, что наш отряд в полном составе прямо из лагеря повезли на похороны. Какому взрослому дураку пришла в голову эта идиотская мысль, история умалчивает. Нас привезли прямо к дому, в котором собралась толпа скорбящих родственников покойного. Эти родственники постоянно рыдали, а появление отряда «друзей» вызвало в присутствующих новые горестные эмоции. «Проходите, деточки, попрощайтесь», — пригласила нас мама нашего одноотрядника в комнату, в которой стоял гроб с телом. Увидев гроб, мы тоже стали рыдать, рыдал и я, но больше от антуража, чем от жалости. Несмотря на атмосферу всеобщего горя, три вещи я запомнил надолго. Во-первых, духоту в комнате. На улице было жарко, а в комнате — невыносимо жарко. Во-вторых, запах. Его я сразу почувствовал, он напоминал запах, исходящий от мертвой собаки, но имел более сладковатые нотки. Неудивительно: при дикой жаре процессы разложения происходят очень быстро, а хоронить принято на третий день, так что тело пролежало в такой температуре довольно долго. Сейчас я понимаю: скорее всего, труп тогда не бальзамировали. Бальзамация на дому, тем более на селе, в те времена не проводилась — да и некому было это делать. Кстати, тогда я выяснил и потом неоднократно убеждался в том, что гнилой труп животного и гнилой труп человека пахнут совершенно по-разному. Третье, что мне запомнилось, — это то, что ноздри покойника были забиты белой ватой. Она торчала из носа и бросалась в глаза. Потом, уже после похорон, я спросил отца, для чего это, и он мне объяснил, что при такой жаре из естественных отверстий может вытекать гнилостная жидкость, и это не прибавит, конечно, положительных эмоций окружающим. Меня удивил, наверное, даже не сам факт наличия ваты в носу, а то, насколько грубо это было сделано. На кладбище нас, к счастью, не повезли, но и того, что мы увидели, хватило для легкой психотравмы у нескольких детей. Уже потом, работая экспертом, я научился бальзамировать трупы разными способами так, чтобы тело сохранялось и не пахло, несмотря ни на какую жару.
Во второй раз я близко столкнулся с покойником, когда на автомобиле разбился руководитель нашего спортивного клуба…»
«Вы занимались спортом?» — спросил я, находясь под впечатлением от рассказа эксперта. «Почему я так разволновался?» — подумал я. Надо заметить, что во время всего разговора мне казалось, будто что-то мешает нам общаться. Хотя говорил в основном он, мне постоянно чудился какой-то фоновый шум, состоящий из приглушенных разговоров, бряканий, стуков, иногда смеха. «Однако, надо больше отдыхать, иначе совсем кукушку снесет».
«А как же, — улыбнулся доктор, — несколько лет занимался самбо, ну и еще несколькими видами спорта, по мелочи. Так вот, зимой, в феврале, в условиях плохой видимости, «Москвич», в котором находились наш руководитель и воспитанник нашего клуба, попал в повороте под ГАЗ-66. В последний момент шеф успел закрыть собой паренька, тот получил много повреждений, но выжил, а руководитель погиб. Горе было неописуемое. Тогда, кстати, я прошел все те стадии, которые переживает человек, узнавший о смерти близкого: неверие, отрицание, смирение. Когда мне сообщили новость, я находился в школе и вначале не поверил, даже не пошел сразу в наш спортивный клуб. Лишь через час я добрался до клуба, где собрались уже почти все ребята, точно так же не верившие в гибель шефа. Потом привезли искореженный «Москвич», и беда стала очевидной. Вскрытие проводилось в областном городе, который располагался от нашего села в сорока километрах. Когда привезли гроб и началось прощание, я заметил лишь несколько ссадин на лице покойного и очень удивился — я был уверен: если человек погибает в автокатастрофе, то повреждения должны быть гораздо более обширными, к тому же я видел останки автомобиля. Внес ясность, как всегда, отец. Он объяснил, что смерть наступила от внутренних повреждений, разрывов и отрывов внутренних органов и внутреннего кровотечения. Потом, уже работая экспертом, я неоднократно наблюдал у водителей несоответствие наружных повреждений и внутренних. Такое нередко бывает при невысокой скорости и пренебрежении ремнем безопасности. Вам это должно быть особенно интересно, ведь вы водили машину…»
Это был не вопрос, а утверждение.
«Как вы узнали, док? Я еще могу понять про курение — пальцы, запах. Но тут? Я не верчу в руках брелок, да и бензином от меня не пахнет».
«Подошва вашей правой туфли, вернее, подошвенная поверхность каблука, довольно характерно стерта, из чего я делаю вывод, что у вашего автомобиля автоматическая коробка передач. Ну и… а, впрочем, это неважно. Скажите лучше, вас удовлетворил рассказ о моем детстве или вы желаете услышать что-то еще?»
«Знаете, — начал я, — я хотел спросить у вас вот о чем. Вы говорите, что, будучи ребенком, испытывали страх перед смертью человека. А вы когда-нибудь задумывались о том, что можете умереть сами? В детском возрасте?»
«Если вы имеете ввиду собственную смерть как жалость к самому себе, то да, конечно. Думаю, каждый ребенок в минуты ссоры с родителями иногда представляет собственную смерть и собственные похороны. Он видит плачущих над его маленьким гробом родственников и как бы спрашивает их: «Видите, чего вы добились? Вы меня ругали, и вот я умер, теперь ругайте себя!»
Если же вы подразумеваете мысли о смерти вообще, то, конечно, нет. Ребенок не способен в полной степени осознавать последствия своих игр, действий, поступков и не может думать — мол, я сейчас сделаю что-то, от чего могу умереть. Это приходит с возрастом и жизненным опытом. Я, конечно, не был хулиганом в негативном смысле этого слова, но хлопот родителям доставлял много и несколько раз оказывался близок к тому, чтобы покалечиться, а то и погибнуть».
Я вопросительно посмотрел на собеседника.
«Мое детство, как, впрочем, и ваше, проходило без интернета и компьютерных игр; нельзя было, не вставая со стула, заказать себе любую игрушку с доставкой на дом. Поэтому игрушки мы делали сами. А во что любят играть мальчишки?»
Я пальцами изобразил стреляющий пистолет.
«Ну да, во все, что стреляет, летает, взрывается, втыкается. Мы делали самострелы, пугачи, взрывпакеты, копья, луки, даже целые ружья. Назвать эти изделия игрушками можно с трудом — например, пуля из алюминиевой проволоки, выпущенная из самодельного ружья, прошивала воробья насквозь. Насмотревшись фильмов об индейцах и начитавшись книг Фенимора Купера, мы изготовляли духовые ружья и луки, причем, подходили к этому очень основательно. Лучшей древесиной для настоящего лука считалась рябина, которая в тех краях не была распространена, а после наших увлечений луками ее и вовсе почти не осталось. Зато луки получались что надо: тетиву натягивали вдвоем, она звенела как струна, а стрела, отцентрованная и увенчанная острейшим гвоздем, легко пробивала доску-двадцатку. Спустя годы я видел смертельное ранение, причиненное стрелой, выпущенной из спортивного лука: одному уставшему мужчине надоела женщина, которая под окнами его квартиры постоянно выкрикивала рекламные объявления, он открыл ставни и выстрелил в нее из лука. Справедливости ради нужно сказать, что предварительно он ее попросил — в доступных ему выражениях — прекратить бубнить у него под ухом. Стрела, войдя в спину, прошла между ребрами, повредила легкое и сердце и вышла из груди, смерть наступила на месте происшествия. Думаю, что и стрелы, выпущенные из наших луков, вполне были способны причинить подобные повреждения.
Даже такие пустяковые штуки, как пугачи, могли лишить нас глаза или руки. Пугачи бывали двух видов. Самый простой, «детский», изготавливался из велосипедной спицы. Она вынималась из колеса, ее головка откручивалась и прикручивалась назад, только уже другим концом — так, что в образованный цилиндр можно было накрошить серы от спичек и вставить небольшой гвоздь. Чтобы при взрыве гвоздь не отлетел в глаз, его привязывали веревкой к противоположному концу спицы, саму же спицу сгибали дугой. После этого оставалось начинить головку спицы серой, вставить туда гвоздь и ударить этим гвоздем по любой твердой поверхности. Сера взрывалась с грохотом, иногда головка разрывалась, и ее приходилось менять. Другие, более основательные пугачи, делались из медных трубок, какие мы находили на свалке или на нашем ремонтно-механическом заводе. Брался фрагмент такой трубки, один из концов его загибался буквой «Г» при помощи молотка. Кусочек фольги укладывался в просвет трубки и плотно трамбовался, после чего внутрь насыпалась сера от спичек (теперь понятно, почему мы так упорно повсюду искали спички?). Затем в трубку вставлялся гвоздь-«сотка», который у шляпочного конца так же, как и сама трубка, был загнут под прямым углом. На трубку и вставленный гвоздь туго надевалась резинка, представлявшая собой срез велосипедной камеры, гвоздь чуть вытаскивался из трубки и фиксировался под небольшим углом. После эта конструкция зажималась в руке, пальцы надавливали на резинку, гвоздь соскальзывал и ударял в серу внутри трубки. Вот это были взрывы! Опытные ребята обматывали трубку изолентой, потому что иногда пугач разрывался и калечил кисть. Выстрел всегда производился вверх, так как однажды гвоздь от отдачи порвал резинку и улетел в кого-то из мальчишек, серьезно ему навредив.
Но самым шиком считался огнетушитель, начиненный карбидом кальция, — его мы искали даже с большим азартом, чем спички. Электросварка тогда не была очень распространена, использовали газовую с кислородными баллонами, длинными резиновыми трубками и аппаратом, в котором находился карбид. После того как сварка заканчивалась, содержимое аппарата вываливалось куда-нибудь в кусты, и в этих кучах можно было найти несколько кусков не успевшего среагировать карбида, пригодного к использованию, — настоящее сокровище. Детский опыт по применению карбида передавался из поколения в поколение и постоянно усовершенствовался. Кто-то придумал, что можно взять пустой баллон из-под дихлофоса или дезодоранта, отпилить тот конец, где располагался распылитель, в дне сделать небольшое отверстие, налить внутрь немного воды и положить туда кусок карбида. После этого к отверстию в дне мы подносили зажженную спичку, и раздавался оглушительный взрыв, очень нас радовавший. Так вот, использованные огнетушители тогда тоже порой попадали в детские руки. Мы заполняли баллон наполовину водой, засыпали туда столько же карбида, а потом плотно завинчивали крышку и помещали в воду. Когда давление от образовавшихся в результате химической реакции газов становилось запредельным, огнетушитель взрывался с жутким грохотом. Это было прекрасно.
Я мог несколько раз утонуть, покалечиться, играя на стройке, упасть с дерева, оказаться растерзанным собаками… Однако дело ограничилось лишь тем, что мой друг Женька случайно воткнул мне в глаз лыжную палку. То ли он был индейцем, то ли я, уже не помню. Я выдернул палку из глаза и пошел домой, немного расстроенный из-за того, что придется напугать родителей, а в большей степени потому, что прогулка закончилась. Хорошо, мама у меня офтальмолог, она все вылечила, рана зажила, как на Бобике, хотя если бы палка воткнулась на пару миллиметров глубже, то все — глаз можно было бы выбрасывать. А однажды произошла совсем смешная история. Не обошлось, конечно, без Женьки. Как-то у меня дома мы выпили бутылку какого-то лимонада (тогда лимонад надо было еще поискать), после чего пошли гулять и зарулили к нему домой, который находился совсем рядом. Во дворе, на металлической бочке, стояла зеленая бутылка с надписью на этикетке «Напиток “Колокольчик”». Пробка показалась нам закрытой, и мы очень обрадовались, поскольку не каждый день выпадал такой фарт — выпить целых две бутылки газировки. Почему-то — наверное, от радости, — нас нисколько не смутило, что зимой, в мороз, жидкость внутри бутылки не замерзла. Как правило, напитки благородные типа «Колокольчика» законам физики подчиняются. Но нам было не до физики, мы зашли в дом, разлили газировку по стаканам, и я, как самый нетерпеливый, выпил первый. Только проглотив жидкость, я понял, что она имеет резкий химический запах. Выплюнув все, что осталось во рту, я заорал и побежал домой, ужасно перепугав родителей. В бутылке был ацетон, который Женькин отец принес с завода. Запах ацетона с тех пор навсегда засел у меня в мозгу, и я его чувствую даже в самых ничтожных концентрациях, например, при исследовании трупов людей, болеющих сахарным диабетом».
«Послушайте, — сказал я. — Все это очень интересно, но я так и не услышал о том, что вы с детства мечтали быть судебно-медицинским экспертом».
«А я и не мечтал об этом, — снова улыбнулся эксперт. — Я фактически вырос в кабинете офтальмолога и рентгенолога. У мамы на работе меня привлекали рефлекторы, уменьшительные и увеличительные стекла, острейшие иглы, которыми доставали соринки из глаз; в кабинете отца я бродил между хрустящих трубок рентгеновских аппаратов, как среди лиан в джунглях, мне очень нравилось, как там пахнет. Частенько мы с отцом печатали фотографии там же, в кабинете, благо ни в проявителе, ни в фиксаже в рентгеновском кабинете недостатка не было. И никаких моргов. Поэтому я, конечно, не мечтал работать в морге и даже не думал об этом. Да и никто в детстве о подобной работе не мечтает».
«Но вы же, наверное, хотели кем-то стать? Космонавтом?»
«Ну уж нет. Космос меня никогда не привлекал. Я планировал связать свою жизнь с чем-то более интересным. В те годы я перечитал всего Даррелла, Кусто, Гржимека, Дайан Фосси, Хейердала и размышлял о профессии зоолога, ихтиолога, океанографа, археолога, но только не врача. И, наверное, чем-то таким и занялся бы, однако наступил август 1991 года, и я вдруг оказался за границей, чуть не сказал — здравого смысла. Казахстан стал другим государством, и куда-то ехать с местным аттестатом стало почти нереально. Поступать же в казахстанский вуз было глупо: во-первых я, скорее всего, не поступил бы из-за незнания казахского языка и непринадлежности к коренной нации, а во-вторых, к этому времени родители уже приняли решение переезжать в Россию. Это вынужденное решение влекло за собой немало проблем: например, моей сестре пришлось сменить две школы в двух разных городах, а родителям — жилье и работу. Сам переезд меня не коснулся, поскольку он случился осенью 1993 года, а я в июле поступил в институт и в конце месяца уехал в Омск — в самостоятельную жизнь, в общагу».
Внутреннее исследование
Мне опять подумалось, что мой разговор с экспертом как-то необычен. С одной стороны, он шел ровно, я очевидно «зацепил» собеседника, и тот охотно делился со мной воспоминаниями. С другой стороны, все было как-то слишком гладко, да и меня не оставляло ощущение присутствия чего-то постороннего. Вначале я решил, что это из-за вчерашнего — накануне я немного перебрал и с утра чувствовал себя плохо, сильно болела голова. Но теперь головная боль прошла, причем как-то незаметно для меня, сама по себе, что казалось необычным — как правило, мне для этого требовалось выпить аспирин или, что гораздо лучше, пива. Сегодня я точно его не пил, так как собирался садиться за руль. Решив не обращать внимания на такие мелочи, я продолжил:
«Итак, вы поехали поступать в медицинский институт?»
«У меня не было выбора, — ответил эксперт. — Формально на тот момент я считался гражданином государства Казахстан, имел казахстанский аттестат и мог поступать в вуз России только как иностранец. А это было нелегко. Поэтому, воспользовавшись тем, что в Омском медицинском институте открыли платный факультет спортивной медицины, меня «поступили» туда. Экзамены я, конечно, сдавал, но они являлись формальностью при взносе за первый год в размере 700 тысяч рублей. Кстати, сдал я экзамены относительно неплохо».
«Простите за нескромный вопрос, но 700 тысяч — это ведь немалые деньги?» — заметил я.
«Вы хотите спросить, где я их взял? Да, денег у нас не было, поэтому отец, на тот момент главный врач района, заключил договор с одним из местных совхозов о том, что совхоз будет за меня платить, а я потом у них отработаю».
«То есть вам требовалось вернуться и какое-то время поработать в совхозе?»
«Ну да, именно так. Скажу честно — такая перспектива меня совсем не радовала, но она казалась мне столь далекой, что я старался о ней не думать. Судьба решила эту проблему за меня: процесс развала бывшей великой страны шел полным ходом, и через два года совхоз тоже развалился, оплатив мне лишь первые два курса.
А тогда, в июле 1993 года, мы стояли с отцом на крыльце санитарно-гигиенического корпуса Омского Государственного медицинского института имени Михаила Ивановича Калинина и смотрели на дождь, который шел сплошной стеной так, что почти не было видно машин, ползущих по проспекту Мира. Потом автомобили совсем остановились, по асфальту текла настоящая река, дождь шумел, сверкали молнии, от оглушительного грома закладывало уши. Не знаю, о чем в это время думал мой отец, возможно, он просто любовался стихией. До меня же постепенно доходило, что я теперь студент и стою на пороге очередного жизненного этапа. Это было очень символично — ливень как будто очищал мне путь в будущее, а молнии и гром приветствовали нового взрослого человека.
Потом дождь кончился, отец уехал, и началась та самая взрослая и самостоятельная жизнь, о которой я до сих пор вспоминаю с благодарностью к судьбе.
Еще на подготовительных курсах, в профилактории, куда меня поселили, я понял, что взрослая жизнь — это очень круто. Каждый вечер, гуляя по городу, я покупал себе банку пива, всегда разного, благо в ларьках, которых в то время было предостаточно, оно имелось в изобилии. Открыто и легально купленное пиво казалось мне символом «взрослости». За неделю я познакомился со всеми обитателями нашего этажа — такой же абитурой, и подготовительные курсы стали условностью и местом, не обязательным для ежедневного посещения. Никаких пьянок у нас тогда еще не было. Дни и ночи мы общались под песню «Happy Nation» группы «Ace of Base», звучавшую из каждого открытого окна (как только в одном заканчивалась, тут же начиналась в другом) и доводящую до тошноты. Ночи стояли теплые, окна у всех соседних домов, тоже общаг, всегда были нараспашку, и под эту песню мы провожали закаты и встречали рассветы. Так проходил один из самых романтичных и наивных месяцев в моей жизни.
Кстати, там, в профилактории, я впервые встретил живого таракана. До этого я о них только читал, а тут в умывалке увидел воочию. Совсем молодой таракан, еще не коричневый, а темно-зеленый, пузатый, сидел у зеркала, явно недовольный тем, что его в упор разглядывает какой-то очкастый первокурсник с копной волос до плеч. Тогда еще я, конечно, не знал, сколько всего будет связано с тараканами в моей жизни и работе. Повреждения, причиненные трупу тараканами, имеют очень специфическую форму и характер и иногда напоминают ссадины. Если тараканов в квартире много, они способны объесть эпидермис на большом протяжении, и неопытный эксперт или сотрудник правоохранительных органов может решить, что труп покрыт ссадинами, хотя на самом деле это просто участки подсохшей кожи, лишенной эпидермиса. Тогда же таракан привлек меня лишь фактом своего существования, я даже не применил к нему высшую меру, а позволил спокойно свалить за зеркало».
«То есть вы жили в профилактории, а не в общаге? — уточнил я. — Вы хорошо устроились».
«Да что вы! — улыбнулся доктор. — Профилакторий был отдан абитуре на время подготовительных курсов и вступительных экзаменов, когда все студенты на каникулах. Никаких процедур там не проводилось, кроме тех, что мы сами себе устраивали.
А вот потом, поступив, я ощутил всю сложность студенческой жизни. Началась она с выделения нам комнаты в общаге — в профилактории нас никто оставлять не собирался. В начале октября получив ордер, мы с парой приятелей пошли искать комнату, в которой намеревались жить долго и счастливо. Найденное помещение сразу показалось нам каким-то странным — там не было половины двери. Имелась только верхняя ее часть, с запертым замком, который мы открыли ключом. Наличие закрытого замка указывало на то, что до нас в этой комнате обитали сознательные люди, соблюдающие правила проживания в студенческом общежитии. Войдя в совершенно пустую комнату, мы увидели картину, достойную кисти художника. Уже смеркалось, люстра на потолке отсутствовала. Не было ни лампочки, ни патрона для нее, остатки электрического провода торчали усами у одной из стен. В закрытых оконных рамах имелось лишь одно стекло, и вечерняя свежесть заполняла комнату. «Зато не душно», — заметил мой друг Славик. Но основной сюрприз ждал нас впереди. Осмотревшись, мы заметили под самым потолком на всех стенах, кроме прилегающей к окну, какие-то темные пятна разной величины. Сперва мы решили, что это следы сырости, но пригляделись и поняли, что сырость тут не причем. Это были тараканы, и они мерзли. Не имея возможности погреться за кроватью или холодильником, они гроздьями висели под потолком, видимо, в самом теплом месте. Они наползали друг на друга в несколько слоев, большими волнами, которые медленно бесшумно колыхались, — наверное, пытались согреться. На меня это зрелище произвело незабываемое впечатление, прошло уже почти 25 лет, а я помню эту картину так, будто только что ее увидел. С того момента я и тараканы — вечные враги, которым не ужиться на одной жилплощади. Сложив свои вещи в комнате и по наивности не приставив к ним часового, мы отправились искать справедливости у коменды, но не нашли ни коменды, ни справедливости. Однако, как говорится, кто-то теряет, а кто-то находит. Пока мы теряли надежду на достойное жилье, кто-то стырил одну из моих сумок, в которую заботливые родители положили шикарный казан и множество полезных хозяйственных инструментов.
Кое-как пристроив по друзьям остальные сумки, мы разбрелись на ночлег кто куда. Я поехал на омский железнодорожный вокзал и переночевал там, умудрившись даже неплохо выспаться. В дальнейшем мне приходилось неоднократно ночевать на вокзалах в разных городах, но тот случай был первым.
На следующий день мы поехали в институт и устроили там дебош, да такой, что нас поселили в другом общежитии; оно находилось дальше от автобусной остановки, но зато в девятиэтажке, комнаты в которой располагались в блоках. В каждом блоке было четыре комнаты — две «двушки» и две «трешки», то есть, на два и на три человека соответственно. И там, в «трешке» № 603, на шестом этаже, прошли первые два года моей студенческой жизни. Думаю, именно за те два года я окончательно понял, что не буду ни врачом спортивной медицины, ни вообще лечебником.
С первой же недели учебы нам начали преподавать нормальную анатомию, которая стала моей страстью. Я читал атлас Синельникова как художественную книгу, быстро запоминал латинские анатомические названия, даже записался в кружок — короче, наверное, впервые кайфовал от необходимости делать домашние задания. А учить приходилось много. На студенческом сленге здание, где располагаются кафедра анатомии и другие морфологические кафедры, называется «анатомичка», «анатомка» или «морфак». В Омске «анатомка» располагалась примерно в часе езды от общежития. Занятия начинались в 8 утра, и просыпаться приходилось очень рано. Потом по сибирскому морозу за тридцать под звездным небом я шел пешком минут двадцать до остановки, втискивался в автобус (маршруток тогда не было) и еще минут пятнадцать топал до корпуса, в котором кроме кафедры нормальной анатомии находились кафедры патологической анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии, а также судебной медицины.
Занимались мы в огромном зале. За несколькими мраморными столами одновременно могли работать четыре-пять студенческих групп. Перед началом занятия ответственные студенты, среди которых был и я, спускались в подвал и получали анатомические препараты — начиная от костей и заканчивая целыми трупами. Эти препараты мы тащили наверх, а после занятия возвращали в подвал и погружали в большие ванны, наполненные формалином. Эти старые коричневые препараты, сильно пострадавшие от многолетних студенческих ковыряний, воспринимались нами не как бывшие люди, а как учебные пособия. Однако, несмотря на такое плачевное состояние, это все-таки были настоящие трупы, не муляжи, чем гордилась кафедра. Преподавательский состав имел твердое убеждение в том, что анатомия должна изучаться по трупам, и это абсолютно верно. Помню, однажды на кафедру приехал профессор из Средней Азии. Он очень возвышенно рассказывал о себе, но когда его спросили о том, какие препараты у них на кафедре, он ответил: «А зачем нам препараты? У нас муляжи хорошие!» После этого все вопросы к нему отпали.
Мы же изготавливали препараты сами и подходили к этому процессу очень ответственно…»
«Вы варили кости?» — перебил я.
«Нет, вываривать кости — занятие, безусловно, интересное, — усмехнулся доктор, — но мы делали сложный препарат сосудов, нервов и мышц верхней конечности. В самом начале это была просто свежая, непроформалиненная рука мужчины, включающая в себя лопатку и ключицу. Я и пара моих приятелей в течение нескольких месяцев по вечерам приходили в анатомку и слой за слоем удаляли все лишнее. Сперва аккуратно снимали кожу до кончиков пальцев, а потом тщательно и нудно удаляли подкожную жировую клетчатку. Задача была — сохранить поверхностные вены и нервы, после выделить глубокие сосуды и нервы и, наконец, очистить мышцы. Одно неловкое движение могло погубить всю работу, поэтому первым делом мы не спеша находили какой-нибудь сосуд, а затем шли по нему, постепенно его очищая. Никаких острых предметов при этом не использовалось — все лишнее удалялось пинцетом или другими тупыми инструментами. Наибольшую сложность представляла кисть, ведь в ней сосредоточено множество сосудов, имеется поверхностная и глубокая артериальная дуги, нервы, и все это довольно тонкое и ранимое. Помню, иногда приходилось двигаться очень медленно, по долям миллиметра отщипывая микроскопические кусочки жира для того, чтобы найти сосуд или нерв. Порой я надолго задерживал дыхание и замирал в одной позе на несколько десятков минут. Зато после месяцев кропотливого труда получился прекрасный, демонстративный, практически идеальный препарат, который мог бы служить украшением любого анатомического музея.
Один из моих преподавателей по анатомии работал и на кафедре судебной медицины и позволил мне, первокурснику, побывать в кафедральном музее. Музей меня поразил! Огромное количество артефактов, препаратов, в том числе костных, с различными переломами, а также орудия, которыми были причинены повреждения, секционные находки… Я провел в этом замечательном месте несколько часов и, покинув его, окончательно укрепился в своем желании стать судебно-медицинским экспертом.
Дело, конечно, было не в одном музее — в первую очередь дело было в людях. Наши преподаватели являлись людьми старой школы, требовательными и строгими, но добрыми и отзывчивыми. Если студент проявлял к чему-то интерес, они старались его всячески поддержать и удовлетворить, часто даже в ущерб своему личному времени. Тогда мне казалось, что все преподаватели такие, но жизнь впоследствии переубедила меня, и я вспоминаю свой первый курс в институте как редкую удачу, благодаря которой я познакомился с замечательными людьми и увидел, как надо преподавать, что очень пригодилось мне в дальнейшем».
«Скажите, — прервал я его, — а жизнь в общаге не мешала вашей учебе? Помнится, мы во время учебы собирались для гулянок в общежитии, в котором жили наши иногородние однокашники, и я могу себе представить, каково это — жить в общаге постоянно».
«Общага сделала из меня человека, — ответил эксперт. — Если в институте я изучал медицину, то в общаге я учился жизни, а жизнь учила меня. Я могу вам рассказать несколько историй из того веселого времени».
Я молча кивнул.
«Я уже говорил, что после устроенного дебоша нам дали нормальную комнату. Это жилье обладало многими достоинствами, хотя и недостатки тоже присутствовали, например, имеющееся помещение для душа было заколочено, и мыться мы ходили на первый этаж в общий душ. А еще до нашего появления общага обходилась без студсовета, и мы, первокурсники, решили его организовать — большая наглость с нашей стороны. Получив добро коменды, мы сколотили отряд «малолеток» и наделили сами себя широкими полномочиями: могли проверять комнаты, принимать какие-то решения и даже ездить бесплатно на транспорте. Не секрет, что студенты ездят много. Это сейчас у многих есть свой транспорт, а тогда, в 1993 году, мы все пользовались общественным. Выходило это в копейку, а не платить было рискованно, так как контролеры в то время не церемонились с нарушителями и тут же вызывали наряд милиции. Конечно, студенты изворачивались разными способами: например, ехали весь маршрут у компостера и, завидев контролера, тут же пробивали билет, если же контролер не появлялся, то и не пробивали; возили с собой пачки пробитых билетов и лист бумаги, который пробивали компостером и по рисунку дырочек находили в пачке самый похожий билет; пробивали билет не до конца, не полностью, а только слегка приминали, чтобы потом использовать его вторично. Но мы пошли дальше. В соседней общаге располагался опорный пункт милиции, и мы направили в него письмо за подписью председателя студсовета (моего соседа по блоку) о том, что все мы срочно должны стать внештатными сотрудниками милиции для обеспечения безопасности в общаге. Время было лихое, и нам выдали корки дружинников красного цвета, которые мы уверенно демонстрировали контролерам и ехали бесплатно. Такая схема прекрасно работала около года, но потом наши «рыжие кудри примелькались», как говорил Остап, и нам пришлось пользоваться проездными. Не хотелось иметь дела с нарядом милиции, который на вызов к «зайцам» всегда прибывал в очень плохом настроении».
«Неужели кондукторы вызывали наряд?» — не поверил я.
«А как же! Я сам так однажды попал. Мой билет, пробитый уже, наверное, в третий раз, не внушил доверия одному настырному контролеру, и на следующей остановке меня приняли. Сотрудники, поняв, что со студента взять нечего, любезно поинтересовались, не хочу ли я узнать, что такое ПР-73? Я тогда был очень любопытным и не мог не воспользоваться возможностью получить полезные знания. И я их получил, правда, вместе с ударом резиновой дубинкой по мягкому месту. Задница потом болела несколько дней, а ПР-73 оказалась «палкой резиновой, длиной 73 сантиметра».
В общаге старшекурсники любили «напрягать» первокурсников — таким образом, что хорошо при этом было только старшекурсникам.
Сразу после заселения второкурсники просветили нас — мол, «напрягают» всех «новичков», это такая традиция, и среди студентов старших курсов есть легендарные личности, которые соблюдают эту традицию с особой жестокостью. «А вас что, еще не «напрягали»?» — удивлялись они. Мы сами удивлялись, ведь прошла уже неделя нашей общаговской жизни, а нас как будто никто не замечал. И вот, наконец, это случилось. Однажды среди ночи кто-то постучал в дверь, да так, словно не имел ни малейшего сомнения в том, что ему откроют. Мы, понимая, что пришло время традиций, тут же будто бы заснули глубоким сном и не слышали никакого стука. Наш ночной гость не стал мучить себя ожиданием и просто выбил дверь, зашел в комнату и включил свет. Пришлось просыпаться. Причина столь позднего визита оказалась банальной — у старшекурсников кончилась водка, и кому-то нужно было за ней сбегать. Тогда спиртное продавалось в ларьках круглосуточно, и следовало помочь изнемогающим от жажды людям. Причем деньги они давали всегда свои и сдачу не требовали. Как сейчас помню, на десять тысяч рублей можно было купить бутылку водки типа «Распутин», бутылку ликера для дамы, шоколадку, и еще немного оставалось. Один случай из того времени не понятен мне до сих пор. Однажды ночью нас разбудил дикий стук в дверь, в которой уже имелось несколько заделанных дырок от бывших замков — их приходилось менять, когда дверь в очередной раз выбивали. Когда мы, уверенные в том, что это очередной «напряг», открыли, в комнату ворвался какой-то парень; он без промедления распахнул холодильник, молча схватил банку соленых огурцов и тут же с ней убежал. Кто это был и почему огурцы понадобились ему так срочно, мы так и не узнали.
Закончились наши проблемы, когда мы стали членами студсовета, что произошло очень скоро».
«А сколько человек жили в вашей комнате?» — поинтересовался я.
«Кроме меня еще двое — Олег и Санька. Санька был родом из-под Омска и каждые выходные ездил к родителям. Заприметил его я еще в профилактории — его подселили ко мне в комнату, мама его занесла сумки с домашней едой и, уходя, сказала: «На, Саша, почитай интересную книжку». Книга называлась «Богатые тоже плачут», и он ее действительно читал. Уже тогда я понял, что скучно с ним не будет.
Санька славился двумя вещами: во-первых, он мог есть (и ел) сразу все, что имелось в комнате, то есть запивал молоком селедку, супом заедал варенье и тому подобное; и, во-вторых, он засыпал сразу же, как только открывал перед собой учебник. Обычно это выглядело так: Саша приходил из института с бутылкой пива, мы ели, потом он шел курить, возвращался, ложился на кровать на живот, ставил перед лицом книгу, открывал ее и вмиг засыпал. На свет и разговоры ему было плевать, но как только мы делали попытку выключить лампу, Санька тут же просыпался и с недовольным видом говорил: «Зачем выключаете, я же учусь!» — после чего обязательно переворачивал страницу и опять засыпал.
Денег на неделю ему давали столько, сколько остальным высылали на месяц. При этом к пятнице, как правило, Санька ходил по общаге, занимая на билет домой. Однако парень он был не подлый и всегда поддерживал компанию.
Однажды Саша сломал унитаз. Он стоял, пьяненький, облокотившись на трубу (унитазы были еще те, с бачками под потолком), пытался вызвать у себя рвоту, но как-то безуспешно — то ли вдохновения не хватало, то ли не глубоко засовывал пальцы в рот. Наша соседка Юля, увидев его мучения, искренне предложила принести ему воды. Это настолько оскорбило гордого Александра, что он строго сказал: «М-м-молчи, женщина, т-т-твое м-м-место на кухне» и упал на трубу, вырвав ее вместе с унитазом. После этого его привязали полотенцами к кровати до утра.
Учеба в институте для Санька окончилась очень рано. Еженедельные гульбища и природный пофигизм сделали свое дело. За полтора курса он ни разу не вышел на сессию вовремя. Когда мы сдавали зимнюю сессию второго курса, Саша пытался сдать летнюю первого курса, тогда это было возможно, но даже с таким лояльным подходом у него ничего не вышло. В итоге его просто отчислили. Несколько лет спустя поговаривали, что его видели подшофе в Омске в форме курсанта Высшей школы милиции.
Второй мой сосед и друг, Олег, учился в параллельной группе, но жили мы вместе, вместе тусили и вместе работали в студсовете. Олег был родом из Нагорного Карабаха, его семья незадолго до окончания им школы переехала в Омскую область, где Олег умудрился получить аттестат с серебряной медалью. Он рассказывал нам о том, как они уезжали из Карабаха, как ночью им дали на сборы два часа, и они уехали фактически с тем, что смогли увезти, оставив и дом, и большую часть имущества. Он был позитивным парнем, очень целеустремленным. На первом же курсе заявил, что будет кардиохирургом и больше никем. Судьба, однако, распорядилась иначе — он стал полостным хирургом и доработал до заведующего отделением. Именно Олегу принадлежала идея по четвергам после занятия по физиологии вместо лекций ходить в сауну, и это стало нашей доброй традицией на два года. Очень взрывной, но отходчивый, Олег умел признавать свои ошибки. Иногда, в момент какой-нибудь склоки, его большие армянские глаза наливались кровью и он кричал «Зарэжу!», однако ограничивался лишь тем, что кидал подушку в спорщика. В общаге я впервые попробовал настоящий армянский хаш — Олег варил его на нашей электрической плитке с открытой спиралью, как положено, всю ночь. Наутро в комнате стоял такой аромат, что мы, конечно, ни на какую учебу не пошли. В то время было так просто не пойти на учебу! У нас случалось всякое — мы ссорились и мирились, но всегда поддерживали добрые отношения. Уже после окончания института Олег неоднократно приезжал из Пятигорска, где работал, в Москву на конференции, и мы часами сиживали в маленьких ресторанчиках в Камергерском переулке и на Большой Пироговке, вспоминая студенческие годы. Несколько лет назад Олег с красавицей женой и маленькими сыном и дочкой погиб в автокатастрофе под Пятигорском.
А тогда, в общаге, мы жили полной студенческой жизнью. Помните, я рассказывал о друге детства Женьке и его кроликах? Опыт разделывания кроличьих тушек пригодился мне много лет спустя. В соседней комнате, тоже «трешке», обитал наш однокашник Вадик. Он носил усы и с первого курса занимался на кафедре гистологии, вел какую-то научную работу. Ботаником его нельзя было назвать, но время от времени он отрывался от коллектива. Его работа на кафедре заключалась в изучении каких-то структур глаза, а так как у людей глаза вырезать нельзя, он довольствовался глазами кроликов. Юного гистолога в его научных изысканиях интересовали лишь палочки и колбочки, а остальной кролик, то есть самая вкусная его часть, Вадика не привлекал, поэтому примерно раз в десять дней он волок тушку убиенного зверька в общагу. У нас при входе в блок висел турник, и иногда приходящие к нам люди, открывая дверь, видели такую картину: на турнике за задние ноги был подвешен кролик, его окровавленные глазницы зияли на фоне белого меха, а вокруг скакали с ножами голодные мы и сдирали с тельца шкуру. В такие вечера у нас на ужин подавалась крольчатина в сметане — по общаговским меркам, мегакрутой деликатес. Вадик окончил институт и благополучно уехал в Израиль, где и живет поныне.
Сейчас, вспоминая первый и второй курсы, я удивляюсь: как нам хватало времени на все, ведь учеба была нелегкая, задавали много, некоторые не выдерживали. По общежитию ходила история об одной студентке, которая сдала госэкзамен, получила диплом и в тот же вечер поджарила его на сковородке и съела, после чего ее госпитализировали в «дурку». Скорее всего, это байка, но все в нее верили.
По молодости и я пару раз бывал близок к провалу. Тогда мне казалось, что я просто отстаивал свою точку зрения на занятиях, сейчас же я понимаю: я перегибал палку и иногда скатывался до некорректного общения с преподавателями. Таким образом я чуть не вылетел с первого курса — сперва из-за политологии, а затем из-за биологии. Политологию я тогда считал лженаукой, о чем и поспешил сообщить преподавателю. Что характерно, она моего мнения не разделила и начала спрашивать меня на каждом занятии, после чего я перестал эти занятия посещать. Позже пришлось долго извиняться, учить, сдавать и пересдавать, и в конце концов я решил эту проблему. А вот с биологией было сложнее. В итоге я намекнул родителям, что у меня маленькие проблемы, ну, как маленькие — меня могут отчислить… И разруливать ситуацию приехал отец. Он быстро убедился в том, что дела мои очень плохи, и если за пару дней что-то не предпринять, то на сессию я не выйду со всеми вытекающими. Спас положение зверь колонок, вернее, его чучело, которое отдал в музей кафедры биологии мой дядя, охотник и таксидермист-любитель. Колонок растопил сердце заведующей кафедрой, на сессию я вышел, экзамены сдал и больше подобного не допускал. Да, я учился на своих ошибках.
Несмотря на бурную студенческую жизнь, я много времени проводил на кафедре нормальной анатомии, предпочитая готовиться к занятиям по настоящим препаратам, а не по атласу. Именно в эти первые два года учебы я узнал о том, насколько совершенен наш организм. Это универсальная система, способная приспосабливаться к невероятным условиям существования, экстремальным ситуациям и всяким внешним воздействиям. В организме нет ничего лишнего, у всего есть своя функция. Противники этого утверждения приводят в пример разные атавизмы, например, мужские соски — какую функцию выполняют они? Будем считать, что эстетическую», — закончил доктор и опять улыбнулся.
Никогда прежде я не задумывался о мужских сосках. И в самом деле, зачем они нужны мужчине? Я попытался представить свою грудь без сосков. Действительно, как-то неэстетично.
«Я так понимаю, что вам пришлось уехать в другой город. Почему это случилось?» — поинтересовался я.
«Все просто. Совхоз, который платил за мое обучение, развалился, денег у нас не было, поэтому я попытался перевестись с факультета спортивной медицины на менее пафосный и более традиционный, а заодно и бесплатный. Но в Омске такой фокус не удался, перевод мне не разрешили. Надо сказать, что через несколько лет после моего отъезда факультет спортивной медицины приказал долго жить, и студентов, обучающихся на нем, распихали по другим факультетам совершенно спокойно. Но тогда у меня ничего не получилось, и я был просто раздавлен этим фактом.
Из близлежащих городов вариант с бесплатным обучением нашелся лишь в Челябинске, и туда я в конце концов переехал. Хорошо помню тот июльский день, когда я вышел из главного здания Омского мединститута с папкой в руках. В папке лежало мое личное дело. Мои отношения с этим вузом закончились. Однокашники разъехались на каникулы по домам, и я собирал вещи в пустой общаге с ощущением какой-то нереальности происходящего. Провожал меня приятель Леха, с которым мы символически обменялись рубашками и пообещали друг другу не терять связь. Слово свое мы сдержали — дружим до сих пор. Я в последний раз прошел по вокзальному перрону и убыл в неизвестность. В вагоне я думал о том, что жизнь моя кончена и уже ничего хорошего в ней не будет. Как же я тогда ошибался!
Такие жизненные колебания позволяют понять: все, что ни делается, — к лучшему, и нужно проще относиться к происходящему».
«Вы фаталист?» — удивился я.
«Вынужденный фаталист. Я неоднократно убеждался в том, что судьба человека — совсем не абстрактное понятие».
«До этого мы еще дойдем. Расскажите о суровом городе Челябинске. Вы ведь там начали работать как судебно-медицинский эксперт?»
«Челябинск стал моим домом на одиннадцать лет. Там я окончил институт, который с моим приходом преобразовался в академию, хотя, возможно, это простое совпадение. Началось все, как и в Омске, с заселения в общагу. В профкоме, куда я пришел за ордером, стояла толпа первогодок, жаждущих получить заветную комнату. По каким-то причинам их всячески тормозили, и они кучками «мялись» в коридоре. Мне повезло: узнав, что я третьекурсник, мне без задержек выдали ордер, и я пошел заселяться — благо, требовалось пройти всего одну остановку по улице Воровского. На первый месяц мне досталась комната, в которой жили два племянника комендантши общежития, приехавшие из далекого села посмотреть большой город. Ребята весело проводили время, предпочитая экскурсиям игру в карты и безмерные возлияния. Но знакомство с общагой началось не с этого. Зайдя на второй этаж общежития № 2, я очутился почти в полной темноте — коридоры не были освещены, а глаза после яркого уличного света долго адаптировались к условиям помещения. Из тьмы на меня надвигалось что-то большое, лысое, с черной бородищей. Оно подошло ближе, и я разглядел огромного мужика с ножом в руке, который, как потом выяснилось, просто шел из кухни в свою комнату. На дворе стояло лето 1995 года, и люди с черными бородами несколько настораживали. Человек, видимо, все прочитав на моем лице, наклонился ко мне и сказал: «Это ты еще остальных не видел». И я понял: жизнь в этой общаге будет не менее интересной, чем в омской. Кстати, громила этот, Андрей, оказался русским, очень спокойным и хорошим парнем.
Спустя месяц меня наконец-то переселили на окончательное место проживания — в комнату номер 25, расположенную напротив кухни. Большой радости это мне не доставило (кто жил в общаге, понимает, почему). Кухня — это тараканы, а тараканов я ненавидел с того самого первого дня в омской общаге. Зайдя в комнату, я увидел следующую картину: слева от входа на койке лежал юноша с кудрявой головой и что-то усердно учил; на кровати напротив двери, у окна, устроился юноша постарше, примерно моего возраста, с таким выражением вселенской тоски на лице, что мне сразу стало его жаль. Приглядевшись, я обнаружил и причину тоски — лежавший тут же открытый учебник фармакологии, который Олег (так звали парня) использовал как подставку для серой алюминиевой кружки с чаем. Одна дужка спинки его сетчатой кровати была снята, и в образовавшиеся дыры Олег стряхивал пепел от сигареты. Увиденное меня совершенно не порадовало, и в комнате сразу же произошли перемены. С того дня Олег после ужина грустно сидел на корточках в коридоре около нашей двери, курил и пил свой чифирь из той же кружки. Вскоре, правда, его отчислили из института, видимо, за какие-то учебные долги.
Второго паренька — того, что грыз гранит науки, — звали Димой; он учился на курс младше меня и был круглейшим отличником. Лежа на кровати, он часто открывал свою зачетку и медленно перелистывал страницы, снова и снова всматриваясь в многочисленные «отл.». Почти сразу после того, как нас покинул Олег, к нам заселился первокурсник Ваня, веселый парень, вечно голодный, худой и креативный, а в настоящее время — важный человек, клинический фармаколог. Втроем мы прожили следующие три года.
Жили мы весело и дружно. Комната у нас была образцово-показательная: никакого бардака и грязи. Мы ввели поочередные дежурства по уборке и готовке, причем все готовили более или менее хорошо и вкусно. В отличие от некоторых соседей, предпочитающих объедать однокурсниц, мы закупали продукты, непременно мясо (Ваня без него не мог), и питались разнообразно. Хотя бывали и трагические случаи, связанные с едой. У нас имелась шикарная сковородка — тяжеленная, чугунная, с крышкой, в ней можно было запекать хоть гуся. Сковороду эту я припер из дома, и пользовались мы ей довольно часто. Обычно готовили в комнате на плитке; хотя и жили прямо напротив кухни, ходить туда ленились, да и не хотели постоянно следить за едой, ибо поесть на халяву на нашем, в основном мужском, этаже любили многие.
В один воскресный день у нас почему-то прямо с утра было хорошее настроение, и мы решили шикануть — приготовить утку, привезенную то ли Ванькой, то ли Димкой из дома. В общаге шла декада борьбы с электроплитками, и коменда Людмила Матвеевна то и дело ходила по комнатам и реквизировала обнаруженные плитки, поэтому, ввиду возможного шухера, мы решили готовить на кухне. К угощению, само собой, была приобретена бутылка водки.
На кухню мы бегали по очереди — переворачивать вкуснейшую утку и следить, чтобы ее не украли. Нереальный запах распространялся по всему этажу! Так как приготовление заняло часа два, мы уже сами одурели от ароматов, водка грелась, слюни текли. Оставалось совсем немного до воскресного пира. Хорошо помню, как я сказал Димке (подошла его очередь осматривать утку), чтобы он ее уже заносил. Он вышел и как-то слишком быстро вернулся. С таким выражением, какое бывает у человека, проигравшего миллион, но еще не осознавшего это. «А сковородки нет», — просто сказал он. Мы почему-то сразу ему поверили. Во-первых, за такие шутки после двухчасового ожидания можно запросто получить по шее, а во-вторых, в голосе его слышалась такая горечь, что не поверить было просто невозможно. Мы ринулись на кухню, в которой стоял изумительный запах жареной утятины с картошкой, газ на плите горел. Сковородка исчезла. Немедленный рейд по этажу не дал никаких результатов — большинство комнат оказались закрыты. Не буду передавать те проклятия, которые сыпались на головы похитителей. Наутро мы вывесили на кухне объявление: «СУКИ, ВЕРНИТЕ ХОТЯ БЫ СКОВОРОДКУ!», но, увы, сковорода пропала так же бесследно, как и утка. До сих пор не знаю, кто это сделал. Были у нас контуженные на всю голову студенты, которые шутили очень грубо. Например, могли в чей-нибудь суп подкинуть носок или трусы. Но тырить еду — это беспредел. Вместо торжественного ужина у нас получилась банальная грустная пьянка.
Во времена моего челябинского студенчества между общагами № 1 и № 2 (в которой я жил) располагался профилакторий. Может быть, он и сейчас там. Кто профилактировался в нем — не имею понятия, ни я, ни мои друзья там не бывали. Но это здание обладало одним несомненным достоинством — оно стояло впритык к обеим общагам, примерно на этаж возвышалось над ними и, в отличие от них, имело плоскую крышу, которую студенты-медики с незапамятных времен нежно называли «промежностью».
«Промежность» часто использовалась как место для отдыха и загара. Несмотря на то что залитая битумом крыша на жаре воняла, летом в разгар сессии на ней собиралось много студентов обоего пола; они пробирались туда для того, чтобы совместить приятное с полезным — подготовиться к экзаменам и позагорать. Полуметровое ограждение хорошо скрывало лежащих на принесенных полотенцах или пледах студентов от любопытных глаз. Наша коменда Людмила Матвеевна, конечно, знала о существовании «промежности» и пыталась пресечь любые попытки проникнуть туда, однако абсолютно безрезультатно.
Путь на крышу из нашей общаги лежал через крыло, в котором жили мы, на чердак, закрытый комендой на замок. Замок студенты не срывали — его вырывали вместе с петлей и потом аккуратно вставляли на место — так, что дверь казалась запертой. По чердаку приходилось идти через все здание, пробираясь через висящие провода, пыль, голубей и кучи голубиного помета (всех голубей мы со временем съели). В руках каждый нес пакет с учебниками, пледом, едой и питьем. Затем через чердачное окно требовалось вылезти на крышу. Это самый сложный этап — металлическая крыша была довольно крутой и скользкой, а ограждение — хиленьким, и падать с высоты четвертого этажа (уровень современной пятиэтажки) никому не хотелось.
Дальше следовало пройти метров пятнадцать, потом на руках перелезть через край крыши профилактория — и все, цель достигнута. Самое удивительное, что за все время пользования «промежностью» никто оттуда не грохнулся, хотя люди посещали ее иногда в не совсем трезвом состоянии.
Редкие студенты (в основном девчонки) действительно учились на «промежности». Мы же выдерживали от силы полчаса и засыпали под жарким уральским солнцем или играли в карты; порой учебники так и оставались лежать в пакете, как бы успокаивая нашу совесть.
Помните, я вам рассказывал о том, что в омской общаге душ находился на первом этаже? Здесь было еще веселее: душ располагался в подвале, и студентам приходилось ходить через все общежитие, спускаться в подвал, довольно долго идти в темноте среди каких-то труб, и только преодолев все препятствия, удавалось попасть в душ и помыться. Летом горячую воду отключали, и мы мылись ледяной, так как в подвале трубы не нагревались. Каким-то эмпирическим путем кто-то обнаружил, что во время мытья холодной водой становится немного теплее, если при этом орать что есть мочи. Так мы и делали, и люди, проходящие мимо общежития, особенно по вечерам, думаю, очень пугались, слыша дикие мужские крики из подвала».
«А на каком курсе в мединституте преподается судебная медицина?» — спросил я.
«Тогда это был пятый курс, предпоследний. К нему я подошел уже с окончательно принятым решением стать именно судмедэкспертом».
«Вот как, — заметил я. — И что же вас привело к такому решению?»
«Преподаватели, конечно. Девяностые годы, в стране — бардак. Учителя зарабатывали, как могли. На интересных мне кафедрах, по большому счету, никакой учебы не было. Например, на кафедре оперативной хирургии — интереснейший предмет — на коммерческой основе оперировали собак и кошек. Занятия проходили следующим образом: утром преподаватель говорил: «Читайте учебник от сих до сих» и уходил оперировать животных. Мы на четыре часа были предоставлены сами себе: читали, спали, играли в какие-то игры. Потом появлялся препод, уставший после операций, за десять минут ставил всем двойки и снова исчезал. И так каждый день в течение всего цикла. Откуда же взяться любви к предмету? Или, например, прекрасная специальность — патологическая анатомия, близкая к судебной медицине. Может быть, я и стал бы патологоанатомом, но за время обучения мне отбили весь интерес. Преподаватель утром раздавала нам банки с анатомическими препаратами и уходила зарабатывать деньги. Мы непонятно для чего несколько часов зарисовывали эти препараты карандашами в тетрадях, потом вернувшаяся преподаватель проводила тест, и на этом занятие заканчивалось. Иногда препод садилась на стол и, дыша табаком, рассказывала, сколько глаз у покойников наковыряла за день. Думаю, что в патанатомии изымали глаза для каких-то клиник. За все время обучения мы ни разу не посетили вскрытие. Такой подход к преподаванию всегда казался мне непонятным и оскорбительным. Экзамен же по патологической анатомии принимался очень жестко, не один потенциальный краснодипломник срезался именно на этом предмете. Поэтому к пятому курсу я подошел уже с убеждением, что буду заниматься именно судебной медициной».
«А скажите, — перебил я, — это правда, что судмедэксперты и патологоанатомы не любят друг друга и даже конкурируют?»
«Открытого противостояния нет. Но определенная предвзятость присутствует, я сам неоднократно с ней сталкивался. Курсе на пятом, когда у нас был цикл внутренних болезней, преподаватель предложил кому-нибудь сходить на вскрытие больной, которая умерла накануне, и я, конечно, вызвался. В секционном зале я увидел уже вскрытый труп, органы лежали рядом, а патологоанатом еще не появлялся — труп вскрыл санитар. Через некоторое время вошла женщина патологоанатом, взяла пинцет и ножницы и нащипала несколько кусочков из органов, которые, по ее мнению, заслуживали внимания. Во время такого «показательного вскрытия» она спросила меня, кем я хочу стать, и когда услышала, что судебно-медицинским экспертом, сказала: «Зачем вам это ремесленничество? Идите в патологоанатомы, у нас интересно, а эксперты только травму вскрывают и ничего больше не умеют». Свою работу она считала искусством, а труд эксперта ставила на ступень ниже. Тогда я в первый раз столкнулся с подобным отношением к экспертам, однако далеко не в последний. Слова ее меня неприятно удивили — к этому времени моя семья уже жила в России, отец вынужденно сменил специальность рентгенолога на судебно-медицинского эксперта, я часто бывал у него на работе и прекрасно понимал, что работа судмедэксперта никоим образом не похожа на ремесленничество. Вскрытию в обязательном порядке подлежат все органы, а не только те, в которых есть патологический процесс, к тому же оно никак не может начаться без участия врача. Еще я знал о том, что патологоанатом не имеет права исследовать насильственную смерть, а вот эксперты каждый день исследуют патологоанатомические случаи. Да, эксперты не смотрят гистологический материал, но разве в этом состоит патологоанатомическое «искусство»? Спорить с той женщиной я не стал, решив, что это бесполезно.
Конечно, в вопросах патологии патанатомы иногда сильнее экспертов, но это не ставит одних выше других. Вместе с тем я сам неоднократно проводил повторное исследование трупа после того, как он был уже исследован патологоанатомом, — это случается, когда родственники умершего не согласны с причиной смерти и настаивают на проведении судебно-медицинской экспертизы. И я часто сталкивался с несоответствием фактической картины и того, что написано в протоколе вскрытия».
«Что вы имеете в виду? — спросил я. — Не понимаю».
«Ну, предположим, протокол патологоанатомического исследования гласит, что причина смерти связана с сердцем, что масса органов измерена, все органы исследовались, все описано. А фактически оказывается, что органы не вскрыты, не отсечены и, соответственно, не взвешены; максимум — из них взяты маленькие кусочки для гистологического исследования; и причина смерти указана неверно, потому что, например, не вскрыты легочные артерии, в которых имеются массивные тромбы. Хотя по тексту все в порядке».
«Но ведь это подлог?» — осторожно поинтересовался я.
«Ну да, — согласился эксперт. — Подлог. Но такое бывает. У нас, конечно, тоже встречается всякое, однако не так откровенно. И еще я заметил, что «подковырки» идут в основном от патологоанатомов, эксперты как-то более терпимы к работе коллег. А в целом мы с большим уважением относимся к патологоанатомам, часто с ними консультируемся и совместно участвуем в конференциях по нашим специальностям.
Так вот, тогда же, на пятом курсе, у нас был и цикл судебной медицины…»
«Вы уже несколько раз упоминали «циклы» — что это такое?» — перебил я.
«Ах да, я же забыл, что вы не врач, — улыбнулся доктор. — После третьего года обучения в медицинском институте занятия идут циклами, то есть неделю или две студенты занимаются, например, только терапией, потом сдают зачет и следующие две или три недели изучают психиатрию — и так весь год. Цикл «судебки» у нас продолжался дней десять. Я очень его ждал, но меня постигло разочарование. Кафедрой судебной медицины руководил новый заведующий — он пришел с кафедры нормальной анатомии и не имел тогда к «судебке» никакого отношения. На кафедре было скучно, пыльно и грустно. Решив немного поворошить это болото, мы с одним однокашником пришли к заведующему и попросились в кружок, который то ли существовал, то ли нет. Заведующий первым делом спросил, есть ли у меня видеокамера. Видеокамеры мы с товарищем, конечно, не имели, в то время она являлась если не предметом роскоши, то признаком хорошего достатка. Узнав об этом, заведующий потерял к нам всякий интерес и сказал, что мы, как новые кружковцы, должны помочь разобрать старые вещи в учебных комнатах. Мы занимались этим дня два, после чего наше участие в кружке прекратилось само собой. Для чего нужна была видеокамера, я не знаю до сих пор.
За весь цикл нас лишь однажды сводили на вскрытие в Бюро, которое находилось через дорогу. Я хорошо запомнил это посещение. Почему-то одновременно в морг привели четыре группы — это около пятидесяти человек, и места всем не хватало. Мы стояли перед секционной в коридоре, в котором лежали трупы. Много трупов — на полу, по обеим стенам, один на другом, иногда по четыре-пять в стопке. В холодильной камере места для них было недостаточно. Нижние тела уже начинали течь, и гнилостная жидкость стекалась к середине пола, образуя красновато-черные лужицы. Конечно, все это неприятно пахло, а точнее, воняло. Студенты, стоявшие в коридоре, не видели ничего из того, что происходило в секционном зале; они просто переминались с ноги на ногу с испуганным видом, стараясь не вляпаться в лужи и не касаться трупов. Какой-то девушке стало плохо, и ее вывели. В один момент толпа студентов начала тесниться из коридора, уплотняться и недовольно гудеть. Посмотрев поверх голов, я увидел причину такого движения: по коридору ехала каталка с очередным трупом. Но не это смущало впечатлительную молодежь. Каталку везла санитарка — низенькая, круглая женщина с очень злым лицом, в клеенчатом фартуке, заляпанном кровью. Рукава ее синего халата, закатанные до локтей, обнажали мощные руки без перчаток. Именно ее испугались студенты, она шла решительно, и было понятно: любого, кто замешкается и не уйдет с ее дороги, она без раздумий переедет своей каталкой.
Мне все-таки удалось в тот день пробраться в секционную, но ничего интересного я там уже не увидел, так как вскрытие завершилось, санитар зашивал труп, а нового вскрытия нам дождаться не дали. Вот так печально закончился цикл любимой мною «судебки», впрочем, это не поколебало моей уверенности в выборе именно этой специальности».
«Простите, — снова перебил я, — у меня все не выходит из головы то, что вы сказали о голубях. Это правда? Вы их действительно ели или это была аллегория?»
«Ели, самым натуральным образом, — подтвердил мой собеседник. — И делали это неоднократно. Я уже упоминал, что на чердаке общаги обитало много голубей. Однажды так совпало, что экзамен по общей хирургии и мой день рождения пришлись на один день. Экзамен я сдал на «пять», настроение было хорошее, и мы решили разом отметить и экзамен, и днюху. Пригласили на вечер одногруппников и соседей — всего человек пятнадцать. И если с выпивкой все складывалось более или менее нормально, то из еды имелась одна картошка, и наше финансовое состояние не позволяло купить продукты — все деньги ушли на спиртное. Тогда-то одному из троих (думаю, что всегда голодному Ване) и пришла на ум идея употребить в пищу голубей. Едят же их, в конце концов. Чем голубь не курица? И уж точно он глупее ее. Так мы подумали и пошли на охоту. Птицы сидели на чердачных балках десятками и совершенно не обращали внимания на людей — настолько привыкли к постоянно проходящим на «промежность» студентам. У Вани был пневматический пистолет, и с его помощью мы добыли порядка тридцати особей, пока остальные, начав что-то подозревать, не улетели. Получилось полное ведро дичи, которую мы тут же, на чердаке, освежевали, потом в комнате отварили, а затем потушили в жаровне. Вечером голуби пошли на «ура», они действительно были очень вкусными и жирными — недалеко от нашей общаги располагался элеватор, на котором птички и откармливались. На вопросы некоторых мнительных дам о размерах птиц мы отвечали, что это перепелки, и нам верили. На следующий день кто-то все же проболтался о том, что «перепелок» мы поймали на чердаке, но никаких негативных реакций со стороны одногруппников не последовало. Позже мы еще несколько раз пользовались голубиной доверчивостью, правда, изменили тактику охоты: ходили на промысел в темное время суток, ослепляли голубей фонариком и ловили их голыми руками. Через несколько недель голуби, видимо, поняли, что наступил их апокалипсис, и улетели с нашего чердака насовсем — по крайней мере, до конца моей учебы на крыше они больше не появлялись. Но это еще не все. Мы настолько обнаглели, что стали ходить с пистолетом по соседним домам — подъезды тогда были открыты, и мы беспрепятственно залезали на чердаки. Продолжалось все до тех пор, пока нас не заметили бдительные старушки, которые пригрозили нам милицией».
«Однако, — сказал я, — веселый у вас был коллективчик».
«Веселый — не то слово. Я до сих пор удивляюсь тому, как нам везло. Например, мы никогда не покупали елку на Новый год. Студент, живущий в общаге и покупающий елку, — что может быть глупее? Но праздника хотелось, и мы несколько лет подряд перед Новым годом ходили в лес, который находился далековато, километрах в трех от общаги. Брали с собой пилу и ночью шли за елкой. Само по себе это предприятие — чистая авантюра, потому что морозы стояли за двадцать, а снега в лесу было по пояс. Мы валили большую елку, отпиливали у нее верхушку и тащили ее в общагу, рискуя быть замеченными ППС-никами. Потом требовалось как-то занести дерево в общагу, ведь входную дверь на ночь запирали, но мы решали и эту проблему: проходили через заранее открытый черный ход или поднимали его на веревке через окно. И ни разу не попались.
А однажды наша авантюрная вылазка граничила с реальной уголовщиной. Повод в тот раз был не новогодний. Стояло лето 1996 года, мы закончили ремонт в комнате, получилось очень хорошо, но чего-то не хватало, какой-то изюминки. В тот год вся страна выбирала президента, и город украшали большие плакаты с изображением романтично прислонившегося спиной к дереву Бориса Николаевича и надписью «Выбирай сердцем». Вот такой плакат мы и решили повесить у себя в комнате. Один из них мы видели на перекрестке недалеко от общежития. «На дело» отправились ночью, было довольно светло, как в сумерках, народ гулял и не обращал внимания на трех идиотов, сидящих на столбе и скручивающих плакат. Нас не остановили — видимо, никто из прохожих не поддерживал Ельцина, и мы благополучно занесли Бориса Николаевича в комнату и водрузили в самом центре, над столом. С тех пор любого, кто входил в комнату № 25, встречал президент страны, подпирающий спиной дерево.
Но и это еще не все…»
«Неужели потом вы стащили плакат с изображением Зюганова?» — предположил я.
«Нет, это было бы уже скучно. В то время — вы, наверное, помните — на улицах везде стояли ларьки, в которых продавали все, что можно продать. Имелись они и недалеко от нашей общаги. К некоторым из них были привинчены круглые штуки красного цвета с логотипом фирмы «Кока-кола», которые светились по ночам. Вот такой светильник мы и решили приобрести к себе в комнату. Нам почему-то казалось, что он будет смотреться очень стильно и романтично. Романтика, знаете ли, была визитной карточкой комнаты № 25. Мы пошли и забрали эту рекламу кока-колы, опять же, безо всяких проблем. Надо сказать, что на стене эта штука смотрелась гораздо круче, чем на ларьке. Вся общага ходила в нашу комнату как в музей, а кто-то даже свинтил с другого ларька похожую вывеску с рекламой пепси, но это было уже подражание.
И последнее, что мы приобрели таким образом для своей комнаты, — это дорожный указатель».
«Дорожный указатель? — удивился я. — Но зачем он вам понадобился?»
«Понадобился не сам указатель, а труба, к которой он крепился. Мы, видите ли, захотели иметь в комнате турник — желание похвальное, но где его взять? Покупка трубы казалась нам глупейшей идеей, а строек вокруг не было. Поэтому мы, опять под покровом ночи, выкопали этот указатель. Не дорожный знак — нет, а табличку с названием какой-то достопримечательности и направлением движения. Турник получился великолепный.
Последней в цепочке этих уголовных приобретений стала табличка с надписью «СТОЙ! СНИМИ ХАЛАТ!», лично снятая мной с двери туалета в туберкулезном диспансере, где я проходил обследование. Эту табличку мы прикрутили на дверь своей комнаты и считали, что это очень круто.
Сейчас я, конечно, понимаю, что мы делали нехорошие вещи, но тогда это представлялось нам каким-то ухарством, и угрызения совести нас совсем не мучили.
Вообще в общежитии я приобрел множество знаний и навыков, которые впоследствии пригодились мне в работе».
«Что вы имеете в виду? — удивился я. — Я понял бы, если бы речь шла о жизненном опыте, но вы говорите о профессиональных навыках, так ведь?»
«Конечно. Однажды на нашей кухне девчонки варили сгущенку. Процесс этот долгий, и самое главное в нем — вовремя подливать выкипающую воду, ведь если банка находится полностью под водой, она не взорвется, а вот если часть ее не покрыта водой — может рвануть. В тот день по какой-то неведомой причине контроль над уровнем воды был ослаблен. Когда в кухне прогремел взрыв, у нас чуть не вынесло дверь. На месте происшествия мы увидели искореженную кастрюлю, разорванную пополам жестяную банку и сгущенку, которая оказалась буквально везде. Она коричневатыми соплями свисала с потолка, текла по стенам, была в раковине, на окне, на полу. Сейчас я понимаю: я видел эпицентр взрыва и траекторию разлета осколков (сгущенки), и представляю, что произошло бы, если бы в кухне в тот момент находился человек.
Так же я несколько раз был свидетелем употребления тяжелых наркотиков. Жил на нашем этаже один паренек, который увлекался этим делом. Однажды он влетел к нам в комнату в состоянии полной невменяемости, руки его тряслись, глаза бегали туда-сюда. Выяснилось, что к его соседу по комнате пришли гости, колоться перед ними ему было неудобно, и он искал для этого другое подходящее место. Тогда я впервые увидел весь процесс от начала до конца: как готовится эта дрянь, как варится в ложке на зажигалке, а потом вкалывается, после чего человек успокаивается и словно замирает на несколько минут. Этот парень позже умер, и я догадываюсь, от чего.
Ну и, наконец, именно в общаге, в своей комнате, мы провели первое самостоятельное вскрытие…»
Я вопросительно посмотрел на эксперта. Он не смеялся, наоборот, глаза его были холодными, а взгляд — очень внимательным, будто он изучал меня, мою реакцию. Мне стало не по себе.
«Вы шутите?» — спросил я, заранее зная ответ.
«Ничуть. Вы, конечно, слышали о том, что медики — люди циничные. Это так и есть, и я не исключение. У нас в комнате жил кот. Вернее, даже два кота. Первый, помесь сиамского и дворового, звался Мэйсоном, или Толстым, — в зависимости от поведения; он был брутален и самолюбив и любил подолгу сидеть по-человечески, на попе, вытянув вперед задние лапы. Потом он убежал, и откуда-то появился второй кот, чистокровный дворянин, которого за абсолютно черный окрас прозвали Бегемотом. И вот этот оказался редкостным подлецом, гадом и негодяем. Несмотря на наше хорошее к нему отношение, вел он себя как последняя сволочь: гадил где попало, лазил по столу, блевал, рвал вещи и никак не перевоспитывался. Через несколько месяцев тщетных попыток приучить его к лотку мы поняли, что вместе нам не ужиться. Последней каплей стал следующий случай. У нас в комнате было много цветов, для которых мы, как ответственные цветоводы, еще с лета заготовили целое ведро отборной земли. Если появлялся новый цветок, из этого ведра мы брали для него грунт. И вот однажды у соседок по этажу мы взяли отросток какого-то красивого растения, решив посадить его в нашей комнате. Но когда достали из-под кровати ведро, увидели, что оно почти на треть заполнено кошачьими какашками. Стало понятно, что Бегемот не исправился, как мы думали, а просто гадил теперь в ведро вместо тапочек. Пристроить негодяя никуда не удалось, потому что слава о коте-засранце вышла далеко за пределы двадцать пятой комнаты. На общем собрании тремя голосами «за» против одного (Бегемотного) решено было котейку казнить путем удавления петлей. Приговор мы привели в исполнение на балконе второго этажа. Да, поступок некрасивый, но что было, то было. Не помню, кому пришла в голову идея вскрыть кота, однако мы сделали это в комнате в его же неиспользованном лотке».
«И что обнаружили?» — поинтересовался я.
«Да ничего не обнаружили, хотели просто посмотреть на организм. Но вскрытие провели по всем правилам. Кстати, чтобы вы не думали о том, какие мы плохие, скажу, что на пару этажей выше нас жили парни, которые однажды зимой поймали кошку, повесили ее за окно и, когда она промерзла, сделали пироговские срезы — тоже, видимо, в силу простого любопытства. Одна из больших работ великого русского ученого Николая Ивановича Пирогова заключалась в том, что он делал распилы замороженного человеческого тела в разных плоскостях и изучал соотношение органов и тканей на различном уровне. Вот и те студенты занимались примерно тем же. Хотя, конечно, нас это нисколько не оправдывает.
Я иногда думаю, что если энергию молодых людей, студентов использовать правильно, то можно свернуть горы. Человек в двадцать лет способен работать сутки напролет, он увлечен, он желает что-то делать, он еще не испорчен системой и рутинной действительностью, у него куча креативных идей. Но молодость почти всегда связана с раздолбайством, а быть раздолбаем проще и легче, чем прилежным студентом. За годы жизни в общежитии на моих глазах раздолбайство множество раз одерживало верх над здравым смыслом, и нормальный человек к концу учебы в институте катился по наклонной, набирая обороты, уже не в силах остановиться. Катастрофа всегда подступала незаметно, постепенно — с веселых посиделок, компаний и попоек. Человек сперва изредка, а затем все чаще пропускал занятия, копил долги по сессии, закрывал эти долги и приобретал новые; студенческие пирушки все больше походили на банальные ежедневные пьянки, и в конце концов ситуация подходила к краю, за которым пути уже не было. Немногим удавалось остановиться перед этим краем. Видя все это, я в очередной раз убедился в правоте родителей. Они тоже во время учебы жили в общаге и являлись свидетелями многих историй человеческого падения, о которых мне рассказывали. Как и все молодые максималисты, я был уверен: это единичные случаи, и человек нормальный в такую ситуацию никогда не попадет. Но я ошибался. А наблюдения за изменениями человеческого организма помогли мне потом в работе — они способствовали пониманию того, как развиваются патологические процессы при алкоголизме. Небольшие внешние признаки, знакомые мне еще со студенческой поры, замечались, оценивались и вели к правильной постановке диагноза.
Надо сказать, что учеба в институте и беззаботное студенческое бытие закончились очень быстро, шесть лет пролетели как один день. За окном замаячила реальная взрослая жизнь — совсем не та, которую я воображал на подготовительных курсах в Омске. Перво-наперво я должен был устроиться в интернатуру по судебной медицине и для этого пошел в Челябинское областное Бюро, к начальнику Петру Ивановичу Новикову, профессору, выдающемуся человеку. Он встретил меня приветливо, но сказал, что штат у него укомплектован и места он мне предоставить не может. Это было очень прискорбно, поскольку уезжать из Челябинска я уже не хотел, да и выбора особого не имел. Поэтому я решил попытать удачу в небольшом городке, спутнике Челябинска. Там начальник морга, человек отзывчивый и добрый, сообщил мне, что места у него нет, но через год он уезжает в Израиль навсегда, и место появится. Вооружившись этой информацией, я вновь отправился к Петру Ивановичу. Тот, удивленный моей пронырливостью и настойчивостью, пообещал взять меня в интернатуру через два месяца и даже дал мне для самостоятельного изучения личную книгу — «Руководство по судебной медицине». Книгу я почти выучил наизусть. Осенью меня зачислили в интернатуру.
Так, благодаря судьбе, я и стал судебно-медицинским экспертом».
«Мне кажется, то, что вы называете судьбой, есть обычное стечение обстоятельств, — заметил я. — Некоторые незначительные, на первый взгляд, вещи переплетаются между собой, складываются в одно целое и ведут человека в каком-то направлении».
«Вы фактически сказали то же, что и я, только скучно и неинтересно, — улыбнулся доктор. — Разве стечение обстоятельств не есть судьба? Обстоятельства ведь сами никуда не стекаются».
Я никогда не был фаталистом, наоборот, считал, что люди сами делают свое будущее. На мой взгляд, любой образованный человек не мог думать иначе, и вот теперь, глядя на мужчину перед собой, я недоумевал. Взрослый дядя с высшим образованием, доктор, а несет какую-то чушь про судьбу. Я пристально посмотрел в глаза своему собеседнику и вздрогнул. Теперь он изучал меня. В его взгляде, пронизывающем меня насквозь, наряду с интересом было сочувствие и даже жалость. Ощущение присутствия чего-то постороннего вновь овладело мною. Во время нашего взаимного молчания, даже такого краткого, отчетливее стали слышны различные звуки; мне казалось, что воздух вокруг меня порой вибрировал — так, как будто кто-то проходил рядом. «Можно вскрывать!» — раздался вдруг хрипловатый голос. «Хватит бухать», — подумал я. И продолжил:
«Скажите, вы отучились шесть лет в медицинском институте, получили диплом о высшем образовании. И все равно вам нужно было учиться дальше?»
«С получением диплома студент становится врачом без специальности, а чтобы ее приобрести, следует пройти постдипломную подготовку — интернатуру (в то время она могла занимать один год) или ординатуру (два года). Тогда можно было выбирать, где хочешь учиться, сейчас же существует только ординатура, но, по сути, это та же самая Марья Ивановна, только в другом чепчике».
Я улыбнулся.
«То есть никакой разницы нет?»
«На мой взгляд, нет. Когда я окончил интернатуру и уже работал по-взрослому, мои однокашники, выбравшие ординатуру, снова учили все то, что проходили на первом году. Какой в этом смысл?
Судебная медицина — все-таки очень специфическая специальность, которая тесно соприкасается со множеством других. Будь моя воля, я, конечно, сделал бы двухлетнее обучение, но изменил бы программу. За два года обязательно нужно пройти курс патологической анатомии, лабораторной диагностики (углубленно, а не так, как сейчас) и криминалистики. Возможно, такое обучение заняло бы и три года, но от этого качество подготовки судебно-медицинских экспертов только улучшилось бы, поверьте.
Я же учился один неполный год и в основном изучал танатологию. Познакомиться с лабораториями мне не довелось, и это не моя вина. В том году образовалась новая кафедра судебной медицины в Уральской медицинской академии дополнительного образования, и я стал первым и единственным интерном на ней. Программа подготовки интернов была слабенькой и еще находилась в процессе разработки, поэтому меня просто направили в морг, чему я несказанно обрадовался».
«И вы сразу начали вскрывать трупы?»
«Конечно, нет. Почему-то, по мнению многих, чтобы стать экспертом, достаточно научиться резать. В действительности даже обезьяну можно научить резать, но главное состоит в другом. Нужно уметь видеть и оценивать то, что видно, и именно этому необходимо учиться. Вот и я начал с теоретической подготовки. Книги, прочитанные тогда, крепко въелись в мою память, как, впрочем, и песни Михаила Круга, которые мой наставник крутил целыми днями (я же такую музыку терпеть не мог). Однако делать было нечего, приходилось слушать о том, как «…фраера плясали карамболь…», и про «…фофан, кепень да ксиву казенную…». В секционный зал мы тоже ходили, но во вскрытиях я участвовал исключительно посредством бокового стояния. Работы было много, вскрытия шли потоком, трупы убитых чередовались с гнилыми, а также скоропостижно умершими и упавшими с большой высоты, попавшими под поезд и повешенными, утонувшими и выкопанными из земли. До первого своего самостоятельного исследования я пересмотрел все, что возможно, и недели через две после начала интернатуры начальник, наконец, позволил мне самому «помахать шашкой». Подход у него был правильный — без теории нет практики, — поэтому прежде чем доверить мне инструменты, он погонял меня по анатомии, патанатомии и физиологии. Сейчас, работая с ординаторами, я поступаю именно так.
Надо немного рассказать о том, как проходила работа в секционных залах Челябинского областного Бюро. В двух больших помещениях стояло по несколько столов, на «гнилые» (те, где исследуются только гнилостно измененные трупы) и «чистые» их не делили, поэтому рядом вполне спокойно могли лежать тела свежие и не очень. У каждого секционного стола стоял письменный стол, за которым сидела лаборант, печатавшая диктуемый экспертом текст на пишущей машинке, компьютеров не было. Можете себе представить, какой грохот стоял в секционном зале, когда исследования проводились одновременно на всех столах? Черепа пилили ручной ножовкой (а не как сейчас, электропилой). Наш старший санитар Александр Иванович распиливал черепа мастерски, ножовку при этом держал по-особенному, лезвием вверх. Среди грохота пишущих машинок, визга пил, громких разговоров перемещались санитары, которые то привозили новые трупы, то укладывали на каталки уже вскрытые. Из-за нехватки каталок тела часто клали следующим образом: у нижнего руки поднимали за голову (у всех трупов они связывались на уровне запястий), сверху «валетом» устраивали второго покойника и на его ноги опускали руки того, который лежал внизу. Таким образом верхнее тело оказывалось более или менее плотно зафиксированным, и можно было перевозить каталку, не боясь, что трупы упадут.
Вот в такой суматохе я и попытался вскрыть свой первый труп — громадное, черное, вздувшееся тело мужчины, умершего, судя по всему, около недели назад. Как я узнал позже, это была моя проверка на профпригодность: откажись я тогда от такого материала, меня, наверное, не выгнали бы из интернатуры, но отношение ко мне точно изменилось бы. Я, хотя и рвался к самостоятельной работе, совсем не ожидал подобного расклада, но отступать было некуда. Вначале я вскрывал голову. Вообще, это обязанность санитара, но мой наставник считал (и вполне справедливо), что эксперт должен уметь делать всю санитарскую работу, поэтому я взял ножовку и приступил. Уроки сельского детства очень помогли: как и любой человек, живущий в частном доме, на земле, я тогда много работал всякими инструментами, в том числе пилой. Но пилить деревянную доску и человеческий череп — вещи разные. С круглого черепа пила постоянно соскальзывала, распил предательски уходил в сторону, рука болела от напряжения. Я попытался взять пилу так, как это делал Александр Иванович, но у меня ничего не получилось, и пришлось продолжать традиционным способом. Минут через двадцать я, наконец, справился, череп распилил, но смотреть без слез на выпиленный костный фрагмент было невозможно — настолько он вышел несимметричным и некрасивым.
Кости черепа распиливаются не циркулярно (что, наверное, давалось бы легче), а углообразно — для того, чтобы выпиленный костный фрагмент не соскальзывал вниз, тем самым деформируя голову. У меня получилось что-то, совсем не похожее на углообразный распил, к тому же на костях черепа имелись множественные ненужные распилы от соскальзывавшей пилы.
Следующий этап — эвисцерация, выделение внутренних органов единым комплексом. Я многократно видел, как это происходит, и прекрасно знал, что, как и где нужно подрезать для того, чтобы легко извлечь органы, но умерший мужчина был очень толстым, да к тому же гнилым, и это затрудняло процесс. Надо заметить, что эксперт тогда работал в белом или синем халате, перчатках и многоразовом клеенчатом фартуке, который мылся водой после каждого рабочего дня и высушивался. Перчатки, кстати, тоже использовались несколько раз. Некоторые эксперты носили шапочки, но это было необязательно, а маски не надевал никто, не говоря уж о защитных экранах для лица. Точно так же оделся и я.
Начав серединный разрез, как положено, в нижней трети шеи, я повел реберный нож вниз, стараясь не забыть о том, что пупок следует обходить слева, и совершенно упустил из виду одно обстоятельство. При гниении в полостях организма и в тканях накапливается большое количество гнилостных газов, которые раздувают труп так, что живот напоминает барабан. Я много раз видел, как при разрезе брюшины газы резко, с шумом вырываются наружу, но на том, первом вскрытии, совершенно забыл об этом. Если нож острый, а руки еще не поставлены, то случайно разрезать пристеночную брюшину на туго натянутом животе очень легко. Так и произошло. Стараясь сделать прямой разрез, я наклонился над телом, и в этот момент почти в лицо мне ударила струя вони. Картину дополнял противный пукающий звук. Говорят, если в этот момент поднести спичку, гнилостные газы ярко вспыхнут, но я никогда это не проверял. Я рефлекторно откинулся назад, и, думаю, со стороны это выглядело довольно смешно. Мне было неудобно и немного стыдно, но мои старшие коллеги тактично не засмеялись и даже, как мне показалось, не обратили на это внимания. В дальнейшем я неоднократно наблюдал такую же ситуацию не только у молодых, но и у экспертов с большим опытом, потому что порой просто невозможно угадать толщину брюшины и ее плотность.
Иногда эксперта может подвести новый инструмент. Дело в том, что рука привыкает к одному и тому же ножу, врач знает степень его заточки и то усилие, которое необходимо приложить, чтобы разрезать ту или иную ткань, работая, что называется «на автомате». С новым ножом, очень острым, имеющим заводскую заточку, такой автоматизм ломается. Мой коллега как-то исследовал труп и при выделении грудины сделал разрез не сверху вниз, как положено, а снизу вверх, к лицу. Усилия он приложил обычные, но нож был новый и резал так хорошо, что по инерции свободно рассек грудинно-ключичное сочленение, подбородок, щеку, глаз и кожу на лбу. Все произошло моментально. Санитарам потом пришлось постараться, чтобы замаскировать этот разрез.
Когда газы вышли, стало проще, но было все так же неприятно. Я обмотал рукоятку ножа полоской ткани, оторванной от старой простыни (в секционном зале всегда лежат какие-то тряпки), для того чтобы рука не скользила по жирному металлу. Дело в том, что при гниении жировая клетчатка становится полужидкой и очень скользкой, и если не принять меры, то пальцы могут съехать прямо на лезвие ножа.
Я отсепаровал кожу, подкожную жировую клетчатку и мышцы груди вправо и влево и обнажил грудину. Далее требовалось ее удалить, для чего вначале ножом нужно пересечь суставы, которые соединяют грудину и ключицы, затем двумя резкими движениями сверху вниз разрезать хрящевые части правых и левых ребер, а потом аккуратно поднять грудину снизу и, постепенно подрезая клетчатку средостения, вынуть ее. Ничего сложного, правда, если у эксперта есть опыт, а труп — не гнилой и не толстый. Опыта у меня не было, а толстый и гнилой труп имелся, поэтому я опять провозился. Наконец, удалив грудину, я стал осматривать грудную и брюшную полости, заполненные маслянистой вязкой, желтоватой, зловонной гнилостной жидкостью. Следовало вычерпать ее специальным черпаком, при этом измерив ее объем, и затем приступать к выделению органокомплекса».
«Вы имеете в виду вскрытие органов?» — поинтересовался я.
«Не совсем. Вначале эти органы необходимо извлечь из тела, причем, единым комплексом — это самый распространенный и удобный способ. Технику эвисцерации в теории я знал хорошо, но на практике это оказалось труднее. Решив начать с относительно легкого этапа, я сперва подрезал купола диафрагмы, двигаясь ножом к позвоночнику. Хитрость заключается в том, чтобы левой рукой зацепить и поднять почку, а правой рукой резать за ней, по клетчатке. Важно при этом не порезать почки и собственные пальцы, потому что работать ножом нужно вслепую, я же тогда вообще действовал на ощупь. Конечно, обе почки я искромсал, но сам умудрился не порезаться, потому что довольно глубоко заводил руку в живот и изнутри поднимал внутренние органы. Обе руки по локоть оказались испачканы гнилостной жидкостью вперемешку с кровью.
Самое сложное — выделить органокомплекс шеи: язык, гортань, подъязычную кость. Делать это следует очень аккуратно, чтобы не сломать хрящи или подъязычку. Процесс этот тоже проходит практически вслепую: большой ампутационный нож лезвием вверх вводится в уже имеющийся секционный разрез у одного из углов нижней челюсти, затем пилящими движениями продвигается к противоположному углу, при этом как бы скользя по внутренней поверхности челюсти. В это время лезвие ножа очень близко подходит к коже шеи, и велика возможность ее разреза, особенно если у человека крупный выступающий кадык. Далее эксперт через секционный разрез вводит руку, подводит ее внутри шеи под челюсть, захватывает верхушку языка и за нее извлекает наружу органокомплекс. Если предыдущий этап проведен правильно, то сделать это довольно легко. Конечно, у меня с первого раза не получилось выполнить все качественно, я порезал язык в нескольких местах, но минут через двадцать все-таки справился. Осталось только подтянуть весь комплекс вниз и отрезать клетчатку малого таза и прямую кишку.
К окончанию эвисцерации я весь вымок — отчасти от пота, отчасти от выделений трупа. Фартук и очки были уляпаны, а на вонь я уже не обращал никакого внимания. Продолжить вскрытие наставник мне не позволил, и не из-за моей неумелости, а по банальной причине: за то время, что я потратил, можно было полностью вскрыть двух покойников. Уставший, но все-таки довольный собой, я пошел в душ.
Потом, уже работая самостоятельно, я старался одеваться максимально закрыто и всегда прикрывал лицо защитным экраном от мелких брызг. Среди экспертного сообщества ходит байка о том, что эксперты старой дореволюционной школы иногда на спор вскрывали труп, не снимая фрака, после чего ехали в нем в театр, — идеально чистый фрак якобы свидетельствовал о профессионализме доктора. Думаю, что это выдумки, потому что вскрывать труп во фраке есть дурость, хотя эксперт с опытом вполне может исследовать не тучного и не гнилого покойника, не посадив на себя ни капли крови или чего-нибудь иного».
Я представил себе залитый светом секционный зал и моего собеседника во фраке, почему-то в пенсне, склонившегося над столом, на котором лежало тело мужчины средних лет. Рядом, на полу, в кучу была свалена одежда — хорошо узнаваемые синие джинсы и серая рубашка в крупную черную клетку. Эксперт что-то увлеченно резал ножницами, потом посмотрел на часы и задумчиво сказал себе под нос словами профессора Преображенского из романа Булгакова: «Ко второму акту поеду…», после чего вновь склонился над телом.
Ужасно заболела голова…
«Скажите, а часто эксперты получают травмы во время вскрытия?»
«По молодости чаще, чем хотелось бы. У меня, например, все пальцы на левой руке изрезаны. Пока руки не поставлены, порезаться очень легко: то нож соскользнет, то случайно на него наткнешься. Не зря опытные эксперты, получая новые инструменты, специально затупляют острие ножа — даже если он соскочит и воткнется в руку, есть вероятность, что порежет он только перчатку или поверхностный слой кожи. Я дважды травмировался довольно сильно: один раз нож сорвался и полоснул по пальцу, отрезав кусок, а во второй раз я второпях точил нож, он соскочил и рассек до кости фалангу большого пальца левой руки. В обоих случаях винить можно лишь мою невнимательность и спешку.
Гораздо неприятнее бывает тогда, когда есть вероятность глубоко проколоть руку острым краем костных обломков при переломе ребер, костей черепа или таза. Предвидя ваш вопрос, скажу, что ни одного случая заражения эксперта от трупа какой-то болячкой я не знаю.
С каждым днем я все больше времени проводил в секционном зале и через несколько месяцев уже вполне самостоятельно исследовал трупы — конечно, под присмотром наставника. Этот колоритный и очень грамотный человек умел просто объяснить сложные вещи, но, к сожалению, имел один недостаток: иногда по несколько дней не расставался с зеленым змием, за что в итоге и пострадал — был снят с должности и стал простым экспертом. К этому времени я, что называется, пошел по рукам, работая с разными докторами, большинство из которых оказались замечательными людьми. Правда, пристрастие к алкоголю и их не миновало: некоторые алкоголики с многолетним стажем находились в глубокой «завязке», другие и вовсе не «завязывали». Один из моих наставников часто по утрам перед вскрытием открывал холодильник, доставал бутылку водки, выпивал половину и шел работать, а после вскрытия почти залпом приканчивал оставшуюся половину. Сейчас подобное среди сотрудников морга практически не встречается — за появление на работе в пьяном виде сразу увольняют.
Вообще, люди в морге подобрались колоритные, интересные, юморные. В Бюро имелся фотограф, которого звали в секционный зал тогда, когда требовалось снять повреждения на трупе или какие-то особенности. Снимал он хорошо, но был очень брезглив, даже дверь в секционный зал открывал, используя салфетку. Работал он исключительно в перчатках, а когда труп переворачивали, уходил в другой конец секционной, боясь забрызгаться. Эксперты посмеивались над его брезгливостью и однажды пошутили — намазали ручку его кабинета жировоском. Жировоск — это крайне неприятная субстанция, в которую иногда превращаются ткани трупа в условиях повышенной влажности и малого количества кислорода. Его отличительные черты — пластилинообразная консистенция и очень противный и стойкий запах, который проникает даже через две пары перчаток и сразу не отмывается. Когда фотограф схватился голой рукой за ручку двери и вляпался, запах намертво въелся в его кожу. Бедный человек! Он был сильно расстроен и выражал свое огорчение громкими матерными фразами, в которых даже предлоги казались нецензурными».
«Жестокие шутки», — заметил я.
«Ну, что делать? Что было, то было. Да и жестоким это кажется со стороны, а когда находишься в этой среде, воспринимаешь просто как розыгрыш. Фотограф, кстати, шутку понял и уже не так откровенно воротил нос от секционной. Другое дело — шутки, которые могут навредить работе и истине. Я вспоминаю случай, который произошел много позже и в другом коллективе. Утром в секционном зале на соседних столах оказались два покойника: старичок лет восьмидесяти и молодой мужчина со сквозным ранением в голову. Эксперт, который должен был исследовать огнестрел, спустился в секционную чуть позже остальных, а врач, вскрывавший старичка, наоборот, начал вскрытие одним из первых и к приходу «соседа» уже закончил и переодевался. Доктор тщательно описывал огнестрельные раны и был удивлен, заметив во входном отверстии какой-то округлый предмет. Предмет этот, аккуратно извлеченный, оказался похожим на камень: размером с крупную вишню, черного цвета, с шероховатой поверхностью и каменистой плотностью. Как он попал в рану и какое отношение имел к смерти потерпевшего, было абсолютно непонятно. В остальном ранение, явно прижизненное, никаких вопросов не вызывало — входное и выходное отверстия выглядели классически. Около получаса все ломали голову над странным предметом, пока тот эксперт, который исследовал труп старичка, не признался: камень он нашел в его желчном пузыре и, решив пошутить, засунул его в огнестрельную рану. До начальства эту ситуацию доводить не стали, но локальный скандал был громкий. И дело даже не в том, что эта «шутка» больше походила на подставу. Просто в случае огнестрельного ранения входная и выходная раны обязательно изымаются для проведения криминалистического исследования, в ходе которого обнаруживаются микрочастицы, находящиеся на стенках и в глубине. Наличие частиц желчного камня почти наверняка вызвало бы вопросы с последующим крупным разбирательством. Эксперта наказали. Но справедливости ради нужно сказать, что подобные «розыгрыши» встречаются крайне редко.
За время интернатуры я, помимо врачебной работы, выполнял и лаборантскую, и санитарскую. Пилил черепа, зашивал тела, печатал акты, оформлял анализы — это дало мне возможность правильно представить себе весь цикл вскрытия от начала до конца.
С размещением трупов сохранялись все те же проблемы. То, что я видел в морге на цикле судебной медицины, происходило и во время моей интернатуры. Особенно некрасиво было по понедельникам: после выходных скапливалось очень много тел, которые требовалось где-то складывать, а холодильных камер не хватало. Помню, меня попросили найти какой-то давно исследованный труп, и я пошел в одну из таких камер. Она представляла собой обычную комнату со стенами, обшитыми пенопластом для термоизоляции; по периметру располагались трубы, наверное, с фреоном. Фактически это был большой холодильник, температура в котором не поднималась выше +2 оС. Включив тусклый свет, я увидел, что вся камера заполнена вскрытыми трупами — они лежали друг на друге «валетом» или просто как попало. Ноздри заполнил густой запах гниющей плоти, а надо заметить, что при такой низкой температуре она пахнет специфически и очень неприятно. Но меня удивило не это. В камере были мухи, но они не летали. Они ползали, скорее даже шагали. Видимо, в холоде летать они не могли и потому медленно и вальяжно передвигались по трупам. Приглядевшись, я понял, что их маленькие крылья практически не видны — наверное, это было уже не первое поколение мух, живущих в камере, и крылья у них атрофировались за ненадобностью.
Помимо непосредственно техники вскрытия я отрабатывал и диктовку. Во время вскрытия врач диктует описание наружного и внутреннего исследования лаборанту, который печатает текст на машинке. Диктовать нужно уметь: мало того, что говорить следует громко и четко, оформленными фразами, так еще необходимо контролировать скорость и печати, и диктовки. Со стороны кажется, что ничего сложного в этом нет, но на практике — это одно из затруднений, с которыми сталкивается молодой эксперт. Прежде чем произнести фразу, ее надо сформулировать в голове, причем грамотно, чтобы потом не исправлять. Еще одна хитрость заключается в том, что рот должен немного отставать от рук и глаз, чтобы не было пауз. Работать нужно так: руки режут, глаза смотрят, а рот говорит о том, что делалось минуту назад, а не в настоящий момент. Эксперты без опыта не сразу справляются с такой формой диктовки и обычно, посмотрев что-то на трупе, идут к лаборанту, говорят пару слов и возвращаются к покойнику, потом — опять к лаборанту, и так бегают в течение всего исследования. Огромное количество времени тратится зря. Научиться же просто стоять на месте, смотреть на труп и диктовать текст, включая знаки препинания, — дело небыстрое. Сейчас, с приходом в нашу жизнь компьютеров, вносить правку можно сколько угодно, а тогда лаборант печатала на бумаге, и если эксперт допускал ошибки, ей порой приходилось перепечатывать целые листы. Выводы эксперт обычно писал в кабинете от руки, и потом лаборант набивала их на машинке».
«Знаете, — снова перебил я, — ходят упорные слухи об огромных зарплатах, которые получают работники морга. Это правда?»
«И да, и нет, — чуть подумав, ответил эксперт. — Когда я в конце девяностых пришел в интернатуру, ритуальный рынок не был отрегулирован и представлял собой хаотичную полубандитскую тусовку. Ну на чем можно заработать в морге? Продажа органов, трупов и тому подобное — это все бред сивой кобылы. Вскрытия всегда делаются бесплатно, это непосредственная обязанность эксперта, за которую он получает зарплату. А вот ритуалка — золотое дно, вечный бизнес. Так что «левые» деньги, безусловно, водились, только вот назвать их чисто «левыми» нельзя — просто так никому конверты не выдавались (об администрации не знаю), все отрабатывалось. Например, судебно-медицинские эксперты, специалисты с высшим образованием, раз или два в неделю выполняли санитарские обязанности, работая «на выдаче», то есть готовили трупы для захоронения: мыли их, одевали, гримировали. И именно за эти, немедицинские, услуги они и получали дополнительные вознаграждения. Другое дело — санитары. Думаю, что среди них вовсю ходили именно «левые» деньги, по крайней мере, санитары в то время были гораздо богаче экспертов.
Но меня, интерна, тогда это все не касалось. Не имея зимних ботинок, я ходил в осенних, и мой наставник однажды сказал: «Ничего, начнешь работать — купишь себе “Саламандеры”». Я тогда только изучал специальность и был ею полностью поглощен — до такой степени, что уже через несколько месяцев обучения понял: я хочу работать по-взрослому, в интернатуре мне скучно. Я увидел почти все, что входит в сферу судебной медицины, самостоятельно исследовал трупы, научился проводить освидетельствование живых и обращаться с медицинскими документами. Ездил я и на места происшествий в составе следственно-оперативной группы. Помню, как однажды утром, зимой, мы выехали на труп. На трубах теплотрассы, на спине лежало тело мужчины с перерезанной от уха до уха шеей. Убийство, судя по всему, произошло совсем недавно, потому что труп еще не остыл, от зиявшей и заметной издалека раны поднимался парок. Трубы и снег под телом были обильно залиты кровью. Зрелище очень неприятное. Меня тогда поразило то, что школьники, идущие в школу, останавливались и рассматривали труп, обсуждая детали увиденного. Они нисколько не боялись, наоборот, проявляли активный интерес и, думаю, спокойно подошли бы к телу вплотную, если бы не сотрудники милиции. Я сразу же вспомнил себя… Помните, я рассказывал о своем соседе, который повесился, и о том, как страшно нам было? А этим детям не страшно. Это дети другого поколения; наверное, они с раннего возраста смотрели боевики и фильмы ужасов, забавлялись с реалистичными «стрелялками» и прочими играми, в которых можно виртуально убивать, и потому воспринимали смерть как элемент какой-то очередной игры, не определяя ее как отвратительную, противоестественную трагедию».
«По-вашему, это плохо? — спросил я. — То, что дети не паникуют при виде покойника?»
«Я не говорю о том, что нужно обязательно паниковать, не в этом дело. Просто к смерти следует относиться с почтением, не обязательно со страхом. Мне показалось, что у этих детей, которые посмеивались, рассматривая перерезанное горло не на экране телевизора или монитора, а прямо перед собой, нет понимания ценности человеческой жизни. Я не видел в них жалости к погибшему — вот что самое страшное».
«А на выездах случаются какие-то комические ситуации?» — я сменил тему, видя, что разговор приобретает философский характер.
«Бывают так называемые «ожившие» покойники. Например, поступает вызов на труп, группа едет, иногда долго, по пробкам, или, если речь идет о сельской местности, в другой населенный пункт, приезжает, а «труп», оказывается, просто был сильно пьян, но к моменту приезда группы протрезвел, обматерил приехавших и ушел. Когда я уже проработал несколько лет, произошла такая история. Прибыли мы на один водоем — поступила информация, что обнаружен утопленник. Смотрим — и правда, лежит мужчина, в трусах, синий весь, рядом водолазы копошатся в своем оборудовании. Ну, думаю, достали уже. Вышли мы со следователем из машины, он стал описывать местность, я подошел к покойнику и начал его осматривать. Попытался повернуть его на бок и стянуть трусы для того, чтобы измерить ректальную температуру. А «покойник» открыл глаза, посмотрел на меня мутными глазами, дыхнул перегаром и сказал: «Пошел на х…» Мы со следаком чуть кирпичей не наложили. Оказалось, что купалась пара — мужчина и женщина, как водится, пьяные. И оба начали тонуть. Приехавшие спасатели успели поднять и откачать мужчину, а женщина утонула, и водолазы как раз одевались для того, чтобы за ней нырять».
«Забавно», — улыбнулся я, представив описанную картину.
«Да уж, обхохочешься, — усмехнулся эксперт. — А хотите, я расскажу вам действительно смешной случай? Дело было на заре моей судебно-медицинской юности, приехали мы на труп какого-то солидного дядьки, то ли бизнесмена, то ли депутата, не помню уже. Как всегда при таких обстоятельствах, понаехало множество людей с большими звездами на погонах и широкими лампасами на брюках, которые безостановочно руководили, то есть мешали работать. Тусовались они все на улице, плюс множество оперов, плюс участковые, следователи, криминалисты, прокуратура, кинологи — короче, как на параде. И тут из-за угла соседнего дома выбегает какой-то парень, а за ним несется грузная тетенька с диким криком «Держи его! Украл!». Не прошло и пяти секунд, как парня «приняли» на самом высоком уровне, и вот что он рассказал. Он утром освободился из колонии, где просидел несколько лет за кражу. Приехал в город, а денег нет. Помыкался он по знакомым, никого не нашел и решил вспомнить старое. Зашел в первый магазинчик и стащил там какую-то ерунду: то ли носки, то ли полотенце, то ли еще что. Схватил и побежал вон из магазина, продавщица — за ним. Завернул он за угол и увидел полный двор ментов, генералов, собак, ППС-ников с автоматами. На лету он остановиться не сумел и практически сам попал к ним в руки. С какой горечью он это рассказывал! Не пробыл на свободе и двенадцати часов и опять уехал в казенный дом. Я всегда вспоминаю эту историю, когда мне кто-то жалуется на невезение».
Я рассмеялся. В самом деле, какая дурацкая ситуация. Головная боль стала вроде бы утихать, но теперь как-то странно, холодно заболело в груди. Я поймал себя на мысли о том, что не слежу за временем. Сколько мы уже беседуем? Час? Два? Моего собеседника это, видимо, не сильно заботило, поэтому я продолжил:
«Итак, вам надоело в интернатуре».
«Не то чтобы надоело. Я общался с интересными людьми, занимался тем, что мне нравилось, но мне становилось скучно. Я уже усвоил, как надо и как не надо работать. Если было много трупов, некоторые эксперты, описав повреждения или какие-то важные, на их взгляд, вещи, могли сказать лаборанту: «Дальше все, как у повешенного», и опытный лаборант по памяти набивал текст внутреннего исследования, периодически спрашивая у эксперта параметры внутренних органов — размеры, массу. Я понимал, что так делать нельзя, однако надиктовать от начала до конца описание даже трех трупов — значит провести в секционном зале часов шесть-семь, а это нереально, потому что есть рабочее время, за которое необходимо справиться и с другими обязанностями, например, закончить предыдущие акты.
Замечу, что опытный лаборант — это незаменимый помощник эксперта. Когда я проходил интернатуру, лаборантами были исключительно женщины, причем в возрасте, много лет работающие в Бюро. Чтобы научиться красиво диктовать, я анализировал и книги, и акты других экспертов, для чего иногда до вечера просиживал в архиве. Как и большинство молодых экспертов, я не сомневался в том, что диктую великолепно, однако ошибался, и меня часто подлавливал на всяких лингвистических глупостях средний медицинский персонал. До сих пор помню, как я, весь из себя эксперт, важно диктую лаборантке Татьяне: «…В просвете бронхов серая пенистая слизь…» Она меня бесцеремонно перебивает и спрашивает: «Какая слизь?» «Дык, серая», — не понимаю я. «Да, но какая?» — настаивает вредная Татьяна. «Пенистая», — уже не так уверенно отвечаю я. «Конечно, — издевается надо мной Татьяна, — но какая?» Совершенно растерянный, я смотрю на нее глазами двоечника. Наконец, сжалившись, она спрашивает: «Мелкопенистая или крупнопенистая?» Черт, а я не обратил внимания! И лезу я обратно в бронхи, и смотрю внимательно на слизь, ибо права Татьяна, существенно это — какая слизь. Потом, конечно, после нескольких лет практики, у эксперта формируется свой индивидуальный стиль, все детали описываются автоматически, но тогда все подобные замечания были очень важны для меня и помогли мне в дальнейшей работе. Другое дело, если тандем эксперт — лаборант не сложился, или если лаборант оказался неграмотным либо самоуверенным. Тогда сотрудничество превращается в сплошную нервотрепку. Лаборант может «тупить» — или сознательно, из вредности, или из-за особенностей натуры, а если лаборант «тупит», то это бесит. Знаю случаи, когда лаборант сознательно «козлил». На стандартной клавиатуре буквы «С» и «М» находятся рядом, и однажды один эксперт обнаружил, что многие из его актов подписаны: «Мудебно-медицинский эксперт», что, согласитесь, несколько обидно. Эксперт очень разозлился — некоторые акты уже были переданы в милицию и следственный комитет, и там, наверное, долго ржали, читая подпись. Начали искать концы и выяснили, что такая неприятная подпись появлялась лишь когда эксперт работал с одной и той же лаборанткой. Она сослалась на случайность — мол, буквы же рядом, так само получалось, но что это было на самом деле — неизвестно. Когда хороший лаборант не успевает печатать за экспертом или не может расслышать некоторые слова (в зале шумно либо эксперт диктует тихо), он переспрашивает; плохой же в этой ситуации пишет то, что услышал, или, еще хуже, то, что считает нужным написать. Из этого выходят большие неприятности: эксперт вынужден с лупой пересматривать весь текст, редактировать его, исправлять ошибки и пытаться вспомнить, что же он говорил на самом деле.
За редким исключением все сотрудники Бюро, а не только мой наставник, старались чему-то меня научить: эксперты преподавали врачебные хитрости, различные методики вскрытия, лаборанты — слепой метод печати, который я так и не освоил, санитары — то, как правильно наточить инструменты для того, чтобы они служили максимально долго. В то время санэпидконтроль был не такой строгий, как сейчас, и эксперты имели собственные инструменты, которые сами точили, дезинфицировали, хранили в специальных чемоданчиках. А правильно наточить инструмент — целое искусство».
«Кстати, расскажите о санитарах — кто они? Согласитесь: если спросить у людей о том, как они представляют себе санитара морга, девять из десяти ответят вполне стереотипно».
«Спорить не буду. Мы все находимся во власти тех или иных стереотипов, и нельзя обижаться на людей, которые представляют себе санитара морга вечно пьяным громилой, тем более что когда-то это так и было, да и сейчас, наверное, кое-где встречается. Однако я работал со множеством санитаров и ни разу не видел такого, созданного в народном воображении, образа. Как правило, санитар — это мужчина скорее молодой, чем пожилой, лет до пятидесяти, не алкаш, иногда со средним специальным, а порой даже с высшим образованием, часто далеким от медицины, например, повар-кондитер. Пьяный санитар встречается все реже и реже, за пьянство сразу увольняют. Да и не принято это сейчас, несолидно как-то. Абсолютное большинство составляют мужчины, женщины на этой должности — редкость. Помните, я вам рассказывал о санитарке со злым лицом, которую мы увидели во время посещения челябинского Бюро? Она была единственной женщиной в мужском коллективе. Работалось ей трудно, голову она пилила минут двадцать, постоянно останавливалась из-за одышки, ходила с трудом. Тяжелая это работа для женщины. Например, санитар должен зашить труп, казалось бы — чего тут сложного. Но шить ткань и шить тело — две большие разницы, как говорят в Одессе. Шьют крупными трехгранными иглами, как правило, одним так называемым скорняжным швом. Игла быстро становится жирной от подкожной жировой клетчатки, держать ее пальцами непросто. Если игла к тому же не очень острая, проткнуть кожу и вовсе нелегко, приходится еще сильнее удерживать ее — до такой степени, что начинает сводить кисть. Если покойник тучный, то усилий тратится больше, поскольку края разреза постоянно расходятся под собственным весом в разные стороны, их необходимо все время придерживать, чтобы не запуталась нить. Если труп подгнивший или гнилой, возникает другая проблема — гнилостно измененную кожу нитка может прорезать. В общем, это сложно. А если нужно зашить три трупа? А если пять? Я прекрасно помню, как в интернатуре выполнял санитарскую работу и зашивал трупы, в конце рабочего дня не мог даже пошевелить пальцами правой кисти — настолько болели мышцы.
Зашитое тело убирают — кладут на каталку, отвозят в холодильную камеру, выгружают на полку или в ячейку. А до вскрытия все действия следуют в обратном порядке. Когда исследования в секционном зале заканчиваются, санитары проводят влажную уборку, что после полного рабочего дня тоже нелегко. А распилить голову? А вскрыть позвоночник? Короче, не женское это дело.
Грамотный санитар, как и грамотный лаборант — незаменимый помощник эксперта. Он всегда обратит внимание на какие-то мелочи, поможет справиться с тяжелыми задачами — скажем, очистит кости для описания перелома, выдавит кровь из вен в тех случаях, когда крови очень мало и ее нужно где-то искать, придержит тело в удобной для эксперта позе, пока тот описывает повреждение, всегда подаст тряпку да и вообще постарается сделать работу эксперта максимально комфортной, тем более что это и в его интересах: чем раньше эксперт закончит вскрытие, тем быстрее можно будет все убрать, помыть и пойти домой. Если же эксперт с санитаром не сойдутся, последний может, например, якобы случайно обрызгать эксперта кровью или водой. Но такое происходит редко».
«А уголовники среди санитаров встречаются?» — спросил я.
«Бывает и такое. Но, как правило, эти люди — не закоренелые сидельцы, а получившие судимость по какой-то случайности или по дурости. Когда-то, давным-давно, двое санитаров промышляли тем, что снимали золотые коронки с покойников — очень пошлое занятие. Наснимав какое-то количество, они пошли реализовывать свой товар — куда, как вы думаете? На остановку общественного транспорта, где их тут же «приняли» сотрудники милиции. Начальник приложил массу усилий для того, чтобы их не посадили, и с тех пор они ни разу ничем подобным не занимались».
«Простите за вопрос, — опять перебил я, — а извращенцы попадаются?»
«Вы имеете в виду некрофилов? Нет, я о таких случаях не слышал. Однажды ко мне приходил устраиваться санитаром мужичок. Нормального вида, не алкоголик, одет прилично. Когда я ему объяснил, что денег больших он не получит, он сказал: «Да что вы, доктор, какие деньги? Мне бы за мертвое тело подержаться». Конечно, я его не взял. Наверное, это и был извращенец.
Коллективы санитаров, как правило, устоявшиеся, люди работают десятилетиями, если здоровье позволяет. Встречаются и санитарские династии: мать и сын, брат и сестра, отец и сын — не редкость…
Так как на моем будущем месте работы мне предстояло осматривать и живых лиц, я больше месяца провел в судебно-медицинской амбулатории и тоже многому там научился. Заведующий ее — Анатолий Самойлович Шаровский — колоритный пожилой мужчина в плоской белой медицинской шапочке; у него были белые усы и хитроумные глаза, которые, однако, иногда смотрели так, что становилось не по себе. Профессионал, прекрасно знающий законы и порой лучше следователей умеющий объяснить и донести суть. Сотрудники его отделения помогали мне, как могли: я присутствовал на освидетельствовании задержанных по подозрению в совершении какого-то преступления, участвовал в приеме граждан, получивших повреждения (как правило, это люди, пострадавшие в бытовых конфликтах в нетрезвом состоянии), осматривал жертв половых преступлений, работал с историями болезни и ходил в суды. Существует ошибочное мнение о том, что работать с живыми людьми проще, чем с трупами. На самом деле это не так. Эксперт отдела потерпевших, обвиняемых и других лиц должен обладать гораздо более глубокими знаниями из многих медицинских специальностей, обязан уметь правильно анализировать историю болезни и другие медицинские документы. Множество нюансов медицинского характера влияют на степень тяжести вреда, нанесенного здоровью, а от этого, как вы понимаете, зависит судьба человека, например, то, сядет он в тюрьму или нет. И если в некоторых ситуациях все просто — человека ударили по голове, и у него перелом костей черепа, то есть нанесен тяжкий вред, то часто бывает иначе: сразу нельзя определить однозначно, какой вред причинило то или иное повреждение. Экспертизы такого рода — очень сложные, проводятся с привлечением одного или нескольких врачей различных специальностей, и даже несмотря на это иногда заключение эксперта не устраивает ту или иную сторону, и назначается вторая экспертиза, третья, четвертая…
Половые экспертизы — еще один специфический вид исследований, который проводится в случаях изнасилования и насильственных действий сексуального характера.
Всему этому я обучался в интернатуре и, как мне тогда казалось, научился. Да, я был самоуверен и хотел работать самостоятельно, по-взрослому. Петр Иванович Новиков поверил в меня (или просто устал от моих просьб пустить меня «в поле»), так что я приехал на место своей постоянной «взрослой» работы на два месяца раньше окончания интернатуры. Я даже экзамен не сдавал — смысла в нем не было, потому что я являлся единственным интерном, и все прекрасно знали, на что я способен».
«С этого момента и началась ваша профессиональная деятельность?»
«Да, именно с него. Я хорошо помню, как в июне пришел в морг, находящийся на окраине больничной территории, с большим желанием оказывать судебно-медицинскую помощь населению. Само здание, в котором располагался морг, заслуживает отдельного описания. Когда-то давно это было одноэтажное строение, к которому потом пристроили дополнительное крыло. Спустя время, вероятно, перестало хватать места, и здание дополнили вторым этажом на два крыла. Прошло какое-то количество лет, и одна половина морга, включающая в себя первый и второй этажи, стала отваливаться от другой. Проблему решили просто: стянули обе половины длинным металлическим уголком, прикрепленным к стене болтами. Таким я и увидел морг в тот июньский день. Весь второй этаж занимала патанатомия, на первом этаже были траурный зал, комнаты санитаров, два секционных зала — наш и патанатомический — и три комнатки для судебно-медицинских экспертов; в подвале стояли холодильные камеры, из подвала наверх, на первый этаж, ходил лифт. У нас имелся свой отдельный вход с высоким крыльцом, с которого граждане, пришедшие «снимать побои», часто падали — ведь нередко здесь встречались обе стороны конфликта, находящиеся к тому же в не совсем трезвом состоянии, что провоцировало продолжение потасовки при активной поддержке остальных таких же товарищей. Работали в морге двое санитаров, мама и сын, и две лаборантки; прежний заведующий, благодаря которому я попал на это место, уже уехал в Израиль, поэтому врачей тоже было двое: Ольга Алексеевна, женщина, которая организовывала судебную медицину в этом городке, человек-легенда, и новый заведующий, мужчина на двенадцать лет старше меня, веселый авантюрист. Я стал третьим экспертом.
Городок тоже был уникальным. Сравнительно небольшой центр окружало множество рабочих поселков, сформированных вокруг угольных шахт и разрезов, среди которых располагались еще несколько предприятий и четыре колонии. Последнее обстоятельство придавало коренным жителям особый шарм. Многие горожане в течение всей жизни постоянно перемещались из шахты в колонию и обратно. Рабоче-крестьянское население имело рабоче-крестьянские нравы, конфликты решались просто: на разговоры время не тратилось, а просто бралось то, что попадалось под руку, и в качестве аргумента прикладывалось к голове оппонента. Расскажу такой случай. Я уже проработал несколько лет, когда к нам доставили труп убитого на улице мужчины: его пинали, били руками и какими-то предметами, прыгали на грудь, в общем, привычная картина. На следующий день милиция доставила двух подозреваемых в совершении этого преступления — подростков лет по пятнадцать, которых мне требовалось освидетельствовать. Это стандартная процедура — задержанных всегда осматривают для того, чтобы выяснить, есть ли у них какие-то повреждения».
«А для чего это нужно?» — не понял я.
«Ну, смотрите, например, задержали человека, а у него на теле уже есть повреждения: ссадины, кровоподтеки, которые не были описаны. Потом такой задержанный может сказать, что его в милиции избили, и в качестве доказательств приведет эти следы. Как доказать, что они имелись в момент задержания? Поэтому задержанных всегда освидетельствуют».
Я кивнул.
«Так вот, я осмотрел двух этих молодых дурачков и не удержался, спросил, по какой причине они человека запинали? Ответ меня тогда поразил: «Дык, мы идем, а он пьяный лежит». — «И что?» — «И все». Все, понимаете? Поводом для убийства человека, пусть даже пьяного, стал факт того, что он лежал на улице. Потом я неоднократно встречал и такие, и даже гораздо более незначительные поводы для совершения преступления.
В городке сохранилось множество бараков послевоенной и даже более ранней постройки, в некоторых из них были деревянные водопроводные трубы и земляные полы, в каких-то заброшенных поселках люди жили словно в параллельной реальности — без воды, электричества и отопления, без документов и без медицинской помощи, и даже милиция старалась туда лишний раз не соваться. По сравнению с этим суровым городом Челябинск казался совершенно гламурным и спокойным. И чужаков городок встречал по-особенному. Мой начальник рассказывал, что в его первый день в морге прорвало трубу и затопило подвал с трупами. Лифт не работал, и санитары по пояс в воде на руках поднимали тела на этаж, причем, у первого выловленного покойника была такая же фамилия, как у начальника. Тогда он понял, что попал в очень интересное место, и это впоследствии подтвердилось.
Меня тоже встретили без лишних церемоний. В первый же день я получил труп мужчины средних лет, найденный в чистом поле в соседнем районе, относящемся к обслуживаемой нами территории. Район этот в криминальном плане был еще «веселее», чем наш городок, но это я выяснил позже, а тогда смотрел на труп и постепенно осознавал: что-то тут не так. Вначале я заподозрил, что мужчину банально избили, но потом пришел к выводу, что его переехало какое-то транспортное средство. Налицо были все признаки переезда: рваная одежда, полосы давления, «первичный щипок», переломы почти всех костей грудной клетки, разрывы и отрывы внутренних органов. Начальник удивился такой моей самоуверенности, но, осмотрев повреждения, согласился. Потратил я тогда на вскрытие часов шесть, но был доволен тем, что разобрался в механизме образования травм. Человека по фамилии Робинзон переехала сеялка, когда он, будучи пьяным, спал в чистом поле. Что делала сеялка в июне в поле, как там оказался этот мужчина и почему они встретились — все это придавало некую «сакральность» месту, в которое я попал.
За несколько лет работы в этом чудесном городе я увидел все, что только бывает в судебной медицине, за исключением авиационной травмы. Ольга Алексеевна в силу возраста не исследовала трупы и занималась приемом живых лиц («недобитых», как ласково называл их мой начальник), а мы трудились в секционном зале. Со временем начальник, видя мой энтузиазм и старательность, стал мне доверять до такой степени, что мог позвонить в воскресенье вечером и сказать, что не хочет завтра идти на работу и поедет вместо этого на рыбалку. Я приезжал в морг и вскрывал за двоих, ибо за выходные всегда накапливалось много покойников. Я на такие действия даже и не думал обижаться, потому что понимал: мне доверяют, да и опыт нарабатывался так гораздо быстрее, чем при обычном темпе работы.
Были в этом, конечно, и свои минусы — при таком потоке говорить о хорошем качестве исследования не приходилось. Максимальное количество трупов, которое мне довелось вскрыть в тот период, — это двенадцать за день, и из них не меньше половины составляли травмы и убийства. В конце рабочего дня, сняв перчатки, я не мог унять дрожь в руках».
«Постойте, но вы ведь говорили о том, что надиктовать даже три трупа подряд очень сложно! — вспомнил я. — Как же вы вскрывали двенадцать?»
«В точку! — улыбнулся эксперт. — Диктовка практически не велась. В отличие от Челябинского Бюро, тут в секционном зале стоял один письменный стол, на нем лежала толстая тетрадь, в которую лаборантка записывала то, что говорил эксперт, а говорил он очень мало. Повреждения, как и все остальное, описывались предельно кратко и некачественно, но другого выхода не было — трупы требовалось вскрывать, а работали всего два человека. Если на двух столах одновременно трудились двое — я и начальник, то лаборант по очереди записывала слова мои и начальника в две тетради. И несмотря на то, что мы, трудясь на двух ставках, вырабатывали семь, нам за них никто не платил. После вскрытия мы брали каждый свою тетрадь, начальник садился к компьютеру (да, у нас имелся компьютер!), а я — к электрической пишущей машинке, и вручную вбивали в шаблон акта судебно-медицинского исследования то, что надиктовали лаборанту, то есть тратили время на перепечатывание написанного. Тетради эти берегли как зеницу ока, ибо потеряйся они — и нам пришлось бы не сладко.
Надо сказать, что начальник мой, Михал Михалыч, был фартовым человеком. Он мог несколько дней подряд ездить на рыбалку, уезжать из морга еще до обеда и при этом никогда не попадался своему руковдству. И наоборот, если он задерживался по какой-то причине на месте дольше, чем положено, ему обязательно звонил начальник Бюро и удивлялся: «Ты еще на работе?» — «Конечно, — «обижался» мой шеф, — как обычно!» Везло ему всегда.
У него же я учился тонкостям общения с сотрудниками правоохранительных органов. Люди это специфичные, и держаться с ними следовало по-особенному. Мой начальник разговаривал почти со всеми следователями и ментами (это слово я употребляю в хорошем смысле) чуть свысока и лишь с некоторыми — на равных. К этим некоторым относились прокурор, начальник ОВД, начальник криминальной милиции, начальник уголовного розыска, начальник ГИБДД и еще несколько человек. Отношения эти были скорее не дружескими, а приятельскими. Остальные сотрудники вели себя вежливо и отзывчиво. Один из плюсов работы в небольшом городе — это то, что все друг друга знают и все вопросы решаются очень оперативно. Если проблема не ликвидировалась на уровне следователя или сотрудника милиции, начальник просто звонил прокурору или одному из руководителей ОВД, и все моментально улаживалось. За такую отзывчивость мы иногда шли сотрудникам навстречу».
«Вы имеете в виду…» — осторожно начал я.
«Нет, нет, никакого криминала и мухлежа с экспертизами не допускалось — мой начальник, способный извлекать выгоду из всего, тем не менее обладал стойким инстинктом самосохранения и никогда не пересекал ту черту, за которой его могли подтянуть по статье, — отчасти, это было вызвано (и совершенно правильно) недоверием к представителям милиции и прокуратуры. Эти замечательные люди подставляли других людей, и экспертов в том числе, не так уж редко, и не потому, что испытывали к ним личную неприязнь или отличались какой-то природной подлостью; просто когда из-за недоработок самого мента возникал скандал, он всегда старался обвинить в этом кого-то другого, и часто крайним становился эксперт. Нам такое поведение казалось естественным, никаких обид мы не держали, поскольку, во-первых, не доверяли даже самым близким правоохранителям и не подставлялись, а во-вторых, все ходы записывали, и проверить факты в том или ином документе было несложно.
Михал Михалыч очень любил по-доброму издеваться над ментами. Издевательства эти принимали несколько устойчивых форм. Опишу одну из них. Иногда во время исследования трупа эксперт, что называется, «нарывается» на какую-то травму, которую снаружи совсем не видно. Наиболее часто среди таких «сюрпризов» встречаются черепно-мозговые травмы или травмы живота. Повреждения на голове обычно маскируют волосы, а на животе их в принципе может не быть — из-за податливости передней брюшной стенки. Если такая травма обнаруживалась, то автоматически запускался алгоритм действий, направленных на исключение, в первую очередь, убийства, а во вторую — получения травмы при самостоятельном падении пострадавшего. Если первый вопрос решался отрицательно, а второй — положительно, то составлялся формальный материал проверки, который быстро отправлялся в архив. Мой начальник, конечно, знал все эти нюансы и всегда этими ситуациями пользовался. Происходило это так. Если на вскрытии обнаруживалась травма, явившаяся причиной смерти, лаборантка набирала номер начальника ОВД, прислоняла трубку к уху моего босса (перчатки он не снимал и сам трубку взять не мог), и начинался примерно такой диалог:
Мой начальник (МН): «Здравствуйте, Иван Иванович!»
Начальник ОВД (НОВД): «Здравствуй, Петр Петрович. Чего звонишь, что случилось?»
МН: «Да так, думаю, позвоню, узнаю, как дела, как криминогенная обстановка в городе?»
НОВД: «Испортить, что ли, ее хочешь?»
До этого вопроса мой начальник разговаривал самым предупредительным и ласковым голосом, но теперь тон его менялся на огорченно-озабоченный.
МН: «Как знать, как знать… Тут такой товарищ есть — (он называл ФИО трупа и место, из которого его доставили). — Так вот, у него сюрприз для вас. Черепно-мозговая травма», — следовал тяжелый вздох.
НОВД: «Открытая или закрытая?»
Я никогда не понимал, зачем все сотрудники задают такой вопрос, — для них характер черепно-мозговой травмы вообще не имеет значения.
МН: «Категорически закрытая».
НОВД: «При падении мог?»
И тут было два варианта ответа: если имело место стопроцентное убийство, то так и говорилось, без обиняков. Если же вид повреждений, их характер и локализация допускали возможность получить травму при самостоятельном падении из положения стоя, то игра продолжалась.
МН: «Ну, как сказать… Вряд ли, не похоже… Очень сомнительно».
НОВД: «Но не исключается?» — с огромной надеждой в голосе.
МН: «Ну-у-у, при определенных обстоятельствах, может быть».
НОВД: «Понял, сейчас тебе перезвонят».
После этого перезванивал или начальник криминальной милиции, или начальник уголовного розыска, и вопросы повторялись в такой же последовательности. Особенно интересно было слушать эти разговоры, когда травма как секционная находка встречалась дважды или трижды в день».
«Но ведь это как-то неправильно», — заметил я.
«Я тоже поначалу так думал и даже как-то сказал об этом начальнику, но он мне все доходчиво объяснил: «Дело в том, что мы можем только предполагать с той или иной степенью уверенности возможность получения травмы при падении, мы не знаем обстоятельств этого события и почти никогда не исключаем вероятность посторонней «помощи» потерпевшему. Если им (ментам) сразу сказать, что допустимо самостоятельное падение пострадавшего, то они вообще ничего делать не будут, а просто все сговняют. А так они хотя бы опросят свидетелей, съездят на место происшествия, авось и не окажется это падением». И он был абсолютно прав. Впоследствии, став начальником, я поступал точно так же».
«Простите, — снова влез я, — вы сказали какое-то слово… «сговнять», я правильно услышал?»
«Да, правильно, это местное слово, эдакий местный сленг. Оно имело два значения: во-первых, сделать что-то из рук вон плохо, и во-вторых, затянуть какой-то вопрос, какое-то решение на долгий срок и в конце концов так ничего и не предпринять.
Время показало, что начальник мой был прав на сто процентов, именно такая манера являлась наиболее продуктивной при общении с сотрудниками правоохранительных органов. Он был хорошим психологом и умел разговаривать с родственниками умерших или с побитыми (недобитыми — в его терминологии) гражданами. Часто люди, потерявшие близких, бывают не согласны с причиной смерти или с теми порядками, которые установлены не экспертами, а законом, и с ними приходится общаться, чтобы уладить конфликт. Некоторые просто нуждаются в элементарной жалости, в сочувствии, другим важно растолковать тот или иной диагноз, третьим объяснить пошагово процесс получения документов для похорон, а иногда необходимо и «наехать». Выбор тактики общения существенен — ведь неудовлетворенный родственник, который к тому же находится в стрессовом состоянии, способен быстро написать жалобу или в горздрав, или еще куда повыше, вплоть до президента. А скандалы никому не нужны, они влекут за собой разбирательства, которые хотя и не заканчиваются обычно ничем серьезным, но нервы мотают изрядно.
С побитыми людьми ситуация еще хуже — они почти всегда недовольны результатами освидетельствования, особенно те, кто пришел за свои деньги. Так называемое снятие побоев, а фактически освидетельствование, на платной основе проводилось вполне легально в тех случаях, когда человек обращался сам. Если же он писал заявление в ОВД и получал направление на освидетельствование, то оно делалось бесплатно. Несмотря на возможность сэкономить, люди часто предпочитали «снять побои» как можно скорее, руководствуясь правилом «кто первый, тот и прав»; нередко обе стороны конфликта бежали наперегонки к добрейшей Ольге Алексеевне, иногда пересекались друг с другом, и побоище продолжалось — к радости окружающих. Несколько раз нам приходилось даже вызывать наряд, иначе вместо освидетельствования кто-то из спорщиков попал бы прямо на вскрытие.
Эти люди, отдав свои кровные, всегда ожидали, что эксперт напишет в заключении самую тяжеленную тяжесть вреда, нанесенного их здоровью. Однако у части побитых повреждения не обнаруживаются вовсе — либо времени прошло немного с момента побоев (иногда кровоподтеки образуются не сразу, а постепенно), либо били человека с силой, недостаточной для образования кровоподтеков, либо в месте удара присутствует только краснота, которая повреждением не является; у других же повреждения есть, но такие, которые не причиняют вред здоровью. Получив на руки акт освидетельствования и прочитав заключение, жертва побоев исполняется гневом и негодованием и подозревает доктора в откровенном обмане и непрофессионализме. И бесполезно объяснять людям, что им, наоборот, повезло остаться здоровыми, — все считают себя сильно пострадавшими. Иногда даже предпринимаются попытки обмануть эксперта. Например, на стандартный вопрос: «Теряли ли вы сознание?» почти все отвечают: «А как же, конечно, терял!». И это с кровоподтеком на заднице. Когда веселья ради возражаешь: мол, человек, который теряет сознание, этого не помнит (на самом деле не так), то клиент сразу начинает выкручиваться и говорить, что не совсем помнит, терял или нет, но ему сказали, что терял, и тому подобное.
И вот таким людям бывает трудно что-то объяснить, они просто не воспринимают речь, иногда становятся агрессивными, иногда требуют вернуть деньги. И с ними тоже нужно разговаривать, уговаривать, объяснять, успокаивать, даже угрожать. Но не всегда это помогает. Меня, например, как-то приходил убивать один такой несогласный джентльмен средних лет».
«В каком смысле?» — удивился я.
«Да в прямом. Разговора с ним не получилось, и джентльмен ушел, но только за тем, чтобы выпить для храбрости и взять топор. Вернулся и продолжил разговор уже с аргументами».
«И?»
«Было страшновато, но я сломал ему челюсть. Потом приехали ППС-ники и увезли его. Заявление я писать не стал, но и товарища этого больше не видел, думаю, что опера пообщались с ним и рассказали ему о том, как надо вести себя с докторами. Это я к тому, что умение общаться с разными людьми, причем продуктивно — несомненный плюс эксперту. То же самое касается и общения с участниками судебного процесса. Будучи в интернатуре, я посещал суды, но чтобы научиться себя вести, нужно самому участвовать в судебном заседании.
Наибольший дискомфорт неопытному эксперту в суде причиняют, конечно же, адвокаты подсудимого. У них есть задача: добиться оправдания клиента или, на худой конец, сократить будущий срок, и для этого они применяют все способы. Идеальный вариант — это когда грамотный адвокат разобрался в заключении эксперта и задает вопросы по существу. С таким адвокатом приятно общаться, даже если он использует агрессивную тактику, разбирает заключение буквально по буквам, задавая вопросы, «прощупывает» эксперта и пытается определить общий уровень его подготовки, а не только качество конкретной экспертизы. Если адвокат видит, что эксперт подготовлен, ведет себя уверенно, юридически подкован и знает нормативные документы, то направление защиты уходит по другому пути — не по пути судебно-медицинской экспертизы.
Чаще встречается другое. Адвокат отрабатывает гонорар, для чего демонстрирует бурную деятельность. Одной из целей в таких случаях является развал экспертизы или назначение дополнительной либо повторной экспертизы. Даже при неминуемо грозящем подсудимому тюремном сроке подобная тактика, с точки зрения адвоката, оправданна: пока идут все эти следственные действия, подсудимый находится в СИЗО, а не в колонии, где условия содержания гораздо хуже. После обвинительного приговора срок, проведенный в СИЗО, как правило, засчитывается в счет всего срока, и потому в колонии или в тюрьме подсудимый проводит меньше времени. Вот адвокат и растекается мыслью по древу, ищет, за что бы зацепиться в заключении, пытается эксперта смутить, запутать, задает одни и те же вопросы по-разному, вынуждает доктора предполагать, а иногда даже выискивает в тексте орфографические ошибки. Опытный эксперт прекрасно знает все эти адвокатские уловки и не ведется на них, а порой, принимая их, начинает играть с адвокатом в его же игру, в конце выставляя его в не слишком достойном свете. Молодой эксперт таким опытом не обладает и нередко попадается на провокации. К своему первому судебному заседанию я был уже подготовлен начальником и знал, как себя вести. Допрос мой проходил примерно так:
Адвокат (А): «Это ваше заключение?»
Эксперт (Э): «Да, мое».
А: «Вы подтверждаете его?»
Э: «Да, подтверждаю».
А: «Угу… — сделал вид, что изучает текст, как будто видел его в первый раз (это могло длиться до нескольких десятков секунд — требовалось выдержать зловещую паузу). — А вот тут у вас написано, что… — прочел текст из заключения. — Вы подтверждаете это?»
Э: «Да, я же сказал, что подтверждаю».
А: «А какой у вас стаж?»
Вопрос насчет стажа является «сакральным», именно им адвокат пытается смутить эксперта, показать его неуверенность или даже низкую квалификацию. Иногда этот вопрос, особенно заданный врасплох, в самом деле действует на молодого эксперта угнетающе. Эксперт сам понимает, что стаж у него небольшой, и чувствует в связи с этим определенную уязвимость. Если адвокат поймет по интонации доктора, что тот в себе не уверен, он сделает все возможное для того, чтобы еще больше смутить его. Поэтому мне было строго-настрого наказано отвечать на этот вопрос уверенно и с достоинством.
«Один год!» — выдал я голосом Василия Алибабаевича из фильма «Джентльмены удачи», даже с некоторым вызовом.
«Угу… — снова фальшиво огорчился адвокат и сделал мхатовскую паузу. — Вы считаете, что обладаете квалификацией для того, чтобы проводить подобные экспертизы?»
После стажа квалификация занимает второе место в списке каверзных вопросов. Спрашивает адвокат всегда с риторической интонацией, и всем присутствующим, включая эксперта, становится сразу ясно: эксперт никакой квалификацией не обладает, он зеленый недоучка, ни черта не понимающий в экспертизе из-за отсутствия опыта. Иногда после этого вопроса сразу же следует второй: «Скажите, сколько подобных трупов вы уже исследовали за время своей практики?», и если этот труп первый или второй (третий, пятый), то адвокат опять опускает глаза в текст, мычит как бы себе под нос, но так, чтобы все слышали: «Мда-а…» и снова замирает в паузе.
Все это действует очень тягостно на неподготовленного эксперта, он начинает сомневаться в себе, особенно если сразу же после вопросов адвокат приводит какие-то данные, не относящиеся к конкретной экспертизе, но выглядящие солидно, — например, выдержки из какого-то руководства или мнение специалиста, называемое «независимой экспертизой». Люди, присутствующие в зале судебного заседания, конечно же, смотрят на выступающих и иногда даже позволяют себе комментировать те или иные вопросы и ответы. Если в придачу ко всему у эксперта есть так называемая боязнь сцены, то ситуация может стать для него мучительной и даже позорной.
Но я-то был предупрежден! Мой опытный босс рассказал мне, о чем меня будут спрашивать и как нужно отвечать. Почти все вопросы он угадал; как я потом убедился, они всегда одинаковые, за редким исключением. Я не забывал перед ответами выдерживать паузы секунды на три, не горячился и выглядел вполне достойно. Меня также проинструктировали о том, что если ситуация выходит из-под контроля, нужно обратиться к судье и дать ей понять: адвокат начинает нести чушь, и этот цирк пора прекращать. Почти всегда подобное обращение работает, и допрос прекращается.
Еще одним раздражающим фактором в таких судейских выступлениях является то, что заседания никогда не начинаются вовремя. Задержка может составлять от нескольких десятков минут до часов, и почти всегда она связана или с доставкой обвиняемого, или с опозданием адвоката, причем последняя причина встречается в разы чаще. Я никогда не понимал, почему все остальные участники процесса должны ждать адвоката, который в свое оправдание приводит какие-то детские причины, а судьи ему не делают никаких внушений. Самое долгое ожидание в моей практике составило почти два часа, но было компенсировано временем моего допроса. Меня вызвали в суд по инициативе адвоката, и когда начался допрос, он спросил: «Это ваше заключение?» — «Да». — «Вы его подтверждаете?» — «Да». — «У меня больше нет вопросов». Судья немного обалдела от такого хода и спросила: «У кого-нибудь есть вопросы к эксперту?» Вопросов никто не имел. «Спасибо, вы свободны», — сказала мне судья, и я ушел, так и не поняв, что это было.
Так постепенно я учился разным житейским премудростям, которые очень помогают в работе, попутно заводя хорошие знакомства среди не последних в городе людей — не только сотрудников прокуратуры и милиции, но и начальников колоний».
Я вопросительно посмотрел на эксперта.
«А они-то тут при чем?»
«Ну как же, — усмехнулся он, — начальник колонии был нужным человеком, и не потому, что требовалось кого-то «отмазывать» или улучшать чьи-то условия содержания, с такими вопросами вообще к ним ни разу не обращались. Дело было в полезности колоний».
«Что вы имеете в виду? Я все равно не понимаю. О какой полезности вы говорите?»
«Я вам объясню. В каждом коллективе время от времени вспыхивают конфликты. Бывают они и в колониях: например, случится драка между заключенными, или сотрудники колонии применят спецсредства, или возникнет какая-то другая ситуация, требующая назначения судебно-медицинской экспертизы. Вот такие экспертизы мы периодически и выполняли. И в отличие от милиции, у которой вопрос телесных повреждений, грубо говоря, один из профильных, колония с такими проблемами сталкивается редко, и механизм дальнейших действий в ней не отработан до автоматизма. Из-за этого затягиваются сроки расследования, что, конечно, отрицательно сказывается на «карме» начальника колонии и всех нижестоящих сотрудников. О том, что в материале проверки или в уголовном деле отсутствует судебно-медицинская экспертиза, сотрудники колонии вообще могут вспомнить за один день до окончания срока расследования. Конечно, они мчатся к нам и назначают эту экспертизу, но, видите ли, с момента принятия экспертизы в работу мы можем делать ее в течение месяца, а это совсем не устраивает «колонистов». Каков выход?»
«И каков выход?» — поинтересовался я.
«Выход простой: эксперта надо заинтересовать. И не финансово — ни разу ни я, ни начальник не брали денег, это пошло и неправильно. Есть вещи нужнее денег. Каждая зона на чем-нибудь специализировалась: в одной занимались текстильным производством, в другой обрабатывали камень, в третьей — металл, в четвертой — дерево. И вот это-то как раз и было нам интересно».
Я все еще не понимал, о чем идет речь.
«Все просто. Например, нам требовались фартуки для вскрытия. Это сейчас они одноразовые, меняй хоть десять раз за день, а тогда мы о такой роскоши и мечтать не могли. После вскрытия фартук мылся водой и сушился до следующего дня. Нам понадобились новые, а где их взять? Бюро ничего не давало, несмотря на то, что заявки мы направляли регулярно. Зато на зоне нам их сшили быстро и качественно, к тому же совершенно бесплатно. То же касалось, например, и формы для выездов на места происшествия. Условия осмотра трупа бывают разные и далеко не всегда они комфортные: есть вероятность того, что придется лезть в грязь, в подвал, в карьер, просто осматривать гнилой труп, то есть довольно легко там испачкаться — да хоть в той же самой крови. Свою одежду марать не хотелось, а формой нас не обеспечивали. И в колонии нам сшили несколько комплектов прекрасной формы, по нашему эскизу, очень удобной, функциональной и даже со светоотражающими надписями. Ни у кого в Бюро такой формы не было — только у нас. Как такую продукцию учитывал (и учитывал ли вообще) начальник колонии — нас не интересовало, важно, что взаимовыгодные интересы соблюдены. Никакого криминала в наших действиях не содержалось, просто экспертиза делалась не через две-три недели, а на следующий день, нам это труда не составляло. То же самое касалось и остальных зон. Начальник никогда не просил первый, он справедливо считал, что если просишь ты, то ты и становишься обязанным. Он терпеливо дожидался удобного случая, а они возникали в конце каждого месяца, когда «колонисты» приезжали и просили провести экспертизу побыстрее, то есть автоматически становились обязанными ему. Приобрести оригинальные сувениры из камня, металла или дерева, такие как шахматы, ножи, канцелярские наборы, картины и многое другое, что потом можно было передарить другим нужным людям, — вот в чем смысл. И конечно, наиболее красивые и качественные вещи мы оставляли себе; у меня, например, до сих пор есть столовые ножи, которым и спустя двадцать лет нет сносу, хотя они и не иглой заточены».
Я опять вопросительно посмотрел на эксперта.
«Это один из способов заточки. Вначале нож точили как обычно, на станке, но так, чтобы режущую кромку образовывало схождение не двух плоскостей, а двух окружностей. После этого бралась обычная швейная игла, и ею в течение многих недель заточка доводилась до бритвенной. Фактически это была не заточка, а постепенное смятие молекулярных слоев, прессовка на молекулярном уровне. Такие ножи длительное время не тупились. Но и обычная заточка служила долго, особенно если использовалась качественная сталь. Лет через пять после начала работы я по такой же схеме заказал в колонии комплект рабочих инструментов, и это были лучшие инструменты в моей практике. Я сам нарисовал эскиз; длину клинка и форму рукоятки мастера адаптировали под мою руку, и сталь была изумительного качества. Мало того, по договоренности с начальником колонии мой шеф неоднократно загонял к ним машину для предпродажной подготовки. За пару блоков сигарет и пачек чая через неделю он получал автомобиль в идеальном виде: подкрашенный, отполированный, с исправленными мелкими дефектами кузова».
«И вся эта красота только ради быстро сделанной экспертизы?»
«Вы не представляете, насколько соблюдение сроков расследования важно в карьере того или иного дознавателя или следователя. Хотя… — эксперт на секунду задумался, — однажды я реально помог, так сказать, «отмазать» нескольких сотрудников колонии от срока».
«О как! — воскликнул я. — Каким образом?»
«Это был один из двух случаев, в которых я, как эксперт, немного покривил душой. Но мне не стыдно. У нас с вами есть еще время, поэтому расскажу. Я уже говорил, что при получении заключенным каких-то повреждений в колонии их требовалось описать и оценить по степени тяжести, то есть провести освидетельствование. Бывает и так, что заключенные в колониях умирают, как правило, это или ненасильственная смерть в силу естественных причин, или самоубийство. И то, и другое встречается редко, а ситуации, когда заключенный погибает от действий сотрудников колонии, вообще единичны. Но именно с такой ситуацией я и столкнулся на шестом году своей работы. Начальник мой уже к тому времени уехал на ПМЖ за границу и я сам заведовал отделением. В один осенний день в морг пожаловала вся администрация одной из колоний, что само по себе уже указывало на ЧП. Выяснилось, что накануне в колонию прибыл очередной этап, который следовало осмотреть. Осмотру подлежит все тело, включая естественные отверстия — рот и задний проход, поскольку там можно пронести всякую дрянь, вплоть до наркотиков. Осмотр занимает очень непродолжительное время: заключенный раздевается, открывает рот, потом нагибается, раздвигает ягодицы, а врач пальцем исследует прямую кишку. Ничего оскорбительного для сидельцев в этом нет, просто правила безопасности. Однако с этим этапом прибыл тип, который считался «отрицалой», то есть человеком, отвергающим всякие правила, предусмотренные в местах заключения. Он везде, где сидел, конфликтовал с сотрудниками колонии, попадал в карцер, но отношения своего к правилам не изменил. В тот день он категорически отказался демонстрировать свой задний проход, объясняя это тем, что его мужское достоинство будет унижено и оскорблено. В случаях неподчинения сотрудники колонии имеют право применить спецсредства: наручники и резиновую палку (знакомую мне по студенчеству), и они этим правом воспользовались, а через некоторое время буян скончался. Ситуация наискандальнейшая. Необходимо было срочно определить, от чего же умер заключенный, поскольку в случае смерти в результате травмы будущее администрации колонии представлялось туманным и печальным».
«А от чего же еще умер человек, если его избили?» — спросил я.
«Вы сейчас совершаете одну из самых распространенных логических ошибок. Запомните: «после чего-то» не всегда означает «вследствие чего-то». Человек после побоев может умереть не из-за побоев, а, например, от острой сердечной недостаточности, от кровоизлияния в мозг нетравматической природы и так далее. Именно поэтому и важно установить причину смерти».
«Понятно. Так от чего он умер?»
«Там все оказалось не однозначно. Во-первых, у мужчины была черепно-мозговая травма, во-вторых, обширные кровоизлияния в подкожно-жировую клетчатку ягодиц и бедер. Означало это то, что его били по заднице и задней поверхности бедер — в соответствии с инструкциями, — а также, возможно, по голове, что запрещено. Правда, я сам был свидетелем того, как заключенные, будучи в сильном нервном возбуждении, бились головой об окружающие предметы, да так сильно, что отбивали металлические ручки от сейфов. Именно черепно-мозговая травма и спасла сотрудников колонии. Я мог бы объединить ее и массивные кровоизлияния, которые сопровождались кровопотерей, в одну травму, и это означало бы, что мужчину убили. Однако, я «похоронил» его только от черепно-мозговой травмы. Во-первых, она была серьезная, а во-вторых, я все-таки сомневался в том, что такое объединение целесообразно. Диагноз «черепно-мозговая травма» допускал возможность причинения повреждений в результате падения самого заключенного или в результате ударов о предметы. Большего и не требовалось — данные о том, что заключенный падал, в деле имелись. Сейчас я думаю, что если бы тогда представители администрации не приехали ко мне, я объединил бы повреждения. Но что сделано, то сделано. Кстати, кроме устной благодарности, никаких материальных вознаграждений я не получил».
«А второй случай? Вы сказали, что их было два».
«А второй случай, точнее, первый по хронологии, произошел буквально спустя пару месяцев с начала работы. Начальник мой был, как обычно, где-то на рыбалке, а ко мне приехали знакомые менты с просьбой. Они хотели, чтобы у их умершего коллеги не обнаружилось алкоголя в крови. Объяснялось это обычными причинами: семья умершего не получит страховку, дети останутся голодными и тому подобное. Я спросил, почему они уверены в том, что алкоголь в крови есть, и они дали мне понять: он там точно есть, и потому в долгу они не останутся. Я пообещал что-то придумать (ради голодных детей-то). Вечером мне позвонил начальник и поинтересовался, что интересного произошло в его отсутствие. Услышав мой стройный рассказ о бедных сотрудниках милиции, о голодных детях и о маячившей благодарности, а также о путях реализации моего гениального плана (я планировал отправить на химическое исследование кровь от другого, заведомо трезвого трупа), он мне очень доходчиво все объяснил. Он рассказал, что проверить подлинность крови — раз плюнуть, что чистая кровь будет выглядеть очень странно, ведь этот человек наверняка бухал в компании, при свидетелях, и если запахнет «жареным», менты первые подставят меня и глазом не моргнут. Я не спал всю ночь, а наутро, чуть свет, помчался в морг, позвонил ментам и сообщил, что наша сделка отменяется. Потом приехал начальник, и я еще раз получил «вдувание». С того момента у меня и мысли не возникало о том, чтобы где-то нарушить правила, несмотря ни на какие знакомства…
Санитарами у нас, как я уже говорил, работали двое — Нина Васильевна, женщина сорока восьми лет, и ее сын. Обязанности свои они выполняли качественно и быстро, обучали меня обращаться с пилой (а она здесь, в отличие от Челябинского Бюро, была электрическая), однако я это так и не освоил, предпочитая ножовку. Прошло чуть более полугода с момента моего устройства в морг, и произошла трагедия — Нина Васильевна умерла. Прямо на рабочем месте. И это был первый раз, когда я видел смерть человека очень близко. Все случилось рано утром, еще до начала работы. Мы с начальником сидели в кабинете, пили чай, обсуждали поступивших покойников. Вошла Нина Васильевна, попросила таблетку, пояснив, что болит сердце. Лаборантки дали ей какой-то анальгетик, после чего она ушла, а минут через десять к нам забежала санитарка из патанатомии и сказала, что Нине Васильевне плохо. Обнаружили мы ее в комнате санитаров, она была уже почти без сознания и только хваталась рукой за грудь. Скорая приехала быстро, сняли ЭКГ (там явно угадывался инфаркт миокарда), минут пятнадцать оказывали помощь на месте, после чего решили везти в реанимацию — благо, морг располагался на территории больницы и ехать требовалось недалеко. Когда выносили носилки, кто-то обратил внимание на то, что выносят ногами вперед, а это плохая примета. После того как машина уехала, я сказал начальнику: «Теперь предстоит долгое лечение и потом еще не менее года реабилитации», на что опытный доктор со вздохом ответил: «Дай Бог, чтобы выжила…» Буквально минут через пять нам сообщили, что Нина Васильевна умерла в машине. Реанимационные мероприятия эффекта не дали. Как я сейчас понимаю, скорее всего, произошел острый инфаркт миокарда с разрывом сердца, шансов выжить не было никаких.
Повторюсь, я впервые видел смерть так близко. Знаете, среди вопросов, которые мне обычно задают, есть один самый популярный: «Вам не страшно работать с трупами?» Отвечу и вам: в мертвых людях нет ничего страшного. Даже если на теле имеются множественные грубые повреждения, даже если труп гнилой или объеденный животными, все это — ничто по сравнению с тем моментом, когда живой человек становится неживым. Хотя моментом это назвать сложно, мгновенной смерти практически не бывает, всегда концу предшествует агония, переход из одного состояния в другое — если хотите, из одной жизни в другую. Вот этот переход отвратителен и страшен, именно тогда ты понимаешь: все суета по сравнению с тем, что определяет твое существование. Человек сейчас живой, он ходит, разговаривает, пьет чай, дает или выполняет поручения, строит планы на день или на год и уж точно не планирует умереть, но кто-то или что-то решает за него — и вот он уже не есть, а был. Судебно-медицинский эксперт в своей работе находится между этими двумя жизнями — этой, земной, и той, которая будет».
«Однако, — подумал я. — Стоит вернуться к этой теме позже. Эксперт, который верит в загробную жизнь…» Пока же меня заинтересовало другое.
«Вы сейчас упомянули примету: мол, выносить больного ногами вперед — это плохо. Вы что, верите в них?»
«Приходится верить, — без тени улыбки ответил доктор. — Они заставляют в себя верить. Это необъяснимо и это невозможно назвать простым совпадением. Например, нельзя эксперту, который дежурит, желать спокойного дежурства — ему обязательно придется ехать в такую даль или на такой сложный труп, что прокатается всю ночь. А если на вскрытии обнаружилось какое-то заболевание, явившееся причиной смерти (например, инсульт), то обязательно в ближайшее время точно такое же заболевание выявится у другого покойника. Или вот еще: если вскрыть все трупы, поступившие в морг, то на следующий день могут вообще никого не привезти, но если оставить один не вскрытый (как говорили санитары — «на развод»), то на следующий день обязательно будет много покойников. Работает всегда. Что это, по-вашему?»
«Совпадение, конечно», — ответил я.
«Видите, и вы не верите. Тем не менее, это не совпадение, это что-то еще. Может быть, потому, что судебно-медицинский эксперт должен обращать внимание на любые мелочи, мы и замечаем то, что не замечают другие. Рассказать вам, как одна мелочь помогла однажды раскрыть преступление?»
Я кивнул.
«Случилось это, когда я уже лет пять работал «по-взрослому». В составе следственно-оперативной группы я был вызван на труп, точнее, на место происшествия. Как оказалось, у оперов появилась информация, будто в одном частном доме пару дней назад мужчина убил свою жену — он сам проболтался об этом, будучи пьяным, своим друзьям, один из которых оказался милицейским «барабаном». Чтобы не ездить дважды, решили сразу взять меня — одновременно и убийцу задержать, и труп описать. Приехали мы в отдаленный рабочий поселок, там — частный дом, довольно большой огород, хозяйство. Мужичонка хиленький, но упертый: мол, никого не убивал, жена уехала к родственникам, куда конкретно — не сказала, и когда вернется, он не знает. Осмотрели дом — все чисто, никаких следов крови или чего-то подозрительного. Что делать? Мужичок начал негодовать и возмущаться, собравшийся около дома народ уже стал посмеиваться над нами. Уезжать с позором? А вдруг «барабан» и впрямь ошибся — мало ли чего по пьяни не почудится? В эти минуты «сомнений и тягостных раздумий» я обратил внимание на следы свиней, которых было много в огороде; хаотичные у дома, они выстраивались в четкую тропинку, ведущую в конец огорода к зарослям бурьяна. Я сказал следователю: «Пусть свиней выпустит, есть мысль». Опираясь на деревенский опыт, я понимал, что свиньи никогда без основательной причины не будут ходить куда-то всей толпой. Они разбредаются по огороду, роются в земле, вырывают корешки, валяются в земле — словом, ведут себя по-свински. Хозяин дома уперся: мол, поздно уже, поросята погуляли, спать хотят, однако в итоге подчинился. Как я и предполагал, хрюшки сразу весело побежали по тропинке в явно знакомом им направлении. Мы — за ними. И в зарослях бурьяна обнаружили едва прикопанный труп женщины, уже наполовину съеденный свиньями. Найти труп наугад было практически невозможно. Поняв, что все пропало, мужчина сознался в том, что зарезал жену и планировал уничтожить труп, скормив его поросятам. Если бы мы в тот вечер уехали, думаю, он просто перепрятал бы тело, и никогда никто его не нашел бы».
«Занятная история. В одном американском фильме я видел что-то подобное. Там владелец фермы избавлялся от трупов своих жертв, скармливая их свиньям. Жутко все это».
«С точки зрения того, у кого есть задача избавиться от тела, ничего жуткого нет, все самое страшное уже произошло — человек убит. А дальше убийца, оценив ситуацию, рассчитав все возможные риски, определив плюсы и минусы того или иного способа, принимает решение замести следы. Нет тела — нет дела, и в этом устойчивом выражении есть доля правды. Народ у нас в этом смысле грамотный и потому изобретательный. Случай со свиньями не самый интересный. Например, одна женщина убивала своих новорожденных детей, а трупы прятала в навозную грядку. Вам, городскому жителю, вряд ли известно это сельское огородное сооружение. Делается грядка так: укладывается коровий навоз в виде прямоугольника на земле, высотой около метра, во время укладки по контуру утрамбовывается ногами; потом в середине грядки делается несколько лунок, которые заполняются землей, и в землю высаживаются огурцы или перец. Навоз, постепенно перегнивая, держит тепло, которое необходимо для роста растений, а по осени получившийся перегной разбрасывается по огороду в качестве удобрения. Вот та женщина и прятала тела в такую грядку. К осени от тела оставался только скелет, который она зарывала тут же, в огороде. Если бы она сама не созналась в нескольких убийствах, останки так никогда и не нашли бы. В девяностые годы, бывало, тело убитого заливали бетоном или замуровывали в стену или пол. Кстати, упорно ходят слухи, что и на стройках больших домов в случае гибели рабочего-нелегала его тело тоже по-тихому становится частью фундамента или стены, дабы избежать проблем. Хотя, думаю, это всего лишь байки». — Эксперт подмигнул, давая понять, что байки они, конечно, байки, но и доля правды в них есть.
«Однажды, — продолжал доктор, — мы выехали на вызов в поисках тела человека, который был убит несколькими днями ранее, в частном доме. Подозреваемый косвенно подтвердил свою причастность к убийству, но прямо не сознавался, видимо, оставляя себе шанс для маневра. Искали мы тело долго и безрезультатно. Все то время, что мы бегали по дому и по участку, за нами с интересом наблюдали два огромных алабая, которые размещались в загончике, обтянутом сеткой-рабицей. Не помню уже, что меня натолкнуло на мысль проверить их миски: то ли их довольные морды, то ли отчаяние от безуспешных поисков, но в мисках я нашел фрагменты костей, очень похожих на человеческие. Следователь изъял и миски, и еду, и даже собачьи какашки, в которых, кстати, тоже были обнаружены фрагменты человеческих костей и мягких тканей.
А случай, когда муж растворил тело убитой им жены в ванне! Если бы не волосы, найденные в «колене» (они предательски пристали к его стенкам), и не генетическая экспертиза, то преступление осталось бы нераскрытым. На фоне такой человеческой изобретательности даже как-то неудобно рассказывать о банальных расчленениях. Помню историю, произошедшую в первый год моей работы, — это была моя первая «расчлененка». Тогда в разных частях города стали находить части тела молодой женщины, расфасованные по полиэтиленовым пакетам. Расчленили ее ножом, посмертно. Причину смерти установили не сразу, а когда нашли торс — на передней поверхности груди имелись несколько колото-резаных ран, явно прижизненного происхождения. На частях тела обнаружились некоторые особые приметы, по которым «потеряшку» и вычислили, однако голова долгое время не находилась. Как это часто бывает, голову и не отыскали бы, если бы не взяли злодея. Убийца сам указал колодец, в который скинул ее. Голову привезли в морг для опознания. Показывали мы ее на подоконнике, укрытую простынями так, что было видно одно лицо. Оказалось, что девушка работала на трассе проституткой, хотя и числилась формально в кооперативе «Сосулька». Убил же ее клиент, решивший, что цена за любовь завышена».
«А встречались ли вам необычные причины смерти?» — поинтересовался я.
«Причины смерти всегда обычные. Необычными могут быть обстоятельства наступления смерти. Я вам уже говорил, что не всегда «после чего-то» означает «вследствие чего-то». Например, человек стреляет себе в голову из самодельного пистолета, находят его мертвым. Всем ясно, что смерть наступила от огнестрельного ранения. Но нет, не от него».
«Простите, правильно я понял: человек стрелял себе в голову из пистолета и причина смерти — не огнестрельное ранение?» — изумился я.
«Абсолютно верно. Вы мыслите как все люди, для которых обстоятельства определяют исход. Но я не зря упомянул, что пистолет самодельный. Убойная сила слабенькая, да и рука в последний момент дрогнула, пуля пробила верхнюю челюсть, попала в полость рта, оттуда — в гортань и в голосовую щель, где и застряла, перекрыв доступ воздуха. Смерть наступила от механической асфиксии, то есть от удушья.
Или вот еще припоминаю. Однажды привезли к нам покойника. На направительных документах стояла пометка службы трупоперевозки — «ДТП». Такие пометки всегда делаются для того, чтобы утром эксперт, распределяющий работу, мог легче ориентироваться и не читать каждый протокол осмотра или направление. Санитары при перевозке трупов ставят отметки: «СК» — если человек умер скоропостижно, «ЖД» — если погиб в результате железнодорожной травмы, «АВТО» — понятно, «ГН» или «НГ» — если тело гнилое или с начальными гнилостными изменениями, «ПОЖ» — если с пожара, «ОГН», «РУБ», «КОЛ-РЕЗ» — если покойник с огнестрельными, рублеными или колото-резаными повреждениями, и тому подобное. Так вот, в этом случае стояла маркировка «ДТП», что означало гибель человека в результате дорожно-транспортного происшествия. В направительных документах было указано, что мужчина ехал в открытом кузове грузового автомобиля и выпал из него. Смотрю на труп: он весь, с головы до ног, покрыт влажной грязью (на дворе — весна). Осматриваю: все кости на ощупь целые, крови нигде нет. Аккуратно отмыл грязь — ни одного повреждения на теле. Как по-вашему, отчего наступила смерть?»
Я задумался.
«Судя по всему, не от ДТП?»
«Именно. Мужчина упал лицом в грязевую лужу, а так как был пьяненький, то просто утонул. То есть при, казалось бы, очевидных обстоятельствах смерть наступила от утопления.
Или другой пример: двое собутыльников что-то не поделили между собой, началась драка, один другому навалял по роже, а наутро этого другого нашли мертвым. Первого товарища закрыли, он сознался в убийстве, то есть причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Все ведь очевидно: имелся и конфликт, и повреждения на лице у покойника. Однако на вскрытии оказалось, что все повреждения, несмотря на их множественность, поверхностные и не находятся в причинно-следственной связи со смертью, которая наступила от острого отравления алкоголем. Такие случаи очень любят сотрудники правоохранительных органов — мало того, что не нужно возбуждать и расследовать дело об убийстве, так еще появляется возможность обзавестись «барабаном».
«Вы уже использовали это слово, — вставил я. — Что оно означает?»
«Простите, я забыл, что вы не в теме. «Барабаном» называют человека, который сливает некоторую информацию операм. У каждого опытного опера их много, и часто благодаря им раскрываются преступления. Заинтересовать же их просто: как правило, это люди, попавшиеся на каких-то мелких преступлениях, на которые опера закрывают глаза ради выгоды. В моем примере вербовка такого «барабана» выглядит так: получив признание первого участника драки и узнав от эксперта, что второй собутыльник умер не от травмы, опер приходит в камеру и начинает разговор по душам. Хороший опер — высококлассный психолог, он сразу видит, будет ли конкретный человек стучать или нет. Если задержанный не отпетый уголовник, а то, что произошло, — случайность, если у него есть работа и семья и если он не хочет в тюрьму, можно считать, что он уже попался. «Ну что ж, — начинает разговор опер, — вскрытие проведено. Черепно-мозговая у твоего дружка, как и ожидалось. Светит тебе лет пять минимум». Уже этого достаточно для того, чтобы у «убийцы» опустились руки. «Вот ведь как несправедливо, — продолжает опер. — Ты парень в целом неплохой, дети у тебя, семья, работа, бухаешь не часто, не хулиган. А убитый, наоборот, негодяй по жизни — и сидел, и привлекался административно не раз. И из-за такого недостойного субъекта тебе срок мотать». Собеседник соглашается, осознавая несправедливость бытия и свою горькую участь. Тут опер может сделать паузу на сутки-другие, дав возможность задержанному прочувствовать весь драматизм ситуации, а может сразу начать разговор по существу. Сделав вид, что в нем борются жажда справедливости и необходимость соблюдать закон, он, наконец, говорит: «Впрочем, я могу замять это дело — взамен на небольшую услугу с твоей стороны. Нужно просто периодически снабжать меня сведениями о том, что говорят люди вокруг тебя: вдруг пройдет информация, будто кто-то украл, убил или наркотиками торганул и тому подобное. Идет?» Конечно, человек соглашается. Закон в таком случае не нарушается, поскольку преступления не было. Смущают моральные аспекты такой вербовки, однако так ли они важны, когда речь идет о раскрытии преступлений».
«Понятно. Но ведь некоторую информацию опера могут использовать в личных целях?»
«Наверное, — доктор пожал плечами. — Видимо, такое бывает, если верить сериалам типа «Глухарь», но я довольно тесно общаюсь с операми в течение многих лет и никогда не замечал в их действиях ничего криминального. Правда, люди — всегда люди, со своими плюсами и минусами. Важно, чего больше. Знаете, когда я начинал работать, отношения между операми и вообще ментами были не в пример лучше, чем сейчас. Они могли не дружить, но при этом все понимали, что заняты одним делом — раскрывают преступления, каждый на своем уровне. Если же дружба завязывалась между экспертом и опером, то многие вопросы решались значительно проще».
«Например?» — спросил я.
«Например, в любом обществе есть так называемые беспредельщики, которые систематически хулиганят, нарушают правила человеческого общежития, делают жизнь других людей невыносимой. Управы на них мало — бюрократическая машина закона, которая к тому же движется медленно, запускается, лишь когда они совершат какое-то преступление. Но можно было просто попросить оперов поговорить с человеком. Они вывозили хулигана в лес и доходчиво объясняли ему, как нужно вести себя с уважаемой публикой. После такого разговора все проблемы, как правило, прекращались. Да, это незаконно, но с таким человеком все иные формы общения бесполезны. Среди моих близких друзей есть несколько оперов, и все они достойные люди. Конечно, я не исключаю: какие-то грешки за ними наверняка водятся, но идеальных людей в принципе нет на свете, а уж в этой системе тем более. Зато я неоднократно видел, с каким человеческим сочувствием они относились к потерпевшим, насколько грамотно вели расследования, помогали другим неофициально, без огласки. При этом к преступникам у них было отношение однозначное, и если они и применяли физическую силу, то всегда по-человечески оправданно».
«Доктор, вы меня удивляете. Вы допускаете избиение задержанных, я правильно понял? А как же клятва Гиппократа?»
«Ну, во-первых, сам я никого никогда не бил — это что касается клятвы Гиппократа. А во-вторых, я категорически против беспредела, кто бы его ни учинял. Нельзя из человека выбивать показания, нельзя просто так мутузить задержанных, нельзя издеваться над людьми. Садист, получающий удовольствие от избиения человека, подлежит изоляции. Но есть персонажи — как правило, асоциальные типы, — не признающие никаких человеческих правил, с которыми просто не получается по-другому, они не способны понять нормального отношения и воспринимают его как слабость. Не признавать этого факта — значит смотреть на мир через розовые очки. Я вам даже так скажу: я на законодательном уровне ввел бы телесные наказания для населения за некоторые преступления. Поверьте, это не варварство — наоборот, это разговор с преступником на его языке. Противники такого рода наказания утверждают, что толку от порки нет. Возможно, для самого преступника и нет, но для десятков потенциальных нарушителей закона публичная порка — очень доходчивый способ профилактики.
Я вам расскажу интересную историю. У меня был друг (он уже умер) — о таких говорят «честный мент». Однажды мы с ним выехали на труп какого-то алкоголика в неблагополучный район города (хотя там все районы были неблагополучные). После осмотра тела опера начали искать свидетелей, брать с них объяснения, тем же занимался и мой товарищ, несмотря на то, что находился уже в должности заместителя начальника УВД. Один из местных жителей, в прошлом, судя по всему, неоднократно сидевший, стал вести себя плохо: грубил на ровном месте, не отвечал на вопросы, угрожал сотрудникам — короче, строил из себя крутого дядьку. На все увещевания милиционеров гражданин реагировал странно — он думал, что за их попытками наладить с ним нормальный диалог кроется страх перед ним. Что должны были сделать сотрудники в этом случае? Увести его в УВД? Посадить на пятнадцать суток? Какой в этом смысл? На этого типа все указанные меры не оказали бы никакого воздействия. Но зато подействовал «лечебный» удар по печени, который нанес мой друг. Вы не можете даже представить себе, насколько один удар может преобразить человека! Куда делась вся крутость, куда исчезли наглость и мат? Товарищ заговорил вежливо и учтиво, на вопросы отвечал по существу и после беседы был отпущен восвояси. Так что телесные наказания необходимы некоторым категориям граждан».
«Может быть, вы и смертную казнь допускаете?» — поинтересовался я, хотя уже знал ответ.
«Не только допускаю, но и считаю, что она должна быть обязательной при некоторых преступлениях. Я вижу в ваших глазах вопросы и даже догадываюсь, о чем они. Да, есть риск осуждения невиновного, да, формально, человек убивающий преступника-убийцу, сам становится убийцей. Но я выступаю за применение смертной казни только в абсолютно доказанных случаях, и не надо твердить, будто таких случаев нет. Сегодня существует множество способов доказать причастность того или иного человека. Самый простой пример — запись преступления на камеру внешнего наблюдения, не говоря уж о генетической экспертизе и тому подобном. Во всех сомнительных ситуациях смертная казнь просто откладывается на неопределенный срок. А по поводу убийцы… Попробуйте объяснить родителям девочки, которую изнасиловали и убили, что смертная казнь негуманна. Для них негуманно — знать, что их дочь лежит в могиле, а убийцу кормят за их, в том числе, счет. Вот и вся справедливость».
«И вы смогли бы…» — начал я.
«Да, смог бы. И множество людей смогли бы выступить в роли Правосудия, совершив казнь преступника».
«Но вы же врач», — заметил я.
«Поэтому я применял бы максимально гуманный способ казни — выстрел в затылок. Кстати, делать это можно вообще без ведома преступника, например, во сне».
Я молчал. Наш разговор зашел явно не туда, куда я планировал, мы начали погружаться в социальные проблемы мироустройства. «Так и до политики недалеко», — подумал я. Еще с юности я понял, что самые непродуктивные разговоры, которые нередко заканчиваются ссорой и даже дракой, — это разговоры о религии и о политике. «Надо менять тему», — решил я. Тем более что усиливалось ощущение, будто это мой собеседник изучает меня, а не наоборот. Опять заболело в груди.
Молчание прервал сам эксперт.
«А все-таки легкие человека, который курил двадцать лет, выглядят ужасно, — почему-то сказал он. — Отвратительное зрелище».
«Кстати, я неоднократно слышал о том, что у жителя мегаполиса легкие выглядят так же, как у курильщика. Это правда?»
«Вот вы родились и выросли в большом городе, — опять скорее утвердительно, чем вопросительно произнес эксперт. — Как вы думаете, где воздух более загрязнен: здесь или в городе, в котором расположено множество заводов — металлургических, кузнечно-прессовых, тракторных, трубопрокатных, да еще несколько ТЭЦ? Несомненно, во втором. Однако и там, где люди не только дышат продуктами цивилизации, но и работают на упомянутых предприятиях, я не встречал таких легких, какие бывают у курильщиков. В городке, в котором я остался после интернатуры, почти половина населения трудилась на угольных шахтах. Но даже у шахтеров легкие в лучшем состоянии. Средства индивидуальной защиты они используют не всегда, предпочитая дышать пылью, нежели преть в респираторах, и тем не менее таких залежей сажи, как при активном курении, в легких нет. Разговоры же о мегаполисе и легких городского жителя — вообще бред сивой кобылы. Сами представьте, есть ли разница: дышать самым грязным городским воздухом, в котором дым и другие вредные вещества представлены в разбавленном виде, или дышать чистым дымом от сгораемого табака? Так что для меня этот вопрос закрыт, да и для вас уже тоже.
Кстати, — продолжил мой собеседник, словно не желая отвечать на мой вопросительный взгляд относительно последней фразы, — наличие в городке угольных шахт добавляло моей работе разнообразия. Шахтный травматизм встречается далеко не везде, а мне удалось видеть и исследовать этот вид травмы. Люди в шахте могут погибнуть от разных причин, которые в большинстве своем связаны или с нарушением правил техники безопасности, или с износом оборудования. Шахтеры в забое каждый день рискуют жизнью, они понимают, что при таком уровне безопасности, какой остался в шахте со времен царя Гороха, им ничто не гарантировано. Может быть, по этой причине некоторые шахтеры умудрялись принимать для храбрости прямо на рабочем месте. В какой-то степени их можно понять: осознание того, что над тобой — сотни метров земли, давит на психику, создавая постоянный стресс. Я общался с горняками, которые смогли выбраться на поверхность после взрыва метана, унесшего жизни нескольких человек. Это был настоящий ад: оглушенные, они в полнейшей темноте, без какой-либо связи, наудачу, наощупь пробирались по горизонтальному уровню к заброшенному шурфу, нашли его и после еще долго карабкались наверх. Погибших после взрыва привозили к нам — со множественными переломами и ожогами; некоторые погибли от механической асфиксии вследствие закрытия просвета дыхательных путей грунтом, то есть после взрыва человек остался жив, но, засыпанный землей и песком, задохнулся. Страшное дело.
Расскажу вам пару курьезов, связанных с шахтами. В одном случае мужчина, бывший шахтер, напился в хлам, пробрался на территорию шахты в поисках металла, который можно было сдать, и провалился в старый шурф глубиной в несколько сотен метров. Его давно никто не использовал, дожди размыли стены, из которых в просвет шурфа торчали старые металлические балки, крупные камни, фрагменты каких-то металлических тросов. И человек, пока летел вниз, неоднократно бился обо все это хозяйство. Могу сказать, что тело, перееханное поездом, выглядит гораздо лучше, нежели та привезенная в морг голая бесформенная масса, покрытая лишь грязью и угольной пылью (пока мужчина летел, одежда цеплялась за выступающие предметы и снималась). В этой массе не нашлось ни одной целой кости, мышцы были размяты, перекручены и разорваны, кожа растянута и тоже с разрывами. Многие годы спустя я видел последствия прямого столкновения пассажирского самолета со скалой во время испытательного полета. Так вот, из-за сильнейшего удара в комбинезонах пилотов осталась только кожа, она снялась, как чулок, а скелет с мягкими тканями по инерции был выброшен наружу. Пожалуй, эти две ситуации можно сопоставить по эффектности повреждений.
А второй случай произошел в частном доме, где был обнаружен труп подростка, на первый взгляд, не имеющий повреждений. На вскрытии, однако, выявилась черепно-мозговая травма с местом приложения в височной области. Как потом оказалось, случился семейный конфликт, во время которого отец снял с ноги тапок и запустил им в сына. Тапок этот был сделан из ленты, по которой уголь поднимался из шахты наверх, и весил килограмма полтора. Традиции изготовления таких вещей уходили корнями в глубокое прошлое, и некоторые потомственные шахтеры предпочитали самодельную домашнюю обувь покупной. Тапок попал прямо в висок ребенку, и тот умер на месте».
«А вам самому случалось бывать в шахте?» — поинтересовался я.
«В определенный период жизни я очень хотел это сделать, мне было любопытно испытать все то, что испытывает горнорабочий под землей. Но после одной истории такое желание исчезло напрочь. Как-то нас вызвали на шахту, где в забое умер человек, правда, от естественных причин. Поднимали тело на моих глазах, и вот тогда я увидел этот механизм, который опускает людей и возвращает их наверх; казалось, что ему лет сто, и, наверное, так оно и было. Конструкция хрипела, скрипела, хлюпала, и складывалось ощущение, что она вот-вот развалится на части. Я ярко представил себе, что будет, если эта штуковина сломается где-нибудь внизу, и желание спускаться в забой испарилось. Отчаянные это люди — шахтеры, владеющие «внеземной и самою земною из профессий», как пел Высоцкий. Уголь, конечно, добывают и открытым способом, но шахты до сих пор существуют, и в них работают живые люди, чей труд, казалось бы, такой неквалифицированный в плане образования, тем не менее, достоин уважения».
«А “Саламандеры” вам купить все-таки удалось?» — вспомнил я.
«Намекаете на сумму заработка? — доктор усмехнулся. — Удалось, но не сразу, и не “Саламандеры”. Я знал, что при моргах есть свои, местные ритуальные конторы, которые отстегивают какие-то деньги экспертам. И в нашем отделении такая контора имелась, правда, получать что-то от нее я стал через несколько месяцев после начала работы. Начальник, видимо, присматривался ко мне, и только когда понял, что я нормальный человек, рассказал мне о ситуации с ритуальными деньгами. Я уже говорил о Челябинском Бюро, где врачи раз или два в неделю выполняли санитарские обязанности, чтобы заработать, — все это было легально, врачей официально оформляли на какие-то должности в похоронной конторе и платили им «белую» зарплату. Мой начальник справедливо считал, что «надевать трусы на трупы» — дело, недостойное специалиста с высшим образованием, и в нашем отделении всю эту работу выполняли санитары. Однако с каждого выданного для захоронения трупа мы получали определенный процент, а так как количество выдаваемых трупов и стоимость услуг были всегда разные (последняя зависела от того, что заказывали родственники: если, к примеру, проводилась бальзамация, или реставрация, или еще что-то дополнительное, то цена увеличивалась), то наше вознаграждение не являлось стабильным, за день иногда выходили копейки, а иногда — месячная зарплата».
«Я не совсем понимаю — за что вам платили?»
«За лояльность, мой друг. Никакого криминала. Например, у меня в морге в этот день находится больше десяти трупов, но какой-то из них родственники хотят забрать как можно скорее, например, перевозят его в другой город или просто уже договорились с кладбищем, машиной, рестораном для поминок. А получить тело они могут только после вскрытия. Очередность исследования устанавливаю я сам и совершенно спокойно могу вскрыть этот труп последним, что, конечно, не выгодно похоронщикам, поскольку стоимость их услуг за срочную выдачу увеличивается почти вдвое. Вот они и просят нас вскрыть такой-то труп первым, или даже приехать до начала рабочего дня, или, наоборот, задержаться после работы, так как покойника привезут после обеда — во всех этих ситуациях эксперт может пойти навстречу, не нарушая никаких законов, но за вознаграждение. Поэтому похоронщики с нами дружили, а мы — с ними, ибо это было взаимовыгодное сотрудничество. Сами мы от родственников никогда денег не брали. Я, конечно, подозреваю, что в первые годы начальник делился со мной не поровну, а по справедливости, то есть большую часть оставлял себе, но я не обижался. Я всегда больше любых денег ценил человеческие отношения.
Кроме «премий» от похоронной конторы можно было поживиться всякой мелочью, которую в Бюро не выдавали, например, обычной бумагой для принтера, или хорошими перчатками, или точильным станком для инструментов. Да и что-то посерьезнее они тоже нам покупали, моя первая цифровая фотокамера была приобретена за их счет, за что я им очень благодарен.
Люди, работающие в ритуальном бизнесе, сродни коммивояжерам, их отличает настойчивость, иногда даже наглость и назойливость. Они хорошие психологи, способные уговорить клиента на оплату многих не нужных ему услуг. Увы, относительно этого бизнеса наиболее всего справедлива пословица «Не обманешь — не продашь». Тогда, лет двадцать назад, услуги похоронных агентов не были так развиты, как сейчас, всей процедурой похорон занимались сами родственники, которых и раскручивали по полной. Выбор гроба (от простого до глазетового, с кистями), венков, могилы и всяких аксессуаров, манипуляции с трупом (причесать, побрить, загримировать, забальзамировать и тому подобное) — все это и многое другое стоило дорого, и близким приходилось платить, а куда деваться? Вот с этих денег мы и получали процент. В конце рабочего дня наш санитар заходил в кабинет и передавал начальнику (а позже, когда он уехал, — мне) определенную сумму, которая, повторюсь, всегда была разной. Стыдился ли я брать эти деньги? Нет, конечно. В некоторые месяцы я вырабатывал до восьми ставок, а платили мне полторы, так зачем же отказываться от честно заработанного? Мы с похоронщиками просто помогали друг другу, и без дополнительного дохода не то что «Саламандеры» — простые брюки купить было бы проблемой.
Контора, обитающая в здании нашего морга, фактически являлась монополистом на рынке ритуальных услуг города, кроме нее имелась еще парочка мелких фирм, на которые никто не обращал внимания. И вот однажды эта ритуальная идиллия была разрушена. В город из Екатеринбурга приехала женщина, решившая создать еще одну крупную ритуальную контору, и ей это удалось. К тому времени мой начальник уже покинул пределы России, и я стал заведующим. В один из дней ко мне пришла видная дама, которая сразу же предложила сотрудничество. Ясно, что фирма, сидящая в морге, имеет неоспоримые преимущества — как минимум в части формирования клиентской базы, — и дама это хорошо понимала. Она предложила мне поменять нашу, местную контору на ее, сулила приличный процент и всяческие другие «плюшки», но я отказался. От добра добра не ищут, да и некрасиво разрывать отношения с людьми, сотрудничество с которыми было честным и долгим. Несмотря на мой отказ, конкурирующая фирма стала работать, причем начала довольно успешно. Видимо, найдя выход на диспетчеров «Скорой помощи», а может быть, и на дежурную часть ОВД, дама приплачивала нужным людям за оперативную информацию, и вскоре уже наши похоронщики столкнулись с неприятностями. Например, приезжая на труп, встречали там агента конкурентов, оформляющего договор на ритуальные услуги. Наши, привыкшие к роли монополистов, столкнулись с новой для себя ситуацией — трупы теперь буквально уходили из рук. И подобные случаи повторялись с завидной регулярностью, что сильно бесило нашего главного ритуальщика, который ругал предприимчивую даму на чем свет стоит. «Ну что, пора ее заказывать», — шутили и мы, и патологоанатомы, наблюдая за тем, как в очередной раз труп уплывает в другую контору. Так продолжалось несколько месяцев. Однажды зимой я пришел на работу и еще не успел раздеться, как мне позвонили из дежурки и сказали, что произошло убийство и сейчас за мной придет машина. Еще не было и девяти утра, когда мы прибыли на место, где уже находилась следственно-оперативная группа. По словам оперов, женщина около восьми утра вышла из подъезда своего дома и направилась к машине. Шла она мимо остановки общественного транспорта, на которой уже было много народа. В этот момент рядом остановился автомобиль. Из него вышел мужчина, спокойно приблизился к ничего не подозревавшей женщине и два раза выстрелил в нее из обреза практически в упор. Потом сел в машину и уехал. Все это случилось на глазах людей, стоящих на остановке. Женщина умерла на месте. К моему приезду она лежала в той же позе, в которой умерла, на левом боку, приведя колени к туловищу. Коричневая легкая дубленка закрывала лицо, из-под нее была видна черная короткая юбка, красивые капроновые колготки, сапоги на высоких каблуках. В районе груди по снегу вилась полоса протаявшего от крови снега, алели пятна от крупных брызг. Я приступил к осмотру. Откинув дубленку, увидел светлые волнистые волосы и лицо, сразу показавшееся мне знакомым. У меня плохая память на лица, но в тот раз я не сомневался: где-то я встречал эту женщину. Проверив карманы, нашел документы и в них прочитал фамилию убитой. Это была та самая дама, которая приходила ко мне с предложением о сотрудничестве, глава новой ритуальной конторы. Сразу вспомнились наши шуточки по поводу «заказа» конкурентки, но было совсем не смешно. Два огнестрельных дробовых слепых ранения в живот и грудь, как потом оказалось на вскрытии, превратили сердце и печень в бесформенные размозженные массы. Убийство однозначно носило заказной характер, тем более что, как сейчас принято говорить, интересант такого заказа, на первый взгляд, был ясен. Вернувшись в морг, я сразу отправился к нашему главному похоронщику — он уже пришел на работу, находился в прекрасном настроении и ничего пока не знал о случившемся. «На вызов сейчас ездил, — начал я. — Убийство. Угадай, кого убили?» Он понятия не имел и, когда я назвал фамилию, даже вначале не поверил, однако сел на стул и слегка позеленел. Представляю, что в этот момент творилось у него в душе. Как я и думал, впоследствии выяснилось, что он не причастен к убийству. Следы вели в Екатеринбург, где дама успела перейти дорогу многим людям, работающим в ритуальной сфере.
Ритуальные услуги — это «вечная тема» в бизнесе, такая как, например, платный туалет или пекарня: люди всегда будут ходить в туалет, есть хлеб и умирать, вне зависимости от уровня достатка, социального положения или политической ситуации в стране. Потому этот бизнес жестокий, не терпящий конкурентов. Сейчас он более или менее организован, а тогда в нем царил бардак. Я уже говорил, что похоронами занимались в основном родственники умерших, которые сами и получали «справку о смерти», и забирали тело. Где родственники, там и эмоции, и частенько мы с начальником садились обедать под крики, плач и вопли, а иногда и под похоронный марш. Обед у нас приходился часов на двенадцать, и как раз в это же время выдавалось основное количество умерших, среди которых были и ветераны, поэтому нередко трапезу сопровождал оркестр; окна же нашего кабинета выходили во двор, и мы все слышали.
Через пару лет Ольга Алексеевна по состоянию здоровья отошла от дел, и нам пришлось заниматься и приемом живых лиц, которые нескончаемой вереницей тянулись к нашему крыльцу. Всех этих живых можно было разделить на несколько категорий. Первые — те, кого присылала милиция. Они приходили с направлением или постановлением и часто не имели уже никаких повреждений, потому что с момента их получения прошло время.
Вторая категория — арестованные по подозрению в совершении какого-то преступления. Этих людей доставлял конвой, и их приходилось осматривать особенно тщательно во избежание будущих проблем. Некоторые из них были рецидивистами и умели писать жалобы в разные инстанции, вплоть до президента. Суть претензий они, как правило, высасывали из пальца, но отписываться потом приходилось очень долго.
И третья категория, самая многочисленная — люди, решившие «снять побои». Выражение «снять побои» прочно засело в головах народа, и по-другому никто эту процедуру не называл. Среди обращавшихся было множество женщин, которых били их мужья; они приходили за бумагой, подтверждающей наличие повреждений, для того чтобы попугать мужа. Почти все женщины считают, что подобный документ и обещание в следующий раз обратиться в милицию остепенит мужчину, он станет хорошим и добрым и прекратит распускать руки. Наивные! Человека не исправить такими бумагами. Да, вначале это работает, но совсем непродолжительное время. Редко встречается обратная ситуация, когда снимать побои приходит муж, получивший от любимой жены. Семейные конфликты составляли процентов восемьдесят от всех самотечных обращений, и виноваты в них были, как правило, оба члена семьи и водка.
В те годы на автовокзале, где располагался большой стихийный рынок, открыто продавались такие «благородные напитки», как «Льдинка» или «Снежинка». Это пойло можно было купить в самой разнообразной таре: и классические поллитровки, и «мерзавчики», и «шкалики» — любой каприз для джентльменов, ценителей прекрасного. В целях формального соблюдения закона на бутылках стояла строгая надпись: «Только для наружного применения», однако протирать этой жидкостью какие-то поверхности никто не собирался. Умирали от нее люди часто, но цена была уж больно низкая, а содержание спирта — высокое, поэтому такие «напитки» всегда пользовались спросом. После введения запрета на продажу спиртсодержащих жидкостей горожане, мучимые жаждой в ночное время, всегда могли приобрести искомое в специальных квартирах или в каком-нибудь частном доме. Все прекрасно знали такие места; постучав условным стуком и протянув руку с деньгами, там можно было купить самогон, причем в любом количестве. Если, к примеру, страждущему хватало мелочи только на полстакана, то он ровно полстакана и получал. В долг в таких ночных магазинах почти не давали — разве что по знакомству».
«Пили, получается, много?» — поинтересовался я.
«Ну, я же вам говорил, что в городе было четыре колонии, а остальное — шахты. Что делать после смены шахтерам? Театра нет, как справедливо возмущался инженер Талмудовский в «Золотом теленке». О сидельцах и говорить не приходится: «украл — выпил — в тюрьму!». О том же, как пьют шахтеры, еще Зощенко писал. А тут такой симбиоз… Как-то мы выехали на труп — старушка, божий одуванчик, умерла прямо на улице, по пути с рынка домой. В сумке у нее, как сейчас помню, лежали половина палки вареной колбасы и две двухлитровые пластиковые бутылки пива — так называемые «соски». На ужин, наверное, купила.
В рабочих поселках, бывало, дети начинали пить с младшего школьного возраста, я сам таких неоднократно видел. Годам к шестнадцати это был уже сформированный алкоголик, который давно не учился в школе и нередко имел срок по малолетке; жизненный путь этого подростка ясно читался на его лице. Иногда такие ребятки объединялись в компании и либо воровали что-то, либо убивали бомжей забавы ради. Другая крайность — старички, которые иногда и ходить-то не могли, но выпивали. Бывало, привезут такого — лежачий, мышцы все атрофировались, пролежни, вонища, нередко опарыши, однако алкоголь в крови присутствует, и в немалом количестве. Выясняется, что в квартире происходила пьянка и инвалиду тоже наливали — а как же, не обижать же старика. Вот такие чудеса.
Расскажу самый жуткий случай. Дело было как раз в таком заброшенном, забытом Богом поселке. Мы туда приехали на какого-то бомжа, долго искали адрес — там ведь ни названий улиц, ни номеров домов нет. Наконец нашли. Покойный действительно выглядел как бомж, но при этом был местным жителем, конечно, безработным. Нашли его в домушке, где он жил с семьей — женой и двумя детьми лет семи и двенадцати от роду. В доме давно отключили электричество, поэтому труп пришлось осматривать при помощи фонарика, но даже его тусклого света оказалось достаточно для того, чтобы увидеть: из груди мужчины торчал нож. На столе в комнате стояла полупустая бутылка какого-то пойла, лежал хлеб, что-то из еды, и было понятно: убийство произошло, как это часто бывает, в процессе пьянки. Пока мы осматривали труп, опера взяли убийцу. Им оказался старший сын убитого, мальчик лет двенадцати. Он был сильно пьян и рассказал, что, пока дома не было матери с младшим сыном, они с отцом вместе выпивали — мальчик считал это совершенно нормальным. Как водится, за распитием алкоголя возникла какая-то ситуация, оскорбительная для одного из собутыльников, которая почти всегда приводила к стандартному итогу: один отправлялся на кладбище, другой — в тюрьму. В тюрьму шел тот, кто успевал первым схватить нож. В данном случае победила молодость. Ребенок, который совсем недавно убил собственного отца, выглядел вполне спокойным, уверял, что это было «за дело», и не сомневался в своей правоте. Рассказ свой он вел с использованием преимущественно матерных слов, совершенно не стесняясь окружающих. Несмотря на юный возраст, его дальнейшая жизнь казалась понятной. Этот человек уже конченый, и ничто не могло его исправить. Если же он дожил до взрослого возраста и обзавелся детьми, то и их судьба, с большой долей вероятности, совершенно ясна».
«Как-то слабо во все это верится, — пробормотал я. — Вы не лукавите?»
«Не склонен к этому. Вы видели наверняка фильмы о параллельных мирах? Так вот, их не нужно придумывать — они есть, и относительно недалеко, и там тоже живут люди. Как могут, так и живут. Я встречал семьи, в которых дети являются источником дохода. То есть люди знают: если у них будет ребенок, то они сумеют получить на него пособие, на пособие купят сахар и поставят брагу. Чем больше детей — тем больше пособий, и тем больше выпивки. А дети эти потом растут сами по себе, в школу не ходят, получают, так сказать, уличное образование со всеми вытекающими. Например, у девочки лет четырнадцати может быть уже несколько абортов, причем выполненных в частном порядке. А годам к тридцати — если она доживет — куча детей, еще больше абортов и часто полный букет венерических заболеваний. Когда подобные дамы приходили на освидетельствование по половым делам, приходилось дышать через раз, а после их ухода еще долго проветривать помещение».
«То есть вы выполняли и работу гинеколога?» — уточнил я.
«Нет, конечно. Мы смотрели потерпевших только снаружи, если можно так выразиться. Как правило, женщина приходила уже с направлением или постановлением из полиции, редко сама. Поводом для визита и к нам, и в полицию служило или реальное изнасилование, или просто обида на мужчину. Вначале с женщиной беседовали, выясняли все обстоятельства случившегося, и если с взрослой дамой можно было говорить открыто, то при разговоре с несовершеннолетними, особенно с ребенком, приходилось туго, ведь вопрос «Закончил ли тот дядя половой акт?» ребенок не поймет. Следовало как-то выкручиваться, подбирать слова. Обстоятельства выяснялись максимально подробно: женщин спрашивали о том, сколько раз произошел половой акт, был ли он защищен, куда закончил партнер, имелись ли, помимо вагинальных, оральный или анальный контакты, и много чего другого. Так же собирался гинекологический анамнез — от даты первой менструации до количества беременностей и родов. Сами понимаете, темы деликатные, поэтому эксперт, как и любой другой врач, должен был внушать доверие к себе, уметь расслабить пациента, прийти с ним к взаимопониманию.
После того, как анамнез собран, начинается осмотр, который неизменно сопровождается полным обнажением освидетельствуемого. Делать это нужно обязательно, даже если женщина говорит, что у нее нигде повреждений нет. Ведь, во-первых, она сама не всегда знает, где у нее повреждение, и во-вторых, она в дальнейшем может предъявить претензию о том, что ее осмотрели не до конца. Поэтому осмотр проводится столь тщательно. Все обнаруженные повреждения описываются — принцип описания повреждений у трупа и у живого человека один и тот же, — и только потом женщину смотрят на кресле. Мне попадались (правда, всего дважды) случаи самоповреждений. Оба раза женщины желали посадить мужчин за якобы имевшее место изнасилование. Только они, имея очень отдаленное представление о том, как выглядят повреждения при реальном изнасиловании, обычно идут на хитрость — травмируют себя сами, причем всегда однотипно. По одному внешнему виду следов опытный эксперт сразу поймет, что они остались от руки пострадавшей. Смешно в таких ситуациях слушать выдуманный рассказ, изобилующий, как правило, страшными яркими подробностями вперемешку со слезами и другими приемами, призванными вызвать у эксперта жалость и тем самым снизить его бдительность.
На гинекологическом кресле осмотр происходит так: вначале осматривается область половых органов, если есть какие-то повреждения, то они описываются, если есть какие-то наложения (например, крови или спермы), то они изымаются на марлю, смоченную дистиллированной водой. После исследуются преддверье влагалища и девственная плева. Нередки случаи изнасилования подростков, которые до этого не жили половой жизнью. Из преддверья влагалища тоже берутся мазки, и женщина направляется к гинекологу для более глубокого осмотра. Так как у нас нет сертификата по гинекологии, то и осматривать, например, в зеркалах, мы не имеем права. Только то, что снаружи. Именно после таких визитов нашей лаборантке порой приходилось долго проветривать кабинет, а иногда даже жечь вату, которой были заткнуты щели в оконных рамах. Вонь от тления этой столетней ваты перебивала всякие другие запахи.
Бывало, что по «половым вопросам» приходили и мужчины — как правило, зачуханные полуалкоголики, изнасилование которых явилось результатом пьянки в сугубо мужской компании. Сколько помню такие истории — никогда они до суда не доходили, заявитель по какой-то причине забирал заявление. Однако осмотр мужчины ничем не отличался от осмотра женщины, с той лишь разницей, что на кресле его не смотрели.
А однажды произошел такой случай. В кабинете раздался звонок. Я снял трубку, и знакомый следователь, давясь от смеха, сказал: «К тебе на освидетельствование идет такой-то мужчина, смотри, громко не смейся!» Через некоторое время действительно пришел мужичок лет сорока. Походка его была неуверенной, казалось, каждое движение давалось ему с трудом. Расспросив его, я узнал о том, что его частенько побивает жена, однако сейчас ее нет — уехала на недельку в командировку. На теле у мужчины и правда обнаружилось несколько старых кровоподтеков, но примечательно было другое. Под обычными трусами он носил какое-то приспособление. Оно состояло из жесткого каркаса, изготовленного из плотного гибкого шнура, к которому крепился мешочек из ткани типа плащевой, используемый в качестве еще одних трусов. На передней его поверхности имелось отверстие с обметанными краями. Мешочек пах мочой. Каркас приспособления застегивался на маленький кодовый замочек, так что снять всю конструкцию не представлялось возможным. Это был «пояс верности», изготовленный в домашних условиях человеком, не лишенным фантазии. Мужчина объяснил, что жена всегда надевала на него этот пояс, потому что очень ревновала и не доверяла ему. Я такого не видел ни до, ни после. Самое интересное, что пришедший воспринимал факт такой заботы о себе совершенно нормально, как само собой разумеющееся. Если бы этот девайс не натер кожу и не началось воспаление, он так в нем и ходил бы до приезда жены».
«Мда… Есть женщины в русских селеньях», — пробормотал я.
«И еще какие, — согласился эксперт. — В одном из рабочих поселков жила женщина по имени Валентина. Она держала в страхе весь поселок. Муж ее погиб на шахте много лет назад, детей не было, и Валентина спасалась от одиночества, распивая с мужиками алкоголь в свободное от работы время. Работала она, как и ее муж, на шахте, но не в забое, конечно, — сидела на проходной. Силой и наглостью обладала неимоверными— запросто могла «наехать» на мужчину, а то и на двоих, избить, да так, что нередко после ее кулаков люди лежали в больнице. По ночам Валентина торговала водкой, и довольно успешно. Неоднократно на нее жаловались в милицию, и даже пару раз писали заявления, однако как-то быстро забирали их, и все оставалось по-прежнему. В поселке ее реально боялись, знали, что любому словесному спору она предпочитает хороший удар по голове. Умерла она лет в сорок пять, и как-то глупо. Среди ночи к ней постучался какой-то дядя в поисках выпивки, но дядя был не местный, не знающий, с кем имеет дело, — ему просто сообщили адрес, по которому можно купить водки, он и пришел. Неизвестно, из-за чего возник конфликт, скорее всего, мужчину не устроила цена, и Валентина, по своему обыкновению, решила закончить спор быстро — вышла из дома и крепко шарахнула мужичка табуреткой по голове. И в ответ получила пулю из травмата. Травматические пистолеты тогда еще не были распространены, и Валентина, конечно, не ожидала «такого вот конца». Пуля попала в глаз, пробила заднюю стенку глазницы и повредила головной мозг, смерть наступила на месте. Мужчина же почти две недели пролежал в больнице с сотрясением мозга. Задержали его довольно быстро: соседи слышали выстрел и вызвали милицию, а сам дядя никуда и не убегал, поскольку чувствовал себя, мягко говоря, нехорошо. Валентину исследовали в нашем морге, и скажу, что это была женщина в мужском теле. О ее принадлежности к «слабому» полу свидетельствовали только органы, свойственные женскому организму.
Знаете, что я понял через несколько лет работы, после исследования нескольких тысяч трупов, освидетельствования множества живых людей, чтения огромного количества медицинских документов?»
«Что же?»
«В жизни возможно все, и чудес на свете не бывает. Даже если что-то кажется невероятным, это может случиться. Вы, конечно, знаете эту пошлую поговорку: «Пострадавший поскользнулся, упал на нож, и так десять раз». Используется она в саркастическом смысле тогда, когда на теле самоубийцы находят более одной раны. На самом деле и десять, и даже больше ран человек способен нанести себе сам — в зависимости от обстоятельств. Самоубийца, находящийся в сильном эмоциональном волнении, иногда в состоянии алкогольного опьянения, может существенно травмировать себя, правда только одна или две раны будут смертельными. Люди же со стороны, видя массовые повреждения, справедливо засомневаются в их самопричинении. В литературе описаны случаи множественных самоповреждений, каждое из которых могло бы быть смертельным. Например, солдат с целью самоубийства вначале два раза выстрелил себе в голову из карабина, а потом еще три раза в грудь, и только потом умер. С точки зрения судебной медицины, анатомии и физиологии все объяснимо, но для людей «не в теме», конечно, картина выглядит ужасно».
«Простите, — перебил я эксперта, — но как это возможно?»
«Видите, у вас классическая реакция — неприятие факта. Наши знания о смерти базируются на книгах и особенно на фильмах. Это только в кино человек, получивший какое-то ранение, мгновенно падает и умирает. На самом деле даже при повреждениях, не совместимых с жизнью, смерть редко наступает в течение нескольких секунд, как правило, процесс умирания гораздо длиннее. Вот и в моем примере при выстреле в голову были травмированы только лобные доли головного мозга, а при таких ранениях пострадавший нередко даже выздоравливает без последствий. Ранения в грудь сопровождались лишь повреждением легких, за исключением последнего — оно задело сердце, после чего и наступила смерть.
Человек «на взводе» может перерезать себе горло от уха до уха, и рана будет глубиной до позвоночника — такие случаи я сам исследовал неоднократно. Психически больные люди вбивают в собственную голову до нескольких десятков гвоздей, отпиливают или отрубают себе голову и делают еще много всяких жутких вещей, таких, что со стороны это будет однозначно казаться убийством. Описан случай, когда один сельский мужичок решил покончить с собой. Для этой цели он перерезал себе вены на руках, но кровь свернулась, и он решил повеситься, однако веревка порвалась. Мужчина выбежал во двор и бросился в колодец. Пока летел, получил открытую черепно-мозговую травму, ударившись о бетонное кольцо, затем упал в воду, откуда его и извлекли. При исследовании на трупе были обнаружены глубокие резаные раны на руках, странгуляционная борозда на коже шеи, открытая черепно-мозговая травма и признаки утопления. Утопление и явилось причиной смерти, но вид трупа был ужасен и не вызывал сомнений в убийстве; если бы не многочисленные свидетели произошедшего, сыщикам пришлось бы поломать голову.
Кроме всего прочего, самоубийцы, используя нож, нередко вначале примериваются, пробуя остроту лезвия и оценивая свои болевые ощущения, и лишь потом наносят роковой удар; таких примерочных ран может быть несколько, иногда — много, но к смерти они отношения не имеют, располагаются поверхностно, часто не глубже кожи. Ваш брат журналист, однако, подаст информацию так: «…Был обнаружен труп Пупкина с двадцатью колото-резаными ранами, полиция считает приоритетной версию самоубийства». Как должен воспринимать такое сообщение обыватель? Конечно, с недоверием, он ведь не знает о том, что девятнадцать ран вообще ни при чем и смерть наступила от одной, последней.
Так что да, в жизни все возможно…»
«А что насчет чудес, которых не бывает?» — заметил я.
«Их действительно нет. Но я имею в виду чудеса в житейском смысле. Объясню. Например, на трупе есть входная пулевая рана, а выходной нет. Значит, пуля где-то в теле, верно? Ищет эксперт пулю, ищет час, два, три, но найти не может. Что это означает? То, что эксперт плохо ищет и ищет не там, где нужно. Пуля не может чудесным образом исчезнуть из организма, она не может раствориться в нем, ее просто надо найти. Случалось, когда и я был готов уже бросить поиски, списать отсутствие пули на необычные обстоятельства, правда, не понимая, как я буду их в дальнейшем объяснять, но пуля (которая, как известно, дура) всегда находилась, часто в неожиданных местах: за зубами, в позвоночном канале, в пазухе верхней челюсти, в просвете кишки.
Или исследует эксперт колото-резаную рану, от которой идет раневой канал, и видит, что есть несоответствия в локализации кожной раны и повреждений внутренних органов, как будто было несколько ранений, но так ведь не бывает. И неопытный эксперт (ваш покорный слуга) ломает себе голову, придумывает версии — одну глупее другой, а требуется просто поднять трупу руку, и тогда все повреждения оказываются на одной линии. Никаких чудес, просто в момент причинения ранения руки человека были подняты. Почти всему есть логическое объяснение».
Я отметил про себя это «почти» и спросил:
«Вы рассказывали о самоубийцах. Я вот никогда не понимал таких людей. Как может человек добровольно лишать себя жизни? Не все же они психически больные?»
«Мы же с вами сегодня разговариваем предельно откровенно, не правда ли? Даже на такую полузакрытую сейчас тему, как самоубийства. Я не могу ответить вам кратко, это сложный вопрос. Понять самоубийц можно, но не всех. Когда-то, очень давно, люди добровольно лишали себя жизни, как только чувствовали, что стареют, не желая обременять родных. Самоубийцы любят говорить о свободе выбора времени и способа смерти, не ожидая конца, который им преподнесет судьба. Но разве это свобода? Я думаю, что все самоубийцы делятся на две категории: те, кто действует спонтанно, и те, кто идет к самостоятельному лишению жизни осознанно и планомерно. На самом деле психологи выделяют гораздо больше категорий, но это все психологические тонкости, не для меня.
Представителями первой категории движет порыв, секундная слабость, эмоции, вызванные каким-то душевным потрясением, на фоне усталости, раздражения или депрессии. Если такие люди (как правило, молодые) переживают эту критическую секунду, этот порыв покончить с собой, то потом они смеются над своей глупостью и удивляются, как подобное вообще могло прийти им в голову. Спонтанные самоубийцы чаще выбирают такие способы прекращения жизни, которые не дают возможности передумать, например, падают с большой высоты. Я предполагаю, что у большинства из них во время короткого полета вниз желание убиваться пропадает, но сделать уже ничего нельзя. Заморачиваться с более сложными способами суицида и даже писать предсмертную записку им некогда. Известны случаи, когда человек, находясь в сильном душевном волнении, решал уйти из жизни, но пока писал записку, решимость его ослабевала, и, наоборот, возникало чувство отвращения к этой идее. Таких самоубийц, действовавших спонтанно, особенно жаль. Живя не в пустыне, среди людей, они, тем не менее, не смогли справиться с эмоциональным порывом, не сумели, может быть, просто с кем-то поговорить, не оказалось рядом человека, который словом смог бы предотвратить преждевременную смерть. Издержки глобализации — человек может жить в миллионном городе, иметь сотни тысяч подписчиков в соцсетях и при этом оставаться одиноким.
Часто спонтанные самоубийства случаются после семейных ссор детей с родителями или родителей между собой, и родственники погибшего потом судачат: надо же, никогда бы не подумали, что человек способен на такое. Все правильно — он и не был способен, это просто трагическое стечение обстоятельств. Кто из нас хоть раз в жизни не помышлял о самоубийстве? Такие мысли лезут даже в голову ребенка, когда он обижен на родителей; об этом на секунду задумываются и взрослые в минуты усталости, безденежья. Однако природа человеческая такова, что, как правило, дальше мыслей дело не идет. Самоубийства этой категории полностью предотвратимы, для этого просто людям следует быть терпимее, спокойнее и внимательнее друг к другу».
«Вы думаете, этого достаточно?» — не без ехидства спросил я.
«Абсолютно, — кивнул эксперт. — Вспомните себя: как часто вы бывали внимательны к окружающим вас людям? Я говорю не о родных. К людям, которые едут с вами в одном вагоне метро, идут по улице. Какие-то из них нуждаются в помощи, и это заметно. Например, если вы видите неподвижно сидящую женщину, долго смотрящую в одну точку, вы можете поинтересоваться у нее, все ли с ней в порядке. Или если замечаете человека, который явно не знает куда идти, смотрит по сторонам, пытается сориентироваться, вы можете подойти к нему и предложить помощь. Из таких мелочей и складывается здоровая атмосфера в обществе в целом.
А дети? Сколько случаев, когда родители отругали ребенка за плохие оценки, он ушел в свою комнату и шагнул в окно. Или в школе задали сразу много, а ребенок, сочтя эту задачу невыполнимой, совершил суицид. Дети сейчас вообще более инфантильны, воспринимают все очень остро, и взрослые должны чувствовать это в ребенке и где-то словами, где-то интонацией, где-то действиями не доводить ситуацию до необратимой».
«Вы-то сами именно так и поступаете?» — опять вставил я.
«Я стараюсь. — Эксперт опять посмотрел на меня строго и как-то так, будто видел насквозь. — Я не идеален, но стараюсь относиться к людям так, как хотел бы, чтобы они относились ко мне. Несколько лет назад я ехал в лифте — возвращался после работы, задержался часа на четыре, устал как собака. Вместе со мной в лифт зашел парень лет двадцати пяти. Я поздоровался. Он как-то удивленно посмотрел на меня, и было в его взгляде что-то такое бесконечно тоскливое, что я автоматически спросил: «Все ок?» Парень неуверенно пожал плечами и ничего не ответил. Я сказал: «Что бы ни произошло сегодня, завтра обязательно будет лучше». Он горько усмехнулся и спросил: «Вы оптимист?» Мы разговорились, вышли вместе на моем этаже и еще минут тридцать стояли на площадке. Оказалось, что он поругался с девушкой, которую любил всю жизнь, она от него ушла, и он ехал на верхний этаж для того, чтобы выпрыгнуть из окна, ибо жизнь его кончена. Я рассказал ему пару историй из своей общаговской жизни, и к концу нашего разговора он включил телефон, с которого уже успел отправить прощальное сообщение девушке и друзьям, позвонил приятелю и договорился, что сейчас к нему приедет. Порыв был остановлен, и я уверен, что попытки самоубийства у него уже не будет. Возможно, он теперь уважаемый человек, имеет семью и детей и совсем не помнит о том, что тогда находился в шаге от глупого и рокового поступка».
«Хорошо, а представители второй категории по вашей классификации?» — спросил я.
«А вот эти люди иногда — большие затейники. Многие из них, конечно, заканчивают свою жизнь банально — в петле, прыгая с высоты или под поезд, режут себе вены или травятся лекарствами. Но некоторые, уже приняв решение уйти из жизни и осознав его, включают фантазию. По какой-то причине их совсем не устраивают проверенные поколениями способы самоубийства, и они вносят в них что-то свое, или даже изобретают собственные, уникальные. Например, во время моей интернатуры рабочий металлургического комбината написал записку, в которой рассказал о невозможности жить в одной стране с Гайдарами и Чубайсами, и каким-то образом прыгнул в расплавленный металл. Можете представить, что нам привезли на вскрытие? Кстати, именно люди этой, второй категории, оставляют предсмертные записки (хотя далеко не всегда). Иногда они довольно краткие и лаконичные, написанные непосредственно перед самоубийством, например: «В моей смерти виноват сын. Он меня избил до такой степени, что я не могу жить. Сожгите тело», а иногда — многостраничные послания, адресованные разным людям, с рассуждениями о смысле жизни и ее никчемности, с напутствиями родственникам».
«А вам предоставляют такие записки?» — уточнил я.
«Да что вы! — усмехнулся эксперт. — Нет, конечно. Мы узнаем об их содержании, если они вписаны в протокол осмотра трупа, или в том случае, когда на месте происшествия некачественно осмотрены карманы одежды погибшего, и такую записку находим уже мы в морге. Тогда записка упаковывается в конверт, опечатывается и передается следователю. Читать такие послания всегда интересно и немного жутко — ведь ты понимаешь: человек, писавший это, знал, что его ждет. Иногда он объясняет мотивы ухода из жизни, иногда ограничивается словами прощания. Кстати, в наше время предсмертная записка часто пишется не на бумаге, а на компьютере или на телефоне и отправляется электронным письмом или СМС-сообщением тому, кому адресована».
«Расскажите какие-нибудь интересные случаи самоубийств», — попросил я. Мне почему-то казалось, что и сам эксперт не против поделиться своими наблюдениями.
«Если вас интересует экзотика, то пожалуйста, — кивнул доктор. — Еще в относительно старой судебно-медицинской литературе описан оригинальный способ, которым мужчина лишил себя жизни. Для этого он сконструировал домашнюю гильотину — в инженерном плане довольно добротную. Он мастерил ее долгое время, проводил эксперименты на чурках, рассчитывал высоту, на которую следовало поднять нож для гарантированного отделения головы, и вес ножа, а также соорудил спусковой механизм, который можно было привести в действие, лежа на полу. Затея его увенчалась успехом: голова отделилась от тела за одно падение ножа. Я с подобными выдумками не встречался, но кое-что оригинальное и мне попадалось.
Один молодой мужчина внушил себе, что он ВИЧ-инфицирован. Многочисленные анализы, которые он сдавал по настоянию родственников, постоянно давали отрицательный результат, но нисколько не разубеждали его. Мнительность достигла максимального предела, боязнь смерти от СПИДа полностью завладела молодым человеком, и он принял решение не ждать позорного конца, а решить эту проблему кардинально и сразу. Для этого он взял электрический двужильный провод, один конец сунул в рот, другим обмотал половой член и воткнул провод в розетку. Почему был выбран именно такой способ — остается только догадываться. Если поиграть в психолога, то можно предположить, что свое якобы заражение ВИЧ-инфекцией он связывал с какой-то случайной сексуальной связью и решил наказать именно «виновника» своей беды. Применение электрического тока самоубийцами — не редкость, но для замыкания цепи они обычно используют руки или руку и ногу, а подобное расположение контактов я видел лишь однажды.
Еще к экзотике я отнес бы такой способ самоубийства, как перерезание себе горла. Бытует мнение, что сам человек неспособен сделать это. Однако будучи в возбужденном состоянии, самоубийца может перерезать себе горло бритвой или ножом от уха до уха так, что рана будет глубиной до позвоночника. Глядя на такую травму и не зная обстоятельств, можно легко заподозрить вместо суицида убийство, и только по некоторым незначительным признакам опытный эксперт отличит одно от другого. Хотя и эти признаки непостоянны. Например, почти в каждом случае самоубийства с применением острого предмета человек обнажает область тела, в которую наносит удар. Объясняется это просто: самоубийца должен видеть, куда вколоть нож, чтобы гарантированно попасть в жизненно важный орган, — как правило, в сердце. Кроме того, самоубийца очень редко наносит один удар, обычно он примеривается, делая несколько пробных поверхностных вколов — чтобы, во-первых, ощутить боль и смириться с нею, и, во-вторых, рассчитать силу удара. Так вот, однажды я столкнулся с нестандартным случаем. К нам доставили мужчину с ножом в груди; удар был нанесен через одежду и являлся единственным, попавшим прямо в сердце. Если бы не видеозапись с камеры видеонаблюдения, крайне трудно было бы квалифицировать этот случай по роду смерти. На кадрах хорошо просматривалось, как человек взял нож, прислонил острие к груди в проекции сердца, подошел к стене, уперся рукояткой ножа в стенку и как бы насадился на лезвие. Такие случаи бывают крайне редко.
Падение с большой высоты тоже можно разнообразить. Как-то раз к нам привезли труп молодого человека, который выпрыгнул из окна подъезда высотного дома. Из найденной в кармане его куртки записки следовало, что он долго выбирал место для самоубийства, проверял несколько адресов и в итоге остановился на этом. Причина самоубийства осталась неизвестной, но интересно было другое: молодой человек скотчем к своей шее прикрепил две большие петарды типа «римской свечи» и перед падением поджег фитили. Для чего он это сделал — неведомо, но летел он, по словам свидетелей, очень красиво, с красным и зеленым пламенем с двух сторон».
«А как вы думаете, — спросил я, — эти люди сумасшедшие?»
«Однозначно, какие-то психические изменения у них имеются. Можно понять неизлечимо больного раком, который испытывает невыносимые постоянные боли, не купируемые ничем, даже наркотическими анальгетиками. Такой человек уходит из жизни по объяснимой причине — он хочет избавиться от боли и применяет для этого обычные, распространенные способы. Другое дело — подобные примеры с фейерверком. Наверное, самоубийца пытается хотя бы так заявить о себе. Жаль этих людей — они при жизни были недооценены.
Люди же, действительно имеющие психические заболевания, иногда вытворяют с собой жуткие вещи — не только забивают гвозди в собственную голову, о чем я уже говорил, но и сжигают себя заживо, тампонируют себе дыхательные пути всякими тряпками… Больные».
«То есть вам их все-таки жалко?»
«Бывает и жалко. Бывает и смешно. Бывает и очень смешно, как в том случае падения с петардами. Санитары у нас весельчаки, выдвигали версии — одну другой забавнее. Наверное, это черный циничный юмор, но оправдывает нас то, что шутки эти произносятся определенными людьми и в определенном месте, в автобусе никто на эту тему шутить не станет».
«Вам не нравится черный юмор?» — удивился я.
«Ну почему же? Нравится, — улыбнулся доктор. — Мы можем в секционном зале даже, извините, поржать над некоторыми покойниками, вернее, над обстоятельствами их смерти. Как относиться к человеку, который решил застрелиться, приставил пистолет к подбородку снизу вверх и нажал на спусковой крючок, но в момент нажатия внезапно передумал, о чем сам потом признался на допросе? Рука дрогнула, и пуля снесла весь лицевой череп, почти не задев мозговой. Он даже не потерял сознание. Домашние, прибежав на выстрел, увидели такую картину: мужчина стоит на коленях посреди комнаты, вместо лица у него — кровавая каша, и такая же каша, состоящая из мягких тканей, отломков костей лицевого черепа, хрящей носа, глазных яблок и языка живописно размазана по потолку и стенам. Бедолагу доставили в больницу, где он через пару суток и скончался, успев, однако, дать какие-никакие показания. Естественно, что, узнав такие обстоятельства, мы в секционном зале смеялись. Но в морге этот смех органичен и как-то естественен. Если же черный юмор публичен и подается людьми, не имеющими к теме никакого отношения, то мне это не нравится, да и шутки эти в основном неостроумны и пошлы.
Но чаще всего жалко бывает живых. Расскажу один из самых страшных случаев в моей практике. В рабочем поселке убили целую семью — мать и двух девочек-погодок, семи и восьми лет. Семья собиралась покупать автомобиль, у них имелись деньги, и убийство было совершено явно по наводке, только вот убийцы не знали, что денег уже в квартире нет, их забрал отец для того, чтобы то ли в банк положить, то ли спрятать у знакомых, не важно. Девочек перед смертью пытали — наверное, чтобы мать указала на место, где деньги спрятаны. Словам женщины о том, что их в доме нет, не верили. У обеих девочек на головах были целлофановые пакеты, которые затягивали и отпускали много раз, на телах — множественные поверхностные ножевые раны. В конце концов, так ничего и не получив, всех троих зарезали. Можно представить себе весь ужас, который испытывала мать, видя, как медленно убивают ее маленьких детей. Но страшнее другое. Тела обнаружил муж женщины, отец девочек. Он рассказал, что когда зашел в квартиру (а уже опустились сумерки), подумал: зачем жена покрасила пол? Пол был ровного темно-красного цвета. И лишь потом, пройдя несколько шагов внутрь, он понял, что это не краска — он весь залит кровью. Я не хочу даже рассказывать о том, что с ним было, словами это не описать, но и забыть невозможно. Это к вопросу о смертной казни — я лично убил бы этих нелюдей, и рука бы не дрогнула».
Я молчал. Мне привиделась комната в квартире, на полу которой лежали три тела — женщина и двое детей, девочек. На одной из девочек был надет смешной желтый комбинезон с изображением довольного зайца, на другой — спортивный костюм серого цвета и розовые носочки. На головах у девочек — серые полупрозрачные целлофановые пакеты, затянутые узлом на шеях, одежда залита кровью, спортивная кофта на одной из них задралась, и на груди чернели множественные веретенообразные раны. Я подумал: что видели дети через мутный целлофан перед смертью? Наверняка, они видели свою мать, слышали ее крик и кричали сами, не в силах ничего изменить. В какой-то момент мне показалось, что я даже почувствовал запах крови.
«Кровь пахнет по-разному, — вдруг вставил эксперт. — Я могу по запаху отличить кровь, которая, например, шла носом, и кровь, которая излилась при ножевых или огнестрельных ранениях. Иногда даже на месте происшествия, еще не подходя к трупу, можно заподозрить насильственный характер смерти. Кроме того, по запаху крови бывает понятно, что человек в момент смерти был пьян. Кровь, в которой есть алкоголь, имеет тягучий, несколько сладковатый запах, который навсегда остается в памяти эксперта, как только он его для себя определит».
«А запах горького миндаля?» — почему-то вспомнил я рассказы Агаты Кристи.
«Да, такой запах присутствует при отравлении цианидами, синильной кислотой. По крайней мере, так пишут. Сам я никогда не встречался с подобными отравлениями. Знаете, это только в книгах людей травят какими-то хитрыми ядами, на самом же деле отравления почти всегда банальны: алкоголь, наркотики, медикаменты, угарный газ. Бывают, конечно, исключения — как-то к нам привезли мужчину, который на работе выпил концентрат для производства лимонада. Помните, были такие напитки на любой цвет, которые ничего общего не имели с настоящим лимонадом? Для их приготовления химический концентрат разбавляли водой и добавляли углекислый газ — дрянь редкостная, но в девяностых пили ее за милую душу. Так вот, мужчина этот, видимо, в похмелье, хватанул изрядную дозу такого концентрата и помер. Когда я его вскрыл, морг наполнился ароматом напитка «Буратино». Нет, не «Колокольчика»… — Эксперт вновь улыбнулся, уловив мои мысли. — И этот запах стоял в помещении несколько дней».
«Вы, наверное, после этого не можете пить лимонад?» — поинтересовался я, хотя почти наверняка знал ответ.
«Вот еще, — ответил доктор, — я не из тех, кто может находиться под впечатлением долгое время. Ну, выпил человек концентрат, ну умер — с кем не бывает».
«Я у вас еще хотел спросить о врачебных делах — вы же знаете, что в последние годы их стало много? Вам приходилось делать подобные экспертизы?» — спросил я.
«Конечно, приходилось. Я вам скажу вот что. По моим прикидкам, как минимум половины всех так называемых врачебных дел можно избежать одним простым способом».
«Каким же?»
«Все очень просто: врач должен сопереживать пациенту, сочувствовать ему, выступать в роли лекаря, а не медицинского работника. Половины всех тех дел, которые связаны с жалобами на врачей, не было бы, если бы врач вел себя как человек, а не как трамвайный хам. Люди в сложных ситуациях ищут в больницах помощи, которая заключается не только в таблетках и уколах, но и в добром слове, в человеколюбии».
«Опять это слово, — невольно подумал я. — Не слишком ли много значения придает этому доктор?»
«Да, именно, в человеколюбии, — продолжал эксперт. — К сожалению, врачи сейчас, после всех реформ, убивших медицину, не лечат, а оказывают медицинские услуги, которые не предусматривают таких мелочей, как сострадание и сочувствие. Нельзя сострадать за деньги, а бесплатно делать это почти разучились. Знаете, я, особенно в последние годы, нередко представлял себя в роли клинициста, ежедневно общающегося с пациентами, и думал, смогу ли выжить в условиях современной медицины. И понял: нет, не смогу. Или должен буду стать частью системы, что для меня неприемлемо. Читая показания потерпевших по таким делам, часто обращаешь внимание на то отчаяние, с которым люди пытаются достучаться до врача. Например, женщина просит врачей перевезти ее пожилую мать на лечение в областной город, где, по ее мнению, матери окажут более квалифицированную медицинскую помощь. Врачи отказываются это делать, понимая, что женщина нетранспортабельна, и вместо того чтобы объяснить все дочери, грубо просят ее не мешать им работать. Больная вскоре умирает, и исход этот был неизбежен в той ситуации, но дочь покойной подает в суд на больницу из-за неоказания медицинской помощи. Конечно, никакой судебной перспективы в данном случае нет, и врачи не виноваты в смерти женщины, но потребуются несколько месяцев напряженной работы судебно-медицинских экспертов, множественные консультации и помощь адвокатов для того, чтобы это установить. Не говоря уже об уничтоженных нервах дочери умершей. Если бы с самого начала врачи повели себя по-другому, не было бы ни иска, ни суда, ни всего остального.
Или другая история. Молодой человек поступает в больницу с жалобами на боли в животе, говорит, что болеет уже четыре дня, боли не проходят, а только усиливаются. Его обследуют, выставляют диагноз «острый аппендицит» — состояние, требующее экстренной операции, — и оставляют в палате почти на десять часов. Причину такой задержки операции установить так и не удалось. Все это время жена парня, подозревая, что диагноз серьезный, неоднократно просила врачей провести операцию, но слышала в ответ отказы и отговорки. Парня в итоге прооперировали, аппендицит оказался гангренозным, развился перитонит, лечение которого потребовало нескольких повторных операций, однако они не помогли, и пациент умер. Любой врач, даже не хирург, даже студент понимает, насколько опасно промедление с операцией при аппендиците. Почему в данном случае ее не делали — не понятно. Естественно, женщина подала в суд на больницу, и знаете, что самое интересное? Экспертиза не установила прямой вины врачей в смерти пациента».
«Как же так? — изумился я. — Ведь человека, так сказать, залечили. Вы же сами сказали, что он десять часов лежал в палате!»
«Верно. Но верно и то, что он четыре дня болел и не обращался за помощью. Скорее всего, гангренозный аппендицит развился именно в этот период, то есть имело место позднее обращение за помощью, и поэтому прямой причинно-следственной связи между неоказанием лечения и смертью пациента нет. А раз нет прямой связи, то нет и ответственности. По закону? Да. Справедливо? На мой взгляд, не очень. Не всем удается понять эти тонкости причинно-следственных связей, отсюда и мнение о «цеховом братстве» и о том, что эксперты «покрывают» врачей».
«А что, неужели не «покрывают»?» — не поверил я.
«Бывает, конечно, не без этого. Я знал одного эксперта, который работал в морге при одной из больниц. Естественно, в этот морг поступало много трупов из стационара. Так вот, одна из задач эксперта, который исследует труп из стационара, — это установить категорию расхождения диагнозов. Вы знаете, что это такое, или объяснить?» — поинтересовался эксперт.
Я понятия не имел, о чем идет речь, и объяснение последовало.
«Существуют два вида диагноза: кинический — то есть тот, который поставили больному в стационаре, и судебно-медицинский, или патологоанатомический, который выставляет эксперт или патологоанатом после вскрытия. Если эти два диагноза совпадают, то все прекрасно, грубо говоря, от чего лечили, от того и умер. А вот если не совпадают, то возникают сложности. Есть три категории расхождения диагнозов. Первая — это когда у врачей, например, просто нет времени на диагностику. Допустим, поступает больной по скорой. Врачи «Скорой помощи» по каким-то симптомам ставят диагноз «инсульт», больного привозят в больницу, успевают завести на него историю болезни, но этим все и заканчивается — человек вскоре умирает. На вскрытии оказывается, что у него был не инсульт, а черепно-мозговая травма, то есть налицо несовпадение клинического и судебно-медицинского диагнозов. Категория расхождения в данном случае первая, самая легкая, поскольку у врачей просто не было временной возможности поставить правильный диагноз. За расхождение первой категории почти не наказывают — врачи не виноваты. Бывает, что в медицинском учреждении нет врача определенной специальности, эта причина несовпадения диагнозов объективная, и в таком случае категория расхождения — вторая. Она уже серьезнее в плане последствий для больницы и для конкретного врача. И, наконец, расхождение третьей категории — те ситуации, когда врачи своими действиями или бездействием, грубо говоря, угробили пациента. Проморгали острое состояние, хотя имели все необходимое для спасения жизни, не обращали внимания на конкретные симптомы определенного заболевания, продолжая лечить от другого, и тому подобное. Расхождение третьей категории — это всегда скандал, разбор случая на самом высоком уровне, штрафы для больницы и врача, а иногда и уголовная ответственность.
Вернусь к своему коллеге, о котором рассказывал. Мне как-то для статьи понадобились примеры случаев расхождения диагнозов третьей категории. Я обратился к нему с просьбой подкинуть мне пару-тройку подобных историй, но выяснилось, что у него таких расхождений не имеется. Я очень удивился, потому что это невозможно — расхождение третьей категории встречается во всех странах мира, от этого никуда не деться. Как же так, говорю, ведь расхождения третьей категории бывают? Бывают, ответил мне мой знакомый, но я их вытягиваю до второй. Делал ли он это из добрых побуждений или за какое-то приятное вознаграждение — не знаю, врать не буду. В любом случае цеховая солидарность, конечно, тут имела место».
«А много ли по статистике таких расхождений — третьей категории?» — спросил я.
«Ну, что такое «много» или «мало»? Третья категория, конечно, встречается гораздо реже, чем первая и вторая. Другое дело, что люди помнят эти ситуации из-за того, что они получают широкий резонанс в обществе».
«И вам приходилось когда-нибудь менять категорию расхождения?»
«Нет, никогда. Я, знаете ли, очень строг в таких случаях. Я категорически против «покрывания» врачей и считаю, что они должны нести полную ответственность за то, что произошло по их вине. Правда, у нас слишком мягко относятся к подобным фактам. Само медицинское сообщество предпочитает смягчить ситуацию, не применять строгих мер к врачу, хотя нередко встречаются примеры откровенной халтуры, смысл которой один — как можно больше хапнуть денег с больного. Врач не лечит — он оказывает медицинскую услугу. И сейчас ему вообще не выгодно, чтобы больной выздоравливал, он должен постоянно болеть и, соответственно, обращаться за медицинской помощью. Это касается, конечно, не всех докторов, но большого их числа, особенно терапевтического направления. Для меня это — одна из самых больных тем в современной медицине.
Расскажу еще одну историю. Однажды я исследовал труп женщины средних лет, и вначале причина ее смерти была более или менее понятна: в обеих паховых областях у нее имелись классические наркоманские «колодцы». При наружном осмотре я обнаружил линейный послеоперационный рубец, который располагался в проекции позвоночного столба. Так же обращала на себя внимание выраженная бледность кожного покрова, чего у наркоманов, умерших от отравления наркотиками, никогда не бывает. Меня это сразу насторожило, потому что у людей, имеющих какую-то зависимость (алкоголиков, наркоманов), чаще, чем у других, наблюдаются всякие повреждения, в том числе и внутренних органов, например, разрывы печени или брыжейки кишечника — драки в их среде не редкость. Так вот, сперва все выглядело как обычно: в голове никакой патологии не было, но признаки малокровия стали еще очевиднее. Брюшная полость тоже оказалась спокойной, а вот в левой плевральной полости я нашел около двух литров жидкой крови. В подобной ситуации нужно разобраться, где находится источник кровотечения. Вариантов немного: травма органа или сосуда либо их болезненный патологический процесс. Бывают, конечно, какие-то казуистические случаи, но встречаются они крайне редко. Однако тут был именно такой. Довольно быстро я убедился в том, что травму можно исключить. Но откуда тогда кровь? Такое большое ее количество может поступить только из крупного сосуда, как правило, из аорты, а отсутствие в крови сгустков указывало на то, что кровопотеря произошла довольно быстро. При кровотечении из легкого, например, такой картины никогда не будет. Стал искать дальше и нашел аневризму грудной аорты. Аневризма — это такое локальное выпячивание стенки сосуда, которое происходит чаще всего по причине ее болезненного изменения, часто при атеросклеротическом поражении. Но в данном случае речь не шла об атеросклерозе — умершая была в возрасте, в котором атеросклероз, если и имеется, то не достигает выраженной стадии. У молодых случаются аневризмы аорты сифилитического происхождения, но у них иная локализация — они обычно располагаются в дуге аорты, а не в грудном отделе. Но, как я вам говорил раньше, чудес на свете не бывает. На передней поверхности одного из грудных позвонков я наткнулся на нечто острое. Очистив это нечто от мягких тканей, я обнаружил острый конец металлического шурупа, который примерно на один сантиметр выступал над костью. С другой стороны этого же позвонка обнаружился второй такой же шуруп, выступающий на высоту около трех миллиметров. Именно в проекции первого шурупа на задней стенке аневризмы было небольшое отверстие, из которого, по всей видимости, и текла кровь. Отсепарировав мягкие ткани с задней поверхности груди, я обнаружил, что два смежных грудных позвонка скреплены друг с другом посредством металлических штанг, которые, в свою очередь, зафиксированы на позвонках шурупами. Очевидно, какое-то время назад женщине была проведена операция по фиксации позвонков, при этом один из шурупов вошел в позвонок не под прямым углом, как положено, а отклонился несколько в сторону и, если можно так сказать, вкрутился, в аорту, одновременно закрыв собою сделанное отверстие. Целостность сосудистой стенки была нарушена, и под давлением крови начала формироваться аневризма, которая, достигнув критического размера, разорвалась в месте травмирования, что и вызвало кровопотерю и смерть».
«То есть виноваты врачи?»
«Ну, методика операции была однозначно нарушена, и, конечно, при соблюдении операционного стандарта ничего подобного не произошло бы».
«И чем эта история закончилась для врача?»
«А ничем, — усмехнулся эксперт. — Мы же сами не имеем права напрямую запрашивать медицинские документы из поликлиники или больницы, а действуем только через правоохранительные органы. Так и в этот раз: я послал несколько запросов с просьбой предоставить мне такие документы, хотя бы для того, чтобы узнать, в какой больнице была проведена операция. Но ответа не получил — органам, судя по всему, проще закрыть глаза на произошедшее. Я с удовольствием сделал бы доклад на клинико-анатомической конференции для врачей — чтобы предостеречь их в дальнейшем от подобных ошибок. Но, увы, врачи, которые проводили операцию, наверняка даже не догадываются о ее исходе».
Заметив мой удивленный взгляд, эксперт продолжал:
«А чего вы удивляетесь? Такова реальность. Лучше вообще не болеть».
«То есть, по-вашему, лучше умирать молодым?»
«Это смотря для кого. Да и возраст тут не имеет большого значения. Родственникам легче, когда человек умирает долго и они успевают смириться с его скорым уходом и даже привыкнуть к этому факту. Смерть воспринимается ими как явление, безусловно, печальное, но ожидаемое, и горе их не столь тяжело, нежели вызванное внезапной смертью. А для человека, наоборот, лучше и удобнее умереть скоропостижно, без мучений и осознания неизбежного конца. Но этим награждается не каждый».
«А вы сами думали о том, как умрете?» — спросил я.
«Думать на эту тему — занятие неблагодарное и бесполезное. Один человек, размышляет об этом постоянно и живет долго, а другой… — эксперт посмотрел на меня внимательно и как-то торжественно, — совершенно не задумывается над этим и умирает в расцвете сил и карьеры. За многие годы работы с мертвыми людьми я понял, что смерть, какая бы она ни была, отвратительна. Красивой смерти, такой, как иногда описывают в книгах: «она лежала в гробу как живая», «она будто спала», «на щеках играл румянец», — не бывает. Вместе с тем, смерть неизбежна, непредотвратима, и от осознания этого факта можно сойти с ума. Но человек устроен так, что подавляющую часть его времени не занимают мысли о смерти, и это правильно. Надо жить, надо оставить что-то после себя.
Я, конечно, думал о своей смерти, но все мои размышления всегда сводились к одному: я не хочу знать, как и когда умру, но когда это случится, я постараюсь вести себя достойно. Надеюсь, что не доставлю родственникам больших хлопот своим уходом, во всяком случае, мне этого не хотелось бы.
А вы когда-нибудь представляли себе, как умрете?» — вдруг спросил эксперт.
Я задумался. Разве что в раннем детстве, будучи обиженным на родителей, я воображал себя лежащим в гробу в окружении безутешных родных и, как бы смотря на все это со стороны, спрашивал родителей: «Ну что, довольны? А вы меня ругали…»
«Нет, я как-то не касался этой темы. Впрочем, раз вы спросили… наверное, я хотел бы умереть в своей постели в окружении родственников, лет в сто».
«Скучно, банально и, самое главное, неосуществимо, — покачал головой эксперт. — Важно ведь то, как вы жили, а не сколько. Обратите внимание: подавляющее большинство великих и просто знаменитых людей умерли, не дожив до ста лет, да и смерть их не была связана с постепенным старческим угасанием. И наоборот, миллионы никому не известных людей, представителей так называемой «серой массы», умирают в своих постелях в почтенном возрасте. Случаи, когда человек живет ярко и долго, редки. Однако ведь далеко не каждый из нас амбициозен и желает добиться чего-то большого, оригинального и неповторимого. Многие просто плывут по течению, живут потому, что живут, и не способны на Поступки».
«То есть вы на стороне того сокола?» — съехидничал я.
«Из той сказки, которую Пугачев рассказывал Гриневу? — спросил эксперт, обнаруживая знакомство с прозой Пушкина. — Да, наверное. Скорее всего, да. Меня только немного пугает тот факт, что время бежит слишком быстро, и можно не успеть сделать что-то «соколиное». К тому же жизнь или, вернее, тот, кто всем рулит, ироничен: только ты расправил крылья и сложил в своей голове план покорения мира, как вдруг — раз и, например, саркома».
«Уже во второй раз он цитирует Воланда», — подумал я.
«…Да, да, саркома, товарищ Воланд и в этом был прав. И какое уж тут покорение мира, если в голове мысли совсем другого рода: как лечиться, стоит ли лечиться, что будет с твоей семьей, сколько осталось жить… И начинает человек мотаться по больницам, а дальше — операции, химиотерапия, потом народные средства, настойки, травки, заговоры и всякие другие бесполезные вещи. Я привел саркому просто как пример, на самом деле хватает причин, по которым в относительно молодом возрасте можно сыграть в ящик. Впрочем, не нам выбирать, когда и как умереть. Самоубийц я не беру в расчет».
«Скажите, — решился я на вопрос, который никак не мог нормально сформулировать, — а люди вашей специальности — верующие?»
Мой собеседник как-то тихо улыбнулся и внимательно посмотрел на меня. Тот изучающий взгляд исчез. Я вдруг увидел и даже почувствовал какую-то глубокую сочувствующую печаль, исходящую от этих глаз, как будто доктор хотел мне в чем-то помочь, но не мог этого сделать. Я не понимал, с чем связаны эти мои мысли, и боялся понять. Мои первоначальные планы разговорить эксперта, расположить его к себе и потом напроситься к нему на работу вдруг показались мне смешными и глупыми. Человек, который смотрел на меня, абсолютно точно, что называется, «видел меня насквозь», и даже мои вопросы он знал заранее. Внезапно я ощутил себя голым перед ним. Чувство громадной усталости начало постепенно охватывать меня, начиная с ног, которые почему-то стали тяжелыми и холодными, и поднимаясь к коленям и выше, к животу, к груди; сердце как будто замерло, и в этот момент эксперт ответил.
«Знаете, нельзя до поры до времени влезть в голову к другому человеку. Мои коллеги — обычные люди. Таких было много и вокруг вас, вы общались с ними, спорили, соглашались или нет, вместе работали, выпивали, может быть, строили планы, занимались любовью… Я думаю, что верующим в той или иной степени является каждый, только вера у всех разная. Согласитесь, что демонстрировать какие-то религиозные действия, соблюдать обряды — не всегда означает верить. И наоборот, человек, публично отрицающий все вышеперечисленное, возможно, искренне верит, только по-своему. Вы же спрашиваете не о каком-то религиозном поведении людей, а, наверное, подразумеваете веру искреннюю?»
Я попытался кивнуть, но эксперт уже продолжал:
«Могу сказать только за себя. В доме у моей бабушки, на кухне, висела икона вроде бы Казанской Божьей Матери. Самая обычная, напечатанная на бумаге и выцветшая от времени. Я ее почти не замечал и никогда не спрашивал у бабушки ни о ней, ни о религии вообще. Иногда я видел, как бабушка произносила про себя молитву, и в эти редкие моменты мне почему-то даже становилось страшно. В семье мы о Боге не говорили, и я рос самым обычным советским ребенком, воспитанным книгами и полностью арелигиозным. Желания понять веру и приобщиться к ней у меня никогда не возникало, хотя я и был крещен во младенчестве по настоянию бабушки. Позже, в перестроечные времена стало модно быть «верующим» человеком, вчерашние атеисты, партийные работники потянулись в храмы, принялись публично креститься и всячески демонстрировать свою принадлежность к определенным конфессиям. Мне это казалось лицемерием, я всегда думал, что в вере самое главное — искренность. Вместе с этим я начал понимать, что человек по своей природе — существо слабое и нуждается в Боге, в чем-то или ком-то, кто сильнее и умнее его. Я захотел больше узнать о религии. За те годы, что прошли с того момента, я перечитал много литературы, Библию, Коран в трех переводах, хадисы, побывал в разных странах на службах в православных, католических, индуистских, буддийских храмах, в мечетях, разговаривал со священнослужителями — представителями различных конфессий. Я до сих пор пытаюсь многое понять и до сих пор не понимаю. Одно я знаю наверняка, и в этом, несомненно, сыграла роль моя работа: душа существует. А раз есть душа, то, следовательно, с концом биологической жизни жизнь сама по себе не заканчивается, начинается другая форма существования. Помните, я говорил о том, что эксперт в своей работе находится между двумя жизнями — этой, земной, и той, которая будет?»
Я вздрогнул. Именно это я хотел обсудить напоследок.
«Так и получается, — продолжал эксперт. — Звучит, конечно, примитивно, но я думаю, что именно в тот момент, когда я и мои коллеги работают в секционном зале, душа умершего человека находится в этом «между».
«Вы были свидетелем чего-то такого, что позволило вам так думать?» — осторожно поинтересовался я, уже зная ответ.
Опять этот печальный и пронизывающий взгляд.
«Вам я расскажу, — чуть помедлив, ответил доктор. — Обычно я не говорю о таких вещах, хотя вопросы типа вашего задают мне постоянно. Ну да ладно… Я никогда не был склонен к мистике и не относил себя к людям, тонко чувствующим. Наоборот, когда я слышал или читал о разного рода паранормальных явлениях, мне становилось смешно. Но после нескольких лет работы я стал чувствовать и замечать некоторые вещи, которых прежде не замечал. Эти ощущения возникали сами по себе, без каких-то предварительных мыслей или разговоров, неожиданно и даже сперва неприятно для меня, отрицающего возможность какого-либо контакта между этим и тем миром.
Началось все однажды утром. Придя на работу, еще не раздевшись, я зашел в секционный зал забрать направления на вскрытие. Эти направления оставляли на подоконнике ночные санитары, которые принимали трупы и убирали их в холодильную камеру. Санитары работали давно и понимали, что в первую очередь я всегда буду исследовать случаи убийств и травм, потому что именно они всегда интересуют сотрудников правоохранительных органов. Исходя из этого, они обычно заранее клали таких покойников на секционный стол, чтобы сэкономить утреннее время. Так было и в этом случае: на одном из столов лежало тело молодой женщины в форменной одежде сотрудника одного из банков. Сам по себе факт нахождения трупа на столе говорил о том, что это не скоропостижная смерть, а кое-что похуже. И действительно, на груди у женщины я увидел две раны — на первый взгляд, огнестрельные, что впоследствии подтвердилось. Подойдя к трупу, я внезапно испытал удивление и недоумение. Эти чувства оказались настолько сильны и настолько не относились ко мне, что я был поражен. Я, несомненно, ощущал то, что ощущала эта женщина в последние секунды своей жизни. Смерть для нее стала неожиданностью, и убийцу своего она наверняка знала. Я поспешил выйти из секционной. Ошарашенность от реалистичности своих, вернее, чужих, эмоций, которые прошли через меня, постепенно проходила. Позже от работников полиции я узнал обстоятельства убийства. Женщина на самом деле работала в банке. Накануне она рассталась со своим молодым человеком, и расставание произошло по ее инициативе. Вечером следующего дня покинутый молодой человек пришел в банк и с порога дважды выстрелил в грудь бывшей благоверной, после чего сдался полиции. По словам свидетелей, женщина успела только удивленно вскрикнуть, смерть наступила на месте происшествия. Я никому не рассказывал об этой истории, но много думал, вспоминая те свои ощущения. На следующий день и позже ничего подобного не происходило, хотя я вскрывал и убийства, и много других травм, так что постепенно события того утра позабылись. Но этот случай был не последний».
Эксперт замолчал. Я смотрел на его лицо, которое стало каким-то тяжелым, и понял: все, что говорит этот человек, — чистая правда. Желание съехидничать на тему общения с душами куда-то подевалось, и я просто спросил:
«Не последний?»
«Да. Через несколько месяцев история повторилась. На столе лежал труп человека, погибшего на пожаре. Тело представляло собой черно-коричневую головешку, включающую в себя только туловище, конечности и голова были полностью обуглены. Подойдя к столу, я почувствовал панику, исходящую от тела, непонимание и неприятие погибшим человеком того факта, что физически его уже нет. Казалось, что необычное волнение бывшего человека летало вокруг стола, в воздухе даже словно возникали нечеткие контуры человеческого тела. Ощущение присутствия рядом кого-то еще и понимание, что этот «кто-то» — этот самый покойник, было совершенно реальным, и я ни на миг не усомнился в этом. Интересно, что при этом я не испытывал никакого страха — только потрясение от того, что я могу это воспринимать. Были и другие истории. Например, однажды, войдя в секционный зал, я увидел там своего коллегу, который читал направительные документы на труп, лежащий на столе. В этих документах ничего конкретного не содержалось — обычная писанина ни о чем: «Труп обнаружен по такому-то адресу… На трупе надето…» и тому подобное. В таких случаях эксперт идет на вскрытие «вслепую», и только опытные врачи могут по незначительным мелким наружным признакам предположить ту или иную причину смерти. Перекинувшись парой слов с коллегой, я уже собрался направиться к своему столу, но внезапно почувствовал боль в груди, в проекции сердца. Я очень хорошо помню эту боль: она была острая настолько, что у меня перехватило дыхание, а в глазах замелькали черные точки. Вместе с этим появилось стойкое, вполне определенное понимание того, что это не моя боль, что с моим сердцем все в порядке. Неприятные ощущения быстро прекратились, но я уже понял их происхождение. «У покойника твоего инфаркт миокарда, скорее всего, с разрывом сердца», — сказал я коллеге. Так и оказалось. Довольно трудно было потом объяснить, как я еще до вскрытия узнал причину смерти, пришлось сослаться на простое угадывание — в это людям проще поверить.
Несколько раз нечто подобное происходило с другими экспертами. Помню, когда случилась экстремальная ситуация, и нам пришлось работать по много часов каждый день в очень сложных условиях, ко мне с интервалом в несколько дней подошли двое экспертов, которые — я это точно знал — не были склонны к мистике, не отличались религиозностью и вообще не верили во всякие сверхъестественные вещи. Эти эксперты имели вредную привычку — они курили, и курить ходили не на улицу (для этого пришлось бы переодеваться, проделывать долгий путь внутри здания, а потом прятаться в кустах), а в подвал — туда, куда приезжают машины трупоперевозки и где находились помещения для хранения трупов. Оба они, независимо друг от друга, рассказывали почти одинаковые истории: они шли по подвальному коридору к несанкционированной «курилке» с одним желанием — покурить, никаких других мыслей в голове не держа. По мере приближения к камерам, в которых лежали останки (накануне произошла катастрофа с большим количеством погибших, и именно их мы исследовали так интенсивно), они постепенно начинали испытывать страх, который, нарастая, становился нестерпимым. Никаких причин для его возникновения эксперты не видели, он просто появлялся, и дойти до своей цели они оба не смогли и почти побежали назад, боясь оглянуться. Испытанный ужас был реальным, почти физическим настолько, что невозможно было списать его на усталость, вызванную тяжелой многодневной работой. Кто-то скажет, конечно, что причина такого психотического состояния именно в переутомлении, однако, по-моему, психоз тут не причем. Между нашей жизнью и той, другой, иногда возникают мостики, которые используют некоторые люди, весьма немногие; большинство же воспринимают их как некие «странности» и особого внимания на них не обращают. Люди, которые могут и умеют пользоваться этими мостиками, никогда не выделяются из толпы, предпочитая тихое незаметное существование, — просто так спокойнее и лучше для всех остальных».
Эксперт опять посмотрел на меня каким-то странным, сочувствующим взглядом и добавил:
«Даже вам, в вашей ситуации, я не могу рассказать всего, тем более что вы, надеюсь, сами узнаете много чего интересного. Однако мне пора заканчивать. Все, что должен был сделать, я сделал. Не скрою, мне хотелось бы поговорить с вами при других обстоятельствах, но судьба распорядилась иначе. Люди вообще недооценивают влияние судьбы на жизнь человека. Наивный homo sapiens уверен, что он живет эту жизнь так, как сам хочет, что он сам управляет ею, но это не так. Вы в скором времени убедитесь в том, что человек — это не только оболочка из костей и мягких тканей. Желаю вам счастливого пути, а там как пойдет».
Я не совсем понял смысл его последней фразы. Но когда он замолчал, я ясно услышал другие голоса, принадлежащие мужчинам и женщинам. Слов я не различал, но тон разговоров был вполне определим — серьезные нотки чередовались с веселыми, иногда даже со смехом, временами в голосах чувствовались озабоченность и сосредоточенность, а порой кто-то начинал бубнить или резко вскрикивал. В этом общем гуле раздавались звоны, бряканье, шум воды, шорох целлофановых пакетов. Я, может быть, впервые с начала разговора с экспертом захотел посмотреть, что происходит вокруг, но не смог повернуть головы. Я не чувствовал ни шеи, ни остального тела; мало того, я вдруг понял, что в глаза мне светит яркая лампа, состоящая из трех круглых светильников, в одном из которых треснуло стекло. Этот свет лишал меня возможности разглядеть что-либо. Какое-то время он продолжал слепить меня, потом стал постепенно, как в кинотеатре перед сеансом, гаснуть. Вместе с ним затихали и звуки, и последним, что я услышал, был молодецкий баритон, обращенный явно не ко мне: «Ну что, доктор, вы все?», а также ответ, произнесенный тем самым голосом, ниже среднего тембра, немного с хрипотцой, которая появляется у людей, вынужденных много говорить: «Да, можно зашивать».
Заключение
Был разгар рабочего дня. В секционном зале на шести столах кипела работа. Санитары привозили не вскрытые трупы, зашивали уже вскрытые, мыли столы, увозили тела в холодильные камеры, эксперты надиктовывали описания наружного и внутреннего исследований лаборантам, которые набивали текст на компьютерах. Постоянное движение в зале, гул многих голосов, стук каталок, звяканье инструментов, шум воды, которой мыли покойников и столы, визг пилы, распиливающей черепа, полезные и не очень разговоры, анекдоты, щелканье фотоаппаратов, шелест бумажных пакетов, в которые санитары упаковывали одежду умерших, беготня лаборантов (они собирали и относили анализы в специальный ящик для последующей отправки в лаборатории), периодические телефонные треньканья (хотя телефоны и запрещено было проносить в секционный зал, большинство этот запрет игнорировало) — все это создавало такую атмосферу бурления жизни, которую не могли испортить даже шесть покойников, лежащих в этот момент на металлических столах.
Случайному человеку, зашедшему с улицы, эта атмосфера могла показаться странной и даже кощунственной. Смерть, по мнению большинства обывателей, подразумевает торжественную тишину, а не скабрезные анекдоты санитаров или заигрывания эксперта с лаборанткой. Однако, присмотревшись, такой зритель увидел бы отлаженный до автоматизма процесс, каждый из участников которого выполнял свою работу четко, по возможности быстро и аккуратно. Кажущаяся небрежность действий на самом деле являлась динамическим стереотипом, а побочные разговоры и шутки — своего рода психологической защитой. Ну и что, что на столах покойники, — остальные-то живы! Каждый сотрудник морга прекрасно понимал, где он находится, и тем не менее относился к своим занятиям исключительно как к работе и никак иначе. Эти люди не придавали большого значения неприятным запахам или тому, как совершенно не эстетично выглядят грубые повреждения тела, предпочитая думать не о смерти, а о жизни.
«Ну что, доктор, вы все?» — весело спросил эксперта санитар, на голове которого была медицинская шапочка, расцвеченная яркими утятами. Санитары, как люди творческие, презирали одноразовые шапочки и предпочитали им свои, которые носили кто на манер фуражки, кто на манер берета. У парня, задавшего вопрос, кроме симпатичной шапочки имелись еще огромная серьга в ухе и множественные татуировки, которые располагались даже на затылке, точно под хвостом одного из утят.
«Да, можно зашивать», — ответил эксперт.
«Отлично, — отозвался санитар. — Был у нас как-то давно один доктор, так он, когда заканчивал вскрытие, говорил: «Я кончил, уберите за мной».
Эксперт улыбнулся. Ему нравились такие разговорчики и шутки на грани пошлости в паузах между вскрытиями, когда можно было просто посмеяться. Он помог санитару переложить органокомплекс в целлофановый пакет и поместить его обратно в тело, собрал свои инструменты, помыл их, после чего вымыл за собой ту часть стола, на которой работал, — он не любил оставлять грязным рабочее место.
«Ольга, поехали со мной в Таиланд, — занимаясь трупом, обратился разговорчивый санитар к девушке-лаборанту. — Возьмем тайскую девочку, отдохнем». «Зачем же нам девочка?» — поддержала игру лаборантка. «Как это зачем? — как будто искренне удивился санитар. — Будет исполнять все наши желания, заплатим ей маленько, и все». Разговор в подобном стиле продолжался еще какое-то время, а затем санитар вновь обратился к эксперту, указывая на труп, голову которого он в этот момент зашивал. Голова при каждом затягивании нитки дергалась в его руках, открытые глаза смотрели в потолок. «А чего случилось-то? Молодой, вроде».
«Автотравма, — отозвался эксперт. — Ехал не пристегнутым, столкнулся с другой машиной, ударился грудью о руль — разрыв сердца».
«То-то я смотрю, повреждений почти нет, — удивился санитар. — А пристегнутый выжил бы?»
«Однозначно, да. Самое смешное, что я его знал. Не лично, но по телефону общались, и ехал он ко мне. Это известный блогер и журналист, мы с ним договорились об интервью, и он спешил на эту встречу. Так и не встретились».
«О как! — удивился санитар. — Судьба!»
Судьба… В последнее время эксперт думал об этом все чаще и чаще. «Судьба играет человеком, а человек играет на трубе», — почему-то снова вспомнился ему «Золотой теленок». На выходе из секционного зала он оглянулся. Санитар уже зашил тело, ходил между столами и выкрикивал голосом продавца в «Макдональдсе»: «Свободная касса!», предлагая свои услуги остальным. Другие санитары привозили и отвозили трупы, эксперты вскрывали, лаборанты печатали, жизнь кипела.
Эксперты-танатологи работают на потоке, часто в очень некомфортных, а порой и во вредных условиях; они вынуждены вскрывать по сорок и больше трупов в месяц, видят смерть иногда в самом неприглядном ее проявлении, и особенно тяжело, когда это касается детей или когда люди гибнут массово; одновременно они сталкиваются с представителями правоохранительных органов, после общения с которыми можно потерять веру в человечество… «Эти доктора совершают хронический подвиг», — вдруг подумал эксперт.
Их работа незаметна для окружающих, для высокого начальства, для Минздрава, их как будто не существует. Вспоминают об их существовании только в случаях резонансных преступлений, «врачебных дел», массовых катастроф, но довольно быстро забывают до следующей подобной ситуации. Хронический подвиг — явление, непонятное людям. Все врачебные специальности, безусловно, ценны, однако судебно-медицинские эксперты — уникальная категория докторов, от них зависит судьба не одного человека, а многих, порой очень многих. На 150 миллионов жителей страны экспертов — всего-то несколько тысяч, и эти несколько тысяч, ввиду особой специфики работы, вполне достойны особенных льгот и высокой заработной платы, такой, которая не зависела бы от количества вскрытых трупов.
Эксперт мысленно улыбнулся. Мечты, мечты… У самого выхода из секционного зала — там, где стояли желтые пластиковые контейнеры с надписями «Отходы класса Б», — он снял с себя фартук, одноразовый халат, маску, шапочку и бахилы, поместил все это в контейнер, примерно на треть заполненный дезинфицирующим раствором, потом взял пластиковую палку, стоящую тут же, и палкой утопил одежду в растворе, как положено по инструкции. После этого он вышел в предсекционную, тщательно умылся, несколько раз вымыл руки, вытер их бумажным полотенцем и обработал специальными средствами, флаконы с которыми стояли тут же, на раковине. Жидкости эти неприятно пахли нагретой резиной, но руки обрабатывали хорошо и не сушили кожу.
В коридоре эксперт увидел каталку, вывезенную санитарами из секционной. На ней лежало зашитое, уже помытое тело несчастного журналиста. Глаза его теперь были закрыты, руки скрещены на груди. «Неплохо будет смотреться в гробу, даже грим особый не понадобится», — мелькнуло в голове у эксперта. Он в последний раз посмотрел на покойника, с которым работал последние три часа. «Где же ты теперь? — подумал он. — Еще тут или уже…» Пройдя по коридору, вдоль ряда таких же каталок с лежащими на них уже вскрытыми и зашитыми телами, он поднялся по лестнице на третий этаж, вошел в свой кабинет, опустился в кресло и машинально еще раз обработал руки дезинфицирующим спреем, после чего нанес питательный крем и стал тщательно втирать его. Чистота — залог здоровья. В давние времена, когда эксперты получали по двадцать граммов спирта на каждый исследуемый труп, у него под рабочим столом стояло литров двадцать этой «жидкой зарплаты». Она копилась, так как спирт эксперт не употреблял, а руки обрабатывать им было неприятно — очень уж сушил кожу. Каждое утро начиналось с того, что доктор тщательно вытирал спиртом рабочий стол, компьютер и все остальное — это был своеобразный ритуал. Теперь вместо спирта выдают дезрастворы… Да и правильно, со спиртом всегда возникали проблемы: двадцать граммов — это не двадцать миллилитров, приходилось долго пересчитывать, отмеривать нужное количество, заполнять журнал учета, да еще следить, чтобы не оставался излишек, иначе после возможной проверки можно было огрести неприятностей. То ли дело растворы — получил флакон, расписался в получении, и шабаш.
Размышляя таким образом, эксперт спустился на первый этаж, купил в кофейном автомате кофе, поднялся с ним в кабинет и включил компьютер. На столе рядом с компьютером лежали стопки незаконченных экспертиз, полученные сегодня из лабораторий результаты анализов, еще не разложенные по отдельным номерам, правила, приказы и другие нормативные документы, используемые экспертом в работе; здесь же находились стойка с различными канцелярскими принадлежностями и цветы. Цветы (предпочтение отдавалось тем, у которых были большие и широкие листья) как-то успокаивающе действовали на доктора. В одном из цветочных горшков лежал, чуть присыпанный землей, пластмассовый череп — деталь какого-то детского конструктора, неизвестно откуда взявшийся здесь. Когда-то, когда эксперт работал в небольшом уральском городке, у него на столе тоже стояло много цветов. Однажды зимой в морг привезли труп мужчины, выкопанный в поле; он пролежал там несколько месяцев и был найден благодаря явке с повинной замученного совестью селянина. Примерзшая к трупу земля в морге оттаяла, и находчивые лаборантки засыпали ее в цветочные горшки, после чего растения стали особенно буйно зеленеть и цвести.
Попивая кофе, эксперт открыл на мониторе текст исследования трупа журналиста. Пробежав его глазами, он опять отметил про себя глупость тех обстоятельств, при которых наступила смерть. Не пристегнутый ремень безопасности, случайное столкновение на небольшой скорости, даже не по вине журналиста, удар грудью о руль, разрыв сердца. Кроме маленькой ссадины на груди, ни одного наружного повреждения. Будь ремень пристегнут, водитель отделался бы тем же, чем, по версии газеты «Станок», отделался Остап Бендер после того, как попал под лошадь, — легким испугом. Но ремень пристегнут не был. Что это? Судьба? Случайность? Можно ли вообще говорить о случайности, когда речь идет о смерти? Ведь этот человек, журналист, неоднократно бывал в таких ситуациях, в которых запросто мог погибнуть, но этого не происходило. Почему, зачем ему нужно было умереть именно сейчас и именно при таких глупейших обстоятельствах? Ведь должен же быть в этой смерти, как и в тысячах других подобных, какой-то смысл? Если есть смысл в жизни, то должен быть смысл и в смерти?
Эксперт еще раз перечитал судебно-медицинский диагноз: «Закрытая травма груди: ссадина на передней поверхности груди, кровоизлияния в мягкие ткани передней поверхности груди, поперечный перелом тела грудины, линейный разрыв левого желудочка сердца». За почти двадцать лет своей работы он видел множество автотравм: травма внутри салона водителя и пассажира, наезд на пешехода, переезд через пешехода, даже выпадение из движущегося автомобиля. Как правило, автотравма сопровождается множественными тяжелыми повреждениями, переломами костей скелета, разрывами внутренних органов, иногда отрывами частей тела, при переезде нередко происходит перемещение внутренних органов и выпадение их через естественные отверстия организма. Но встречаются и такие, нетипичные травмы: не пристегнутый водитель сталкивается с чем-то, ударяется о руль, и в некоторых случаях, особенно если сердце в этот момент находится в стадии диастолы (то есть наполнено кровью), происходит его разрыв. Реже вместе с сердцем разрывается легкое, но общим для этого вида травмы (и смерти) является то, что ее можно было бы избежать. Что может быть проще — сесть и пристегнуть ремень? Всего один щелчок — и ты зафиксирован на этом свете.
В самой смерти нет ничего необычного. Каждого ждет конец земного существования, все люди, окружающие любого из нас, умрут. Вопрос не в этом.
Эксперта всегда волновало отсутствие в некоторых людях инстинкта самосохранения. Не в боевых условиях, не ради высокой цели, когда этот инстинкт пропадает, а в обычной, бытовой жизни. Бережное отношение к себе — это то, чему не надо учиться, это должно быть в крови. Когда-то давно, еще будучи студентом, эксперт приятельствовал с однокурсником, у которого была плохая наследственность, связанная с ишемической болезнью сердца, — и мать, и отец его умерли в довольно молодом возрасте от инфаркта миокарда. Паренек курил как паровоз, выпивал и не обращал никакого внимания на то, что ему говорили окружающие. Ничем нельзя было объяснить тот факт, что будущий врач, прекрасно представлявший себе, какую роль никотин и алкоголь играют в развитии инфаркта миокарда, совершенно себя не берег. Окончив институт и устроившись работать в солидное медицинское учреждение — в этом возрасте, казалось бы, уже пора перебеситься, — он продолжал выпивать и курить и очень удивился, когда в 42 года прямо на работе (что его и спасло) потерял сознание и с обширным инфарктом попал в реанимацию. После долгого периода реабилитации он получил группу инвалидности и был вынужден уйти из профессии. Курить он, конечно, бросил, но дело уже было сделано…
Эксперт проверил текст, исправил некоторые орфографические ошибки, распечатал акт, подписал его и положил в свою рабочую папку в самый низ, под другие акты. По мере поступления анализов и завершения предыдущих экспертиз, сегодняшний документ будет постепенно подниматься в стопке бумаг, пока в один прекрасный день доктор не напишет выводы и не сдаст «Заключение эксперта» в двух экземплярах: один — в архив, другой — в полицию.
Кофе давно был допит, бумажный стаканчик лежал в мусорном ведре, рабочий день закончился. Выйдя на улицу и вдохнув свежий воздух, эксперт сразу забыл обо всем, что он сегодня делал на работе. Он переключился с рабочего режима на обычный — так происходило почти всегда в течение последних двадцати лет, — надел наушники, включил аудиокнигу, сел в подошедший автобус и поехал домой, наслаждаясь каждой минутой этой, земной жизни. За окном он видел проходящих людей — людей со своими недостатками, достоинствами, ошибками и достижениями; людей, которые любили и ненавидели, лгали и говорили только правду, выпивали и оставались трезвенниками, умели сдерживаться и выходили из себя по малейшему поводу, путешествовали и были домоседами, работали в больнице и панически боялись крови, являлись вегетарианцами и отдали бы все за хороший стейк, прожаренный до medium rare; людей, которые родились в этом городе и «понаехали» сюда в поисках лучшей доли, говорили на русском и многих других красивых языках, больших начальников и простых служащих, мужчин и женщин… Все эти человеки, к числу которых принадлежал и сам эксперт, и составляли то многообразие жизни, которую он так любил.
Большинство этих людей начинают ценить жизнь только тогда, когда предчувствуют ее окончание. Восход солнца, дождь, радуга в небе, луна, звезды, свежий воздух, возможность видеть, слышать и осязать — все это кажется таким естественным и банальным до тех пор, пока на горизонте не появится тот рубеж, за которым скрывается другая, неизвестная и поэтому пугающая жизнь. Рубеж этот неумолимо приближается к любому человеку, тем самым поддерживая естественный круговорот всего живого в природе и гармонию этого мира. Когда же люди перестали ценить каждый день, каждую минуту своего существования? Это ведь так просто и так необходимо, иначе жизнь превращается в рутинное существование.
Автобус мерно покачивался. Эксперт, поддавшийся этому ритму, закрыл глаза, и мысли о жизнях стали уплывать, уступая место здоровому кратковременному сну хорошего человека.




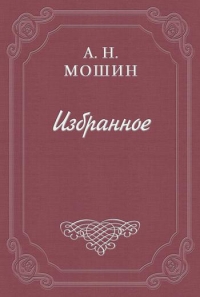
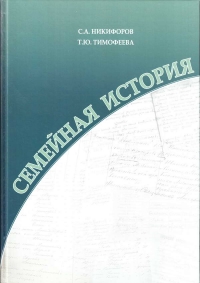
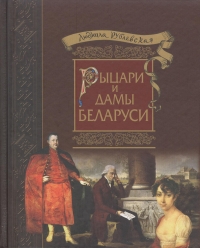
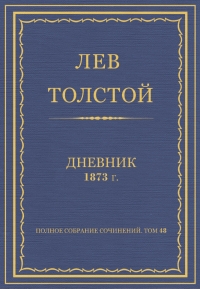

Комментарии к книге «Между жизнями. Судмедэксперт о людях и профессии», Алексей Михайлович Решетун
Всего 0 комментариев