Л. Дядюченко ФАМИЛЬНОЕ СЕРЕБРО Документальная повесть
Повесть «Фамильное серебро» — новое произведение писателя и публициста, геолога по образованию, Леонида Дядюченко, хорошо известного читателю стихотворными сборниками «Жажда» и «Уголек», а также очерковыми книгами о Киргизии «Проводник из Чарвака», «Пещеры Киргизии», «Без нужды — в Зардалю».
Написанная в излюбленном автором жанре документальной прозы, новая работа Л. Дядюченко повествует о трудных поисках и нелегко добытых открытиях и завоеваниях видных ученых, исследователей, хозяйственных деятелей — представителей русской прогрессивной дореволюционной и советской интеллигенции, чья жизнь непосредственно и тесно была связана с изучением Киргизии, практическим освоением ее разнообразных богатств. На страницах книги оживают дорогие всем нам имена отца Михаила Васильевича Фрунзе, его замечательного современника, врача подвижника и краеведа Ф. В. Пояркова, и др.
Центральное место в повести занимает очерк о видных ученых-геологах — исследователях Киргизии и сопредельных с нею республик из «династии» Поярковых. Здесь читатель находит рассказ о ее родоначальнике Федоре Васильевиче Пояркове и его сыновьях — замечательном среднеазиатском гидротехнике Владимире Пояркове и известном ученом и педагоге профессоре Эрасте Пояркове, о его внуках — крупных советских геологах Владимире Эрастовиче Пояркове и лауреате Ленинской премии Марии Эрастовне Поярковой, о младшем представителе этой, если можно так выразиться, талантливой фамилии — начальнике палеонтологической партии Киргизского геологического управления докторе наук Будимире Владимировиче Пояркове. И о других, менее известных Поярковых, о других людях, чья жизнь соприкасалась с ними (например, об академике Д. И. Щербакове — «крестном отце Хайдаркана»), о наиболее интересных эпизодах из жизни и наиболее значительных делах, выпавших на долю Поярковых, рассказывает «Фамильное серебро». Со скрупулезной точностью и основательностью, в строго документальном ключе, хотя и не исключающем, естественно, художественного домысла автора, пишется о существе научных поисков и открытий Поярковых. А ото весьма нелегкая творческая задача — не боясь быть непонятым и не входя в упрощенчество, рассказать об очень сложных даже и для самого ученого и, казалось бы, вовсе «непересказуемых», не выразимых в слове вещах. Л. Дядюченко удается в основном выполнение этой столь непростой идейно-эстетической задачи, и это, несомненно, должно быть поставлено в заслугу автору.
Обратит на себя внимание новизна поднимаемого в книге материала. Архивные находки в ней перемежаются свидетельствами наших современников, а книжные источники получают свое, небанальное истолкование. Живой смысл приобретают в интерпретации писателя даже обычные предметы старины, давние фотографии и т. д. Автор умело использует весь этот разнохарактерный материал, заставляет его «работать» па свой замысел.
Словом, в очерках о поисках ученых, путешественниках и т. д. наличествует настойчивый поиск самого автора, целенаправленный и увлеченный. Мы присутствуем при рождении его собственных догадок и открытий и как бы сами участвуем в их нередко весьма осложненном рядом обстоятельств творческом обосновании. Все это не может не импонировать читателю.
В повести о «фамильном серебре», о ярких представителях семьи Поярковых автора интересуют вовсе не сами по себе родственные взаимосвязи тех или иных личностей, хотя он и не отказывается от тою, чтобы время от времени удивиться незаурядной одаренности многих представителей поярковской «династии». Нет, главное, что занимает Л. Дядюченко в своих героях, — это отношение их к своему гражданскому долгу, степень готовности и способности их к свершению самых больших дел во имя науки и своей Родины.
Думается, что новая повесть Л. Дядюченко, устраняющая своеобразное «белое пятно» в художественной документалистике и наших знаниях о славной истории и людях Советского Киргизстана, будет с интересом встречена юным читателем.
Александр Жирков
Защита
Собрались тут же в лаборатории микропалеонтологии[1], с трудом высвободив из-под книг, коллекций и прочего добра несколько столов и выдвинув их на середину. Добровольцы, кто был посвободнее, получив от коллектива «ценные указания», совершили набег на ближайший гастроном, и вес устроилось наилучшим образом, невзирая на некоторые затруднения в сервировке… Его, виновника торжества, отчасти тревожило это «мероприятие». Иные соискатели с таким купеческим размахом отмечают защиту диссертации, как будто они и в самом деле только что выгодно сбыли крупную партию залежалого товара, так что тягаться с ними не хотелось. Но немыслимо было и другое: вот так, просто раскланяться и уехать, не посидев, не посмеявшись, не выпив и глотка вина с теми, кто так много сделал для его успеха, для успеха того дела, которому они посвятили свою жизнь. И вот в Пыжевском переулке, в опустевшем к вечеру здании Геологического института Академии наук, «московские микропалеонтологические макро-друзья» поздравляли своего коллегу из Фрунзе, начальника палеонтологической партии Киргизского геологического управления Будимира Владимировича Пояркова, с успешной защитой диссертации на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук.
— Долго вы плавали по девонским[2] морям, рылись в песке шельфа[3], ныряли в морские глубины, вылавливали ваших крошечных подопечных. А это куда труднее ловли блох, ведь самая большая паратураммина[4] в эн корень квадратный из игрек раз меньше самой маленькой блохи…
Кто-то засмеялся, захлопал в ладоши, и Дагмаре Максимилиановне пришлось восстанавливать порядок долгим, требовательным взглядом: она заведует лабораторией, ей и командовать.
Когда-то она, профессор Раузер-Черноусова, спросила Пояркова:
— Вы где думаете защищаться, Будимир Владимирович?
— В Москве, конечно, — ответил Поярков.
— Тогда киргизского девона будет маловато, берите весь девон страны, вообще весь девон…
Сейчас, как никто другой, ведая всю величину намечавшихся исследований, он не решился бы на них, духу не хватило бы. Разве такое осилить? Но тогда, по неопытности, согласился, не представляя, какие горы фактического материала придется добыть и перелопатить. Не испугался, добыл и перелопатил. Теперь то давнее решение кажется чуть ли не авантюрой. Хотя какая же это авантюра? Пятнадцать лет работы. Десять тысяч шлифов[5] только по Тянь-Шаню. Жизнь размеренная, с прицелом, без тяжкого похмелья по случаю «ведь ты геолог» и я геолог», без обязательного «обмыть» то ли отчет, то ли проект, то ли отъезд, то ли приезд, благо, таких поводов полевикам не занимать, без задумчивого философского созерцания управленческого коридора сквозь папиросный дымок, без полуночного преферанса, без ежевечерних бдений за шахматной доской в межэкспедиционных, межуправленческих турнирах, без ожесточенных прений по поводу последней игры московского или там киевского «Динамо», когда Паркуян или Бышовец отправил мяч за черту, хотя можно было передать направо, где открылся Мунтян, а может, вовсе и не открылся, а просто переместился в левый угол штрафной площадки…
Единственная отдушина — отпуск. Станция Бологое. Речка Березайка. Мальчишки тут же сообразили: станция Березай, приехали — вылезай! Здесь живут родственники Зои Николаевны. Они-то и снимают заранее какой-нибудь бревенчатый, скрипучий домишко, из окон которого был бы виден лес. Проблема отпуска всегда была почти неразрешимой. Во-первых, летом ему нужно быть «в поле», как геологи привыкли называть свои экспедиции. Во-вторых, нужно быть в поле и Зое Николаевне, ибо она, кандидат геолого-минералогических наук, занимается пластинчато-жаберными моллюсками, а эти окаменелости «водятся» только в горах. Казалось бы, чего лучше: просто нужно вместе выезжать, ан нет. Разные ведомства: он — «производственник», она — сотрудник Института геологии республиканской Академии наук. Да и не в том дело. Он копается в девоне, пусть — в карбоне[6], она же — на несколько этажей выше, в меловых[7] отложениях; их «епархии» разделяют многие миллионы лет стратиграфической[8] шкалы и сотни километров ухабистых, тяжких дорог, накрученных на перевалы и ущелья Памиро-Алая. Когда они оба исчезали, сыновей приходилось «подбрасывать» то в Ташкент, то в Алма-Ату. Можно было бы проводить отпуск и зимой, но не будешь же и зимой оставлять мальчишек! Надо же хоть немного побыть всем вместе. Значит, летом, когда у ребят каникулы, спланировав полевые работы так, чтобы открылось маленькое «окно». Сначала выезжали на Иссык-Куль. Но Иссык-Куль — это все же Тянь-Шань, а надо хоть на несколько дней убедить себя в том, что в мире есть не только горы, не только обнажения и разрезы. И вот речка Березайка. Но почему, недоумевали знакомые, чем оно знаменито, это место, куда там есть сходить, что посмотреть? Да ничем и не знаменито. И слава богу. И нечего там смотреть. И это тоже очень хорошо. Просто речка. Просто лес. Трава. Сосны. Небо. Белые облака. Грибы в лесной прели. Лесная ягода. А потом приехать во Фрунзе и разом, в четыре месяца, написать работу!..
— Но вы, как истый исследователь, не удовлетворились этой охотой на паратураммин, — продолжала зачитывать шуточный адрес Дагмара Максимилиановна, — а с истинно мужской смелостью ринулись в пучины математики и, безошибочно рассчитав свою плавучесть, не утонули в ней… Вам можно сделать лишь одно замечание. Вы упустили из виду одну простую формулу: аш равняется единице, деленной на эр, где аш — высота исследователя, а эр — диаметр фораминифер[9], то есть размеры микропалеонтолога обратно пропорциональны размерам исследуемых раковин.
Все засмеялись, ибо прочли в шутке не только намек на довольно-таки внушительный рост новорожденного доктора, сорокалетнего, в лучшей своей поре человека с жесткой, чуть помеченной сединой шевелюрой над крупным, точного рисунка и лепки лицом, но и на разработанный им математический метод разделения планктонных[10] и бентосных[11] фораминифер, известный теперь под названием «формулы плавучести Пояркова». Засмеялся и Поярков. Его давно забавляло то невольно проскальзывающее в людях замешательство, почему-то смущавшихся при знакомстве тем, что он, такой большой и сильный, возится с такими крошечными, жившими многие миллионы лет назад созданиями, которых только в микроскоп и разглядишь. Наверное, все было бы иначе, изучай он окаменелые остатки мезозойских[12] ящеров, каких-нибудь диплодоков или игуанодонов, для погрузки отдельных костей которых подчас требуется автокран. Да и ему в детстве палеонтолог представлялся именно таким, бесстрашно пробирающимся где-нибудь в пустыне Гоби среди громадных костяков вымерших чудищ… В том доме, где прошло детство, таким экзотическим, полным роскошной р-р-романтики видениям конец приходил быстро, едва они только возникали. Хотя бы потому, что отец был главным геологом треста «Средазцветмет-разведка» и привык ко всему подходить с точки зрения практики и здравого смысла. Владимир Эрастович много разъезжал, сына видел редко, но иногда брал с собой. И тогда Будимир узнавал о том, что значит для поисковика слово «поле», что означают на самом деле такие слова, как «горизонт»[13], «свита»[14], и отчего на геологическом компасе, в отличие от обыкновенного, запад словно по ошибке помечен там, где вообще-то должен быть восток.
Когда Будимиру было три года, семья жила в Хайдаркане, где отец, Владимир Эрастович, по совету научного руководителя Таджикско-Памирской экспедиции Дмитрия Ивановича Щербакова занимался промышленной разведкой месторождения ртутных руд. Дмитрий Иванович не раз бывал у них дома и в свободную минуту с удовольствием развлекал маленького Пояркова, не упустив случая четверть века спустя, весело потребовать отчета, что из парня получилось. Геологи называли Щербакова «крестным отцом Хайдаркана». Что ж, он был «крестным отцом» и для него, Будимира…
Фамильные драгоценности
Дом в Геологическом переулке… Сейчас он тих, необычно малолюден, и на веранде не громоздится, как бывало, гора спальных мешков и вьючных ящиков, свидетельствуя о том, что кто-то приехал или уезжает, или просто завернул при переброске с одного участка на другой. Со смертью в 1955 году Эраста Федоровича, с тех пор, как Владимир Эрастович переехал в Алма-Ату, а Буди-мир — во Фрунзе, с тех пор, как совсем недавно и внезапно скончался Володя-старший, дом в Ташкенте словно бы сдал, погрустнел, и только шумные возвращения из школы Машук да телефонные звонки ее подружек, да жизнерадостные набеги юного поколения фрунзенцев и алмаатинцев живо напоминают о том бурном, хотя и нелегком времени, когда все были вместе, а бразды правления обширной семьей бессменно, в течение целых десятилетий держала в своих руках бабушка, Мария Давыдовна Пояркова, урожденная Триере.
Теперь, уступив президентство дочери, Марии Эрастовне, которую все Поярковы от мала до велика привыкли звать Марой, она беззвучно дремлет в своей комнатке, утонув в кресле, в старости, лишь иногда всплывая к границе памяти и беспамятства, с веселым изумлением озирая прожитое.
— Господи, какая длинная жизнь! Так долго нельзя жить! Мне кажется, это было двести, триста лет назад!
Она вспоминает приступами, какими-то вулканическими толчками, она оживает и смеется, ее ничуть не печалит безнадежная старческая немощь. Михаил Васильевич? Ну, для кого Михаил Васильевич, а для нее так Мишка. Мишка Фрунзе, и нечего ее поправлять, как его величать надо. Он с Эрастом на одной парте сидел, еще бы не знать! Дед и Мишка решили ехать в Петербург: Эраст — в университет, Мишка — в Политехнический. Но у Мишки не было денег, и тогда ее отец, Давыд Триере, помощник присяжного поверенного в городе Верном, пошел с обходным листом, набирая Фрунзе денег на дорогу и на первое время.
Своего мужа, Эраста Пояркова, она называет дедом. Наверное, вслед за детьми и внуками. Когда пришла резолюция пятого года и университет был закрыт, Эраст решил продолжать образование во Франции, в Бордо, куда имел рекомендательные письма от гимназического учителя Поля Гурде. Поль был человеком увлекающимся: то он пускался в административную деятельность, то в архитектуру и строительство, то составлял обзорные справки по месторождениям полезных ископаемых Семиречья. Он-то и передал им уверенное знание французского языка, настолько уверенное, что с этой точки зрения им было все равно, где учиться — в Париже или в Москве. Впрочем, Поль отговаривал от Сорбонны, хотя сохранил знакомства с профессурой и там. В Париже — большая русская колония, ее безалаберная жизнь мешала бы серьезному занятию науками, как того хочет Эраст. Надо ехать в Бордо. Там спокойнее, дальше от суеты и всяческих соблазнов, в конце концов, там просто легче прожить, тем более студенту.
Когда Маруся Триере успешно окончила гимназию и собралась в Петербург, в медицинский институт, отец не пустил ее, побоялся. Но в Бордо с Эрастом Поярковым, сыном военного врача Федора Владимировича, — разрешил. Да и, наверное, после того, как Эраст накануне отъезда во Францию приехал на побывку в Верный, в белой форменной тужурке и со студенческими погончиками на плечах, надобность в Петербурге отпала для Маруси. Они были очень дружны. С детства. А раз вместе — пусть будет Бордо.
В Бордо! Сразу после гимназии! Без всякой опеки и помощи! Ил семиреченского захолустья — в прекрасную Францию! В Европу! Из Верного, от которого пятнадцать-двадцать дней пути до Арыси — ближайшей станции железной дороги. Это если «на долгих», то есть с отдыхом и ночевками в глинобитых хижинах караван-сараев, с их грязью и неуютом. «На почтовых», правда, можно было добраться втрое быстрее, но это и втрое дороже! Эрасту было девятнадцать. Ей — на год меньше. Они уезжали всерьез, ни он, ни она не увидели больше Верного, а кто — и своих близких. Теперь близкими друг для друга были они сами.
В Бордо Маруся поступила па медицинский факультет. Ученье давалось легко, она и в гимназии, как принято было тогда говорить, «обнаружила познания весьма удовлетворительные». Но вскоре они поженились, появился Володька, за ним — маленькая Мария, и учебу пришлось оставить. Жилось трудно. Правда, отец присылал сто франков в месяц, но их не хватало. Эраст брался за любую работу, делая ее за счет отдыха, сна, но никак не за счет занятий науками. Боже, как давно это было! Думала, что со временем все же вернется к учебе, не так-то просто отказаться от давней мечты стать врачом. Отказалась, убедившись в том, что ее планы могли бы помешать планам Эраста, отошла на второй план, всю жизнь обеспечивая «тылы» мужа, все более разрастающейся семьи.
Что ж, ее самоотверженность не осталась незамеченной. Володя-старший, получив свой долгожданный диплом гидротехника, тотчас снабдил его дарственной надписью и вручил ей, Марии Давыдовне, оставив себе на все случаи жизни лишь многочисленные копии. А Эраст Федорович посвятил ей («Посвящаю эту книгу моей жене, сыну-комсомольцу и дочери-студентке») «Бомбикс мори». Кто знает, не будь ее, может, не был бы написан и «Бомбикс мори», во всяком случае, это она, жена, выходила Эраста Федоровича, когда он умирал от испанки в занесенных снегами Кузьминках…
В гостиной, на стене, в темной большой раме под стеклом, на темно-голубом, чуть выцветшем от времени бархате — целая коллекция так и эдак уложенных шелковичных коконов, белых, желтых, оранжевых — памятный дар Эрасту Федоровичу не то от учеников, не то от сотрудников, что, впрочем, в большинстве случаев было одно и то же. Рядом, в высоком книжном шкафу, — священный для семьи «Бомбикс мори», внушительных размеров том в пожелтевшей бумажной обложке — труд жизни, посвященный тутовому шелкопряду. В непонятном поначалу соседстве — растрепанное, прошедшее сотни рук, но оттого, может быть, еще более прекрасное издание гоголевских «Мертвых душ» весом в тринадцать фунтов, с портретом автора, гравированном на стали, с тремя сотнями любопытнейших иллюстраций и надписью: «ученику 7 класса Пояркову Эрасту за отличное поведение и отличные успехи…»
В письменном столе Марин Эрастовны, рядом с ее значком лауреата Ленинской премии и орденом Трудового Красного Знамени — серебряная медаль Эраста Федоровича, полученная за успешное окончание университета в Бордо. Медаль у Пояркова должна быть золотой, но университетский статут высшей наградой для иноземных слушателей определил серебро. Лавровые ветви. Послушники, сидящие на низких скамеечках в длинных одеяньях и клобуках. Наставник за высокой резной кафедрой, перед раскрытыми книгами, с руками, сложенными на груди. На обратной стороне — год 1907. Целая вечность прошла, сколько было переездов, дорог и скитаний, утрат, горя — уцелела медаль, уцелело роскошное издание «Мертвых душ», уцелел даренный когда-то фотопортретик Михаила Васильевича Фрунзе, снявшегося и парусиновом кителе, задумчивого и по-мужичьи простого. Все это составляет фамильные драгоценности династии Пояркова. Её «фамильное серебро».
В том же столе, в равной мере принадлежала к фамильным драгоценностям, а может быть, и в первую очередь — тяжелая, большая, чугунного литья памятная медаль уральского общества любителей естествознания с медведем и старательским шурфом[15] ни лицевой стороне, выпущенная в 1887 году в Екатеринбурге в честь сибирско-уральской научно-промышленной выставки. Медаль принадлежала Федору Владимировичу, с которого и началась история дома Поярковых, насколько они могут ее припомнить. Иногда спрашивают: «А вот тот Поярков, что Амур открывал, тоже ваш?» Плечами лишь и пожмут, неизвестно. Словом, до прадеда, военного врача Федора Пояркова, ничего не было, была тьма и обрывки случайных преданий о воронежском псаломщике, сын которого не захотел идти по стопам отца. Потом появился он, Федор Владимирович, его жена — Мария Семеновна. Родился Эраст. За ним — Екатерина. Затем появились Зинаида, Николай, Татьяна, Елена, Владимир и Виктор. Все Федоровичи и Федоровны получили образование. Они были кто врач, кто учитель, кто инженер, кто ботаник, кто метеоролог. Генеалогическое древо начинает ветвиться так густо, что приходится ограничиться лишь ветвью Эраста, его сына Владимира и дочери Марии. Все они, а с ними и Володя-старший, которого так назвали, чтобы не путать с Владимиром Эрастовичем, долго жили одним домом, и потому назвать одинокими Марию Эрастовну или Владимира Федоровича было никак нельзя.
Дом, где прошло детство… По стенам, прорвав обои, змеятся трещины — память о ташкентском землетрясении. Но трещины эти не настолько велики, чтобы решиться на такое немыслимое для занятых людей дело, как капитальный ремонт. Кое-где поперек трещин наклеены узкие полоски бумаги. Мария Эрастовна сокрушенно машет рукой, дескать, что поделаешь: нездоровое любопытство, профессиональный интерес к сдвиговым нарушениям… Она не сразу стала геологом. Не желая огорчать отца, не устояв перед его напором, четыре года занималась физиологией животных, ко в конце концов горы оказались сильней. За открытие крупного месторождения она и ее товарищи получили Ленинскую премию, ей присвоено звание «Заслуженный геолог Узбекской ССР». Это приятно, а все же ничто так не выдает возраста человека, как обилие званий, тем более таких почетных и уважаемых. Много лет была главным геологом. Пока работали в пустыне, это не вызывало у нее особого беспокойства, чувствовала, что справлялась. Но когда экспедиция перебралась повыше, в горы, забеспокоилась, а затем неожиданно для всех подала рапорт и, как ни уговаривали, добилась перевода на должность рангом ниже, в минералоги. Опыт опытом, а «главный» должен быть еще и легким на ногу, чтобы всюду поспеть, ничего не упустить, словом, для дела будет лучше, если ее сменит кто-нибудь помоложе. Да и молодым нужно дать возможность проявить себя, что ж им дорогу загораживать.
Брат, Владимир Эрастович — молодец, дома, в Алма-Ате, совсем не сидит, но она почти никуда не ездит. Да и потом, кто-то должен быть с мамой, с этим домом, с Машук, когда Эра уезжает в поле и когда три Марии остаются в доме одни.
Эра — дочь Владимира Эрастовича и сестра Будимира. Работала в Хайдаркане геологом, там вышла замуж. Но фамилию не сменила. Муж оказался человеком «простецким», «без предрассудков», «без претензий», той простоты, которая, однако, хуже воровства. Ушла, едва родилась дочка, назвав ее Машенькой. То ли в честь тетки, то ли — бабушки, а то и прабабушки: Машук. Хандрить не дал отец. Надо заниматься делом, все прочее — по боку, надо работать! Диссертация была почти готова, когда ударило землетрясение 1966 года, и часть шлифов погибла. Но это лишь задержало работу, и только. Теперь она — кандидат наук, занимается петрографией[16] основных изверженных пород, воспитывает Машук.
Машук, кстати, менее всего походит на пассивный объект педагогической экспансии. Она сама воспитывает и повелевает, успешно противопоставляя размеренному рационализму взрослых энергию двенадцатилетнего фантазера, на каждом шагу открывающего вокруг себя мир, в котором кое-что есть. Хотите, она залезет на антресоли? Если залезть на антресоли и хорошенько там покопаться, можно найти громоздкий полированный ящик с треногой — фотографический аппарат, которым снимал еще брат прадеда — Николай Федорович, накрываясь черным сукном и призывая глядеть вот в эту самую дырку, откуда вылетит птичка. Наверное, именно Николай Федорович, домашний фоторепортер семейства Поярковых в верненский период и именно этим аппаратом сделал ставший таким известным снимок Миши Фрунзе, Эраста Пояркова и их товарищей перед путешествием на Тянь-Шань. Поярковы всегда занимались фотографией. Занимаются и сейчас.
Однако, пожалуй, никто из них, даже Николай Федорович, но перешагнул того рубежа, когда, глядя на фотографию, не спрашивают, кто, где, что снято, а спрашивают, кто снимал.
Линейка инженера Пояркова
Перешагнул этот рубеж разве что Володя-старший, ничуть не придавая своему успеху ни малейшего значения, скорей всего и не подумав о нем. Как и все по-настоящему талантливые люди, он был чрезвычайно щедр, даже расточителен во всем, что делал, не суетясь, не мельтеша в заботах о создании и приумножении лестного представления о своей персоне. И эти фотографии, с которыми иной человек непременно и не без оснований отправился бы на штурм редакций и выставочных комитетов, Владимир Федорович печатал наспех, по принципу — как получится, чтобы, раздав многочисленной родне для семейных альбомов, тотчас забыть о них ради главного своего дела. Да и гидротехникой, если глянуть со стороны, он занимался порой как-то несолидно, несерьезно, то часами просиживая над совершенно чистым листком бумаги, то что-то мастеря в саду, у водопроводной трубы, из всякого железного и деревянного старья. И как соразмерить, как догадаться, не будучи посвященным в его думы, что жалкая, кое-как сколоченная модель есть прообраз тех гигантских конусных водовыпусков, из которых сейчас в горах Тянь-Шаня, на Орто-Токойском водохранилище, вырываются громадные, белоснежные, бешено рвущиеся ввысь грифоны, в сплетении радуг и алмазной измороси даруя жизнь чуйским полям?
В Ташкент, в Геологический переулок, нежданно-негаданно пришло письмо от Романа Кармена.
За письмом Кармен прислал и книгу. Она называлась «Автомобиль пересекает пустыню». В ней фигурировал гидротехник Поярков, который вместе с оператором Карменом, журналистом Эль-Регистаном и профессором Цинзерлингом в августе 1933 года участвовал в автопробеге Москва — Кара-Кумы — Москва, осуществив ряд важных исследований на самом трудном и неизведанном участке трассы — от Ташауза до Красноводска. «Скупой на слова, замкнутый, — писал о гидротехнике Кармен, — он производил впечатление человека, испытавшего много невзгод и лишений, преодолевшего немало трудностей в жизни…».
Да, это был Владимир Федорович. И он не изменился с годами.
Его ничуть не тревожило, как он выглядит со стороны, и если он одевал галстук — значит, предстояло нечто из ряда вон выходящее, а именно: поездка за границу, в Афганистан, где Владимир Федорович консультировал строительство оросительной системы и водозаборного узла на реке Кабул.
Его ничуть не занимало, достойную ли оправу своим способностям он выбрал, и в личном листке, который хранится в ташкентском «Средазгипроводхлопке», сделаны всего лишь две заимей: первая — о поступлении на работу в 1929 году, вторая — «ув. 17/Х—1968 г. ввиду смерти». Ему по разным обстоятельствам не раз приходилось писать автобиографии, но все они занимали страничку с небольшим и повторяли одна другую. Проходили годы, десятки лет, но он ничего не добавлял, не дописывал и раз и навсегда появившемся варианте, считая, что фразы «принимал участие в крупных ирригационных стройках», где он «работал ив качестве проектировщика и техноруком», вполне достаточно и большого он не заслуживает.
Доктор Айболит. Так за глаза называли его при жизни, так вспоминают его в институте «Средазгипроводхлопок» и теперь, повторяя, что раньше при всякой беде бежали к нему, а теперь вроде и бежать не к кому, не бежать же к самому себе! В официальных бумагах это было выражено следующим образом:
«Вменить в качестве основной обязанности т. Пояркову В. Ф. проведение экспертизы проектов, выполняемых в институте и его филиалах. Замкнутый, отчужденный, он безмолвно день-деньской сидел над чьими то листами ватмана и синьки, неприступный в своей хмурой нелюдимости, как это могло показаться не знающему его человеку. Но вот кто-то подошел, что-то спросил, и мягкая, добрая улыбка, постоянная готовность серьезно, мудро ответить на самый неловкий, неумный вопрос враз преображали этого пожилого, медлительного человека, прознанного за глаза «доктором Айболитом».
В гостиной, между двух окон — несколько фотографий, прибитых гвоздиками прямо к стене, так, чтобы они всегда были на виду. Внуки. Отцы и дети. А вот и он сам, Владимир Федорович Поярков, с широким русским лицом, с мешками под глазами, весь в пыли, сидит, запахнувшись в овчинный тулуп, пристроившись прямо на земле, где-то в пустыне, посреди изжеванных ветром метелок чия, с карабином под рукой. Снимок сделан во времена каракумского пробега. Впрочем, это не совсем точно. Пробег — всего лишь яркий, эффектный, но все же частный случай в растянувшейся на годы тяжелой изыскательской работе. Да и не только изыскательской. Дом в Геологическом переулке хранит два небольших альбома из серого картона, очень скромных, даже без обложек. Вот она, вся его жизнь, увиденная его глазами и рассказанная им самим! Пустыня и облака. Одинокий тополь, гнущийся под ветром в закатном небе. Обрывистые, лессовые берега, медленно проплывающие мимо экспедиционных лодок, изыскатели, плывущие куда-то вниз по великой Аму. Туркменка в своем перегруженном украшениями наряде. Строители, роющие канал. Строители, сколачивающие опалубку, вяжущие арматуру, отдыхающие с карабинами в руках, потому что совсем рядом, в песках, отсиживаются последние охвостья джунаид-хановских банд. Строители, обнаженные по пояс, с кетменями и тачками, в полосатых бухарских халатах, в красноармейских гимнастерках, в черных сатиновых косоворотках. Базар в Ходженте. Крупно, во весь кадр — прилавки, заставленные горшками. Во весь кадр — сплошные ряды тюбетеек. Древняя дверь с круглыми шляпками кованых гвоздей. Горец, заглядывающий под колеса впервые увиденной машины. Фелюги под парусами. Руины средневековых гробниц Куня-Ургенча, купола и минареты, экспедиционный пикап, по ступицу застрявший в кишлачной грязи. И снова вододелители, черные от загара люди с лопатами, топорами, геодезическими рейками в руках, буфера вагонов и рябь шпал под ними, трактора «Интернационал» под развернутыми транспарантами. И еще — давно не беленная стена, гвоздь, на гвозде кепка, карабин, бинокль, полевая сумка. Под снимком надпись: «Конец изысканий».
В снимке и надписи сквозит явное облегчение. Нет, настоящий изыскатель так не скажет. Разве можно жить без нехоженых трон и костров, палаток, первых колышков, всего того, что столь упорно воспевается в написанных на этот счет романах и песнях, рассказах и кинолентах, которым нет числа, всего того, что позволяет изыскателям встать на цыпочки и с этой высоты поглядывать на всех тех, кто идет следом? А тут повесил на гвоздь кепку, полевую сумку, протер носовым платком стекла очков и облегченно вздохнул, дескать, все несущественное, прогулочное осталось позади, а вот теперь, наконец-таки, можно заняться делом и посерьезней.
Да, Поярков не был настоящим изыскателем, хотя, к примеру, он инструментально доказал возможность подачи амударьинской воды в обход Сарыкамышской впадины в древнее русло Западного Узбоя, чтобы оросить восточное побережье Каспия. Он был «Сооружением», и ни одно крупное ирригационное строительство в Средней Азии в наиболее ответственных частях не обошлось без его самого активного, решающего участия. Он занимался обводнением западной Туркмении, переустройством орошения Ферганы и Хорезма. Строил Куйган-Ярскую плотину, Фархадскую и Варзобскую каналы Большой и Южный Ферганские, Большой Гиссарский, Северо-Ташкентский, Аму-Бухарский, он разработал несколько типов оригинальных гидротехнических сооружений, и за новый тип плотины был удостоен большой серебряной медали ВДНХ. Третий орден «Знак Почета» он получил за Айни. Он сидел, обедал, когда нарочный из института передал просьбу выехать в командировку на Заравшан, где у кишлака Айни сошел громадный оползень, преградив путь реке. Река перед завалом превратилась в озеро, угрожая опустошительным наводнением расположенным ниже по течению селениям и древнему Самарканду.
— Когда ехать? Завтра?
— Сейчас. Машина у ворот.
Он уехал дня на два, по вернулся лишь через месяц. Газеты тех дней много писали о мужестве бульдозеристов, пробивших в толще завала обводной канал. И это святая правда. Хотя и не вся. Но о мужестве людей, принимающих то или иное ответственное решение, писать не принято. Может, оттого, что оно не столь очевидно, как очевиден, скажем, бульдозер, ворочающийся под ненадежной, грозящей обвалом стенкой забоя.
У Владимира Федоровича не было ученой степени. Но б рабочем столе чуть ли не каждого гидротехника хранится счетная линейка инженера Пояркова. Она очень похожа на знакомую-всем логарифмическую линейку и столь же обязательна в работе тех, кто занят расчетами каналов. Линейку Поярков изобрел в 1933 году. И с тех пор постоянно над ней работал, совершенствуя ее в соответствии со всем тем новым, что появлялось в гидротехнике. Линейка сберегала и сбережет проектировщикам не одну тысячу дней работы. Но вот, чтобы добиться ее издания, Пояркову понадобилось ничуть не меньше. Не получил он и патента на свое изобретение. Видно, и впрямь «нет пророка в своем отечестве», тем более для работников патентного бюро. Первое время Поярков и его единомышленники сами делали линейки — из фанеры и фотооттисков. Затем ее издал Ленинград. Теперь — Киев. Но этой киевской, модернизированной линейки Володя-старший уже не увидел.
Последние годы он часто вспоминал гражданскую войну, с глубоким замиранием сердца вновь и вновь переживая посвист пуль, пролетавших над его головой чуть ли не полвека назад. Наверное, теперь страшила не смерть. Вернувшееся поздним эхом и оттого еще более острое чувство было вызвано сознанием той очень возможной и непоправимой нелепости, когда бы одна из шальных пуль нашла его и когда бы враз ничего не стало: ни университета в Ташкенте, ни изысканий на Аму, ни славного каракумского пробега, ни Большого Ферганского канала, ни счетной линейки, ни коробчатых воздушных змеев, которых он запускал для всей той поярковской детворы, что приходила, уходила, а он, Володя-старший, оставался. И это было бы куда большим несчастьем, чем сама смерть.
Проще простого могло с ним такое случиться. С осени 1918 го да по ноябрь 1921 года служил он рядовым стрелком и связистом в 135 полку 15 дивизии Южного фронта. А чтобы расшифровать эту строчку из куцей, в духе Владимира Федоровича написанной автобиографии, следует обратиться к тем страницам из книг Михаила Васильевича Фрунзе, которые касаются разгрома Врангеля вообще и действий в этой операции 15 дивизии шестой армии в частности. В ночь с 7 на 8 ноября по приказу командующего Южным фронтом бойцы 52 и 15 дивизий вошли при десятиградусном морозе в ледяные топи Сиваша и неожиданным для белых ударом обрушились на укрепления Литовского полуострова, угрожая Перекопу с фланга и тыла. Их косили пулеметами. Забрасывали снарядами. Снаряды уходили на дно Гнилого моря и выбрасывали оттуда черные фонтаны грязи, разя осколками. Раненых не было они тонули. А когда красноармейцы пошли в рукопашную, враг бросил в контратаку свои лучшие силы — офицерство дроздовской дивизии и отряд бронемашин. Весь день — ожесточенный бой. В обледенелых гимнастерках. Без пищи. Без воды. Без возможности обогреться, без мало-мальски налаженного снабжения, ибо все обозы остались на северном берегу. Ветер, согнавший воду с Сиваша, до поры до времени был союзником. Но затем переменил направление. «К вечеру наше положение здесь стало весьма угрожающим, — докладывал «командюж» Фрунзе в телеграмме главкому, копия — В. И. Ленину, — в связи с прибылью воды в Сиваше, грозившей отрезать 15-ю и 52-ю дивизии… В связи с сложившейся обстановкой и возможностью контратаки к утру, и в 24 часа отдал категорический приказ произвести немедленно ночной штурм Перекопа с ударом на Армянок частями 15-й и 52-й дивизий. Штурм увенчался успехом. Противник обороняется ожесточенно, и мы несом очень большие потери»…
Осенью 1921 года профессор Туркестанского университета Эраст Федорович Поярков отправил письмо своему гимназическому другу Мише Фрунзе, теперь, впрочем. Михаилу Васильевичу Фрунзе-Михайлову, командующему всеми вооруженными силами Украины и Крыма, уполномоченному Реввоенсовета. В письме была просьба разыскать Володьку; по семейным слухам он находился где-то во вверенных ему, Фрунзе, частях.
Эраст писал, что Володька — парень совершенно исключительный. Пока учился, его четыре раза выгоняли из гимназии за всякие проделки, но голова есть, а может стать и полезной. При университете открылся военный факультет, приемный устав которого разработан, кстати, им же самим, Михаилом Васильевичем. Володьке надо учиться.
Письмо дошло. В результате переписки двух друзей детства рядовой 135-го полка Поярков Владимир (1900 года, русский, беспартийный, сын военного врача, среднее, холост, не подвергался, не имеет, не имеет, не имеет), оказался в конце концов в Ташкенте, в доме своего старшего брата. Военный факультет был к тому времени упразднен, и Владимир поступил на инженерно-мелиоративный.
Формула девонских морей
Димка Поярков… Вот он, на том же простенке в гостиной, рядом с фотографией Владимира Федоровича, им же и снят — конфузливо улыбающийся пацаненок в заломленном на затылок картузе, в штанишках с помочей через плечо, прячущий руки за спиной. Теперешней Машук не дает покоя древний фотографический ящик. Тогдашний Димка зачитывался прадедовскими записями — двумя толстыми тетрадями в кожаном переплете с подробным описанием некоторых обычаев, обрядов киргизов и дунган, пересказом их басен и пословиц. Прадед любил писать. Любил хорошую бумагу. Своих знакомых, едущих но делам в большие города, он всегда просил об одном и том же: привезти хорошей бумаги. Когда Федор Владимирович умер и семья засобиралась в Петербург, где учились старшие дети, архив покойного составил груз для двух телег. Впоследствии Зинаидой Федоровной часть архива была передана в отдел редких изданий и рукописей алмаатинской библиотеки имени Пушкина, где она хранится и сейчас. Остальное погибло в войну, а сама Зинаида Федоровна, не выдержав блокады, умерла. После войны в опустевшей квартире ленинградских Поярковых побывал Владимир Эрастович. Нашел две книги — Бартольда и Мушкетова, а в пустом сундуке, в его секретном отделении, — неожиданно сохранившийся золотой бурхан[17], привезенный дедом из Кульджи.
Куда подевались тетради в кожаных переплетах, теперь сказать трудно. Но память осталась. Она заменила те сказки, без которых невозможно детство. Дед, Эраст Федорович, сказок не рассказывал. Ему вообще трудно было общаться с детьми, внуками, он был болен и плохо слышал, но он помог познать вкус математики, заронил потребность в математическом мышлении, но, конечно, прежде всего заинтересовал биологией, и Дима, пусть это было и недолго, охотно возился с шелковичными червями. А еще был Владимир Федорович. По вечерам он поступал в полное распоряжение своей малолетней родни, и он тоже знал все. Но он не только знал, скажем, художественную литературу. Он понимал ее. Он не только мог рассказать, например, о термодинамическом эффекте — он смастерил на крыше дома солнечную батарею, и даже в тусклые осенние дни у них в кухне лилась вполне добротная горячая вода. А еще был отец. Он привозил из командировок кроваво-красные от киновари[18] куски известковых брекчий[19], то вознесенный на самый верх ликованья очередной находкой, то низвергнутый в бездну отчаянья очередным фортелем самой коварной обманщицы на свете — ртутной руды.
Дима неплохо бегал. Был даже чемпионом республики, по стометровке. Когда он поступил в институт, эти чемпионские лавры самым неожиданным образом повлекли за собой события, которые, может быть, и решили его судьбу. Хотя с таким же основанием можно подумать, что все началось с самого обыкновенного «огоньковского» кроссворда, который совсем некстати попался в руки перед самым отъездом на летнюю практику, когда оставалось только схватить рюкзак и поспешить на остановку, чтобы не опоздать на автобус. Еще б минута, и он уехал, и кто знает, что стало бы дальше, но Будимир никак не мог подобрать какое-то там слово из шести или тринадцати букв, и тут, застав сто почти в дверях и чрезвычайно этим обрадованный, появился посыльный с факультета, предложив немедленно следовать в деканат. Оказывается, практика для Пояркова не состоится. Он едет, оказывается, в Одессу и там, в составе сборной, будет достойно защищать спортивную честь родного института в товарищеской встрече с Одесским политехническим. Если, конечно, эта честь ему дорога.
Подобная постановка вопроса наталкивала на бунт. Все же поехал, да и так ли уж плохо поглядеть Одессу? Вернувшись, товарищей своих, конечно, уже не застал, и чтобы лето не пропало, устроился, по совету отца, в палеонтологический отряд Андрея Дмитриевича Миклухо-Маклая. Да, родственника того самого, но замечательного вовсе не своим происхождением: он и сам был незаурядной личностью и исследователем.
Доцент кафедры исторической геологии Ленинградского университета, Андрей Дмитриевич проводил сезон в районе Хайдар-кана и подыскивал в свой отряд не то рабочих, не то коллектора. Тогда Будимиру было все равно, с кем и куда ехать. Через год ехал с Миклухо-Маклаем уже по невозможности заниматься чем-то иным. В палеонтологию подчас зазывают экзотикой. Мамонтом или птеродактилем[20]. Однако теперь, при всем уважении к мамонтам, он, не оглядываясь, прошел бы мимо целого их лежбища, торопясь к виднеющейся вдали гривке палеозойских известняков, в шлифах из которых, может быть, окажется несколько девонских фораминифер, пусть даже и плохой сохранности.
Ну, может, это и сильно сказано. Оглянется, конечно, все же любопытная штука — мамонт, из высших, многоклеточных, из позвоночных, экая махина! А фораминифера — из простейших, капелька протоплазмы в крошечной раковине, пронизанной необходимыми для жизни отверстиями-фораменами. Чтобы разглядеть такую окаменелость в куске породы, нужно сточить образец до нескольких микронов, наклеив при помощи канадского бальзама на предметное стекло. Шлиф, а это он и есть, вы водрузите на так называемый предметный столик микроскопа, прижмете двумя защелками, припадете подглазьем к окуляру, чуть тронете рифленую головку доводки на резкость, и тогда в проходящем свете взгляду откроется чуть желтоватая, загрязненная тончайшим глинистым материалом монотонная карбонатная масса, а и ней, вот повезло! — странная зубчатая окружность, то с овальными ячеями камер, то вымощенная, как брусчаткой, гранулами перекристаллизованного кальцита, расцветающего при вращении столика в золотистые и оранжевые тона. Вы осторожно трогаете шлиф, ставите находку в крест нитей и тут же замечаете еще, еще раковинки, характерные, так называемые «руководящие» формы, хорошо знакомые вам по тем отложениям, чей возраст достоверно определен по многочисленной макрофауне — раковинам брахиопод[21] и гониатитов[22]. А в этих известняках, возраст которых вам надо сейчас определить, не было ничего. Напрасно ползали геологи по склону, буквально не жалея молотков в поисках окаменелостей: никаких следов! А все контакты толщи закрыты наносами, а дальше, по простиранию, она срезана разломами и, значит, непосредственным наблюдением ее не проследить. Совершенно «немая» толща! И пока она не «заговорит», в геологической карте района, как брешь, будет зиять неопределенной раскраски пятно, помеченное вопросительным знаком. И тут ваш шлиф! И их у вас не один, а десятки, они взяты из каждого слоя, по всему разрезу, хотя вы еще не знаете, где у разреза верх, где низ и единый ли это разрез, а не мозаика разновозрастных блоков, притертых друг к другу по скрытым разломам и надвиговым плоскостям. Но теперь это уже не страшно. В шлифах есть микрофауна, а у вас та ариаднина нить, с помощью которой при известном терпении и криминалистических способностях можно прийти к истине.
Крупные фораминиферы достигают подчас таких размеров, что их можно увидеть даже без лупы — целые миллиметры! Во всяком случае, они были замечены еще в известняках египетских пирамид, что своевременно и было зафиксировано вначале Геродотом, потом Плинием и так далее. Но до самого недавнего времени фораминиферам не придавалось особого значения как инструменту для возрастного расчленения толщ, уж больно неприметными они были. А ведь стратиграфам для опознания геологических формаций нужны были такие организмы, такие «руководящие формы», которые, появившись, «мгновенно» расселялись на максимально больших пространствах и столь же «мгновенно» вымирали, сменялись другими формами, оставляя те опорные горизонты, от которых геологам легче «плясать» дальше. И вот многие виды фораминифер таким именно инструментом и оказались. Чутким и универсальным, без самого активного применения которого невозможно представить современную геологию. Кто не слышал о неисчислимых богатствах «второго Баку», открытого в послевоенные годы советскими геологами? Но только специалисты и знают, какое колоссальное значение для поисков и разведки этих крупнейших месторождений нефти имела и имеет стратиграфическая шкала, которая была разработана Дагмарой Максимилиановной Раузер-Чсрноусовой, крупнейшим в стране знатоком фораминифер.
— Дима, — сказал Андрей Дмитриевич Миклухо-Маклай, — твоя задача — девон. Фораминиферы девона. Они почти не изучены. Во всей мировой литературе — всего несколько работ, журнальных публикаций, и ни одной сводки. Твоя будет первая. Крайне нужная работа, если, конечно, ты сделаешь ее такой.
Именно такой он и хотел ее сделать, нужной. Насыщенной методологическими разработками, которые войдут в практику. Иначе незачем браться. Конечно, собрать воедино все сделанное до тебя — работа, вполне заслуживающая уважения, но даст ли простая компиляция возможность разобраться во всем имеющемся материале, который, кстати, не так и мал — триста шестьдесят видов, причем некоторые из них так близки друг к другу, что невольно приходит мысль, не одно ли это и то же? Фораминиферы девона примитивно устроены, диагностические признаки невыразительны и набор их крайне мал, а там, где все зависит от тщательности наблюдений, там, как нигде, проявляется и субъективизм исследователя, вызванный не только степенью добросовестности или подготовки, но и различием в подходе, в оценках тех признаков, которыми одна систематическая единица отличается от другой. Как преодолеть этот субъективизм? Как удостовериться в реальности признаков, на которых зиждется классификация? Ведь чем тщательней человек вглядывается в окружающий мир, тем больше разновидностей он обнаруживает даже в пределах одного вида. Где же выход? В самый разгар мучительных раздумий в руки попал первый том недавно вышедших избранных произведений Вавилова. Не случайно, конечно, попал, это имя он слышал еще от деда, восхищавшегося новаторскими идеями замечательного ученого; теперь пришел черед восхищаться и ему. Да и не восхищаться, это не то слово, просто обрадоваться могучей поддержке, прозвучавшей уже в заглавии первой же статьи «Закон гомологических[23] рядов в наследственной изменчивости». «Бесчисленное многообразие, хаос бесконечного множества форм, — писал Вавилов, — заставляет исследователя искать путей систематизации, синтеза». Такой путь ученый усматривал в установленном им явлении параллелизма в изменчивости генетически близких подразделений. А это означало, что «…зная ряд форм в пределах одного вида, молено предвидеть нахождение параллельных форм у других видов и родов». И конкретно: «Целые семейства растений в общем характеризуются определенным циклом изменчивости, проходящей через все роды и виды, составляющие семейство».
Это уже было прямым руководством к действию. Итак, каждое семейство характеризуется единым планом изменчивости. А он, изучив целые группы родов, установит те или иные планы изменчивости и, следовательно, получит надежную основу для более четкой систематизации изучаемых форм! Будимир выписал все признаки видов девонских фораминифер. Составил картотеку. И принялся составлять громадные «простыни», ставя под индексами то крестики, если признак присутствовал, то прочерки. Вот они, гомологические ряды Вавилова! Астроризид и аммодисцид[24] обычно относили к разным отрядам, а ничего подобного! Они едины!
Благо, материала для таких «простыней» было предостаточно. Тщательно переизучил коллекции ряда палеонтологов, детально ознакомился с тиманскими, уральскими простейшими. Конечно, девон Урала богаче киргизского, но в Киргизии прекрасно работать, идеальная обнаженность, продолжительный полевой сезон, да и так уж повелось, традиция, фамильная привязанность к краю, тем более, к горному обрамлению Ферганы. Основой, разумеется, явились свои коллекции. Да еще как начальнику палеонтологической партии ему приходилось заниматься микропалеонтологическими материалами всех геологосъемочных партий управления — огромная, трудоемкая, черновая работа, с одной стороны, дававшая возможность благодатного знакомства с почти неограниченным количеством шлифов, а с другой — запиравшая в рамки такого узкого практицизма, что хотелось выть волком. Те исследования, которые он вел по фораминиферам девона, никаких рамок не признавали, неудержимо увлекая в самые неожиданные для него сферы наук, то в математическую статистику, то в генетику, то в океанологию, то в геохимию. И в геохимию! Ведь главное, что определяет изменчивость морских организмов — это колебание фона естественной радиации; а это, в свою очередь, связано прежде всего с выносом в моря и океаны радиоактивных изотопов калия, тория, урана, радия, то есть, с геохимией Земли. А геохимия океанов? По аналогии с современными водоемами была выдвинута идея глубоководного происхождения кремнистых осадков. Для Урала это не вызывало особенных возражений. Но на Тянь-Шане кремнистая формация[25] нередко соседствует с мощными толщами известняков. Так что же, допустить перепад между глубиной формирования этих осадков в четыре-пять километров? Не логичнее ли допустить, что в девоне условия осадкообразования были совершенно иными, ибо содержание углекислоты в атмосфере и океане было в десятки раз выше, чем теперь? Ведь все громадные цепи гор, сложенные известняками, все бесчисленные месторождения угля, горючих сланцев — все это погребенные, «законсервированные» углерод, углекислота, извлеченные из атмосферы и океана с развитием на Земле органической жизни!
Не логичнее ли предположить и то, что вследствие климатической зональности критическая глубина карбонатообразования была на Урале иной, нежели на Тянь-Шане? При этом, решая задачу «от противного», определяя положение критической глубины для разных районов, мы получаем возможность установить расположение в прошлом климатических поясов, древних экватора и полюсов, то есть подойти к решению узловых вопросов древней географии Земли.
Глубины древних морей запечатлены в составе сформировавшихся там отложений. По одной из существующих методик глубины определяются по соотношению планктонных, то есть свободно плавающих фораминифер, и бентосных, то есть живущих на дне, в мелководье. Но ведь раковинки планктонных фораминифер, отмирая, тоже опускаются на дно, смешиваясь там с бентосными формами. Как отличить их? По массивности раковин? Это не решающий признак. В любом случае суммарный вес протоплазмы и скелета всегда больше веса вытесненной воды. Все дело в пузырьках газа, заключавшихся в протоплазме. Они определяют плавучесть. Вернее, определяли. Прошли десятки, сотни миллионов лет! Там, где расстилался бескрайний девонский океан, выросли громадные горные цепи Памиро-Алая, а вам нужно определить, было ли достаточно пузырьков газа в живой ткани когда-то существовавшего простейшего организма, от которого если что и осталось (преклоните колени, криминалисты), так это известковая скорлупа, которую еще нужно суметь разглядеть в микроскоп. Но он рассчитал целую серию таблиц, составил графики, и когда формула плавучести все же получилась, когда она выдержала испытание на 132 девонских формах, а затем, по предложению академика Меннера, — и на современных, только что вы ловленных в Индийском океане, уселся… писать стихи. О… фораминиферах!
И как те формы возникают, Периодически живут, И как этапность порождают, Давая вспышки там и тут… Проблемы дальних корреляций И сверхдетальных местных схем, Таинственных путей миграций, Экологических проблем. Как много их в столь малых зверях!При желании стихи можно было петь на мотив утесовской «Как много девушек хороших». Но в диссертациях стихи помещать почему-то не принято, и этого было немного жаль. Рецензенты отсутствия стихов не заметили. Академик Меннер лишь подчеркнул исключительный интерес монографии для практики изучения девонских отложений и указал ка необходимость скорейшей публикации работы. А профессор Раузер-Черноусова назвала монографию Пояркова первой в мировой литературе сводкой подобного характера по фораминиферам. Затем Дагмара Максимилиановна зачитала поздравительный адрес. И такие стояли под ним весомые автографы, что, уже ничуть не сомневаясь в своем успехе, который будет подтвержден ВАКом, в худшем случае через несколько месяцев, Будимир поспешил на междугородную, чтобы звонить в Алма-Ату, отцу.
В преддверии Хайдаркана
Отец, Владимир Эрастович Поярков, нередко сокрушался, может, немного даже всерьез, что вот, дескать, сын наступает на пятки. Так было, когда они с разрывом в один год защищали кандидатские диссертации, так было и теперь. Правда, Владимир Эрастович стал доктором наук чуть раньше, весной 1968 года, то есть ни много ни мало, а на шестьдесят втором году жизни. «Явное недоразумение, — сочувственно сердился один из членов Ученого совета, — почему нужно добиваться ученой степени по 15–20 лет? Очевидно, потому, что соискатель и оценители не всегда соответствуют друг другу. Это упрек ВАКу, из-за недостатков работы которого ряд работников науки и практики испытывает затруднения, которых не должно быть…»
Лестный комплимент. Хотя и не совсем точный. Он не добивался степени. Она пришла, как при попутной добыче с главным металлом приходит второстепенный, ради которого, взятого отдельно, едва ли стоило городить огород. Он работал. С той самой осени 1926 года, когда они с Владимиром Поповым, ныне академиком Узбекской Академии наук, открыли Хайдаркан.
Собственно, Хайдаркан открыли не они. Открыл его Дмитрий Иванович Щербаков, сподвижник Ферсмана, научный руководитель Ферганской поисково-разведочной партии. Он открыл месторождение, даже не побывав там, а просто развернув карту и занявшись для первого знакомства местной топонимикой. Сымап? Так ведь это же в переводе означает «ртуть»! Хайдаркан? Не значит ли это «великий рудник»? А затем два студента-практиканта, загрузив выделенного им ишака всем необходимым, отправились в рекогносцировочный маршрут, не предполагая, что этого маршрута хватит на целую жизнь.
Но Щербакову Владимир Эрастович обязан не только тем, что тот «свел» его с Хайдарканом. Щербаков «свел» его вообще с геологией, хотя к моменту их первого знакомства, к весне 1924 года, восемнадцатилетний Владимир, проучившись год на химическом отделении физмата Среднеазиатского университета, уже перешел на геологическое. Перешел, но в решении своем еще не утвердился. Увлечение химией было навеяно рассказами друзей отца, часто бывавших в их доме, — профессоров Раковского и Прозина. Увлечение геологией имело фундаментом недельную геологическую экскурсию в Сары-Агач, где можно было полюбоваться на обломки ископаемых стволов деревьев, а вообще — необычайную в ту пору популярность геологов, пору, когда новый хозяин земных недр только что приступил к знакомству со своими владениями.
А тут Дмитрий Иванович. Он появился на кафедре минералогии с академиком Ферсманом. И пока Александр Евгеньевич разговаривал с профессором Уклонским, заведующим кафедрой, Щербаков знакомился со студентами. А студенты знакомились с ним. Потом студенты сложили о нем песенку: «Длинный нос, как спичка, худ, это главискатель руд». Он сразу пришелся по душе не только своей увлеченностью, но и умением увлечь других, своим добродушием и благожелательностью, своей непоказной, искренней внимательностью к другим, бескорыстной заинтересованностью в них, своей доступностью. Доступность для людей, занятых большой научной и организаторской работой, — обременительна. Щербаков, кажется, такой обременительности никогда не испытывал, легко, непринужденно сходясь с самыми разными людьми. «Ерунда, никуда ваши «хвосты» не денутся. Поедемте со мной в Карамазар, хочу посмотреть, что нового дают разведки в Табошаре», — говорит он Пояркову в следующий свой приезд, случайно встретив его в длинном университетском коридоре, где Владимир, лишенный из-за вовремя не сданных зачетов права выехать на полевые работы, мрачно переживал свою беду. Геолог, околачивающийся летом в городе, — явление невообразимое для Щербакова, необъяснимое, такого не может быть, и, значит, Все к черту! Осенью все образуется, а пока — в путь! И он увлекает Пояркова за собой, они уезжают. Спустя сорок лет, в сборнике воспоминаний, посвященных памяти выдающегося советского ученого, крупнейшего организатора геологических наук, Поярков напишет: «Рано утром мы в старом Ходженте. Нанимаем шикарный пароконный фаэтон и за несколько часов добираемся до устья Уткем-Су. Расплачиваемся с извозчиком, который подозрительно смотрит на чудаков, прощающихся с ним в совершенно безлюдном месте. «Он принимает нас за беглых преступников», — шепчет мне на ухо Дмитрий Иванович».
На курсе, где учился Владимир Эрастович, студентов было немного, всего 7–8 человек. Многие перевелись в Москву, в Ленинград, то ли недовольные преподавательским составом, то ли вообще постановкой занятий в этом только организованном университете, которому, конечно, трудно было тягаться со старейшими учеными заведениями страны. «Может, и ты поедешь? — спросил как-то сына Эраст Федорович. — Михаил Васильевич помог бы в случае чего, я напишу ему, хочешь?» Владимир отказался наотрез. Уехать из Средней Азии? Но где еще можно по семь-восемь месяцев в году проводить в поле, получая неограниченную возможность самостоятельной проспекторской работы, ото ли не школа? А во-вторых, хорош ли он будет комсомолец, если начнет с протекций, с использования папиных знакомств? Да и гремя было не такое, чтобы заниматься собственной персоной; шли дискуссии, острые схватки с левой, правой оппозициями, с троцкистами, которых было немало в ячейках тех воинских частей, где он, пропагандист райкома комсомола, вел кружки политучебы второй ступени. Не приходилось скучать и в студенческих советах самоуправления. Ведь от того, какая по духу профессура займет в университете ключевые посты, зависел и сам дух университетской жизни. И это тоже была школа, давшая ему боевую выучку комсомольцев двадцатых годов, с их бескомпромиссностью, неуменьем ловчить, с их правилом без всяких оглядок говорить то, что думаешь.
Но какое это было необычное и боевое время! Традиционное умиление по поводу невозвратных дней златой юности? Ничуть! Время было действительно «что надо». В том все счастье и заключалось, что молодость совпала с молодостью страны, с энтузиазмом и смелостью первых советских пятилеток. И это тоже была школа, и первый урок ее он получил, едва сменив так называемую студенческую скамью на еще более мифическое кресло начальника партии по поискам и разведке строительных материалов. Весь развороченный, в пыли и гари первых строек, заштатный кишлак Душанбе должен был в считанные годы превратиться в белокаменную столицу Таджикистана. Нужен кирпич, а значит, и кирпичный завод, а прежде всего то месторождение глины, па котором этот завод можно будет ставить.
— Когда сдадите месторождение? — спросили Пояркова, едва он пришел представиться местному руководству.
— Согласно проектному заданию.
— То есть?
— На будущий год.
Его подвели к окну. А за окном, на раскаленном добела солнцепеке он увидел разноязыкое, пестрое скопище людей с лопатами, кетменями и тачками, увидел армейские палатки, огромные артельные казаны, исходящие синим чадом подгорелого хлопкового масла, увидел врытые в землю свежетесаные столбы из горбыля и красные, еще не успевшие выгореть, транспаранты, натянутые меж белых от пыли карагачей.
— Здесь две тысячи рабочих. Они прибыли строить завод и через две недели начнут рыть котлованы. Вот ваше время. Другого нет. Через месяц первая печь должна дать кирпич. Что-нибудь непонятно?
Поярков вышел в полной растерянности. То, что ему предлагалось, казалось делом совершенно немыслимым, кощунственным нарушением всего того, чему его учили и что признано безусловным в результате практического опыта многих поколений. «Вот ваше время. Другого нет». Значит, без шурфов, разбитых по строгой сетке технических канонов, без опробования, даже без защиты отчета? На что же он тогда? Может, он, геолог, здесь вовсе и не нужен, все решено без него?
Выехал на место. Сначала неуверенным, но затем все более и более жадным шагом сделал несколько пересечений, слушая, как хлещет по сапогам косматая от пыли полынь. К вечеру стало легче дышать. Не потому, что спала жара, просто что-то стало проясняться, даже подумал, что, может быть, при всей своей партизанской сути приказ товарищей из СНХ республики не так уж и безнадежен. Главное, убедиться, что в суглинках нет известковых конкреций[26], иначе дело плохо. Но их нет. Во всяком случае визуально обнаружить их не удалось. Вот высыпки кротовьих нор, вот глубокие промоины, можно заглянуть и в них, а что касается запасов — придется заняться геоморфологическим[27] анализом древних террас[28], но в общем-то и сейчас видно, завод на мели не окажется при всей потребности…
Ровно через две недели он подписал свое заключение. Ровно Через месяц первая печь дала первую партию кирпича. Ему рассказали об этом, а сам он не был свидетелем столь торжественного момента, в те дни он был в горах Кугитанга, где разведывал сырье на цемент, известь, пока не свалился в брюшняке и не оказался в четырехместном «юнкерсе», при страшной бесконечной болтанке доставившем его, однако, в Ташкент.
И еще урок. Но теперь в разведочной партии, под Ашхабадом, где для будущего цементного завода надо было подсчитать запасы известковых галечников. Опять та же проблема: нужны шурфы, трудоемкие, классических сечений выработки с креплением и полками, на что нет ни времени, ни людей. И тут старик-перс. Кяризный[29] мастер. Он взялся пробить нужные шурфы при условии, если всю эту работу сделает только с напарником. И пробил их! Это были узкие, круглые «дудки», они были в несколько раз уже самого узкого разведочного шурфа. Мастер помещался в них сидя на корточках, выгребая из-под себя породу маленьким, с укороченной ручкой кетменем. Веревка, кожаное ведро, да над головой — деревянный зонт от падающих камней. Примитивно? Куда уж дальше. Но вот в чем дело — они провели разведку чуть ли не вдвое быстрее и настолько же дешевле, хотя заработок кяризного мастера смутил бы не одного плановика.
Старику-персу Поярков был обязан не только этим предметным уроком народной смекалки и экономики. Они уже ложились спать, когда старик тихонько вызвал молодого русского из палатки и посоветовал немедленно уходить. Большего геологи от старика не добились, но поскольку время было тревожным, сочли за благо отойти к железнодорожной станции и связаться с Ашхабадом. Из города прибыли две бронелетучки, и поисковикам было предложено покинуть район, поскольку одна из банд Джуна ид хана перешла границу.
Теперь, вспоминая события тех лет, подчас не удержаться и от улыбки. Кончились кассеты к «фотокору». А нужно снимать.
Снимать геологические разрезы, складчатые и тектонические структуры, а то и детишек своих рабочих, жителей окрестных кишлаков, от постоянных, чуть ли не умоляющих просьб которых не было житья, хоть не вытаскивай аппарат. Кончились кассеты? Давайте деньги, они достанут. Где это они достанут, если даже в Душанбе нет? Достанут! У одного знакомого есть знакомый, а уж он найдет. И ведь нашел! Да какие, английские! И только уезжая, Поярков случайно узнал о том, что доставкой фотопринадлежностей для него занимались братья-исмаилиты, нередко ходившие в то время за кордон. Вот любопытно, как объяснился бы он с пограничниками, узнай они о его «снабженческих» каналах?
В странствиях по горной Бухаре ему на редкость повезло с проводником. Идеальный проводник, о таком только мечтать можно, не зря его посоветовали в исполкоме; сам председатель не сделал бы для отряда больше, нежели этот всезнающий старец, исполненный чувства собственного достоинства, если не сказать — величия. Он знал все тропы, все перевалы, все старые копи и древние рудники, он знал, в каком кишлаке лучше остановиться, где взять лошадей, но самым удивительным было то подобострастие, с которым старца принимали в самых отдаленных кишлаках и которое распространялось на весь отряд. А это означало и церемониальный плов, и пуховую подушку под бок впридачу к целому напластованию одеял, и лишнюю охапку сена для лошадей, словом, было немало причин, вновь оказавшись в горной Бухаре, вспомнить об услугах столь полезного сотрудника и восстановить с ним деловые контакты. Но сотрудничество не состоялось. Незадолго до приезда геологов старец был арестован. Невероятный случай. В исполкоме, конечно, знали, что старик был влиятельной персоной при дворе бухарского эмира, но поскольку он был стар и вреда не приносил, его не трогали. Кто мог предполагать, что на десятом году Советской власти этот верноподданный умудрялся собирать налог в пользу эмира, а затем добросовестно, в глубокой тайне переправлять за границу своим сбежавшим хозяевам?
Подобными комедийными ситуациями приключения тех лет кончались не всегда. Он только что приступил к обязанностям старшего геолога Ферганской разведочной базы, как из Кана Сообщили об исчезновении геолога Морковина, с которым ему предстояло вместе работать. Тотчас выехал в Кан, в партию пришел ночью, наугад через черные предгорья. Встревоженный рабочий из здешних киргизов сбивчиво рассказал о том, что Морковин ушел в маршрут и не вернулся и что вдобавок поблизости появились басмачи. Решил проверить. Пошли с тем же рабочим, прячась в сухих распадках. Совсем недалеко от лагеря, в пяти-шести километрах, увидели зловещее пятно костра, вооруженных людей у огня, стреноженных лошадей. Повернули тотчас назад, в Канибадам, к уполномоченному ОГПУ, сознавая, что, возможно, Морковина уже нет в живых. Так оно и было, банда встретила геолога еще накануне, под перевалом Сары-Камыш. Там с ним и расправились. Но пережили его не намного. Басмачей настигли под Хайдарканом и дальше уходить стало некому.
Дырка от бублика?
Так напомнил о себе Хайдаркан, тот самый, где в августе 1926 года двое ошалевших от счастья студиозов выплясывали победный канкан на рыжих отвалах древних выработок Кара-Арчи. Может, в ту пору они и не заслуживали этой радости — блаженного чувства первооткрывательства, но судьба в лице Дмитрия Ивановича Щербакова щедро выдала им этот аванс, словно испытывая, как они смогут нм распорядиться. И он не позабыл истребовать ответа на этот счет, Дмитрий Иванович, Их новая встреча состоялась весной 1932 года, когда академик Ферсман и его ближайший помощник, научный руководитель Таджикско-Памирской экспедиции Щербаков, вновь оказались в Фергане, выполняя по заданию Госплана разработку вопросов, связанных с развитием горнорудной и химической промышленности Средней Азии. Не миновали они и старшего геолога Ферганской геолого-базы. «Наступило утро, — вспоминал потом Поярков, — и я попал в такой переплет, в каком мне не пришлось бывать ни разу в последующие 30 с лишним лет моей достаточно сложной и не очень легкой работы». Гостей интересовало буквально все: ртуть и уголь, нефть и сера, свинец и мышьяк. Разговор оказался нелегким, далеко не всегда можно было представить добротные и вразумительные карты. А потом, когда деловая часть встречи была все же завершена, Дмитрий Иванович отозвал Пояркова в сторону и очень деликатно, словно опасаясь, что его совет может быть воспринят в связи с только что окончившимся просмотром материалов, спросил, не кажется ли Володе, что для начала следовало бы поработать более сосредоточенно, более целеустремленно, короче говоря, нет ли у него желания вернуться на ртуть, в Хайдаркан, где сейчас как раз освободилась должность технорука?
Громоздкие, выскобленные добела ветром и зноем кручи Катрана, мертвая долина Охны, рябые от арчи и конгломератовых плит взгорья перевала Метин-Бель, за которым в тот памятный августовский день 1926 года им открылась Хайдарканская впадина. Тогда ©ни тут разошлись, договорившись встретиться вечером внизу, в маленьком кишлаке, у родников, в одном из глубоких оврагов древней дельты Аллаудина. Попов пошел маршрутом на север, Поярков — на юг. Для Пояркова этот маршрут так и остался будничным маршрутом поисковика, но Попову посчастливилось: он попал на издали приметные вывалы средневековых копей в районе теперешнего участка «Кара-Арча». На следующее утро они отправились туда вместе, затем разделились. К вечеру Попову стало известно оруденение нынешней «Медной горы», а Пояркову — «Главного поля». Оба были потрясены громадными пустотами старинных выработок, запутанными лабиринтами узких таинственных лазов, ржавыми отвалами древних огарков, следами обжиговых печей. Всего этого нельзя было не заметить, И они заметили. Теперь следовало пройти в Сох, оттуда через сохские каньоны пробраться к перевалу Сымап и там проверить другое щербаковское предположение. Но в Сохе было неспокойно, там ждали визита басмачей. Пришлось просидеть ночь в карауле, а утром тронуться в обратный путь, в Кадамджай, в партию Соседко, к Щербакову, с трудом, как иногда говорят на Востоке, удерживая во рту каленый орешек прекрасной новости.
И вот снова Хайдаркан. И опять-таки благодаря Щербакову. Но теперь это не просто проспекторская вылазка на ишачке с парой вьючных сум. Теперь он начальник промразведки, и у него пятьсот рабочих. Надо ставить бараки. Заниматься монтажом дизеля и добывать продукты для рабочей столовой. Нужно бить штольни, а вся техника — забурник, молоток да ложка, которой из шпура выбирают шламм[30]. Десять сантиметров пробил — в кузницу на заправку. Пятнадцать метров в месяц прошли — достижение, да еще какое! Нужно собирать фауну. Без фауны в этих однообразных известняках не разобраться, возможны не только разрывные нарушения, ставящие впритык разновозрастные пласты, но и надвиги, тем более чешуйчатые, оторванные от своих корней и закрывающие истинный облик месторождения, как маскарадная маска. И все это для того, чтобы в конце концов дать ответ, есть ли руда в Хайдаркане, или «Великий рудник» — всего лишь «дырка от бублика», а бублик съеден еще в средневековье?
Хайдаркан свел его с Михаилом Евгеньевичем Массоном, доктором археологии, замечательным знатоком горнорудного производства Средней Азии. Оказывается, на добычу ртути в Фергане указывал еще Истахри, о ртути в горах Сох упоминал в конце X века Абдул Касим ибн Хаукаль. Древние оставили обломки тиглей, железные клинья, каменные молотки, песты и ступы, капризные лабиринты выработок, казалось бы пройденных как бог на душу положил, в полном пренебрежении к элементарной логике. Но логика была. Древние уловили приуроченность руды к зонам дробления, и их интересовали только эти зоны. Они отрабатывали месторождение лет двести-триста. Чем было вызвано последовавшее затем запустение Хайдаркана? Нашествием монголов, или попросту истощением руд?
Разведка была начата в 1928 году. Каким многообещающим было начало! Какое грандиозное предприятие мыслилось выстроить у подножья Кара-Арчи! Уникальное, не имеющее себе равных, такое, какое бы одним махом удовлетворило все потребности страны на ртуть и, прежде всего, потребности оборонной промышленности! Раздавались и другие голоса. Щербаков, а также только что вернувшиеся из поездки по Америке Русаков и Королев предлагали немедля начать отработку мелких месторождений с помощью вращающихся печей Гульда, не требующих больших капиталовложений. Но их предложение даже не рассматривалось, таким казалось оно малозначительным, несерьезным на фоне тех фундаментов, что уже закладывались для будущего гиганта.
Но вот не подтвердились первые прогнозы. Но вот выяснилось, что геология месторождения оказалась настолько сложной, а характер оруденения настолько невыдержанным, что не вызывали доверия самые осторожные подсчеты. В 1933 году геолог Каминский дал резко отрицательную оценку запасам «Медной горы». Ничего утешительного не дали и не могли дать визиты-консультации таких приглашенных спецов, как американец Гудейл и немец Фридрих Альфель. Энтузиазм сменился скепсисом, начавшиеся работы — консервацией. Заниматься в ту пору разведкой Хайдаркана — значило заниматься делом, заведомо обреченным на неудачу. Тем дороже была поддержка Щербакова, всячески способствовавшего скорейшей передаче месторождения в эксплуатацию. Он приезжает в Хайдаркан в 1933 году. Приезжает в 1934. Организует в составе Таджикско-Памирской экспедиции специальный отряд — хайдарканский, а это означало и свежие силы геологов и отличное снаряжение, легче стало со снабжением и лошадьми, словом, можно было работать.
Миша, друг Эраста
А тут — плохие вести из дому. Сначала — о болезни отца. Затем — о каких-то его неприятностях по работе. Оказавшись в те дни в Ташкенте, Дмитрий Иванович прежде всего нанес визит в их дом, выразив матери свое сочувствие, свою уверенность, что все образуется, что все будет хорошо. Исполненный высокого достоинства, визит Щербакова помог обрести надежду и Владимиру. В тот же вечер, с трудом достав билет на поезд, он выехал в Москву.
Дорогой без конца вспоминал и вспоминал отца, свое детство, заросший плющом крохотный домик в Бордо, стеклянную веранду с настежь распахнутыми и тонко позванивающими окнами, и какие-то очень яркие цветы перед ней, и хохочущего отца со шлангом, а из шланга вырывается шипящий веер сдавленной пальцами струи, она брызжет под ноги, а они, детвора, восторженно и взахлеб пищат. А вон какие-то пруды, и они с отцом пускают кораблики. Спустя много лет он узнал о том, что это было в Тюильри, когда накануне отъезда в Россию семья жила в Париже, снимая на Монмартре тесную мансарду из двух комнат. Вот и все, что осталось в памяти от «французского периода». Наверное, не так уж часто отец мог пускать с ними кораблики или брызгать на них из садового шланга. В Бордо отец учился на физико-математическом факультете, который и кончил с медалью. А диссертацию на степень доктора наук, защищенную им в Сорбонне, написал по зоологии беспозвоночных, по теме «Гистологические[31] исследования над метаморфозом жуков». В этой работе им сделаны наблюдения, которые затем обычно приписывались французскому ученому Холланду. Холланд протестовал против этой ошибки, а в 1911 году русское энтомологическое общество присудило Эрасту Пояркову премию имени Семенова-Тян-Шанского. Он работал на биологических морских станциях в Вимерэ и Аркашоне под руководством таких известных во Франции ученых, как профессор Пэрэз, академик Жиар, профессор Коллери, впоследствии — президент Французской Академии наук.
Когда они уезжали из Франции, ни Владимир, ни тем более Мара русского языка почти не знали. Жизнь в России началась для них, собственно, под Воронежем, на родине деда, Федора Владимировича, у его родни. Четырехлетнему Володе пришлось срочно переучиваться на украинский, а последовавший затем переезд к отцу, устроившемуся к тому времени и с работой, и с жильем в Петербурге, и вовсе сделал речь маленького «француза» невообразимо комичной и зашифрованной до предела. В семье ходило множество анекдотов на эту тему, но когда Володя овладел русским настолько, чтобы самому оценить их прелесть, курьезы эти, к сожалению, забылись.
Отец работал у Ильи Ивановича Иванова, в институте экспериментальной ветеринарии. Того самого Иванова, который впервые ввел в практику искусственное осеменение домашних животных. Эраст Поярков занимался биологией этого метода, и разработанный им сахарный физиологический раствор-разбавитель получил широкое распространение. Но не забывал он и близкой ему зоологии беспозвоночных. В 1914 году он пишет «Теорию куколки насекомых с полным превращением», неоднократно, в течение всех последующих сорока лет возвращаясь в мыслях к затронутой теме, выкристаллизовавшейся затем в теорию происхождения этих насекомых. Но завершить труд, положить, как говорят, его на бумагу Эрасту Пояркову так и не удалось.
В Петербурге они жили в районе Финляндского вокзала, и из их окон был прекрасно виден внутренний двор «Крестов», куда выводили на прогулку заключенных. Это была Россия. Отец нередко выезжал в Асканию-Нова, однажды на все лето увез туда и семью. Сказочное, незабываемое лето! Живые страусы! Живые зебры! Живой… Николай П. Он удостоил своим высочайшим посещением это презабавное имение Фальц-Фейна, и растроганный хозяин после отъезда дражайшего монарха соорудил специальную витрину, где были выставлены грязные, с императорского стола, тарелки с костями и объедками, к которым прикасались царственные уста. И это тоже была Россия. Володя долго допытывался у отца, зачем выставлены на всеобщее обозрение неубранные тарелки, но отец только усмехался и переводил беседу на редкостных обитателей Аскании-Нова, которые были куда интересней зрелища загаженной и давно не мытой посуды.
В то утро, когда началась Февральская революция, Володя сидел на скучнейшем уроке немецкого языка в коммерческом училище Германа и смотрел в окно. Там, на улице, происходило нечто совершенно непонятное. Подошел трамвай. Высыпали люди. Они обленили вагон, как муравьи, повалили его набок, перегородив улицу. Люди строили баррикаду! Занятия были прекращены, но учащихся на улицу не выпускали, ждали родителей. Володя пробрался в подвал, выставил окно. Они жили при институте — когда бы отец добрался за ним пешком через весь город, надо добираться самому!
Бежали с товарищем. Самое страшное пережили возле известных каждому петербуржцу «Пяти углов». Навстречу мальчишкам двигалась плотная стена демонстрантов. А сзади рысью нагоняли казаки. Что такое «казаки» мальчишки уже знали. И что должно было произойти между казаками и демонстрантами, они тоже знали. Они заметались в поисках выхода, но все ворота были заперты, укрыться было негде, мальчишки оказались между молотом и наковальней. Но молот не опустился. Это был уже не тот молот, хотя все оружие демонстрантов составлял кумачовый транспарант с надписью: «Товарищи, требуйте мира и хлеба!»
Демонстранты смешались с казаками. Казаки повернули и пошли вместе с демонстрантами. Беглецы из коммерческого училища Германа благополучно добрались до своих дверей, за которыми их считали если не погибшими, то уж определенно пропавшими без вести.
Научные занятия ассистента были ненадежным средством добывания хлеба насущного в то голодное время. Мать работала в рабочем кооперативе на фабрике Гаванера. Отец на этой же фабрике организовал общественную библиотеку, он привозил на извозчике целые кипы книг, и Володя с увлечением рылся в их курганах, тем более, что это отвлекало от мыслей о еде.
Под Петербургом, в Калитино, у института было опытное хозяйство. Туда, спасая от голода, Поярковы и отправили детей, что станет впоследствии причиной немалого Володиного огорчения. Еще бы! Февральскую революцию видел, а Октябрьскую — нет! Это живя в Петрограде! На Петроград наступали немцы, и Калитино чуть ли не оказалось во вражеском тылу. Началась эвакуация, институт снялся с места, его перевели под Москву, в Кузьминки, в бывшее князя Голицына имение, прекрасные достоинства которого были незамедлительно отмечены детворой сотрудников института, не в последнюю очередь — и Володей. Громадные, безлюдные парки. Безмолвные, задумчивые озера. Классический портик. Пышное великолепие княжеского дворца, туманно рисующегося за черными лапами заваленного сугробами ельника. Лыжи. Купанье и рыбалка. И ощущение полной свободы. Школы не было, с ними занимались отец с матерью, да еще он ходил в слесарную мастерскую, где по просьбе отца Володю учили азам работы с металлом. Володю устраивала такая жизнь. Вряд ли устраивала она Эраста Федоровича. Институт практически не работал. Диссертация для защиты на степень магистра зоологии, начатая еще в 1915 году, застопорилась на половине. В 1918 году успела увидеть свет лишь первая часть работы — «Коллоидально-физиологические исследования над спермализинами». Раздел «Исследования над сперматозоидами» он завершить уже не мог. Был задуман широкий план работ. Взамен теории Эрлиха Поярков выдвинул коллоидально-физиологическую теорию процессов иммунитета. До самых последних дней Эраст Федорович следил за литературой, ожидая чьих-то попыток продвинуться вперед в этом направлении, но таких попыток при его жизни сделано не было.
То ли из газет, где помещались списки депутатов Всероссийского съезда Советов, то ли из объявлений о митингах Эраст Федорович узнает о приезде в Москву Фрунзе-Михайлова. Это какой Фрунзе-Михайлов? Да это же Миша! Миша Фрунзе, кто же еще! Он задавал тон в гимназическом революционном кружке, вовлек туда Эраста, то-то было переживаний для матери, Марии Семеновны, когда в доме появились полицейские с обыском! В ноябре 1904 года Эраст был вместе с Фрунзе в революционной демонстрации на Невском проспекте. При разгоне демонстрации Михаил был оттиснут на Михайловскую улицу и там жестоко избит дворниками. И вот — снова Фрунзе! Эраст мчится в Москву, разыскивает Фрунзе, они договариваются о встрече. Но на эту встречу Поярков не явился. Встревоженный, Михаил Васильевич присылает адъютанта в Кузьминки, и тот застает Эраста в глубоком беспамятстве, чуть ли не при смерти: тяжелая форма испанки плюс элементарное истощение. Еще и еще раз приезжает адъютант Фрунзе, в доме появляются крупа, мясо, Володя хорошо запомнил тот изрядный кус говядины, который ему поручено было разрубить во дворе. Может, потому отец и выкарабкался, кто знает? Они встретились с Фрунзе перед самым отъездом Михаила Васильевича на Туркестанский фронт, и разговор шел, естественно, прежде всего о Средней Азии, о Семиречье с традиционным «а помнишь» и разглядыванием фотографий. Может быть, даже этой, где они запечатлены во время своего путешествия по Тянь-Шаню.
А ведь фотография не ошиблась! Все разглядела. Уже тогда было ясно, кто есть кто. Прямой взгляд из-под лихо надвинутой гимназической фуражки, туго заправленная под ремень гимнастерка, в руке карабин, весь подобравшийся, как пружина, готовый к действию, к броску, к чему угодно — словом, солдат. Это — Фрунзе! А вот Поярков. Взгляд в себя, куда-то в сторону, стоит сгорбившись, как-то бочком, в каком-то белом, неловко одетом картузе, с сачком в руке, сугубо штатский человек! Едва ли память сохранила бы все подробности их каникулярной прогулки, которой могли бы позавидовать и иные путешественники. Но вот солидный труд В. И. Липского, главного ботаника Императорского Санкт-Петербургского Ботанического сада — «Флора Средней Азии», тут сказано и о них.
Друзья вышли из Верного 29 мая 1903 года. Через Кескелен и Узун-Агач поднялись на перевал Кастек, 5 июня через Джолбулакский перевал прошли в Большой Кибень. Здесь ударил затяжной дождь, и хребет Кунгей Ала-Тоо они одолели только девятого, через перевал Тору-Айгыр, на другой день спустившись к Иссык-Кулю, к станции Чоктал. Берегом горного моря ехали не спеша, отогреваясь от перевальных снегов. Да и грех было бы торопиться в виду этих лазоревых, расписных пространств, то жгуче-синих полуденных, празднично искрящихся раздробленным на волне солнцем, то латунных, розовых и туманных в отрешенные от всего минуты утренних и вечерних зорь. Не сразу выбрались они и из Пржевальска. Прибыли туда 19 нюня, а выехали лишь в июле, первого числа. Конечно, были на Аксуйских ключах, нежились в горячих ваннах, грубо вырубленных прямо в диком камне, среди упруго выгнувшихся над источниками могучих еловых стволов. Молча поклонились могиле Пржевальского. На сером граните лежала хрупкая прядь перекалившихся на солнце полевых цветов, и это напоминало те муки, с которыми они сушили у костра листы своего гербария, то ли промокшие, то ли просто отсыревшие от частых дождей. Впоследствии гербарий был отправлен в Русское Географическое общество. Это и стало их букетом на могилу великого путешественника. Все этикетки Федор Владимирович отпечатал на имя Эраста, но растения в основном собирал Михаил. Эраст занимался насекомыми. В его сборах ученые определили два новых вида, один из них был назван его именем. Коллекции друзья адресовали Семенову-Тян-Шанскому. Вот уж Эраст никак не мог предполагать, настолько кстати окажется для него со временем это знакомство! Вернувшись из Франции, испытывая немалую нужду, он будет подрабатывать у Семенова-Тян-Шанского переводами и рецензированием французской научной литературы!
Отдали дань Джеты-Огузу, его целительным ключам, его феерически красным утесам и сумрачному лесу, взбегающему от зеленоватой реки к белым снегам. В Пржевальске жили родные Михаила по материнской линии, это тоже задержало отъезд. Возможно, были и в доме Михайлова, начальника местной таможни, с сыном которого, Михаилом Александровичем, был дружен старший брат Фрунзе — Константин. Пройдут годы, Михаил Михайлов трагически погибнет, и его паспорт сослужит верную службу Михаилу Фрунзе, только что вернувшемуся к революционной работе из сибирской ссылки. Вот откуда появится начальник минской милиции Михаил Михайлов, а затем и главком Михайлов-Фрунзе!
Пять дней ехали лесистыми склонами царственного хребта Терскей Ала-Тоо, имея по правую руку, за увалами желтых, красных и зеленых предгорий щедрую иссыккульскую синеву. Шестого июля свернули на юг и через снега перевала Тоссор выбрались на гребень хребта. Перед ними распластались необозримые тянь-шаньские сырты. Здесь поехали быстрей. Десятого были в Нарыне. Двенадцатого — на Сон-Куле, шестнадцатого — в Джумгале, у слияния Кокомерена и Джандрасу. На денек заглянули на Сусамыр. Но деньком не обошлось. Как-никак, два перевала Ойгаин и Кигиней, да еще Ушор, через который вернулись в Джумгал. Дальше маршрут простой. Кочкар да Кутемалды, с ее сазами вдоль топкого иссыккульского бережка. На прощанье искупались и через Кутемалдинский перевал — в уже знакомый Большой Кибень. Теперь чего, казалось бы, мудрить — на Кастек и домой, хватит уж, наездились, целое лето в седле да пешком, сколько можно! Так нет же, ушли в Малый Кибень, прошли по нему до самых снегов, до перевала Кашка-Джол, перемахнули опять в Большой Кибень, вроде бы назад, зато теперь они смогли подойти под самый Больше-Алмаатинский перевал и шестого августа были в Верном. Все!
Книга Липского вышла в 1905 году. В том самом, когда Эраст, не видя возможности заниматься науками в России, уехал во Францию, а Михаил, тоже не видя возможности заниматься в России науками, но по другой причине, с отрядом боевиков на захваченном паровозе прорвался в Москву, на баррикады Красной Пресни. И вот они встретились. Михаил едет в Туркестан, там тяжелейшее положение, едет командовать фронтом, то есть всем. А чем намерен заниматься Эраст? Он должен ехать в Среднюю Азию! Нечего ему торчать в Москве. В Москве обойдутся и без Пояркова. А вот в Ташкенте не обойдутся. В этом, 1920 году будет организован Туркестанский университет. Нужны преподаватели, красная профессура, а где ее взять, если отказываются даже те, кто родился, вырос в Средней Азии!
Ехать в Туркестан Эрасту не хотелось. Марии Давыдовне — тоже. Конечно, было бы приятно вновь оказаться в тех местах, где прошла юность, но работать там?.. Жаль расставаться с Ивановым, с начатыми исследованиями, с институтом, ведь когда-то же наладится жизнь в Кузьминках, можно будет и здесь работать! А ехать в такую даль, в такое время, да еще с детьми… Но Фрунзе был неумолим. Он даже сердился. Кого же он будет отправлять в Ташкент, если отсиживаются даже такие близкие друзья, такие туркестанцы, как Поярковы? И Эраст сдался. Хорошо, он поедет. Оргкомитет Туркестанского государственного университета избирает его профессором физико-математического и сельскохозяйственного факультетов. Эти кафедры Поярков будет вести вплоть до 1930 года, вызывая глубокое к себе уважение доскональностью и энциклопедичностью знаний. Даже дети, Володя и Мария, став студентами, а затем и специалистами, так и не смогли привыкнуть к широчайшей образованности отца, который, казалось, знал все.
В Ташкент выехали 14 сентября 1920 года военно-санитарным поездом. На фронт он шел пустым, так что преподавателям и их семьям без особых хлопот был отведен целый состав. Ехали долго. Почти двенадцать суток. То где-то была разобрана дорога, то в тендере не оставалось пи одного бревна. Остановка на станции Челкар была и вовсе непонятной, однако вскоре выяснилось: шел встречный, да еще какой, поезд командующего фронтом. Фрунзе едет? Эраст побежал на станцию. Телеграфист пожал плечами, помешкал, но депешу в адрес командующего все же отбил. Два часа простоял в Челкаре военный состав со штабным вагоном. Два часа провели у Фрунзе Поярковы перед тем, как расстаться, и теперь уже навсегда. Запомнилась душевная теплота этой встречи, взрослые шутили и смеялись, запомнился огромный ярко-красный арбуз, которому Володя и Мара не преминули воздать должное — таких арбузов они еще не видели. Отец с Фрунзе сидели чуть поодаль и говорили о чем-то своем. Одна фраза в семейных преданиях все же сохранилась, и ее мог сказать только Эраст: «Эх, Миша, какой бы из тебя получился ученый!» «Человек в футляре», — не останется в долгу Михаил Васильевич, когда через год, в разговоре с сестрой Лидой и матерью Маврой Ефимовной, приехавшими к нему погостить, зайдет речь об Эрасте. А его не могли не вспомнить. Почему-то на Москву не шли поезда, и Мавра Ефимовна с Лидой целый месяц прожили в Ташкенте у Поярковых. Потом Мавра Ефимовна вернулась в Пишпек. Как жила, так продолжала жить и теперь, быть может, только соседи и знали, что за сын у нее в Москве. В то черное утро, когда принесли телеграмму, она и не поняла, что, запинаясь от ужаса, прочла ей дочь. Она выхватила у нее бумагу, выбежала из дому и от Ключевой, где они одно время жили, наискось через пустыри побежала к баракам воинской части. Миша-то служил в Красной Армии, уж красноармейцы должны знать, что там с ним случилось, быть не может!
— Стой, кто идет! — закричал молоденький часовой и вскинул винтовку. А к нему со слезами — старуха и девушка, словно ища защиты, словно он единственный ответчик за все, что делается на этом свете. Был вызван начальник караула. Был вызван командир части. Никак не верилось, что вот эта самая обыкновенная пишпекская старуха — мать легендарного наркома, а они и знать о ней не знали, живя бок о бок, через пустырь. Умер Фрунзе. Части выстроились на траурный митинг. А в группе насупившихся командиров стояли, поддерживая друг друга, две плачущие женщины — мать и сестра, а вокруг безмолвствовал, вслушиваясь в речи ораторов и в медь оркестра, такой же простой, самый что ни на есть неприметный городишко, который, вот и не подумаешь, был родиной великого полководца.
С этого дня Пишпеку суждено было стать городом Фрунзе Люди быстро привыкли к этому новому имени, а вот родные Ми хайла Васильевича — так и не смогли. Всякий раз напоминание — зацепка для памяти. Лидия Фрунзе, теперь уже давным давно Лидия Васильевна Надежина, все вспоминает свою последнюю встречу с братом, когда она ездила в Москву в командиров ку и несколько дней провела у него в доме. Виделись они редко И не только потому, что не было Михаила Васильевича, ей тоже было некогда, столько нужно посмотреть, столько обегать, домой приходила совсем без ног и сразу же падала отдыхать.
Как-то брат был дома. Сочувственно посмотрел на ее ноги, посмеялся. «Что ж ты сегодня смотрела?» — «Была у Кремлевской стены, там, где мемориальные доски». — «Ну, и что ж там смотреть? Что это, интересно?» — «Тебе не интересно, а другим интересно!» Заходил по комнате, опустил голову, долго молчал. Потом вдруг сказал: «Я бы не хотел там лежать. Мне бы в Шуе, на речке Калке, есть там холмик один… В Шуе меня знают, помнят…» Лида возмущенно замахала руками, что за разговоры, что за глупости…
В день смерти Фрунзе на траурном митинге студентов и преподавателей физмата Среднеазиатского университета неожиданно попросил слова беспартийный профессор Поярков. Физмат в те годы размещался в бывшем реальном училище, и ораторы говорили с балкона. Поярков вышел на балкон и заплакал. Он никогда не рассказывал, что был хорошо знаком с Фрунзе, что учился с ним, но тут сказал. Сказал, что уже в гимназии было видно, что Фрунзе — личность выдающаяся, сказал, чтоб не обращали внимания на его слезы, потому что если б присутствующие на митинге знали Михаила Васильевича так, как знал его он, Эраст Поярков, они бы плакали вместе с ним.
Что за веселое время-то было!
Со временем появились книги, написанные о Михаиле Васильевиче Фрунзе, замелькало в различных публикациях его по-ребячьи восторженное письмецо гимназическому товарищу Косте Суконкину, которого знавал когда-то и Эраст.
«Что за веселое время-то было!!! Мы объехали, во-первых, громадное пространство: были в Пржевальске, объехали кругом озеро Иссык-Куль, затем перевалили Тянь-Шань, спустились к китайской границе, оттуда возвратились в Нарын, из Нарына поехали на Сон-Куль — тоже озеро, раза в три меньшее, чем Иссык-Куль, с Сон-Куля на долину Джумгал, с Джумгала на Сусамыр…
… Мы проехали около 3-х тысяч верст, ехали 68 дней, сделали 16 перевалов, в том числе 9 снеговых, из снеговых самый большой — Тозор в Тянь-Шане, затем Ойгаин, Кигеней, Ушор в Александровском хребте, потом Кутемалдинский перевал в Кун-гей Ала-Тау и Алмаатинский на Верный, а затем еще несколько почти таких же, как Алмаатинский. Экспедиция наша увенчалась полным успехом. Мы собрали 1200 листов растений, 3000 насекомых, при этом заметь, что растения собирал я один, а насекомых Аронович и Эраст. Коллекции мы уже отправили в Географическое Императорское общество и Ботанический сад. А что за местности-то мы видели, одна прелесть! По дороге много охотился, убивая всяких птиц, особенно на Сон-Куле, вот где охота-то, дичи гибель! Видел много волков, архаров, кабанов и всяких козлов. Вообще я очень доволен тем, как провел каникулы.
Что за веселое время-то было!..
Пятерка у Пояркова
Он не был «человеком в футляре», и Фрунзе, наверное, знал это, иначе бы не настаивал на его, Пояркова, отъезде в Среднюю Азию. Эраст Федорович тотчас включился в работу, возглавил группу левой профессуры, был одним из организаторов здешнего филиала Всесоюзной организации работников науки и техники по содействию социалистическому строительству. В разные годы он вел работу в Президиуме общества биологов-материалистов, в комиссии АН СССР по изучению производительных сил Узбекистана, был участником всесоюзных съездов по шелководству, заседаний ВАСХНИИЛ, мотался но научным командировкам. Два десятка лет он читает лекции студентам Среднеазиатского университета, Среднеазиатского сельхозинститута, в качестве «виднейшего советского специалиста по шелководству» его приглашают для консультаций и чтения лекций в Тбилисский институт шелководства.
Мурат Каюмович Муксинов, декан зоотехнического факультете Киргизского сельскохозяйственного института, получил высшее образование в Ташкенте, в самом конце тридцатых годов. Помнит ли он Пояркова? Эраста Федоровича? Сразу разулыбался, расцвел, ну как же, прекрасно помнит. Он, Муксинов, видел и слушал многих ученых, но Поярков… Его лекции было нелегко слушать, он говорил хуже, чем писал, и они были настолько насыщенными, уплотненными, что чуть отвлекся, на мгновение подумал о другом — уже не нагонишь, уже ничего не понять. Эрудиция Пояркова поражала. Рассказывая о биологических процессах, он то и дело обращался к высшей математике, касаясь литературы, он сыпал названиями и цитатами на пяти языках. Студенты частенько подсовывали ему иностранные книги: «Эраст Федорович, прочтите!» И он читал. На английском, на итальянском, на немецком… Ну, и, конечно, на французском.
Неимоверно трудно было сдавать ему экзамены. Более тридцати лет прошло, а Муксинов все никак не может забыть, какое выпало однажды счастье — получить пятерку у Пояркова. У Эраста Федоровича одна слабость была — шахматы. Студент готовится или даже отвечает, а Поярков со своим постоянным партнером, Яшей Новиковым, какой-нибудь королевский гамбит разыгрывают. Яша в Плоешти погиб, в 1946 году, его убили выстрелом в спину. А в студенческие годы он славился как шахматист первой категории. Поярков был, однако, достойным партнером. Играет, а сам дополнительные вопросы подбрасывает. И самые неожиданные. Муксинов пятнадцать дней готовился, высох, как щепка, вытащил билет — от сердца отлегло: знаю. «Кишечный сок обладает буферностью…» — «Буферность? — перебивает Поярков. — Кстати, что такое буферность?» Ребята за дверью в панике. Еще бы, экзамен по физиологии, а профессор по физколлоидной химии гонять начинает. И попробуй скажи, что вопрос не по теме, что, дескать, не проходили или проходили, да давно. Он не признавал этого. Муксинов слушал однажды курс физколлоидной химии, так что ответил. Поярков нахмурился, сжал губы, схватил зачетку, с такой силой черканул пером, что брызги полетели, страшно в зачетку смотреть. А посмотрел — пятерка! Вот счастье — у Пояркова пятерку получил!
Поярков всегда так пятерки ставил, словно раздосадован, вот, дескать, выкрутился-таки! Но его сердитости студенты не боялись, знали, что она означает. Бойся, когда Поярков улыбаться начнет. Они так и говорили младшекурсникам: «Увидел, что Эраст Федорович улыбается — все, хватай зачетку и беги — провалился!»
Он был довольно замкнутым человеком, трудно сходился с людьми и многим казалось, что это — от высокомерия. «Эраст Федорович, — по простоте душевной спросил как-то Муксинов своего преподавателя, — что вы так всегда ходите, угрюмый, ни на кого не глядите…» — «Ну, почему, — растерявшись от столь неожиданного вопроса, стал оправдываться Поярков, — думаю просто. Вот пока шел в институт — продумал одну нужную вещь.
Он так и появлялся в аудитории, все еще погруженным в свои размышления, ничего, казалось бы, не замечая вокруг. Но замечая все. «Ну-ка, Мишенька, — говорил он иногда Муксинову, — сделай одолжение, отнеси это домой», — и протягивал какой-нибудь сверток — то ли книги, то ли еще что. Муксинову не раз приходилось выполнять такие поручения. И когда бы он ни пришел, Мария Давыдовна тотчас усаживала за стол, а в кармане непонятно каким образом оказывалась то тройка, то пятерка за труды. Муксинов был из детдома, жил только на стипендию и теперь просто не представляет, как бы смог кончать институт, если б не помощь Эраста Федоровича, незаметная и предельно деликатная: «за труды».
Трешница, свалившаяся с неба в критический для студента момент, конечно, счастье. И все-таки дело не в ней. Даже не в обеде, хотя это очень приятно, в самый грустный, совершенно бесперспективный момент вдруг очутиться за обеденным столом, где тебя накормят отнюдь не постными щами или там пирожками с ливером. Оказаться в доме любимого профессора — вот наслаждение! Сколько книг, какая тишина и сосредоточенность! Когда Эраст Федорович учился в Бордо, его отец, Федор Поярков, писал о сыне академику Анучину: «Для начинающего молодого ученого весьма ценна и дорога поддержка и внимание ученого, уже известного в научном мире, важно их руководительство».
Теперь для кого-то было важно «руководительство» Эраста Пояркова. Известного ученого? Безусловно! Кто из имевших хотя бы мало-мальское отношение к биологии, шелководству не слышал бы о такой книге, как «Бомбикс мори!»
Бомбикс мори
Бомбикс мори! Червь, добывающий «золото из воздуха», драгоценную и священную шелковую нить! Императрица Си Лин Ми, впервые 2600 лет назад догадавшаяся распустить для пряжи шелковичный кокон, была возведена в сан божества. Только императрица, только женщина высокого происхождения могла собирать листья шелковицы, кормить червей, разбирать коконы, только император, только в дни празднеств по случаю солнцестояния мог облачиться в ткань, секрет изготовления которой Небесная империя успешно хранила в тайне почти два тысячелетия. За разглашение тайны виновному угрожала смертная казнь. Но что смерть перед любовью! Китайская принцесса, выйдя замуж за Хотанского князя, принесла ему в приданое грену, спрятанную в прическе. Что смерть перед искусом знания? Два пилигрима в дорожных посохах доставили грену греческому императору Юстиниану. Так появился шелковичный червь в Средней Азии, на Балканском полуострове… Мохнатые кочерыжки шелковиц маячат над полями Испании и Фракции, Италии и Японии — всюду, где этому в общем-то неприхотливому дереву хватает тепла и влаги. Казалось, что с развитием химии интерес к шелковичному червю ослабнет, что со временем легкая промышленность полностью перейдет на более дешевые синтетические ткани, производство которых может быть налажено поистине в неограниченном количестве. Но синтетическая ткань лишь подчеркнула высокие достоинства натуральной. Всюду, где к материалу предъявляются повышенные требования, наука и техника отдают предпочтение природному шелку, будь то в хирургии, в авиации или в приборостроении. После повального увлечения синтетикой люди и в быту все чаще обращаются к ткани из естественной нити: гигиенична, красива, прочна. Можно не сомневаться, дальнейшая индустриализация мира вообще и человеческого бытия в частности лишь усилят эту тягу ко всему тому, что так или иначе связано с живой природой. Не без юмора высказался однажды известный французский биолог Фурна, имея в виду химиков: «Нечего гордиться своим произведением… гусеница делает шелк лучше, чем они».
Бомбикс мори! В тетрадях Федора Пояркова была запись киргизской легенды и о нем, шелковичном черве, якобы появившемся из ран святого Джунуса. Вот почему простой смертный не смеет прикасаться к чистому шелку, а должен добавлять к нему другую пряжу, попроще да подешевле. Шелк — предмет роскоши? Шелк — продукт широкого потребления, внесла свои коррективы революция, и Бендюков Константин Степанович, ее рядовой боец, бывший казачий офицер, подпольщик, командир красного эскадрона, направленный ввиду окончания военных действий на хозяйственную работу, не жалел никаких усилий для претворения этого лозунга в жизнь. Надо было воевать — он воевал. Пришло время социалистического строительства — стал организатором и первым директором Ташкентской шелководной станции, впоследствии преобразованной в Среднеазиатский научно-исследовательский институт шелководства — САНИИШ. Лихой кавалерист, рубака, человек широкой, буйной натуры, Константин Бендюков увлекся шелковичным червем с той же страстью, с какой ходил в кавалерийские атаки и с энтузиазмом обращал в свою веру всех, кто оказывался на его пути. А тут родственник! Жена Бендюкова — родная сестра Марии Давыдовны. Да еще какой родственник — биолог, специалист по зоологии беспозвоночных, по метаморфозу насекомых! А чем еще заниматься такому человеку в Средней Азии, как не шелковичным червем!
Конечно, Средняя Азия — это прежде всего хлопок. Но хлопок не исключает шелк, они прекрасно уживаются. Разве можно представить хлопковые карты без окаймляющих их причудливых шеренг шелковичных деревьев, кишлак без шелковицы, арык, над которым бы не склонило свои запыленные побеги это замечательное дерево! Шелковица дает тень. Людям и воде. Дает полям защиту от ветра и укрепляет берега арыков. Дает вкусную ягоду. Гибкие ветви для плетения корзин и древесину. Дает шелк! Дает приработок в каждый дехканский дом без особого для того инвентаря и именно в ту пору, когда после весенних полевых работ у земледельца появляется толика свободного времени, нарубить, бросить охапку веток. Червь настолько одомашнен, что никуда не стремится, не уползает, вне условий, создаваемых для него человеком, он существовать не может. Зимняя бескормица? Но червь переносит ее в состоянии грены, на редкость «удобное» для человека животное — шелковичный червь!
Грена — это совокупность яиц, отложенных бабочкой. Вначале грена имеет желтый цвет, затем — красный, затем становится пепельно-серой. Червь появляется ранней весной, с распусканием листьев, за какой-то месяц он увеличивает свой вес в восемь-четырнадцать тысяч раз, он непрестанно жует, днем и ночью, отчего в червоводне, по выражению Пастера, стоит шум, сходный с «шумом дождя, падающего на деревья во время грозы». Созрев, налившись, как янтарное, прозрачное яблоко, червь в поисках места для завивки кокона, начинает ползти вверх, приходит «час подъема», червь работает над коконом с той же страстью и неутомимостью, с которой некогда пожирал листья, набираясь сил. Кокон вьется из одной непрерывной нити, ее длина достигает полутора километров, до 300 тысяч движений нужно сделать червю, чтобы полностью замуровать себя в шелковый саркофаг, в котором ему предстоят таинственные, скрытые от человеческого взгляда превращения из червя — в куколку, из куколки — в бабочку. В ранние утренние часы бабочка сбрасывает кукольную шкурку, смачивает конец кокона щелочной жидкостью. Нити кокона склеены серицином, и жидкость, выделяемая бабочкой, растворяя серицин, позволяет раздвинуть нити, выбраться, не разрывая их, наружу. Круг замкнут. Бабочка на свободе. Она откладывает грену и погибает, оставив человеку свое потомство и шелковичный кокон — несколько граммов «золота из воздуха».
В 1923 году профессор Эраст Федорович Поярков взваливает на себя еще одну нагрузку — становится научным сотрудником Ташкентской шелководной станции. Станцию Поярков застает в самом жалком состоянии. Да и все шелководство Средней Азии носило в ту пору характер отсталого кустарного промысла, причем значительная часть грены ввозилась из-за рубежа, а шелкообрабатывающие предприятия принадлежали, главным образом, итальянским и французским капиталистам. Не было специалистов. Не было учебников, по которым этих специалистов можно было бы готовить. Таких учебных пособий не было не только в России, их не было вообще. Поярков столкнулся с этой проблемой сразу же, едва ему предложили читать курс шелководства, курс, который еще никогда и никем не читался. «К составлению этой книги автор был буквально вынужден силою обстоятельств, — писал Поярков в предисловии к своему «Бомбикс мори»… — Только сознание того, что эта книга пишется для дела трудящихся, дало автору силы выполнить этот труд в столь короткий срок и притом на ходу, при обычной большой академической и общественной нагрузке советского профессора». Пятисотстраничный труд Пояркова вышел в свет в 1929 году. Он вобрал в себя не только оригинальные идеи и наблюдения ученого подвижника, но и все лучшее, что было в мировой литературе по вопросам шелководства и биологии тутового шелкопряда: пятьсот пятьдесят наименований научных трудов на самых разных языках значится в библиографическом списке на последних страничках «Бомбикс мори». Поярков не мог не гордиться своей работой. Но он гордился прежде всего тем, что подобная книга появилась впервые именно в Советской стране: «Социалистическое строительство в СССР приобретает столь грандиозный, непрерывно растущий размах и такой быстрый, все ускоряющий темп, что часто не столько люди идут впереди событий, сколько события подталкивают людей на дела и на подвиги».
В марте 1930 года Эраст Федорович едет в Японию, в шестимесячную научную командировку. Для него эта экзотическая империя была прежде всего обетованной землей шелководства, и он ехал туда учиться, ехал смотреть и отбирать все то лучшее, что могло бы стать полезным для науки и хозяйства страны. Он знакомится с новыми шелководными приемами, с шелководными машинами, изучает новые породы шелкопряда, новые многолиственные сорта шелковицы. Не менее важным было для Пояркова глубокое знакомство с научными трудами японских специалистов. Эта работа требовала знания языка, и он изучает этот язык, изучает настолько, что становится одним из лучших в научном мире переводчиком японской биологической литературы, почти неизвестной до этого русскому читателю. Ну и, конечно, везет эту литературу с собой, целую библиотеку, ценность которой была умножена прежде всего тем, что человек, собиравший ее, знал, что собирал.
Словом, визит в Японию был чрезвычайно полезным, его результаты сказались в шелководстве самым практическим образом.
Но для него и чрезвычайно трудным, изнурительным, тем более, что он так и не смог, не имел такой возможности отдохнуть после работы над «Бомбикс мори». Он вернулся домой в состоянии предельного нервного истощения, и, когда досужие головы связали появление в Средней Азии сельскохозяйственного вредителя-червеца комстока с его поездкой на Дальний Восток, отвести от себя этот обывательский вздор у него недостало сил.
Метод Пастера? Метод Пояркова!
Тревожась за отца, Владимир уехал в Москву с письмом профессора Бродского академику Баху. Был принят Бахом, был у Мавры Ефимовны. Мавра Ефимовна разволновалась, побежала к соседям, к Ворошиловым, с которыми Фрунзе и после смерти Михаила Васильевича были очень дружны. Был у Петра Ананьевича Красикова. Друг Воровского, большевик старой, ленинской закалки, этот седой, грузный человек с внимательным взглядом и немногословной речью сразу же располагал к себе, хотя принял очень по-деловому. Обещал разобраться. И, наверное, разобрался, ибо, выйдя из больницы и окрепнув, Эраст Федорович смог вернуться к своим лекциям на кафедры, к исследованиям в САНИИШ. Как прежде, он очень нужен, он — нарасхват, тут и поручение Главшелка составить капитальное руководство по анатомии и физиологии тутового шелкопряда. Большую работу по написанию вузовского учебника по шелководству предложил ему Сельхозгиз. Вновь и вновь ставится вопрос о переиздании «Бомбикс мори», а ученый совет биофака МГУ постановил присвоить ему без защиты диссертации степень доктора биологических наук. Однако для Пояркова главным в то время было другое. Профессор вплотную подошел к открытию, которое на равных встало с открытием Пастера. Он говорил иногда, что если его «биометод» будет признан — значит, он жил не напрасно, что-то сделал на своем веку. Пастер выявил пебрину. Поярков нашел способ борьбы с ней.
Пебрина — слово французское. Франция, чье шелковое производство было одним из главных источников национального дохода, особенно запомнила это слово, когда странная, загадочная болезнь шелковичного червя нанесла стране урон, сравнимый разве что с иным стихийным бедствием, или войной. Францию спас Пастер. Великий химик занялся шелкопрядом в 1865 году по просьбе своего друга и учителя Жана-Батиста Дюма, в самый разгар этой шелковичной «чумы». В своих «Энтомологических воспоминаниях» Фабр не без юмора вспоминает о визите к нему Пастера, пожелавшего увидеть шелковичный кокон.
— Я их никогда не видел, где бы их достать, — простодушно признался Пастер. Он с любопытством разглядывает принесенный Фабром кокон, трясет, прикладывает к уху.
— Это издает звук, — удивляется Пастер. — Там внутри есть что-нибудь?
— Да, конечно.
— Что же?
— Куколка.
— Как, куколка?
Фабр поражен комизмом и серьезностью положения, отвагой этого человека, вызвавшегося на поединок совершенно безоружным. «Не зная, что такое гусеница, кокон, куколка, метаморфоз, Пастер явился, чтобы возродить шелковичного червя». И возрождает его!
Через пять лет напряженной работы, серьезно подорвав здоровье, Пастер предложил свой «целлюлярный гренаж», которым шелководы пользуются и по сей день.
Пебрина страшна наследственным заражением. Ее возбудителем является одноклеточное животное из микроспоровиков, чьи споры — ноземы — и образуют темные, в виде перечных пятен скопления в коже шелковичного червя. Заражение определялось простым микроскопированием, на этом и был основан метод Пастера. Метод был чрезвычайно прост. После спаривания самки рассаживались по одной в отдельные коробочки — целлюлы — для получения грены. После откладки яиц каждая бабочка подвергалась микроскопическому анализу, и если в ее крови обнаруживались овальные тельца спор паразита — грена уничтожалась. В лабораторных условиях эта операция не составляла особого труда. Но каково работникам гренажных заводов, которым приходится проверять ежедневно сотни, десятки сотен бабочек, а стоило в общей здоровой массе не заметить одну больную — и весь труд шел насмарку. Словом, целлюлярный гренаж Пастера не решал проблемы, он не давал и не мог дать полной гарантии искоренения пебрины, требовал чрезвычайно больших затрат времени и труда.
Осенью 1939 года в одном из своих опытов Эраст Федорович заметил появляющуюся у тутового шелкопряда способность к актинозематозной реакции. Собственно, опыты лишь подтвердили догадку: ученый давно обратил внимание ка тот факт, что у себя на родине, в Южном Китае, шелкопряд не болеет пебриной. А в чем отличие Южного Китая от других районов шелководства? Да прежде всего в жарком климате. В 1940 году в докладе на большом собрании ВАСХНИИЛ профессор Поярков указал на реальную возможность «выработки на этой основе нового, термического метода гренажа, представляющего большие преимущества по сравнению с универсально применяемым целлюлярным методом Пастера». В том же, 1940 году, в своей книге «Шелководство» Поярков пишет: «Радикальный путь борьбы с пебриной, однако, может быть найден. Зараженные самки, нагретые на стадии куколки до 32–34°, откладывают грену почти без заражения». Оказывается, при нагреве более стойкие лейкоциты пожирают споры паразита. Это — идея, принцип. Теперь оставалось определить температурный, воздушный режим этой биологической войны в крови шелкопряда, определить необходимую экспозицию, определить, как влияет такая температурная обработка на качества грены, кокона, шелковой нити. Открытие уже получило название, его назвали «биометодом Пояркова», однако до внедрения его в производство надо было еще работать и работать, а этой возможности Эраст Федорович вскоре был практически лишен.
Вновь всплыла вздорная история с червецом комстока. Конечно, не без помощи недоброжелателей, с удивительным постоянством сопровождающих всякую талантливую работу. В другое время, как это уже случилось в 1935 году, было бы несложно в ней разобраться, но сейчас было не до личных обид, шла война, фашисты стояли под Москвой, и надо было работать, несмотря ни на что. Подчас люди сетуют на то, что им «не создаются условия». Может быть, и справедливо сетуют. Поярков работал, вообще не имея никаких условий, работал, даже лишившись своего ученого имени, даже права заниматься ученой работой. И его мужество не осталось без отклика. В 1945 году при содействии САНИИШ для исследований Пояркова была учреждена шелководная лаборатория по месту нахождения Эраста Федоровича. Год спустя проверкой его предложения занималась авторитетная комиссия, возглавляемая профессором, ныне академиком Б. А. Астауровым, признавшая открытие Пояркова «выдающимся», «новаторским». В 1947 году Поярков докладывал о своем открытии в Министерстве сельского хозяйства СССР. В 1948 году по решению Правительства были созданы три специальные биолаборатории по методу Пояркова; трехлетние производственные испытания биометод успешно выдержал на Андижанском и Ошском грензаводах. В 1952 году ученый возвращается в САНИИШ. В институт, который он создавал, в отдел, организованный специально для разработки его же открытий, он приходит на должность младшего научного сотрудника, поскольку ВАК не подтвердил его докторского звания (в годы войны были утрачены какие-то документы). Но и это не останавливает ученого. «Высокая полезность сделанных мной открытий, — писал Эраст Федорович незадолго до смерти, — объективным образом свидетельствует о моем постоянном и неизменном стремлении быть всемерно полезным моей Советской родине». Он умирает в 1955 году. Вскоре, в 1957 году, было восстановлено его доброе имя. И это было важно не только для родных, ибо люди, подобные Пояркову, выражают себя прежде всего в деле, которое намного переживает своих творцов.
Прошли годы. И немалые. Однако Наджиб Галяутдинович Богаутдинов, заведующий отделом экологии и биологии тутового шелкопряда САНИИШ, вспоминает Пояркова так, как будто тот только что вышел из кабинета:
— Поярков? Считаю его одним из крупнейших ученых мира по шелководству, его теоретические разработки стали обоснованием многих наших теперешних исследований. Что бы мы ни делали, ни говорили — ссылаемся на него. Он первый применил против простейших температурный режим, до него с паразитарными заболеваниями почти никто не боролся. Теперь его ученики на основе биометода разработали технологию! Это единственное в своем роде предприятие — Ошский гренажный завод!
…У моста через Ак-Буру, рядом с корпусами известного на всю страну Ошского шелкокомбината им. ВЛКСМ — неприметная деревянная арка гренажного завода. Запыленные ворота. Несколько одноэтажных построек под сенью громадных туркестанских тополей, какие-то навесы в глубине пустынного, покатого к недалекой речке двора. В одном из этих домов работал Эраст Федорович. Обычно для него освобождали директорский кабинет, в нем Поярков на время опытов и обосновывался. Александр Иванович Хаханов, заведующий лабораторией физиологии САНИИШ, знал Пояркова с 1939 года, слушал его лекции. А в 1948 году, в должности младшего научного сотрудника получил задание провести на Ошском грензаводе ряд исследований по биометоду, в частности, выявить, за счет чего происходило обеззараживание грены. С тех пор, а времени прошло немало, поездки в Ош и командировками называть как-то неловко — второй дом, хоть переезжай совсем. Да и сделано немало. Тогда, в 1948 году, на заводе пебриной была заражена каждая вторая партия грены, а ведь завод снабжал греной всю республику. Вот уже восемнадцать лет, как у них не было ни единого случая заболевания, а по качеству коконов они прочно обосновались на первом-втором месте по Союзу — не шутка. Конечно, они далеко ушли от «прописей» Пояркова, в которых было много нерешенного и условного. Он, например, предлагал многократный нагрев коконов, по 16 часов при 34 градусах, а они остановились на однократном, зато при более высокой температуре, при сорока градусах, поскольку фагоцитоз, то есть пожирание ноземы лейкоцитами, происходил при таких условиях более энергично. Подобный режим ставил перед пебриной и другой биологический барьер — лизиз, то есть разрушение спор. Они решили вопросы освещения, вентиляции и влажности воздуха, не менее важно было установить и то, в какой из 12 дней своей жизни куколка более всего «расположена» пройти сквозь чистилище термокамеры. Да, все это надо было сделать. Фагоцитоз против одноклеточного — такого наука еще не знала. Теперь они получают множество писем, приглашений на всяческие совещания и симпозиумы, и все же началом была «пропись» Пояркова, какой бы теперь условной она ни казалась.
Пояркову мало кто поверил, когда он обратил внимание на выздоровление шелкопряда при повышенном температурном режиме. Но вот ведь в чем дело, им тоже не верят, хотя завод по новой технологии работает уже более пятнадцати лет при самых отличных и ровных результатах. Парадокс! Они одни, все другие заводы ведут гренаж по методу, предложенному еще Пастером, то есть в XIX веке! Косность? Рутина? Как-то им удалось испытать новый режим на Ферганском заводе. Получили грену, грена прошла государственные испытания, и все же ферганцы отказались от биометода, сами об этом чрезвычайно сожалея. Причина? Самая простая, грену никто не брал, ее с трудом реализовали, а все дело было в предубеждении, в том слухе, дескать, термичный гренаж вызывает физиологическое угнетение, и кокон поэтому будет неполноценным. Когда-то такое опасение имело под собой почву, при первой «обкатке» биометода вместо трех коробок грены получали всего лишь полкоробки, но ведь это когда было! Уже к 1953 году режим был усовершенствован настолько, что с физиологическим угнетением было покончено, и после опубликования разработок на всесоюзном совещании было принято решение о широком внедрении биометода в производство… В 1960 году в Азербайджане от пебрины погибло 25 тысяч коробок грены. В 1968 году пебрина появилась на Ленинабадском грензаводе, всю грену пришлось сжечь, убыток составил 600 тысяч рублей, но и это ничему не научило приверженцев целлюлярного гренажа. Да и только ли в этих убытках суть? Когда приходит страда, в жаре и в духоте цехов сотни людей вынуждены заниматься кропотливой, однообразной и никчемной работой, от которой открытие ученого освободило их еще треть века назад. Заводы бедствуют, не так-то просто найти такое множество свободных рук на столь кратковременную работу, и это повторяется из года в год, хотя рядом, у всех перед глазами всем доступный и известный пример ошан. Может, оттого ошане и горят еще большим стремлением сделать свой завод поистине образцовым, во всем созвучным последней трети двадцатого столетия. Они любят свой завод, но и недовольны им, он лишь приспособлен к новой технологии самыми кустарными, домашними способами, смекалкой и изворотливостью заводских умельцев. А им нужен новый завод. Они его уже видят. Биометод позволяет механизировать, автоматизировать весь процесс, за исключением, может быть, всего лишь трех операций!
— Поярков, — задумчиво говорит Александр Иванович Хаханов. — Это был, знаете ли, замечательный фантаст. Множество идей, дерзкая мечта превзойти такие страны развитого шелководства, как Япония, постоянный поиск чего-то нового для осуществления самых практических мероприятий! Сейчас во многих странах занимаются проблемой искусственных кормов. А вопрос поставлен им, Поярковым. Именно он выдвинул идею автолиза листа, активизации ферментов в разложении белка на аминокислоты! Мысль возникла из страстного желания привлечь на службу человеку новые резервы, тот же осенний лист, научившись консервировать его про запас, хотя бы на тот случай, если весенняя зелень погибнет от заморозков…
Он был не совсем уживчив, был то излишне мнителен, то до упоения доверчив. Но сколько их было, прекрасных в общении, во всем сбалансированных, покладистых «симпатяг», от которых не осталось даже памяти, даже следов того, чем они занимались. А ведь важно не только что-то сделать самому, подчас не менее важно найти, обозначить задел для тех, кто идет на смену.
Кто хорошо ищет?
В Оше, в апреле 1970 года, ка Всесоюзном совещании по ртути председательствующий вручил Владимиру Эрастовичу Пояркову не так давно учрежденный нагрудный значок. На значке были изображены синий глобус, стрелка компаса с лавровой ветвью, а по золотой ленте надпись: «Первооткрыватель месторождения». В удостоверении сказано: за Хайдаркан. Товарищи его посмеялись: «оперативно» работает наградной отдел, так, чего доброго, можно и не дождаться… А он подумал, может, оно и верно, что памятный знак этот он получил именно сейчас, сорок с лишним лет спустя, когда старательский «фарт», случайная благосклонность «госпожи Удачи» стали романтической подробностью, не более, перед лицом долгого, будничного труда. Тогда же Владимиру Эрастовичу переслали вырезку из местной газеты — неуклюжие, трогательные в своей искренности стихи, написанные хайдарканскими геологами в его, «открывателя хайдарканского месторождения» честь:
По следам былых огарков, По останкам чан-печи Расшифровывал Поярков Южный склон Кара-Арчи.Взято много пробных точек Молотком из-за плеча Каждый метр, скалы кусочек Досконально изучал…
Вот-вот, «молотком из-за плеча»! В сущности, так оно и было. Действительно, досконально изучал «каждый метр, скалы кусочек» и как будто узнал. А поехал в Москву утверждать впервые составленный для Хайдаркана подсчет запасов и провалился, был разбит наголову, всю ночь ходил по улицам, переживая неудачу, а главное — сознание того, что в ситуации с Хайдарканом нет никаких гарантий от подобных провалов и в будущем; да и что можно сказать о месторождении, контур которого определяется лишь содержанием в породе киновари!
В 1952 году Владимир Эрастович с группой товарищей был удостоен Государственной премии за открытие полиметаллического месторождения Кургашин-Кан. Он не может вспоминать об этой работе без удовольствия, это было именно открытие: догадка, проверка и тут же результат.
Здесь же, в Хайдаркане, «рудный горизонт», «рудный пласт», «рудная залежь» — все эти привычные понятия были неприемлемы, как и общепринятые методики разведки и подсчета запасов. В двух, трех, четырех разведочных скважинах или выработках на одной и той же глубине могло встретиться очень сходное оруденение, что давало геологам основание рисовать единое рудное тело. Делался подсчет запасов, утвержденные запасы принимались «на баланс», планирующие органы давали руднику соответствующее плановое задание. И вот Горняки начинали отрабатывать это «рудное тело», но вскоре убеждались в том, что никакого «рудного тела» нет, а есть всего-навсего три-четыре мизерных и ничем не связанных очага весьма посредственной и капризной руды. И, наоборот, какой-то участок мог быть буквально издырявлен скважинами и выработками, и все впустую, на участке ставился крест, а потом какая-нибудь случайная выработка, пройденная то ли для вентиляции, то ли для транспортных нужд, вдруг вскрывала руду. Да еще какую, с «ураганным», то есть с очень высоким содержанием ртути!
К сожалению, таких приятных сюрпризов было куда меньше, чем неприятных, и надо было обладать немалым оптимизмом, чтобы по-прежнему верить в Хайдаркан. Верить не потому, что так хотелось, поскольку имел отношение к открытию месторождения, а потому, что стали проясняться те условия, благодаря которым могли формироваться рудные скопления. Ртуть — элемент подвижный, его концентрация — это исключение из правил! Рудоносные растворы должны попасть в ловушку, где бы они могли «разгрузиться», а для этого нужно счастливое, редкое сочетание и подводящих каналов — достаточно сквозных по глубине тектонических нарушений, и необходимый объем пустот, рыхлых, пористых горных масс — приразломных зон дробления, и третье — непроницаемого экрана, то есть таких пород, которые и запирали бы ловушку на ключ.
В 1937 году, в период самого скептического отношения к Хайдаркану и его перспективам, Таджикско-Памирская экспедиция, ее непременный секретарь Николай Петрович Горбунов и ответственный редактор всех ее трудов Дмитрий Иванович Щербаков издают книгу Владимира Пояркова «Хайдаркан». В своей первой книге тридцатидвухлетний геолог взял на себя смелость заявить о несомненно промышленном значении месторождения, а также выделил для первоочередного изучения такие участки, как Южное поле, Центральный конус, южное крыло антиклинали[32] Медной горы. «Автор выражает надежду, — писал Поярков» — что данные, содержащиеся в предлагаемой работе, ускорят переход Хайдаркана из положения консервации в ряды действующих предприятий Союза. Автор глубоко уверен, что Хайдаркан, переживший тысячелетие назад эпоху рабского каторжного труда, затем несколько сот лет полного забвения, совсем близок от самого светлого периода своей истории, когда он станет одним из звеньев социалистического хозяйства советских республик Средней Азии».
Сбылось это пророчество геолога с неожиданной даже для него самого быстротой. И уж, конечно, едва ли можно было назвать «самым светлым периодом» те дни, когда под склонами Центрального поля днем и ночью шел монтаж первой печи для обжига руды. Хотя бы по той причине, что эта печь была вывезена из Никитовки. А сама Никитовка была уже «под немцем», и это означало, что страна лишилась своего главного, да и в общем-то единственного ртутного рудника. А ртуть, между прочим, это не только ртутная мазь, не только градусник. Это еще и капсюль. А капсюль, как известно, вставляется в патрон. А без патронов воевать трудно и, значит, бои шли не только под Харьковом, не только в Сальских степях и на залитом кровью волжском правобережье, бои шли и здесь, среди оплавленных зноем скалистых предгорий Алайского хребта, за каждую тонну ртутной руды, за каждый килограмм «жидкого серебра», которое было дороже золота.
Не было пневматики — бурили вручную. Не было вагонеток — таскали в тачках, а то и на себе, когда руду брали с поверхности, где-нибудь на головоломных кручах, куда не забраться с техникой. Молот да забурник. Отбитую руду — в мешок. Ломали арчовые ветви — вот и волокуша. Мешок на волокушу — и вниз, по осыпям и зарослям, к дороге, к печи. Горняков на фронт не брали — здесь тоже был фронт. И все же забойщиков не хватало, и тогда за кувалду брались женщины. Была такая забойщица в Хайдаркане — тетя Маруся. А в Чаувае был такой лозунг: «Каждый четвертый патрон — чаувайский». Чаувай, открытый в одном из рекогносцировочных маршрутов Дмитрием Ивановичем Щербаковым, — не очень большое месторождение. Но в ту пору артелями подчищались даже мелкие рудопроявления в окрестностях Хайдаркана, время споров об их пригодности прошло. В самом же Хайдаркане разворачивался рудник не меньше, а, может быть, далее больше Никитовки, и стране, в общем-то, очень повезло, что у нее в запасе оказался все таки этот козырь — месторождение Хайдаркан.
После войны — чрезвычайно напористая и дельная работа в тресте Средазцветметразведка. Отдаленно она напоминала о первых шагах в Ферганской геологобазе, но, конечно, все неизмеримо выросло: и размах работ, и задачи, которые надо было решать. Очень четкая геологическая служба! Постоянное дыхание над плечом горнодобывающих предприятий, их заинтересованность и контроль. Кто-кто, а производственники не признают таких выводов, как «не исключена возможность», «по всей вероятности» и так далее: из таких определений металла не выплавишь. Нужны месторождения, но геологические управления такими подарками балуют не часто, а прогнозными картами сыт не будешь. Тогда цветметовцы взялись за поиски сами.
Поиски-то свои, но на основе заимствованной, впрочем, очень распространенной, имеющей самое широкое хождение и активно поддерживаемой влиятельными в геологическом мире авторитетами. Оруденение мыслилось только в связи с внедрением в земную кору, в толщи Осадочных пород изверженных, магматических масс-интрузий. Интрузивный расплав перерабатывает, то есть ассимилирует вмещающие породы, отсюда и создается крен в проведении поисков — изучение прежде всего состава пород.
Однако поиски на основе петрографических признаков не дали ожидаемых результатов. Обязательность связи оруденения с интрузиями не подтвердилась, поскольку, как правило, между формированием тех и других существовал значительный, иногда в целые периоды, разрыв во времени. Не всегда можно было наблюдать и явления ассимиляции. В таких случаях трудно были не вспомнить классической перепалки двух геологов, Бреггера и Лакруа, пересказом которой Левинсон-Лессинг, замечательный русский петрограф, любил расшевелить притомившуюся от трудного материала аудиторию.
— Приезжайте ко мне в Христианию, и я вам покажу, что ассимиляции нет! — доказывал Бреггер.
— Приезжайте ко мне в Пиренеи, и я вам докажу, что ассимиляция есть! — не отступал от своего Лакруа.
— И, конечно, оба они правы, — подводил итог Левинсон-Лессинг.
Но с той же долей вероятия они были и неправы. Когда такой «бреггер» или «лакруа» наблюдали факты, не увязывающиеся с их концепцией, то они их просто не замечали или истолковывали так, что, собственно, от них ничего не оставалось. Фактам рубили головы и ноги, их чистили и шлифовали, а в результате складывалась стройная, продуманная, оснащенная всяческими ссылками картина, которой, конечно, можно сразить не одного оппонента, но от которой руды, к сожалению, больше не станет. Конечно, каждый исследователь стремится выработать костяк схемы, который бы дал возможность справиться с «Гималаями» полевых наблюдений. Все дело в том, чем обернется эта схема в действительности: рабочим ли инструментом с прицелом на будущее или путами, ограничивающими поле деятельности рамками «от и до», а то и вовсе заводящими в тупик.
Представления о главенствующей роли интрузии в образовании рудных месторождений несомненно суживали «жизненное пространство» поисковиков. И цветметовцы отказались от них. Богатство, пестрота фактического материала — все это свидетельствовало о том, что в природе существует более универсальный, более мощный и долго действующий источник рудных растворов, нежели приповерхностные интрузии. Таким источником могло быть подкоровое вещество земного шара, то есть мантия[33]. В связи с этим цветметовцы избрали основой своих поисков тектонический[34] контроль, поскольку подкоровые растворы могут проникать в приповерхностные слои только по глубинным разломам.
Таких разломов, кстати сказать, Тянь-Шаню не занимать. На сотни километров тянется Таласско-Ферганский разлом; еще более крупным элементом в строении этого участка земной коры является так называемая «Важнейшая структурная линия», разделяющая Северный и Южный Тянь-Шань. Но эти сверхразломы почти пусты, в них ничего не задержалось, для рудообразования важней второстепенные, оперяющие разломы, а то и просто «просвечивающие», с их «незавершенной сквозностью» и наличием непроницаемых «экранов». А такие замаскированные структуры требуют и уменья их различать. Серьезно занялись структурным анализом, расшифровкой чешуйчатых надвигов, под которыми могли оказаться рудные тела. И результаты не замедлили сказаться. Промышленности была передана серия месторождений, буквально одно за другим, без них теперь не представить горнорудного потенциала Средней Азии. Алтын-Топкан, Алмалык и другие ныне широко известные месторождения оказались крупнейшими рудными полями, на которых выросли мощные современные предприятия по производству столь нужных стране цветных металлов.
Какой геолог хорошо ищет? Многоопытный и многознающий? Разбирающийся во всем и вся? Да нет же, каким бы крамольным подобное утверждение не показалось. Ибо как объяснить, почему Хайдаркан открыли два студента-практиканта, а, скажем, не Валериан Николаевич Вебер, один из наиболее видных и уважаемых геологов Туркестана, занимавшийся в 1909–1913 годах геологическими изысканиями в междуречье Соха и Шахимардана, то есть именно в районе Хайдаркана? В своей фундаментальной, но потерявшей ценности и по сей день книге «Лист Исфара», описывая Хайдарканскую котловину, Вебер говорит: «В 1 км западнее дома лесообъездчика пересечение палеозойской гряды, кроме известняков «аккульского типа», на южном склоне обнаружило и светло-серые известняки, по-видимому каменноугольные, а между ними сланцы с прослойками черных известняков; падают все эти отложения к северу. Эту гряду восточнее мы пересекали в нескольких местах».
«Пересекали в нескольких, местах!» И не увидели Хайдаркана! Почему? Этот вопрос подчас задавался и Веберу, доставляя старому геологу неимоверные страдания. «Прошляпил, прозевал», — огорченно разводил он руками. Но едва ли это было действительно так. Чуткий наблюдатель, прекрасный, опытнейший полевик Вебер не мог прозевать то, что для него, как для съемщика, могло представить мало-мальский интерес. Хайдаркан как геологическую структуру он увидел. Рудный Хайдаркан — не заметил, и прежде всего потому, что не искал его, не думал о нем!
Но только ли в этом все дело? В шлихах, отмытых среди просторов так называемого Иркутского амфитеатра, было обнаружено значительное содержание киновари. Киноварь — хрупкий и тяжелый минерал, его крупинки при поверхностном смыве могут выдержать перенос лишь в считанные километры, значит где-то поблизости надо искать и коренные выходы. Что же делают геологи? А геологи начинают строить фантастические догадки насчет переноса рудных частиц реками со склонов Восточного Саяна, то есть за сотни километров, поскольку, согласно установившемуся мнению, в пределах таких структур, как Иркутский амфитеатр, ртутных месторождений быть не может. Не может, и все! И интереснейшие ртутные аномалии, выявленные в результате кропотливых и дорогостоящих поисковых работ, так и остались нерасшифрованными. А это «установившееся мнение» заключалось в том, что, дескать, ртутная рудоносность — явление сугубо специфическое, что в истории Земли был лишь один этап ртутной минерализации, что этот этап проявился лишь в так называемых «ртутных поясах» и что попытки найти ртуть в других геологических структурах заведомо обречены на неудачу.
Опять-таки, господство таких взглядов, заперших поисковиков на тесном пятачке уже известных ртутных провинций, не способствовало развертыванию поисков в новых районах. Не удивительно, что ртутная промышленность страны оказалась практически без запасов не только на будущее, но и на сегодня. И эту остроту проблемы Поярков понимал, как никто другой. Уж он-то знал, что на одном Хайдаркане долго не протянешь. И усиление поисковых работ в зоне Хайдаркана в самом лучшем случае могло лишь отсрочить неизбежную развязку, ибо на открытие второго Хайдаркана в горном обрамлении Ферганы рассчитывать не приходилось. Хайдаркан — счастливый билет, и он уже вытащен.
В 1955 году главный геолог треста «Средазцветметразведка» Владимир Эрастович Поярков выступил с тезисом о более широком развитии ртутной минерализации, нежели принято думать, о том, что ртутное рудопроявление не исключительное явление, а закономерный член единого гидротермального[35] процесса, а потому всякий район с развитым оруденением гидротермального типа перспективен и на ртуть. Тезис был встречен с недоверием. Ведь те районы, на которые возлагал надежды Поярков, — это не какая-нибудь «терра инкогнита», геологические маршруты и там проложены с той плотностью, которой требуют всяческие инструкции на ведение поисково-съемочных работ. Однако новых Хайдарканов нет и там. Да и само более чем скромное число всех известных ртутных точек недвусмысленно опровергает тезис Пояркова. И речь может вестись не только о ртути — вообще о рудных месторождениях! Не случайно все чаще можно услышать высказывания о том, что век месторождений, доступных с поверхности, кончился, и теперь искать на поверхности нечего, надо лезть в глубину, нащупывая руды густой сетью сверхглубоких скважин.
Казалось бы, самая что ни на есть прогрессивная, с замахом на будущее точка зрения. Действительно, все трудней даются открытия, все более скромными содержаниями металла удовлетворяется человек, и то, что раньше шло в отвал, считалось пустой породой, сегодня проходит как первосортная руда. Все это так. Но нет ли здесь и невольного стремления поскорей избавиться от нелегкого груза нынешних забот и переложить их на плечи тех, голубых, рисуемых пока лишь воображением фантаста горнопроходчиков будущего, которым и предстоит лезть в глубину? Не рано ли уверовали и в нашу непогрешимость, заявляя, что все уже открыто и изучено, а больше на поверхности и делать нечего, так ли это? И еще момент, о котором то ли по широте душевной, то ли по скромности великой не принято упоминать в подобного рода экскурсах за грань сегодняшнего дня: подсчитывал ли кто-нибудь, во что обойдутся подобные поиски «слепых» месторождений, их разведка, а тем более эксплуатация, если с каждой сотней метров глубины даже на обычных рудниках непомерно увеличиваются и материальные затраты, и технические трудности, и риск, и тяжесть труда для работающих там людей?!
Но вот ведь какая поразительная вещь: толком мало кто представляет и то, во что обходится разведка уже сегодня, разведка обычных ртутных месторождений! Поярков и раньше занимался предметной экономикой, а в должности руководителя отдела методики и экономики разведки полезных ископаемых Казахского научно-исследовательского института минерального сырья стал заниматься по долгу службы. Подсчитал и даже сам усомнился в своих выкладках, хотя, в общем-то, ничего неожиданного для него здесь не было. Стоимость разведки оказалась в среднем в три раза больше стоимости того предприятия, которое будет выстроено на этом месторождении! Но ведь это же абсурд! Страховка втрое дороже страхуемого! Ведь для чего делается разведка? Да прежде всего для того, чтобы не выкинуть на ветер деньги, выстроив рудник там, где нет руды. И вот оказывается, что предосторожность обходится куда дороже, чем сама ошибка, которой, кстати, может и не быть.
Замкнутый круг. Сложность ртутных месторождений, несовершенство методики разведки и подсчета запасов приводят к тому, что в семи случаях из десяти результаты оказываются недостоверными, руды фактически обнаруживается куда меньше, чем подсчитали разведчики. Случаи «неподтверждения» повлекли за собой бóльшую требовательность со стороны Государственной комиссии по запасам. Большая требовательность — больший объем горнопроходческих и буровых работ, а это не только деньги, но и время, а время разведки месторождения и так совершенно не соответствует нуждам промышленности. Пять лет разведуется малое месторождение. До десяти лет и более — крупное. А выход из этого явно ненормального положения один: совмещение разведки с добычей. С первых же разведочных выработок. С первых же канав. Мысль не новая, в свое время ее неоднократно высказывал и Щербаков. Обычно уравновешенный и веселый, он страшно возмутился, увидев вокруг одной из разведочных канав Кадамджая разбросанные образцы сурьмяной руды. «Во-первых, — говорил Дмитрий Иванович, — сурьмяный концентрат — это деньги, и недопустимо, чтобы он терялся в отвалах по нашему разгильдяйству. Во-вторых, попутная добыча — лучшая система опробования». Этот урок был преподан Щербаковым лет сорок, а то и более назад. Но время только удесятерило строжайшую необходимость выполнения этой простой заповеди, нарушение которой стало слишком дорогим удовольствием.
В 1962 году по поручению Министерства геологии Владимир Эрастович Поярков берется за обобщение накопившихся в стране материалов по ртути. Безотлагательность такого исследования вызывалась, с одной стороны, необходимостью «оглядеться» в сложившемся положении, довольно-таки неблагополучном, с ртутной сырьевой базой, а с другой — открытием за последние десять — пятнадцать лет сравнительно многочисленных местонахождений ртути, в значимости которых как для науки, так и для практики надо было разобраться. Курируя работы по ртути, Владимир Эрастович всегда много разъезжал. Теперь же, в течение нескольких лет, несмотря на свой довольно-таки солидный возраст, пересаживаясь с самолета па вертолет, с вертолета на вездеход, а то и на лошадь, а то и на моторку, вчера жарясь на раскаленной сковородке прикопетдагских песков, сегодня хлюпая резиновыми сапогами по тундре, а завтра безоговорочно капитулируя под натиском чар благословенной Грузии, он объездил все ртутные месторождения страны.
Новые люди, новая география да такая, что глаза разбегаются (о геологии и говорить нечего!), — все это напрочь отметало всяческие соображения по поводу, так сказать, преклонных лет, здоровья и прочая и прочая. Но, возвращаясь домой, в тихую квартирку на улице Астрономической, вновь оказываясь под неусыпной опекой своей домовитой Елены Николаевны, он тотчас вспоминал и про диабет, и про строжайшую необходимость соблюдать диету: наваливались усталость, недомогание — словом, приходил неизбежный после каждой «транссибирской» вылазки час расплаты, и этот час тоже надо было уметь пережить. Он закутывался в темный, с серебряным позументом восточный халат, подаренный когда-то друзьями-геологами, прятал глаза под — поникшими кустами таких же седых, как позумент, бровей, часами просиживая за неразобранной почтой, за письменным столом, заваленным всяческими бумагами, рукописями, грея руки о стакан круто, до горечи заваренного чая.
— Тебе еще чаю? — слышится голос Елены Николаевны.
Теперь он единственный объект ее неустанных забот и волнений. Единственный? Ну, до поры, до времени, пока в коридоре не появятся лукавые рожицы Саулежки и Тимура, а эта пара может нагрянуть в любое время, в любой час, с неиссякаемой энергией и оптимизмом переворачивая все вверх дном. И тогда Елене Николаевне становится не до Владимира Эрастовича. Как всю жизнь — не до самой себя. Сначала подрастал Будимир. За Будимиром — Эра, названная так в честь деда, Эраста Федоровича. За Эрой — Лена. Думалось, дети вырастут — снова сможет работать, но не тут-то было. Дети выросли, но их место заняли внуки. Конечно, все живут самостоятельно, даже в разных городах, но все трое — геологи, и, когда приходит лето — кто-нибудь да нагрянет, примчится: «Мама, мы, наверное, подбросим тебе?..»
Пока Саулежка и Тимур были маленькими, Лена не работала. За эти годы Будимир и Эра ушли далеко вперед, а ей тоже отставать не хочется, надо наверстывать. Занимается проблематичными окаменелостями, так называемыми конодонтами, муж — Едге Садыков — тоже геолог, а поскольку живут тут же, в Алма-Ате, значит, чуть что — мама, выручай. А мама была когда-то химиком-аналитиком, техноруком лаборатории треста «Средазцветметразведка» и дело свое поставила так, что ее лаборатория была арбитражной по Министерству, то есть самой лучшей.
А ей не просто было работать в тресте «Средазцветметразведка». И прежде всего потому, что главным геологом треста был Поярков. При некоторых свойствах его характера это означало, что если ко всем другим подчиненным «главный» проявлял строгую требовательность, то в отношении к техноруку Калмыковой эта строгость была возведена в квадрат. Если все отделы треста за какие-то перевыполнения получали премии, Калмыкова в списках премированных никогда не значилась, опять-таки, чтобы кто-нибудь чего-нибудь не подумал. От таких проявлений «семейственности» впору было менять место работы, но тут рядом был дом, и она даже в обеденный перерыв успевала переделать кучу всяческих, по хозяйству, дел. А потом вопрос этот отпал сам собой, и только фамилия, этот неспущенный флаг независимости, напоминал о былых ее баталиях с привередой Поярковым.
— Подогреть чаю, Володя?
Нет, спасибо, у него не остыл и этот. Стакан отставлен в сторону, как и недомогание. Университетские ромбики злые языки подчас называли «поплавком», дескать, держат на поверхности. Для него такой поплавок — сама работа, да и не поплавок, если уж пользоваться рыбачьей терминологией, а эдакий крючок, блесна или там мормышка, па которую он крепко-накрепко попался. И какой крючок! Громадный, просто-таки неподъемный материал. Но и ограниченный, как это ни странно, а то и просто бедный, особенно по новым ртутным районам.
Когда-то убогость фактических наблюдений привела к концепции о крайней специфичности ртутной рудоносности. А появившись, концепция теперь уже сама способствовала сохранению этой убогости, поскольку порождала оправданное с «научной точки зрения» пренебрежение к накоплению новых фактов. А факты шли в руки самые неожиданные, самые, казалось бы, несовместимые, но, если присмотреться, все «работающие» в одном ключе. Ртуть в соляных куполах. Ртуть в грязевых вулканах. Ртуть в алмазоносных трубках взрыва. Ртуть в нефте- и газоносных структурах, то есть она там, где есть, или могут быть глубинные подводящие каналы. Никто никогда не обращал внимания на содержание ртути в нефти. А заинтересовались — и сразу подсекли. И в нашей стране. И в Калифорнии, в тех структурах, что контролируются знаменитым разломом Сан-Андреас. Конечно, делать какое-то заключение о сонахождении ртути и нефти преждевременно, но разве может вызвать возражение сама постановка вопроса? Щербаков, когда Владимир Эрастович при их последней встрече в 1966 году во Фрунзе, незадолго до кончины Дмитрия Ивановича, рассказал о намечающейся связи ртутной минерализации с нефтью, сразу потребовал статью. «Ведь наиболее интересны и важны те факты, которые не укладываются в общепринятые схемы», — говорил, поддерживая Пояркова, Щербаков. Дело, конечно, заключалось не только в экстраординарности факта. Нефть добывается в огромных количествах, и если б удалось наладить попутное извлечение ртути… О попутном улавливании Поярков писал еще в книге «Хайдаркан». Правда, там шла речь об углях Донбасса, и вот теперь на некоторых коксовых заводах это делается. А сколько ртути уходит в воздух при отработке полиметаллических месторождений! Поистине, это месторождение, которое не нужно искать, одна из актуальнейших проблем разумного ведения человеком своего хозяйства, наземного и подземного.
Все эти раздумья и легли в основу книги Пояркова «О поисках, разведке и оценке ртутных месторождений», а затем и докторской диссертации. Работу хотелось делать не спеша, тщательно выверяя каждый факт, каждый вывод, но его всячески торопили, поскольку цифровой материал и основные положения диссертации должны были войти в конъюнктурные обзоры Госплана и Министерства геологии СССР. Работа делалась в таком контакте с производственниками, так много людей было посвящено даже в предварительные ее выводы, что сама защита диссертации уже утратила для него то качество экзамена, каким она обычно обладает для соискателя. Это не было самоуверенностью. Просто он хорошо знал точку зрения своих главных оппонентов, знал и то, что для этой встречи он вооружен лучше, чем они. Собственно, это было его обязанностью.
И вот ученый секретарь Совета, доктор геолого-минералогических наук Николай Карпович Ившин зачитывает отзывы. Труд великий, их без малого пятьдесят, значит, удалось нащупать и поднять вопросы, занимающие не только диссертанта и то учреждение, которое он представляет.
Отзыв доктора геолого-минералогических наук Ф. И. Вольфсона. Замечаний нет.
Отзыв заместителя министра цветной металлургии СССР Н. Чепеленко. Замечаний нет.
Отзыв начальника Управления поисков и разведки цветных и редких металлов. Министерства геологии СССР А. С. Крючкова. Замечаний нет.
Отзыв главного инженера треста Союзртуть Ф. И. Пономарева. Замечаний нет.
Отзыв главного геолога Хайдарканского ртутного комбината В. Д. Попкова. Замечаний нет.
А вот и замечания. Сомневаются в целесообразности отработки малых месторождений. Но эти сомнения устарели лет на сорок, а то и больше, ибо уже сейчас малые месторождения дают треть мировой добычи, и этот уровень постоянно растет. Наверное, дело в другом: в нашем неуменье отрабатывать малые месторождения. Мы используем ту же систему организации производства, что и на крупных предприятиях, взваливая на «карликов» неподъемную ношу всяческих непроизводительных расходов. Малым месторождениям — и малые, мобильные добычные подразделения с легким и разборным оборудованием, с минимальными затратами на разведку и управленческий аппарат!
Возражение против допускаемой автором возможности формирования ртутных месторождений в разных геотектонических структурах и на разных стадиях их развития… Тоже не блещет новизной. Курильская гряда, как известно, есть начальная стадия развития современной геосинклинали[36], а там найдена ртутная минерализация. Ртуть найдена на Сахалине. В последние годы ртутные месторождения установлены в отложениях мезозоя, палеогена, неогена[37], даже в отложениях четвертичного периода, того самого, в который мы имеем честь дискутировать на ученых советах. Как рассматривать эти факты, исходя из представлений, отстаиваемых оппонентом? Подвергают сомнению связь ртутной минерализации с оловянной, свинцовой и другими минерализациями. Надо ли отвечать на это возражение? Может, товарищ просто не успел ознакомиться с работой? Ведь это один из главных защищаемых тезисов. Диссертантом приведен обильный и однозначный фактический материал, не оставляющий места для иных толкований! Надо ли повторяться? Что думают другие рецензенты?
— … Вывод о «мантийном» происхождении киновари — большой вклад в металлогению…[38].
— … Исследование поставленной проблемы должно заставить нас пересмотреть ряд вопросов металлогении, наши теоретические и практические взгляды на многие месторождения и рудные районы…
— … Мне нравится мысль о совмещении детальных разведочных работ с подготовкой и добычей руды на сложных и измененных месторождениях. Такого подхода требуют не только ртутные месторождения, но и золота, слюды…
— … По-видимому, его данные и предположения явятся основой в определении направления поисков и разведки ртутных месторождений в Союзе.
— …Диссертация необычна по стилю… Острое и злободневное произведение, написанное известным и авторитетным исследователем ртутных месторождений СССР, взволнованным тем напряженным состоянием, в котором оказалась сырьевая база ртутной промышленности и чувствующим ответственность за нее…
От всех этих слов было даже как-то не по себе. Но они меньше всего походили на традиционные упражнения в учтивости, не тот народ, не тот повод. Видимо, работа, действительно, проделана не впустую… В 1967 году ему показали результаты шлихового опробования по Верхоянской складчатой зоне, спросили, что он на этот счет думает. Спрашивали неспроста. Географические и экономические условия района чрезвычайно тяжелые, требования к месторождениям в связи с этим повышенные, но он поддержал местных геологов, уж больно своеобразной показалась эта зона: очень богатые месторождения таких высокотемпературных членов гидротермального ряда, как золото и олово, а в разрывах — низкотемпературные проявления ртути. Тогда поддержал. А недавно поехал — есть что и посмотреть: вполне реальные объекты для разведки. И это было чрезвычайно приятно. Приятней самых прочувствованных и искренних слов.
Это было почти так же хорошо, как хорошо ему ехать поездом из Ташкента в Фергану, что он нередко проделывает, когда возникает необходимость наведаться в Хайдаркан. Дорожка знакомая. Когда в тридцатых годах они начинали здесь работать, кроме полукустарных угольных копей в горах ничего не было, ночью едешь — темень, ни огонька, только тусклые фонари обшарпанных станций да лай собак из непроглядных глубин затаившихся в ночи кишлаков… Огни, огни, море огней, и тут, прямо за вагонным стеклом, и там, среди гор, золотые, пульсирующие слитки света, драгоценные ожерелья рудничных звезд, наброшенные на каменную твердь Тянь-Шаня и Памиро-Алая. И так — до Ферганы. До той самой, где когда-то начинался и сам он, геолог Поярков.
В ту пору он мог, ничуть не считая это чем-то особенным, за один день махнуть из Хайдаркана к перевалу Сымап, а туда все-таки шестьдесят горных километров. Сейчас такой маршрут ему, наверное, не по силам. Тогда он, не раздумывая, стащив сапоги, чтоб не мешали, мог отвесными скалами подняться к вершине Алтын-Бешик с единственным желанием заглянуть в как будто бы виднеющиеся там темные дыры древних выработок — сегодня он с неменьшим азартом засидится лишний раз в читальном зале каких-нибудь геологических фондов, отыскивая в пухлых томах то, что в спешке, в занятости всяческими сиюминутными заботами не заметили, не прочли, не додумали сами авторы, люди, исходившие описываемые места вдоль и поперек. Он уверен: в недрах геологических архивов погребено не одно месторождение, терпеливо ожидающее теперь своего часа. Так как же не поспешить ему навстречу!
В изгнании
Работая в Ферганской геологобазе, Владимир Эрастович однажды вспомнил о рассказах отца, пошел, разыскал на старом кладбище могилу деда. Он ведь здесь, в Фергане умер. Не зря так не хотелось ему сюда ехать. Федор Владимирович словно предчувствовал это, таким и вышел на той, последней фотографии, хранящейся во всех трех поярковских домах.
Сфотографировались на прощанье. Надпись на обороте сохранила дату отъезда. 17 июля 1910 года. Поярков стоит посреди своей многочисленной семьи, грузный и усталый, с мужичьей, веником, бородой, с грустно опущенным пенсне, со всклоченной шевелюрой жестких седых волос. Одна пуговица мундира не застегнута или оторвана, но он и не заметил этого, а может и заметил, да махнул рукой. Взгляд не цепкий, не сосредоточенный, как прежде, а странно беззащитный и растерянный, даже безразличный. Усталость, усталость во всем. Словно Федор Владимирович — не перед дорогой, а только что вернулся откуда-то, отдав странствию все, что имел. На выезде из города, в роще у Ташкентского тракта, как повелось в те годы у верненцев, расстелили на траве скатерть, поставили самовар. Невеселым было это чаепитие. Даже самые младшие притихли. Еще два года до конца службы. И тогда всей семьей в Петербург, чтобы быть поближе к старшим детям, которым еще помогать и помогать, или же, чего лучше, ни славы, ни чинов, ничего не надо, только бы вернуться на родину, в родные Богучарские степи, к Дону, к его привольным зеленым берегам. А что его ждет? Это ли не изгнание? Чужая Фергана. Чужой гарнизон. Когда-то ему легко и ездилось, и ходилось. С тех пор, как в августе 1879 года Поярков начал свою службу младшим врачом третьего Туркестанского полка, он изъездил весь край, от Ташкента до Кульджи. А вот теперь в отчаянье от внезапного перемещения по службе, хотя бы и подслащенного повышением. Да и что делать? Трогаться из Верного всем семейством? И бессмысленно, и не так просто: старший сын, Эраст, пять лет как во Франции, две дочери учатся в Петербурге, одна в медицинском институте, другая — на Бестужевских курсах, а четверо здесь, еще в гимназии, а последнему и вовсе семь лет, куда ж с ними двигаться? Значит, ехать одному. На два года, оставшиеся до выхода на пенсию, — удел старого холостяка, неустроенность, разлука. И не только с близким. Он врач. Многоопытный и в пределах отпущенного человеку — всемогущий. Но он еще и этнограф, краевед, вокруг него группируется верненский актив Географического общества, всеми своими научными помыслами Федор Владимирович связан с Семиречьем, где прожил лучшие годы жизни, а вот теперь лишался и этого.
Но он подневолен, и, что делать, поехал. Узнав о том, что в Верном открылась должность бригадного врача, та самая, на которую он был назначен в Фергану, Поярков будет просить перевода назад, в Верный, куда, однако, вопреки здравому смыслу и простой человечности направят не его, а откуда-то издалека, за тысячи верст присланного врача, хотя тому было все равно, куда ехать. Но что до всего этого канцеляристам?
Наверное, его просьба была б услышана, будь Поярков поближе к тем, от кого что-либо зависит, будь он немного покладистей и поосторожней на язык. Кому-кому, а врачу несложно добиться расположения к себе, в особенности, врачу модному, имеющему солидную практику. Однако Федор Владимирович не был любимцем публики, особенно именитой, наоборот, он нажил себе немало недоброжелателей своим неумением угождать, лицемерить. Приняв какую-нибудь важную, изнывающую от безделья особу, обнаружившую у себя все мыслимые болезни и недуги, Федор Владимирович после своего ироничного «гм-гм» тут же выписывал «рецепты», ставшие столь известными в Верном: «завести верстак», «побелить потолок». Частной практикой он не занимался. Вне стен военного лазарета появлялся редко. Но он был и добр, и чуток, и эту истинную его доброту прекрасно знала, как засвидетельствовал известный в те годы токмакский учитель Ровнягин, «та природная беднота, которая и днем и ночью шла к Федору Владимировичу со своими болезнями и горем. Вряд ли кто уходил без облегчения и утешения. Ехал народ к Федору Владимировичу и издалека — с болезнями застарелыми. Не стерпит, бывало, Федор Владимирович, начнет крепко бранить какую-нибудь древнюю старушку за то, что она болезнь запустила. А эта древность улыбается умильно и с любовью смотрит на Федора Владимировича, что уж, Федор Владимирович, помоги мне»…
Федору Владимировичу не помог никто. Он скончался вскоре после переезда и Фергану от воспаления легких и одиночества.
«Умер Федор Владимирович! В канцеляриях вычеркнули из списков одно имя», — писалось в листовке, появившейся в Верном в связи с его смертью. «В свое время кончина этого замечательного человека не была отмечена в местной печати», — не смог смолчать Ровнягин, чей некролог в «Семиреченских ведомостях» был опубликован лишь на следующий год. Да и что удивительного? «Характера Федор Владимирович был прямого, лесть ему претили. В наш век, век протекции и заискиваний, прямота характера не могла сделать карьеру Федора Владимировича «блестящей». До последней войны… (речь идет о русско-японской войне) врач Поярков не имел никаких внешних знаков «отличия». Но не важны эти знаки тому, кто нравственное удовлетворение черпает в чувстве исполненного долга и в сумме добра, сделанного человечеству». Дли Ровнягина Поярков был «семидесятник в самом лучшем смысле этого слова», человек, чье народничество «выражалось не в утопических социальных мечтаниях, а в реальном служении народу — делом».
Линия жизни
Сын псаломщика. Всегда казалось, что выражение «беден, как церковная мышь» было впервые сказано именно про его отца, про него самого. По настоянию родителей кончил духовное училище, затем — семинарию. Когда, много лет спустя, дети расспрашивали о бурсе, Отсылал их к Помяловскому: там все точно изображено, так и было! С окончанием семинарии покончил и с послушанием отцу. Денег на дорогу не было, в Москву из-под Воронежа добирался пешком. Жил уроками, умудряясь не только прожить, но и помогать своим, учился на медицинском факультете Московского университета. Студентом в 1877–1878 годах познакомился с театром военных действий русско-турецкой кампании, перенес там тиф. Война эта, проходившая под лозунгом освобождения братьев-болгар, была чрезвычайно популярной среди либерально настроенной русской интеллигенции; участнику тех событий дано было испытать счастливое чувство борца за правое дело, чувство освободителя. Здесь, в Туркестане, все было иначе. И не всегда легче.
13 февраля 1894 года в Пишпеке скончался некий Алексей Михайлович Фетисов, человек одинокий, а по званию — ученый садовник. Кончина его была неожиданной, хотя Фетисов и долго болел. Еще накануне он тихо праздновал свои именины, а уже следующий день стал для него последним. Спустя полгода, в двух номерах «Туркестанских ведомостей» Федор Поярков напечатал пространный очерк о Фетисове, лишь по неопределенности жанра названный некрологом. В самом деле, смерть тут была всего лишь поводом, чтобы рассказать, пораздумать о жизни. И только ли о фетисовской?
Вот две фигуры, живо обрисованные пером Пояркова. Родовитый, энциклопедически образованный, умница и богач полковник Раевский, внук героя 1812 года, искренний, честный, смелый человек. В нем «совмещались черты маркиза Поза и вместе Уриеля Акосты, но, пожалуй, это был и наш несколько только измененный временем и всем нам известный Рудин»… Фейерверк идей, осуществление которых должно было осчастливить мир. Обнаженный нерв справедливости, по каждому поводу вступающий в эффектные, но мало что дающие делу стычки с окружающим обществом, к которому Раевский тем не менее принадлежал. «Мечтатель по характеру и дитя в практической жизни»! А к чему все свелось? Не курил, не пил вина, не бывал на балах и не давал их, одел на свои средства батальон, помогал всем, кто к нему обращался, дерзил, непочтительно отзывался о существующих порядках, о высокопоставленных лицах, нажил много врагов И уехал в Болгарию, где и погиб в сражении на Фюнишских высотах.
Поярков с симпатией разглядывает этого человека, столь ярким метеором мелькнувшего на туркестанском небосклоне. Но и только. «Для деятельности в новом крае, среди новых и неизвестных людей, требовались иные характеры, более спокойные и сосредоточенные». Такой характер он видит в Фетисове, очень незаметном человеке, который всеми своими знаниями был обязан только себе. Алексей Михайлович прибыл в Ташкент вместе с полковником Раевским, был с ним дружен, находился под его влиянием. Но если Раевский был способен лишь на «готовые теоретические планы для нового и чуждого ему края, будучи совершенно незнаком с его природой и его обитателями, то первый в незнакомой ему стране вначале был только скромным исследователем-натуралистом». С «более чем ничтожными средствами» Фетисов путешествует по Тянь-Шаню. Особенно по Западному. Вместе с тем он исследует Сон-Куль и Чатыр-Куль, долину Сусамыра, Музарабадский проход и Кульджу. Отлично зная ботанику, он занялся, естественно, прежде всего флорой, составив подробный гербарий Туркестанского края, открыв и описав множество новых интересных видов растений. Многие из них получили его имя, упоминались м научных каталогах, культивировались в ботанических садах Петербурга и Эрфурта.
Участие и экспедициях Северцова и геолога Романовского привлекли внимание Фетисова к вопросам геологии и географии. Он пишет статьи в «Туркестанские ведомости», откуда те перепечатываются немецкими, английскими и американскими научными изданиями. Так Фетисова узнают за границей, его даже приглашают на географический конгресс в Геную, собиравшийся в честь четырехсотлетия открытия Нового Света.
В конце 1878 года Фетисов направляется в Пишпек, где начинается его сугубо практическая деятельность; теперь ученые рекогносцировки его и непродолжительны, и недалеки. Поярков проезжал через Пишпек летом 1880 года, и его неприятно поразило это унылое поселеньице у руин кокандской крепостицы, где негде было даже укрыться от страшной полуденной жары. Буквально через пять лет Федор Поярков вновь оказался в Пишпеке. Та же раскаленная, каменистая степь вокруг, те же незавидные домишки под камышом и глиной, кое-как расставленные в пыльные и куцые улочки. Но у каждого дома — сад. А вокруг поднимаются крепкие посадки туркестанского тополя и карагача. А за Пишпеком, по дороге на Верный, разбита прекрасная, обширная роща с питомником, саженцы откуда быстро завоевали известность по всему краю, причем просьбы насчет черенков из «фетисовского» сада поступали даже из Акмолинска. И все это — Фетисов. Он начинает заниматься хмелем, и вскоре пишпекский хмель успешно конкурирует с привозным, чуть ли не с французским. Совершенно на пустом месте он берется за сыроварение и самым убедительнейшим образом доказывает, что «в деле эксплуатирования вещественных богатств можно идти бесспорно полезною и честною дорогою и что не одни кабаки и отдача денег под проценты дают средства в частной деятельности». Он ведет раскопки несторианских погребений и печатает отчеты. Культивирует новые сорта пшеницы и овощей и получает за эту работу большую золотую медаль от Министерства государственных имуществ. Он возглавляет школу садоводства для киргизского населения, передавая своим слушателям не только знание практических приемов, но и начала теоретических основ. Эта деятельность Фетисова представляется Пояркову особенно важной, уж он-то знает, сколько требуется «силы воли и нравственной энергии, чтобы не пасть и не растеряться в новой обстановке, среди чужого населения и его своеобразной жизни и культуры». Иначе — метаморфоза в спесивых и благополучных «господ ташкентцев». Или — бегство. Подобно тому, как уехал Раевский, «унося с собой недовольство краем и личное раздражение».
Фетисов не уехал. Он так и продолжал жить в своей избушке, посреди посаженных им дубрав, где его и навещали все те, кто, оказавшись в Семиречье, нуждался в его, Фетисова, помощи. «К сожалению, не все платили ему тем же», — счел нужным заметить Поярков. Однако и это не оказывало действия на раз и навсегда взятый Фетисовым курс в жизни. Последние дни Алексей Михайлович ходить на занятия не мог, тогда он перенес их в свой домик. «Со смертью Фетисова школа эта потеряла опытного руководителя, а ученики, киргизские мальчики, лишились доброго и Прекрасного наставника».
Ом-мани пад ме хум!
Наверное, Поярков не случайно с таким тщанием отнесся к Памяти Фетисова. При всей сдержанности автора между строк можно прочесть нелишнюю для дальнейшего повествования мысль о том, что в судьбе пишпекского садовода, в главном, Поярков видел и свою, с тою лишь разницей, что он был врачом и начинал в Токмаке, в бойком торговом местечке на перекрестке дорог в Верный, в Каракол и Нарын, у брода через вечно меняющую свое русло каменистую и порожистую Чу. В Токмаке у него родился первенец — Эраст. Из Токмака он посылал свои первые заметки в невообразимо далекий Санкт-Петербург, чтобы спустя месяцы, в «Восточном обозрении» в разделе хроники, рядом с сообщением об экспедиции Пржевальского, появились и его несколько строк, сопровождаемые любезным редакторским предисловием: «Помещаем любопытное письмо о новых археологических открытиях неутомимого и деятельного нашего сотрудника доктора Пояркова».
Письмо это, в частности, помещенное в номере за 14 ноября 1885 года, было действительно любопытным. И не только потому, что в нем сообщалось об открытии возле Токмака камней с высеченными на них крестами и непонятными надписями — удивительных для Средней Азии несторианских погребений; оно обращало на себя внимание эдакой легкостью, можно сказать, даже игривостью тона, столь несвойственной для более поздних статей. Скорее всего, это происходило по той простой причине, что в своих экскурсиях он видел лишь единственно возможное в токмакской глухомани развлечение, единственное средство уйти от скуки, от тоски по умной и содержательной жизни. Не было серьезности. Не было взгляда в глубину. «Я думаю, что на камнях с крестом окажется целая литература! Только к какому веку и народу она принадлежит, пока Бог ведает. Азия ведь страна чудес». С той же непосредственностью он описывает древнюю башню в окрестностях Токмака, очевидно, Бурану, которая, по его мнению, «в техническом и архитектурном отношении положительно недурная вещь и притом изящная». Он сообщает о находке в одном из ущелий четырех каменных баб, возможно, он даже перевезет их к себе, «может быть, и на этой неделе даже… только мне перевозить дорого, и я не знаю, что с ними буду делать». Словом, самое что ни на есть дружеское письмишко любезному другу-редактору господину Полевому, которое он столь же непосредственно и заключает: «Вообще необходимо делать на этих местах раскопки».
Раскопками он занимается на Иссыгатинских[39] ключах, обследовав поначалу расположенную на другом берегу реки небольшую пыльную пещерку, где якобы жил и погребен святой Иссыг-Ата. Главной же святыней были сами источники, они имели тридцать восемь градусов по Реомюру, и на всю округу — известность «божьего» места. По ночам гулкий плеск и рокот Иссыгатинки сливался с резкими, гортанными криками странствующих дервишей-дуванов, чьи песнопения были так же бесконечны, как и рев реки. Рядом с источниками высился громадный, в три с половиной аршина замшелый гранитный валун, на котором изображен Будда, сидящий не то в цветке лотоса, не то на облаках и обильно вымазанный бараньим жиром. Здесь же высечена санскритская[40] надпись, такая же надпись — на валунах оградки перед изображением, на камне, уложенном на дно ключа, Ом-мани пад ме хум! О, господи, сокровище цветка лотоса! Внимание привлек высокий холм, расположенный чуть севернее источника. Уже на небольшой глубине были встречены округлой формы, небольшие, чуть больше медальонов, терракотовые изображения Будды. Поярков отправил их в Императорскую Археологическую комиссию. А крестьяне окрестных сел передавали ему то найденные в земле диковинные глиняные черепки, то железный молот весом в тридцать фунтов, то бронзовые фигурки, выброшенные на берег иссыккульской волной.
Его очень занимала эта необычная, древняя земля, чьи вершины забраны в лед и снег, а долины, подножья этих вершин, спеклись и потрескались от зноя. Древность ее — не ставший традиционным эпитет, а вполне осязаемая реальность: то венчик сосуда, торчащий из отвесной стены лессовой промоины, то оплывший, но все еще высокий крепостной вал, со всех сторон прикрывший мелкую рябь каких-то холмов и впадин, — все, что осталось от некогда шумных городских кварталов. Не раз и не два напомнят ему эти холмы притчу средневекового арабского писателя Магомета Казвини, ту аллегорию о страннике, в чьей роли неожиданно очутился и сам Поярков. Странник шел через богатый, большой город и, пораженный его могуществом, спросил у прохожего:
— Когда появился этот город, давно ли?
— Когда? — удивился прохожий. — Он был всегда!
Через пятьсот лет странник вновь оказался в знакомых местах. Но там, где был город, теперь шелестел под ветром зеленый луг, а по траве шел человек с косой, и воздух был полон запаха свежескошенного сена.
— Город? Какой город? — и косарь с опаской поглядел на странника, не заговаривается ли?
Минуло еще пятьсот лет. Но теперь страннику некому было задавать вопросы, вокруг расстилалась однообразная морская гладь. Прошло еще пятьсот лет. Странника встретила песчаная пустыня, а посреди — пыльный крошечный оазис под чахлой тенью свернувшейся от жажды листвы.
— Море? Какое море? — жители оазиса глядели на странника как на человека, у которого помутился разум.
И еще пятьсот лет кануло в лету. Снова город, толпы людей, и недоумение в глазах прохожего, когда странник спросил, давно ли появился этот город.
— Давно ли? Глупый вопрос ты задаешь, почтеннейший, наш город был всегда!
Именно таким странником почувствовал себя врач Федор Поярков, когда в мае 1885 года, во время первых своих археологических экскурсий по Пишпекскому уезду, увидел в окрестностях Токмака, а затем и Пишпека загадочные камни с высеченными на них крестами и письменами. Попробовал расспрашивать коренных жителей, но, по их рассказам, они сами появились тут лет двести-двести пятьдесят назад и поэтому сказать что-либо о народах, живших в этих местах прежде, ничего не могут. Литература? Со школьной скамьи стало привычным представление о том, что в течение многих веков Туркестан был ареной безудержного произвола тюрко-монгольских ханов с их фанатизмом и жестокостью. И вдруг в самой что ни на есть глубинке Средней Азии — древние христианские памятники, причем несториане, если судить по надписям, были и из коренных жителей, а даты охватывают период порядка 118–120 лет! А это означает, что карта политических, религиозных влияний была в средневековье для Средней Азии куда сложней, чем это могло показаться при первом знакомстве. А ведь еще существовал и буддизм, долины Таласа и Чу были ареной не одной битвы мусульман с кара-киданями и тибетцами. Старик-киргиз рассказывает Пояркову услышанное им в молодости предание о том, что его предки у слияния Ала-Арчи и Чу, верстах в 16–18 от Пишпека видели огромное, протяженностью в несколько верст, скопище человеческих костей, которые затем местный правитель приказал частью сбросить в болота, частью закопать. Буддийские изображения и тексты известны не только в Иссыг-Ата. Они есть и на Или. И на Иссык-Куле, где в урочище Ак-Терек, в ущелье Дувана, Поярков видел три гранитных валуна с санскритскими надписями. Ему рассказывали, что в Чалдоварском ущелье тоже есть изображения буддийских божеств и надписи, но проверить это сообщение ему так и не удалось.
Желтый цветок
Нет, он не археолог. Он — врач. А врачей прежде всего интересуют, должны интересовать больные и их болезни. И способы излечения. Тем более, местные способы, если они существуют. Той же самой лихорадки. Она называется «калдаратма». Ее приносит злой дух, по имени «джаннык карган», который в виде дряхлого старика или отвратительной, страшной старухи вселяется в человека. «Джаннык карган» особенно любит болота, старые стойбища, брошенные зимовки. Средства лечения — вода, треугольные, из кожи или сафьяна амулеты «бои-тумар», которые за большие деньги можно купить у проезжих дувана, хаджи и ишанов из Коканда, а то и из Бухары. Лечат «табибы», «тамырчи». От головной боли вполне достаточно, оказывается, простого заговора, для лечения душевнобольных одних наговоров маловато, бакши требуют козленка, мясо берут себе, а легкими, печенью бьют, шлепают больного, чтобы изгнать вселившихся в него джинов.
Бакши — это странники, знающиеся с джинами. Хорошими, правильными джинами, которых можно заставить служить себе. А уж тогда для бакши нет невозможных дел. Бакши мог лизать раскаленный нож или серп, голыми ногами вставать на раскаленный кетмень и казан, протыкать себя саблей, глотать ядовитых змей, дать перетянуть себя веревкой самым сильным джигитам. Бакши молчаливы и живут в отдалении от всех.
А есть еще плохие, злые джины. Они особенно злы весной, когда у них перелет, и если они вселяются в человека, он становится «джинды», сумасшедшим. Сами по себе джины маленькие и являются то в виде мошек, мух, а то и ящериц — «келин-джугут» или «субака» — лягушек. Любят они темные ущелья, болотистые луга и реки. Как уверяют в Токмаке, произошли они просто: первая женщина в отсутствие мужа народила множество детей, а муж, узнав об этом, обратил их в джинов.
Да и все прочие беды приходят к человеку от нечистой силы. А ее возглавляет Арман, или Эблис, если следовать корану. А есть еще Азазиль. Он равен по рангу Эблису. Но если Эблис правит сухопутной нечистой силой, то Азазиль царит на воде. Когда рождается ребенок, в юрте ярко разводят огонь, никто не спит, все настороже, чтобы к младенцу не подкрался Эблис. Если роженице плохо, если она впадает в обморок — значит, ее душит Албоста, злой дух рожениц, высокая страшная женщина с громадной головой, грудями до колен, космами до земли и закручивающимися когтями. Когда приходит Албоста, роженицу нужно бить по щекам. А если Албоста не испугается — то и камчой. Нужно вбить в землю четыре шеста, привязать к ним руки и ноги больной, нужно громко кричать, бегать вокруг, стрелять из ружей, стучать посудой, бить в барабан, может, тогда Албоста испугается и уйдет. Но ни в коем случае не давать женщине воды, как бы она ни просила: Албосте лучше, если будет вода.
«К счастью, это одно из немногих мрачных верований», — тут же замечает Поярков. Но и в нем он видит не объект для критики или предлог для высказывания высокоученых сентенций о вреде языческих верований, он видит в нем лишь крик о помощи, на который невозможно не откликнуться. Но теперь он не только врач. Он — публицист! При каждом удобном случае, в самых, казалось бы, этнографического толка статьях он вновь и вновь пишет о крайней безотлагательности устройства новых врачебных пунктов, «чтобы медицинская помощь, столь необходимая населению, не была одной фикцией».
А пока она — фикция. Ибо существует и пышно расцветает «чечек», желтый цветок, как киргизы называют оспу. Что может противопоставить знахарь этой страшной болезни? Больному дают воду, буквально опаивая его, делают «тлеу» — жертвоприношения. Больного изолируют. Его оставляют в драной юрте, которую уже не жалко, к нему приставляют отжившую свое старуху, которая всем в тягость. И кочевье снимается с места. Пищу, конечно, привозят. Ее привязывают к длинной палке и, не сходя с лошади, просовывают в юрту, в одну из дыр. «Как свидетель скажу только, — пишет Поярков, — что трудно передать словами то поистине ужасное положение, в котором находятся имевшие несчастье заболеть страшным «желтым цветком», а между тем заболевания эти среди кочевников с некоторого времени стали так часты и обыденны, что как будто это так и должно быть». Но этого быть не должно, это преступление, бесчестье. Поярков настоятельно призывает власти «не стесняясь никакими средствами и расходами», провести противооспенные прививки» не на одной только бумаге, но и на самом деле». Он, как всегда, прямолинеен в своих суждениях. Чем скорее власти предпримут меры по ликвидации «цветка», тем скорее «мы смоем с себя тот позор, допустивши его так беспрепятственно развиться и расти и так много поэтому уносить человеческих жертв, ни в чем не повинных». Он призывает администрацию края к самому серьезному изучению духовной жизни, культуры, быта коренных жителей, ибо только тогда можно «понять и удовлетворить их нужды, и скорее прийти к ним на помощь».
«Залог благоденствия и процветания края» Поярков видел в «просвещении для широких масс местного населения и в изучении их самих». Теперь мы знаем, что стало и есть истинным залогом истинного благоденствия и процветания края, свидетелями, соучастниками чего мы являемся, Но уже в книге «Последний эпизод дунганского восстания», изданной в Верном в 1901 году, Федор Поярков пророчески писал о том недалеком времени, когда «вековые среднеазиатские степи и пустыни оживут и покроются цветущими городами и селеньями, и где прежде широкой волной беспричинно проливалась человеческая кровь, здесь будут дружно трудиться и работать люди без различия их звания и народности, кто к которой принадлежит, но воодушевленные чистой любовью к правде и ближнему и вооруженные лишь одними, мирными научными средствами и пособиями, и все сойдутся во взаимном братском доверии друг к другу».
Правда и справедливость!
Эта книга, которую в подзаголовке он называет «Маленькой страницей из прошлой жизни Семиречья», далась ему особенно тяжело, как никакая другая из всего того, что он написал. «Как истинно православный русский человек, — говорил в памятной листовке о Пояркове верненский священник Микулин, — он любил Россию, русский народ, православную веру русскую какой-то мистической любовью». И, наверное, у священника были основания для таких слов. Но, может быть, именно эта любовь и дала Федору Владимировичу силы высказать правду, какою бы горькой, какою бы опасной для его личного благополучия она ни оказалась. А ведь нетрудно представить, какую реакцию должна была вызвать эта книга у русского обывателя, у тех же самых «токмакских мужичков». «Печальны и прискорбны сообщаемые факты, но что же делать, мне передавать их также тяжело и больно, но правда и справедливость прежде всего», — писал Поярков, преподав своим читателям нелегкий урок гражданского мужества и подлинного интернационализма, хотя он и не употреблял никогда в своей речи таких слов.
Правда и справедливость… Он подходит к этой теме не спеша, издали, точно обозначив время и место действия, обстоятельно рисуя картину небывало ранней и многоснежной зимы 1877 года. Дожди в сентябре. Еще более обильные в октябре, но теперь все чаще переходящие в снег. В ноябре снег лег повсеместно, даже в долинах, напрочь отрезав разбросанные в горах аилы от внешнего мира. Горы тонули в тучах, в пухлой пелене снегов. В обычные зимы кочевник рассчитывает на жухлую травку зимних пастбищ, но теперь все это ушло под снег, все, даже арчовые леса, где, не делая обычно запасов на зиму, киргизы добывали топливо для своих очагов. Начался падеж скота. Голод такой, что в пищу шла стружка, соскабливаемая с кереге — прокопченного над очагом деревянного остова юрт. «Но тщетно плакали и взывали эти люди о помощи, а беспрестанно господствовавшие вьюги и снежные бураны точно еще более старались заглушить постигшее их бедствие, чтобы никто не слышал ни жалобных стонов животных, ни раздирающих душу людских воплей; разыгравшиеся и разбушевавшиеся в своей ярости стихии как будто задались целью, чтобы сюда не проник ни один взгляд сострадания, ни одно слово участия, и одни только угрюмые вековые скалы и утесы, укутанные густыми серыми тучами, низко нависшими над землей, были безмолвными свидетелями человеческих проклятий и слез».
«Беспомощность и безнадёжность полнейшие!», — восклицает Поярков. И тут переводит рассказ на другое, ибо существовали люди, еще более несчастные, хотя это и трудно представить. Совершенно невероятное событие! Что там переход Суворова через Альпы! Там была кадровая армия, солдаты, суворовские чудо-богатыри! Здесь же, устилая тяньшаньские снега телами павших, шла толпа женщин с детьми, стариков, израненных в неведомых сраженьях мужчин, полураздетых, в тряпье и рванье, качающихся от истощения и предельной усталости. Перевалы Центрального Тянь-Шаня всегда труднодоступны. Какова же была мера отчаянья, чтобы решиться преодолеть их в последние дни декабря, да еще такого небывало многоснежного! Буран, захвативший беженцев, только на перевале Таш-Рабат унес, по свидетельству очевидцев, более ста жертв. А сколько их осталось в снегах Торугарта, на пустынных берегах Чатыр-Куля, в унылых просторах бесконечной долины Ат-Баши! Утопая по пояс в сугробах, вечерними сумерками 27 или 28 декабря 1877 года завьюженная, заиндевелая толпа полуживых людей вошла в затерянное среди угрюмых гор военное поселение Нарын. «Ужас и отчаяние читались на лицах прибывших… и улицы всегда глухого и пустынного небольшого укрепления Нарына огласились вдруг тысячами душераздирающих воплей»… Кто эти люди? Откуда они?
О дунганах Поярков был осведомлен по работам таких востоковедов, как профессор Васильев и архимандрит Палладий. Теперь же судьба свела его с самими дунганами, которые, восстав против притеснений со стороны китайских властей, вынуждены были в конце концов искать спасения в пределах России. Дунганское восстание продолжалось долгие восемнадцать лет, и поскольку «эта трагедия происходила в глухом, отдаленном и замкнутом уголке земного шара, вдали от цивилизованного мира», то Пояркову приходилось быть первооткрывателем многих ее страниц, что он и делает с обстоятельностью и тщанием истого летописца. Он терпеливо опрашивает участников этого восстания, его оставшихся в живых руководителей, по его просьбе дунганский доктор Ли-Ко-Куй пишет о восстании краткую записку, дословную передачу которой Поярков и приводит в своем исследовании. «Мы нисколько не преувеличим, — приходит к выводу Федор Владимирович, — если скажем, что дунганское восстание, бывшее в 60–70 годах только что минувшего столетия, по своему страшному кровопролитию есть одна из ужасных и мрачных страниц в новейшей истории…»
Тем большее внимание привлекает внимание Пояркова фигура Биян-Ху — народного дунганского вождя, голову которого китайцы оценили в двести тысяч лан. Живого или мертвого! Невостребованными остались эти четыреста тысяч серебряных рублей, хотя и многие годы после его смерти китайские лазутчики рыскали по чуйским берегам в поисках могилы Биян-Ху. До сих пор неизвестно, где погребен Биян-Ху своими ближайшими сподвижниками. Неизвестно, где похоронен, неизвестно, где рожден. Совсем как у «всякого легендарного героя древности»! Даже ближайшие родственники, даже родной сын Биян-Ху не могли дать Пояркову однозначных сведений о детстве и юности этого выдающегося человека. По одним сведениям, он родом из Пекина, по другим — из маленькой деревушки в провинции Синаньфу, по третьим — из города Чангу-Сян, в котором отец Биян-Ху был городским старостой. Биян-Ху очень дорожил доставшейся ему от отца большой библиотекой китайских и мусульманских книг, которую, по рассказам очевидцев, он привез с собой в пределы России. Поярков настойчиво пытается отыскать хотя бы следы этой библиотеки, тем более, что среди книг находились и записки самого Биян-Ху о дунганском восстании, но ничего не находит, кроме опять-таки устных подтверждений, что такая библиотека действительно была. Где она теперь, библиотека Биян-Ху?
Это был среднего роста, но атлетического телосложения и незаурядного мужества человек, который привык первым лезть по штурмовым лестницам на стены вражеских крепостей и последним покидать поле битвы, продолжая вести бой даже будучи раненым. У Биян-Ху насчитывалось более двадцати ран. Девять или десять сабельных шрамов вдоль и поперек пересекали его лицо. Но он был неукротим, властен и великодушен, бескорыстен и самоотвержен. Там, где был Биян-Ху, была победа, и неудивительно, что со временем разрозненные отряды повстанцев встали под его знамя, а сам он превращается в народного героя, которого дунгане «любят и боготворят, хотя в то же время и боятся». Его и ненавидят. Еще более ожесточенно, чем во вражеском лагере. Но и эти, мелкие дунганские предводители, которых затмила слава и известность Биян-Ху, не могли не отдать должное его уму и таланту, и Поярков извлек немало полезного из бесед с такими соперниками Биян-Ху, чтобы составить о нем более полное представление.
В Нарыне дунгане пробыли недолго. Небольшое укрепление не могло, конечно, ни вместить, ни прокормить такую массу людей, а тут пришло предписание следовать в Токмак. Нарынским обывателям — военным чинам, служащим, торговцам — о нежданном появлении дунган теперь напоминали лишь обглоданные стволы деревьев (кора пошла в пищу) да всяческие дорогие вещицы, выменянные подчас за кусок хлеба. Обыватель! Нет, он не упустит случая «зашибить себе лишний грош, нисколько не смущаясь и не рассуждая о том, каким путем они добыли его…» А для беженцев, но теперь уже граждан России, поскольку в Нарыне они приняли русское подданство, все началось сначала. Ни одной почтовой станции, ни одного селения до самого Иссык-Куля, а это более ста шестидесяти верст. Дороги в то время не было — только вьючная тропа, перекрытая обильным снегом и лавинами. На перевале Долон — буран. Но трупы погибших теперь оставались не только на его кручах, высотой в 10 тысяч футов, но и в Боомском ущелье, и в самой Чуйской долине, подчас — под окнами почтовых станций. В ту пору между Кутемалды (ныне г. Рыбачье) и Токмаком было три-четыре почтовых станции, и Поярков понимал, что люди, жившие на станциях, при всем желании не могли хоть как-то облегчить участь нескольких тысяч беженцев, хоть что-то сделать для них. Не могли? Да они и не хотели! Они были совершенно спокойны, эти «сытые и в довольстве живущие люди»!
Биян-Ху прибыл в Токмак на несколько часов раньше, чем все другие беженцы. Он явился к уездному начальнику в ярко-желтой курме, уверенный и решительный, сохраняя чувство собственного достоинства даже в таком бедственном положении. Тотчас были посланы телеги с хлебом и порожние подводы — подбирать обессилевших, стали приниматься и другие меры. Но пока суд да дело, началось то, что было уже в Нарыне. За несколько лепешек — шелковый халат. За меру муки — серебряный браслет. Хлеб, с которым буквально час-другой назад не знали, что делать, сразу подскочил в цене, с 7-11 копеек до 2–3 рублей за пуд. «Больно и тяжело об этом говорить, но по долгу беспристрастного бытописателя хроники, справедливость требует сказать, что и небольшой кружок «интеллигентных» лиц, живших в то время в Токмаке, также заразился охватившим всех позорным настроением и все увлеклись жаждой быстрой и легкой наживы, за исключением, быть может, одного-двух человек. О мелких же чиновниках и говорить нечего…»
Характерна переписка, состоявшаяся в то время между «первым лицом» Семиречья, генералом Г. А. Колпаковским и карателями, преследовавшими дунганских беженцев во главе с Биян-Ху.
… — Мне, Цзунтану, — писал Колпаковскому маньчжуро-цинской главнокомандующий, — с Вами говорить нечего, скажу одно Вашей милости… Все наши старания стремятся к Биянхо, и если Вы его не выдадите, я, Цзунтан, со всеми своими войсками пойду на Нарын, и где бы ни находился Биянхо, я его отыщу и возьму. Ни Вам, ни подвластным Вам людям пускай на мысль Вашу не придет дело другое, о чем я, Цзунтан, заблаговременно уведомляю…
— Вы заявляете высокомерное, настоятельное и дерзкое требование от меня выдать дунган… — отвечал Цзунтану Колпаковский, — мало того, осмелились заключить свое грубое сообщение смешною угрозою о вступлении с войсками в наши владения, не помыслив о том, что имеете дело с представителями державы, сильной перед лицом всего мира своим могуществом и правдой…
В наши владения пришли не преступники, а пришли до 5 тысяч бедных дунганских семейств, искавших спасения от неистовств Ваших войск… Прибывшая к нам толпа дунган, спасшихся от той же участи, пришла в жалком виде, голодная и ограбленная, и умоляла о дозволении укрыться у нас от поголовного избиения…
… Дунгане эти, таким образом, приняты под покровительство Российского императора, останутся на нашей земле, и никакие притязания Ваши не будут приняты мною во внимание…
Так разговаривал Колпаковский с могущественным военачальником Небесной империи. И тут все было просто. Куда трудней пришлось Колпаковскому в разговоре с теми, кого он считал «своими», кого он знал чуть ли не по имени, и кто, казалось бы, с полуслова должен был понять его и пойти ему навстречу. Ведь он, устроитель края, столько для них сделал! «Узнав о поведении служащего люда в первый день прибытия дунган в Токмак, Г. А. был сильно взбешен и многим из них выразил крайнее свое порицание и негодование в самых резких словах; поведение же токмакских крестьян его также возмутило, но в то же время и опечалило, и огорчило», — пишет Поярков.
Вот кто был истинным хозяином положения — обыватель! Благополучный чиновник — в городе и крепенький хозяйчик, быстро превращающийся в кулака-мироеда, — на селе. Нет, то, как были встречены дунганские беженцы, — это не исключительный случай! Яркий, бросающийся в глаза, но и только! А сколько их, внешне менее заметных, но повторяющихся постоянно, то там, то здесь. Поярков не скупится на примеры. Он не страшится ни заострить их, ни подать в самой насыщенной концентрации. И это его намерение очевидно. И оправдано. Поярков не доживет до событий 1916 года, но он предчувствует их. Многие годы, три революции отделяют его «Последний эпизод» от Беловодского и Верненского кулацких выступлений, от «Мятежа» Фурманова, от выстрелов из обрезов по бойцам продотрядов и колхозным активистам. Но достоверный портрет семиреченского кулака был нарисован Поярковым уже тогда. Он еще не видел реальных средств борьбы с социальным злом, он связывал все свои надежды с просветительством, с «великим и широким полем распространения гуманных идей на ниве народной», но тем не менее он жил в предчувствии больших, исторических перемен.
«Будем верить, что это время скоро настанет…
…Мы верим, что при благоприятных условиях жизни, созданных Россией для приобщения ею народов Средней Азии, духовные силы и способности этих народов широко и блестяще разовьются, и они также примут деятельное участие в культурной работе совместно с другими цивилизованными народами, гораздо ранее их выступившими на путь прогресса и цивилизации, и настанет время, что эти, теперь жалкие, забитые и запуганные народы внесут долю своего оригинального ума и своей самобытной мысли в общую сокровищницу человеческих знаний на благо всех…»
Настанет время!
Память о Василии Фрунзе
Два мира очерчены Поярковым в его «Последнем эпизоде»… Один — в образе благополучного почтосодержателя, за чашкой чая, со спокойной совестью вспоминавшего о том, как под его окнами замерзла беженка с ребенком, которая — вот наглость! — осмелилась было пристроиться на ночлег в его хлеву. И… другой полюс. Это токмакский уездный врач Адам Викентьевич Пржегодский и его помощник фельдшер Василий Михайлович Фрунзе. Два человека, самый скудный запас медикаментов и никаких «условий». И многотысячная толпа больных, обмороженных и истощенных людей, множество из которых имело совершенно запущенные ранения, от легких до самых сложных. Что могли сделать два человека? А они сделали все! Первыми пришли — последними ушли. Ушли только тогда, когда в их помощи перестали нуждаться. «Истинный героизм духа» увидел в их работе Поярков. И что же? «Как и всякий чисто мирный труд, не рекламируемый трескучими фразами, труд этот, конечно, не был оценен по достоинству, да, признаться, никто и не помышлял о его оценке». Наоборот, один из героев этого подвига, Василий Михайлович Фрунзе, человек, который «оставил по себе добрую память среди крестьян и киргизов», который «по своему природному уму и знаниям стоял выше многих из окружающих его и занимавших более высокое, чем он, общественное и служебное положение», этот человек, «доведенный до отчаянья, оскорбленный и гонимый, он должен был бежать из того общества, которому так долго служил и отдал лучшие годы своей жизни…».
Снова и снова проявляет Поярков свои нравственные, свои гражданские позиции. «Времена и люди переменяются», «Злоба и слепая ненависть его постигли…». «Во всяком случае, как имя доктора Адама Викентьевича Пржегодского, так и имя его помощника Василия Михайловича Фрунзе заслуживают нашей полной признательности, и имена их, как деятелей, много потрудившихся и поработавших на благо и пользу местного общества, должны быть записаны на страницах местной летописи крупными буквами…».
Отведайте вкус соли!
Что ж, эти слова в полной мере могут быть отнесены и к самому Пояркову. С первых же дней своего пребывания в Семиречье он предстает перед нами самым благорасположенным, чутким, деликатным исследователем еще вчера неизвестного ему народа, глубоко доброжелательному общению с которым он отдает все свое время, если не сказать — жизнь. И не только в Токмаке. Не только в Пишпеке, куда вскоре переезжает, его влекут к себе глубинные, загорные волости, жители которых редко соприкасаются и с русскими переселенцами и со всякими иными людьми, а значит, и лучше сохранили тот уклад жизни и мыслей, который у них был прежде. То мелким убористым, то размашисто-торопливым почерком очень спешащего человека Поярков исписывает тетрадь за тетрадью, скрупулезно, жадно стремясь воздать всему должное, ничего не забыть: ни игр, ни обуви, ни оружия, ни огнива, ни мыла, изготовляемого из горных трав. Он записывает слова, делая, может быть, самую первую попытку составления киргизско-русского словаря, терпеливо выписывает названия шестидесяти трех киргизских родов, отмечает географические названия, переводит пословицы. Он входит в юрту и слышит традиционное «дам туз тостыб китянуз»[41], то есть, отведайте вкус соли, почти русское «хлеб-соль»! Но его угощают не хлебом-солью, перед ним дымящаяся, круто разваренная конина. Хозяева, заметив его смущение, дружно упрашивают не побрезговать угощением, ибо всем известно, кто хоть раз в год не поест лошадиного мяса или не попьет кумыса, у такого человека обязательно расстроятся мозги.
— Что ж, — смеется бородатый «орус», — надо попробовать. Но как же так, ведь Господь сотворил лошадь из остатков той глины, из которой он вылепил и человека? Разве лошадь, друга человека, можно употреблять в пищу?
— Нельзя, — вздыхают хозяева. — И Поярков еще не раз убедится, как вольно толкуют киргизы окостеневшие и чуждые им законы мусульманства. — Но немножко можно. Ведь когда Магомет изнывал в пустыне от голода, Господь послал ему лошадь, и пророк съел ее!
В самые отдаленные кочевья Прииссыккулья, Сусамыра, Джумгала забирается Поярков и там, где-то в Джумгале, от 75-летнего Джусупа Садыбарова узнает о том, почему кукушка-ку-кук не вьет гнезда, откуда взялась лягушка — куль-бака — и откуда у черепахи — таш-бака — такой панцирь? А откуда взялся еж? Нет, еж был всегда, во всяком случае, во времена сотворения мира, когда черт украл солнце и все звери собрались по этому поводу на совет, еж уже был. Просто он не явился, потому что не было у него ни острых клыков, ни быстрых ног и его все обижали. А тут он понадобился. Не было зверя умней, догадливей ежа, вот и вспомнили о нем. Послали за ежом самых уважаемых — тигра, медведя и волка. А еж и говорит: «Вот будет шуба у меня, чтобы спокойно ходить рядом с вами, тогда приду». Появилась шуба на еже. Он и теперь в ней ходит, износу нет ни шубе, ни ежу, попробуй, закуси таким! Явился еж на совет и рассудил: «Приготовит черт дратву-тарамыш из масла, сошьет в три дня сапоги из песка, значит, он победил, будем, как кроты, всю жизнь в темноте жить. Не сошьет — другой разговор, выкладывай, черт, солнце назад!»
Так оно и случилось. Вот почему киргизы почитают мудрого ежа. Никогда не обидят. И другим не позволяют. У нор кладут мясо, а если найдут шкурку, поднимут, принесут домой. И тогда мыши в доме исчезают. Словно их и не было.
Но это еж. И он почитаем только за то, что помог вернуть солнце. Как лее должно быть почитаемо само солнце, зеркало Бога, освещающее мир днем и в которое Бог смотрится ночью?
А что такое земля? Джер — начало начал, и камни — жилы ее, без скал земля распалась бы, а самое святое на ней — вода. Земля покоится на золотых рогах громадного черного быка, и, если быку вздумается тряхнуть головой, в горах срываются камни, по земле змеятся трещины, скот ревет, собаки воют, а люди в страхе падают ниц, ожидая смерти. Это — землетрясение. Но черный бык редко трясет рогами, а смерть — Аджал — приходит и без его помощи, и приходит к каждому, и для каждого — своя. Для людей недостойных она является в образе простого человека, то мужчины, то женщины, а в руках у нее — или сабля — клыч, или кинжал — пчак, или боевой топорик — айболта, или дротик — чокмар, а то и дубинка — союл. Зато к достойным, праведным людям она приходит как мулла, как дувана, и на голове ее покоится высокая торжественная чалма.
Чему поклоняется киргиз? Роднику. Арче. Могиле. Или даже не могиле, а тому месту, где когда-то скончался тот или иной предок. Арвак! Самое древнее и сильное верование. Арвак — дух умерших предков. Он незримо кружит над жилищами, оберегая их, он покровительствует живым, если они верны его памяти, и отворачивается от них, если потомки его прогневали. И тогда приходят бедность и болезни, помутнение разума и утрата былых нравственных достоинств — словом, «Арвак урды», то есть «Арвак убил»,как говорят в таких случаях. Могилы предков — святыня. Когда-то за осквернение их полагалась даже смертная казнь. Самые бедные люди ставят над могилой памятник, или глиняную стенку, или просто шест с хвостом лошади, на которой любил ездить покойный. «Никогда не было случая, чтобы киргиз нарушил слово, если поклялся Арваком», — пишет Поярков. Он фиксирует в своих тетрадях поверье о Кыдыр-пайхамбаре — святом, странствующем пророке, который в любом обличье, в любое время дня и ночи может откинуть полог вашей юрты, принеся счастье, богатство, славу. Самый последний бродяга найдет кусок хлеба в киргизской юрте: а вдруг это Кыдыр? Гостю, самому незнатному, о знатном и говорить нечего, отвечают на рукопожатие двумя руками, незаметно ощупывая при этом его большой палец: у Кыдыра он не имеет костей, не Кыдыр ли гость? А если и не Кыдыр — все равно это милость божья, когда-нибудь придет и Кыдыр. В честь гостя режут черного барана, подносят гостю голову, святой закон гостеприимства! Однако Поярков менее всего склонен впадать в умиление, описывая этот закон и поверье о Кыдыре. «Ни один народ не избег того, чтобы его верования не были эксплуатируемы»… Залетный мошенник может спокойно, не глазах табунщиков выбрать и увести двух-трех лошадей, а его не остановят: вдруг это Кыдыр? Сметливый бродяга, нагостившись в аиле, умышленно не зайдет в ту или иную облюбованную юрту, и хозяин сам бежит следом, упрашивая вернуться, сменить гнев на милость, не побрезговать тем, что в юрте есть. Но все это, конечно, не главное. А главное заключается в том, что у верующих в Кыдыра «нет на глазах примера, чтобы кто-либо из их собратьев разбогател благодаря систематическому упорному труду; они, напротив, видят, что богатый киргиз совсем ничего не работает, а между тем обладает кое-каким избытком и даже богатством». Кыдыр даст! И только Кыдыр. А сам человек — ничто, и его усилия напрасны! «Подобные же верования, — подводит Поярков итог, — не в состоянии побудить активной творческой деятельности духовных сил народа, а, напротив, они действуют угнетающим и парализующим образом…»
Ему помогают в работе учитель пишпекской школы садоводства Хусаин Берденов и переводчик уездного правления Мамбеталы Муратулин. Он пишет много, печатаясь то в «Этнографическом обозрении», то в «Памятной книжке и адрес-календаре Семиреченской области», а то и просто в газетах, в тех же «Туркестанских ведомостях». Однако его постоянно одолевают сомнения, ему все кажется, что делает он мало, делает слабо, да и как делать хорошо, если следить за литературой нет никакой возможности, если общение с коллегами осуществимо только в письмах, если все приходится делать на свой страх и риск, при всяком случае опасаясь изобрести давно изобретенный велосипед. «Одно только скажу — что собранный мной материал слишком мал, более энергичный исследователь соберет в этом направлении обильную жатву. По отсутствию у меня надлежащих источников, я не смогу также сделать никаких сравнений и сопоставлений, почему и представляю его в таком сыром виде».
Неужели они правы?
Однако «представлять материал в таком сыром виде» едва ли его удел; такое, может, и было во времена первых заметок, но теперь не мыслить, не приподняться над фактом, чтобы увидеть его масштаб и его место в логической цепи истории, он уже не может. В толще, в напластованиях обрядов, верований острому взгляду аналитика открываются два резко отличных слоя — остатки старинной языческой религии, особенно интересующей его, и пришлое, наносное, совсем недавнее — в лице мусульманства. Поярков с любопытством убеждается в том, что до прихода русских «киргизы считали удобным обходиться без учения Магомета», что, несмотря на самые благоприятные условия во времена кокандского владычества, проповедники из Коканда и Бухары так и не смогли приучить вольного киргиза к корану, а его жену — к парандже, сделать их истинными, благоверными мусульманами.
Что могла киргизская беднота получить от мусульманских проповедников? К каким вершинам ученой мысли, к каким взлетам человеческого духа повели бы свою вновь приобретенную паству благообразные старцы в белых чалмах? «Той истинной науки, в широком значении этого слова, носителями которой были когда-то арабы, не было и следа, вся же ученость и образованность ограничивалась только дословным заучиванием нескольких молитв из корана и кое-каких изречений из мусульманских писателей, и на приобретение этих жалких сведений уходили многие годы!». Среднеазиатским народам учение Магомета обошлось в целые столетия полного духовного рабства и застоя, что самым решительным образом сказалось во всех областях жизнедеятельности общества и человека. «Мусульманство с его деспотическим учением о предопределении только еще больше парализовало духовные силы народов, убило в них всякое проявление свободной деятельности духа и мысли… С трудом верилось, что когда-то здесь процветали роскошные и блестящие города, мало чем уступавшие нынешним европейским…»
Но как это все-таки произошло? В чем причина столь разительного оскудения? Бесконечные междоусобные войны? Нашествия кочевников? Деспотизм правителей, трон каждого из которых «состоял из груды человеческих тел, связанных цементом из крови и слез»? Безусловно, и в этом тоже. Но главную роль Поярков отводит все-таки исламу, хотя тот и был «самым верным авангардом цивилизации в течение 5–6 столетий». Но вот свободные научные исследования сменились религиозными догмами, научные дискуссии — борьбой за безусловное и всеобщее подчинение господствующему вероучению, явились в своих верных одеждах фанатизм, нетерпимость, и вот ислам «стал преследовать не только все то, что носило печать иноземного и неверного, но одинаково он уничтожал и искоренял в своих верных поклонниках всякое проявление свободной мысли и духа и с такою же жестокостью подавлял в них малейшее проявление научного исследования, строго заключив жизнь своих последователей в узкие, чисто формальные и обрядовые рамки…»
Теперь бухарские, ферганские проповедники с их «враждебным» неприятием всего того, что «не есть мусульманское», замелькали и на киргизских кочевьях. И это не могло не тревожить Пояркова, уж он-то знал, какие семена посеют эти миссионеры от Магомета. Раз за разом врач Поярков обращает внимание читающей публики на отрицательные последствия подобной пропаганды, предлагая предпринять самые незамедлительные и действенные меры. Такие меры он видел в повсеместном развитии народного образования, предлагая «не откладывая далеко, в самых глухих местах завести русско-киргизские школы, обставить их по возможности хорошими пособиями и послать туда русских учителей, обеспечив последних вполне содержанием, чтобы в эти школы могли пойти лучшие силы».
Его отношение к религии с особой силой сказалось в раздумьях о буддизме. А ведь буддизм привлекал к себе именно филантропической стороной — проповедью милосердия, любви и сострадания к ближнему, защиты и покровительства угнетенных, отречения от мирских благ, воздержанности, нравственного совершенствования. Это учение не могло не встретить отклика в душах обитателей Средней Азии, уставших от войн и насилия, жестокости и коварства. Оно явилось «мирным, но сильным протестом против всего строя и склада тогдашней жизни…».
Но вот появились в своих желтых одеяниях ламы, которые морочили «…темный люд и жили праздно за их счет». Появились монастыри, обиравшие для своих бездельников окрестное население и потому особенно заинтересованные в его оседлости. Появились последователи буддизма с их весьма удобной для бонз отрешенностью от земной суеты, с подавленной энергией, запертой на ключ, с желаниями, обращенными к химерам, и волей, искусно трансформированной в безволие. Буддист «молится ничему и никому, но постоянно молится… От такой молитвы веет холодом и безжизненностью».
Прошли века. В пыль рассыпались стены монастырей, бесследно истлели на высоких холмах паломничьи шесты, на которых развешивались куски тканей с текстами священных молитв. И лишь в сумеречных, диких ущельях Тянь-Шаня, у стеклянно пузырящихся родниковых омутов, у вскипающих белой пеной горных потоков все еще смотрят на вас со скал и валунов лики буддийских божеств, высеченные здесь, чтобы «молитвы скорее доходили до того, кто есть Никто». «Выражение всех виденных мною богов одинаково: все они своим видом напоминают мне смеющихся мертвецов, как бы с торжествующим злорадством говорящих, что, несмотря на все успехи ума и человеческого гения, все это есть ничто, и полное счастье и удовлетворение своим желаниям и забвение всех перенесенных несчастий и испытанных бедствий каждый найдет только тогда, когда будет стремиться к Нирване…».
«Неужели они правы?» — восклицает Поярков.
Духа не угашайте!
В последнее время тяжело работалось. Отвлекала служба, всяческие служебные неприятности, как песок сквозь пальцы уходило здоровье. В конце 1909 года он получает программу и извещение о предстоящем в Москве съезде естествоиспытателей и даже намеревается «двинуть» туда кое-какие труды, но почувствовал: «ушло время». «А сейчас моя речь о детях, забота о них», — пишет он Анучину, президенту общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, с которым состоял в давней переписке. Письмо полно горечи, неудовлетворенности собой. Он очень рад получить весточку от глубокоуважаемого профессора Дмитрия Николаевича, на которую он никак не рассчитывал, «так как я не оправдал ваших ожиданий. Я дал вам слишком мало, т. е. почти ничего. Правда, материал по антропологии есть у меня, и его, быть может, и порядочно, но надобно обрабатывать…» А теперь «ушло время», и программу съезда он переслал старшему сыну в Бордо, пусть уж теперь он пошлет на съезд какую-нибудь свою работу. Он вспоминает гетмана Зализняка из шевченковских «Гайдамаков», его слова: «что сам не повершу, то сынови передам». «Так и я», — говорит Поярков.
В Эраста он верил. И судя по отзывам французской знаменитости, профессора Пэрэза, у которого Эраст учился, надежды Федора Владимировича не были беспочвенны. Теперь Эраст кончил диссертацию по метаморфозу насекомых, защищать ее был намерен в Сорбонне. Значит, необходим переезд в Париж. А это расходы. Расходы предстоят и в связи с печатанием работы, с защитой, а кроме того нужно представить 150 оттисков — опять деньги, и немалые, а их-то у Эраста как раз и нет. Эраст хотел обратиться за помощью в русское посольство, но это, видимо, было бесполезно. Можно было напечатать работу в научном журнале, например, в немецком, но Федору Владимировичу «не хотелось бы, чтобы сын шел «в немцы» и у них печатал свою работу ради того только, что немцы дают больше оттисков. «Не все же ходить за море к варягам, довольно уже ходили!» Отсюда просьба к Анучину. Нельзя ли напечатать работу сына в Москве? Можно ли рассчитывать на содействие профессора Дмитрия Николаевича в Этом жизненно важном для сына деле? Он просит Анучина взять Эраста под свое покровительство, «насколько, конечно, он того будет заслуживать по своим трудам и заботам…» «Дорого и ценно моему сыну будет Ваше внимание, и в этом Вы не откажете ему, как и мне не отказывали, хотя я и не оправдал вашего доверия», — писал Поярков, не удержавшись, чтобы не попрекнуть себя и здесь.
У него были свои, особенные отношения с детьми. Со стороны он мог показаться чрезмерно суровым, даже деспотичным. Всю жизнь детей он подчинил жестокому регламенту серьезной учебы, и когда Эраст чуть ли не на втором курсе университета женился, он надолго прекратил с ним всякую переписку, а жену его, которую прекрасно знал еще девочкой и против дружбы сына с которой ничего не имел в Верном, так и не простил.
Он не баловал детей родительскими ласками, но они навсегда запомнили те немногие вечера, что он провел с ними у открытой дверцы жарко гудящей печи, отбрасывающей красные, золотые сполохи по стенам их скромно обставленной гостиной, где, впрочем, помимо дешевеньких венских стульев да такого же непрезентабельного стола, находилось фортепиано, выписанное из далекой Германии. Чего другого, подчас самого необходимого, у них в доме могло и не быть, но фортепиано было. По семейным преданиям, Федор Владимирович дважды заказывал этот редкий по тем временам для Верного музыкальный инструмент. Но в первый раз фортепиано доехало только до брода через Чу, где и было утоплено при переправе. И тогда заказ был сделан снова.
У Поярковых была прекрасная библиотека. Может, не по количеству томов, но уж по значимости — определенно, собирал-то ее Федор Владимирович! Он привозил их из своих редких поездок в большие города, задерживаясь, высылал их почтой, сопровождая обстоятельным письмом, опять-таки, прежде всего по поводу книг. Тут он времени не жалел. Тут он проявлял заботливость, столь же настойчивую, с какой чадолюбивый, в житейском смысле, родитель подкладывает своему любимцу лучший кусок.
«Обегал в Москве пять магазинов, нашел в шестом, — писал Федор Владимирович Эрасту по поводу купленной им «Истории русской критики…» В этой книге масса фактов, выхваченных прямо из горнила литературы. По-видимому, факты переданы верно, а также и освещены правильно. Личность Белинского выступает в колоссальном свете, а также и Добролюбова… Наперед говорю, что ты будешь читать и перечитывать, переживать…»
В конце письма — приписка: «Поклон Мише Фрунзе». Нет, он видел не только своих детей, он не с меньшим уважением относился и к товарищам сына, видя в каждом из них не просто мальчишку, которого в порядке расположения можно даже потрепать по плечу, — он видел в каждом из них личность, он словно предвидел, какие нелегкие дороги им предстоят. «Поклон Мише Фрунзе». Не всякий отец в переписке с сыном просит передать поклон его товарищу. Но, наверное, и товарищу «не всякому», а сыну Василия Фрунзе, пишпекского фельдшера, которого Федор Владимирович так глубоко уважал и при жизни, и после кончины, когда Василий Михайлович, «разбитый нравственно и разоренный материально, переживая страшные душевные муки… умер одиноким, — вдали от родных и немногих добрых знакомых».
У младших Поярковых не было той казачьей вольницы, того бездумного, веселого праздношатания, чем были заполнены дни многих их сверстников, — такой свободы у них не было.
Но отец, не колеблясь, разрешает сыну не пикник, не увеселительную прогулку, а целое путешествие по Тянь-Шаню, и вот восьмиклассники верненской гимназии отправляются в странствие по Киргизии, начав его 29 мая и завершив… 6 августа! Ребята преодолели десятки горных рек, уходящие за облака перевалы, они собрали около семисот видов растений, которые и по сей день представляют флору киргизского высокогорья в коллекциях ленинградского Ботанического сада. Продумал и организовал это сложное и по нынешним временам путешествие, конечно же, Федор Владимирович, позаботившись даже о печатных этикетках для ботанических и энтомологических сборов. Он очень серьезно относился к будущему своего старшего сына. «Я лично предназначал его к ученой карьере, мое душевное желание было видеть его ученым». С таким же душевным желанием были связаны его думы и о младших детях, тем более о младших, которым суждено было взрослеть уже без него.
Наверное, он это чувствовал.
Незадолго до кончины, в августе, он присылает из Ферганы несколько узких листков вощеной бумаги, исписанных отрывистым, торопливым почерком: так пишут, когда время поджимает, а перо не поспевает за мыслью. Письма были адресованы сыну Николаю, но теперь их может прочесть каждый, в отделе редких книг и рукописей алмаатинской библиотеки им. Пушкина. Судя по письмам, у Николая, кончавшего гимназию, вышла переэкзаменовка, и вот понадобился совет отца. Что-то насчет использования источников в сочинении, не больше. Но в этом школярском вопросе Поярков-старший увидел нечто более существенное, он увидел замешательство, растерянность начинающего жить человека перед необозримым трудом учения, неоглядным океаном науки, перед безбрежностью которой не сразу и решить, с какой ноги ступать. И вот Федор Владимирович отвечает. Вначале — естественно, по поводу литературных источников, дескать, чем больше их использовано, тем лучше, двух мнений тут быть не может. Но дело еще и в том, что в изучение любого вопроса необходимо вносить свое, необходимо высказать свою мысль, свой критический взгляд, «тогда только выразится самостоятельность работы»! Он предостерегает: «Не брезговать и учебником!» Не брезговать черновым трудом запоминания, выучивания наизусть фактов, законов, правил. Это основа. Фундамент. Только так «развивается та способность, которая называется памятью… Да она и развивается только таким путем». Он тут же приводит дорогой его сердцу пример старшего сына, в блестящих способностях которого едва ли кто может усомниться. И вот оказывается, что несмотря на имевшиеся у него задатки крупного ученого, «Эраст зубрил уроки жестоко, зубрил беспощадно». Поярков-старший не случайно выражает свою мысль столь энергичными словами, конечно же зная, с каким пренебрежением обывательски настроенные люди могут воспринимать настойчивость и серьезность. Однако насмешки над так называемой «зубрежкой», «зубрилами» подчас — удобная лазейка, не более, фиговый листочек, которым тщатся прикрыть свою леность, свое безволие. Стало признаком хорошего тона иронизировать над круглыми отличниками, дескать, воистину «круглые, им все равно, что зубрить, эдакие роботы, не знающие ни любимого занятия, ни подлинного увлечения. И эта ирония, этот скепсис — тоже лазейка, тоже фиговый листочек… «Старайся больше изучить, запомнить, вникай в суть, в душу изучаемого предмета, будь то математика или другая какая-либо наука, душа есть во всякой науке, но нужно и свою душу в нее вложить…» А вложить душу — это значит проявить самостоятельность. Самостоятельность мысли. Самостоятельность в действиях. Все это крайне необходимо, именно отсюда начинается ученый. «Но здесь являются другие стороны, надобно тут руководствоваться чистыми нравственными побуждениями, целями и стремлениями». Отсюда — совет читать Белинского, Островского и Добролюбова, настойчивое пожелание изучать жизнь замечательных людей. «Биографии ученых, писателей читай, это хорошая образовательная школа… Биография освещает мир человека и деянье, служит путеводной звездой».
Его советы приобретают краткость и законченность математических формулировок. «Чувствуешь слабость в задачах — начни с них. Знаешь слабо арифметику — начни с нее, но изучи основательно… Не считай себя сам плохим, иначе пропало дело… Уверенность придает энергию… Работай над собой много, работай с уверенностью и настойчивостью, разверни свою энергию, свою смелость… Прояви талантливость!» — Духа не угашайте! — вспоминает он старинное изречение, впервые услышанное им тоже, скорей всего, еще от отца.
Он не собирался умирать. Но все же последняя воля была высказана. В тех же письмах. В тех же очерках, столь точно отметивших на шкале времени то деление, тот уровень, с которого здесь, в Киргизии, людям приходилось начинать в стремлении к жизни, достойной человека. Они могут служить точкой отсчета, его заметки. Однако такая точка нужна не для сравнений того, что было, с тем, что стало. Подобные сравнения, хотя они так напрашиваются на ум, несерьезны, они просто невозможны, настолько несоизмеримы эти миры. Но все-таки она помогает осознать громаду сделанного, цену настоящего, обязательность и надежность будущего.
И значит, он исписывал свои тетрадки не зря. Не зря терзался, воевал, искал, надеялся. Не зря находил и терял, и находил вновь. И те древние лики, высеченные на скалах, смутившие его однажды своей каменной злорадной убежденностью в том, что «все это есть ничто» — они, эти тени прошлого, не правы.
— Духа не угашайте!
1970–1972 гг.
Фотографии
Федор Владимирович Поярков. Перед отъездом в Фергану.
Михаил Васильевич Фрунзе.
Серебряная медаль университета в Бордо.
Кондуитный лист.
Владимир Федорович Поярков. Пора изысканий.
Так начинался Хайдаркан. Владимир Эрастович Поярков.
Хайдаркан сегодня.
Тридцатые годы. Первые печи Кадамджая.
Хайдаркан. Владимир Эрастович и Будимир Владимирович Поярковы.
Кадамджай строится.
Снова в маршрут. Будимир Владимирович Поярков со своими помощниками на гребне хребта Яурунтуз.
Раковинка девонской фораминиферы под микроскопом. Сильное увеличение.
Примечания
1
Микропалеонтология — наука, изучающая окаменелые останки древних микроорганизмов.
(обратно)2
Девон — период в геологической истории Земли.
(обратно)3
Шельф — мелководная, прибрежная часть океана.
(обратно)4
Паратураммина — одна из разновидностей простейших.
(обратно)5
Шлиф — наклеенный на стекло тончайший срез горной породы, дающий возможность изучать ее под микроскопом.
(обратно)6
Карбон — один из периодов в геологической истории Земли.
(обратно)7
Мел — один из периодов в геологической истории Земли.
(обратно)8
Стратиграфия — наука о последовательности напластований осадочных горных пород.
(обратно)9
Фораминиферы — отряд простейших животных, обитающих в океане.
(обратно)10
Планктонные фораминиферы — фораминиферы, обитающие в верхних слоях океана.
(обратно)11
Бентосные фораминиферы — фораминиферы, обитающие в придонных слоях океана.
(обратно)12
Мезозой — одно из крупнейших подразделений в геологической истории Земли.
(обратно)13
Горизонт — характерный пласт горных пород, развитый на большой территории.
(обратно)14
Свита — совокупность напластований, единых по облику и времени происхождения.
(обратно)15
Шурф — вертикальная разведочная выработка с воротом для подъема грунта.
(обратно)16
Петрография — наука, изучающая горные породы.
(обратно)17
Бурханы — статуэтки и другие изображения Будды.
(обратно)18
Киноварь — минерал, содержащий ртуть.
(обратно)19
Брекчия — горная порода, состоящая из обломков других горных пород.
(обратно)20
Птеродактиль — ископаемое пресмыкающееся из группы летающих ящеров.
(обратно)21
Брахиоподы — морские беспозвоночные животные, тело которых заключено в двустворчатую раковину.
(обратно)22
Гоннатиты — ископаемые головоногие моллюски.
(обратно)23
Гомология — подобие органических соединений, живых организмов, имеющих общий план строения и развивающихся из общих зачатков.
(обратно)24
Астроризиды, аммодисциды — разновидности фораминифер.
(обратно)25
Формация — толща осадочных пород, характеризующая целый этап в развитии того или иного участка Земли.
(обратно)26
Конкреции — минеральные стяжения округлой формы.
(обратно)27
Геоморфология — наука, изучающая рельеф Земли, его развитие.
(обратно)28
Террасы — горизонтальные ступени рельефа, связанные с развитием речных долин.
(обратно)29
Кяриз — подземный оросительный канал.
(обратно)30
Шламм — измельченная порода.
(обратно)31
Гистология — наука о тканях многоклеточных животных.
(обратно)32
Антиклиналь — складка, складчатая структура,
(обратно)33
Тектонический — связанный с разрывными, трещинными, разломными нарушениями горных толщ.
(обратно)34
Мантия — одна из внутренних сфер Земли, расположенная между земной корой и ядром.
(обратно)35
Гидротермы — горячие водные растворы, проникающие в приповерхностные слои при охлаждении изверженных горных масс и сопровождающиеся выделением рудных соединений.
(обратно)36
Геосинклинали — крупные прогибы земной коры.
(обратно)37
Мезозой, палеоген, неоген — подразделения в геологической истории Земли.
(обратно)38
Металлогения — наука, изучающая закономерности распределения руд.
(обратно)39
Все последующие названия, киргизские выражения и слова приводятся в транскрипции Ф. В. Пояркова.
(обратно)40
Санскрит — язык древней и средневековой индийской религиозной, философской и светской литературы.
(обратно)41
В записи Ф. В. Пояркова,
(обратно)
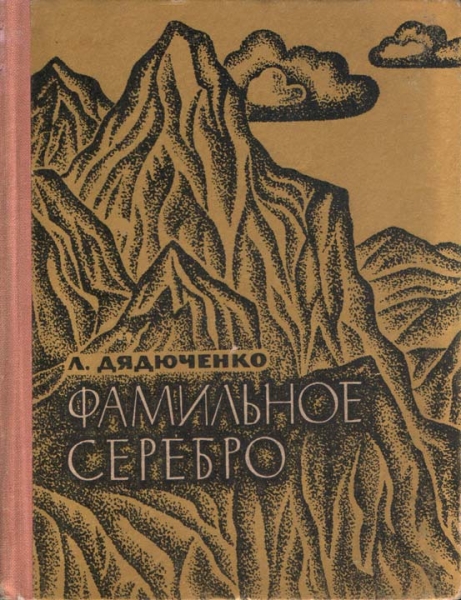

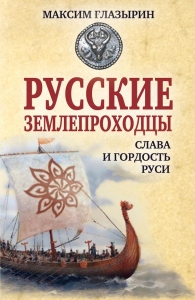



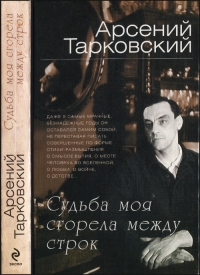
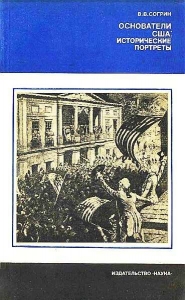
Комментарии к книге «Фамильное серебро», Леонид Борисович Дядюченко
Всего 0 комментариев