Михаил Гордеевич Салай По знакомым дорогам
Издание второе,
исправленное и дополненное
Рецензент — Н. К. Лактионова.
Литературная запись Д. М. Холендро
Об этой книге
Судьба этой книги необычна. Она написана человеком, никогда не думавшим браться за перо, — старым партизаном Михаилом Гордеевичем Салаем. В 1918 году он был сподвижником Василия Боженко и Николая Щорса и в годы Великой Отечественной войны, несмотря на возраст и болезни, не захотел сложа руки сидеть дома, а собрал ровесников, бывших боженковских командиров и бойцов, и вместе они стали настойчиво добиваться и добились отправки за линию фронта, в знакомый Черниговский лес, чтобы создать партизанский отряд и снова пройти дорогами молодости, нанося удары по врагу.
В момент высадки так называемая инициативная группа С алая насчитывала тринадцать человек. Через неделю более чем из ста человек она создала партизанский отряд имени Щорса, а через два месяца это было уже партизанское соединение из трех отрядов. Под руководством хороших воспитателей, старых партизан, а также недавних командиров Советской Армии, вышедших из окружения, парни из окрестных сел выросли в умелых разведчиков и подрывников, пробиравшихся на железнодорожные пути и отправлявших под откосы платформы с танками, орудиями и боеприпасами, вагоны с живой силой противника.
Михаил Гордеевич рассказал о дерзких действиях соединения в лесах Черниговщины и на степных просторах Полтавщины, на землях соседней Белоруссии, на малых и больших реках своего детства — Снове, Тетереве, Остре, Десне. И на Днепре, который тысячное соединение форсировало осенней порой, когда река была открытой и полноводной, — дело героическое и небывалое, так как ранее партизанские отряды переходили с одного берега Днепра на другой только по льду.
За Днепром салаевцы вывели из окружения три армейских полка, когда фашисты сконцентрировали крупные танковые силы, чтобы по бредовому плану Гитлера сбросить наши войска обратно в Днепр. Украинский штаб партизанского движения получил тогда от армейского командования письмо, в котором есть такие слова: «Вся проведенная операция говорила о высоком организационном мастерстве, исключительной слаженности всех звеньев партизанского соединения тов. Салая. Буквально в часы, была проведена тщательная разведка маршрута, выставлены прикрытия в местах возможной встречи с противником, подобраны проводники. Только благодаря этому оказалось возможным совершить переход значительной массы войск с артиллерией и обозами, не имея при этом никаких потерь ни в живой силе, ни в технике».
Как военный летчик, хочу отметить в книге Салая выразительные примеры связи Большой земли с партизанами по воздушной дороге. Однажды партизаны за день уложили в непролазный песок тысячи срубленных стволов, чтобы соорудить взлетную полосу для самолета с ранеными товарищами.
Книга Салая интересна тем, что в ней ненавязчиво, всегда к какому-то случаю, а значит, и оправданно возникают эпизоды прошлых партизанских схваток, строки о героях и об уроках тех лет. А рядом — имена народных мстителей минувшей войны, рассказы об их стойкости и бесстрашии. Перекличка двух важных этапов борьбы нашего народа с захватчиками в одной биографии и одной книге делает ее примечательной и незаурядной.
Сам Михаил Салай не дожил до счастливой возможности взять свою книгу в руки. Записки этого скромнейшего человека пролежали на столе больше двадцати лет. Но, как говорится, доброе и хорошее дело не пропадает. Я не сомневаюсь, что партизаны соединения будут благодарны известному писателю Дмитрию Холендро, который с уважением отнесся к памяти старого партизана и проделал немалую работу, чтобы записки, оставленные им, стали книгой.
Моя судьба на войне сложилась так, что немалое время я провел с партизанами, делил с ними и тяготы, и успехи; знаю, как они жили и боролись, не щадя себя ради достижения победы над врагом. И уверен, что молодые люди наших дней найдут в этой книге хорошие примеры для своего поведения и труда. Книга не только расскажет, как жили и боролись партизаны. Она поможет растить будущих защитников Родины.
Дважды Герой Советского Союза
генерал-полковник авиации
В. Д. ЛАВРИНЕНКОВ
Вместо вступления
Рукопись, пролежавшая без движения свыше двадцати лет, была большая, и при взгляде на нее сразу возникала мысль: сколько же труда вложил в это дело немолодой человек, каждый день вооружаясь пером и выводя очередные строки! Родные вспоминают:
— Никогда Михаил Гордеевич не думал, что доведется ему писать книги. Скажи кто-нибудь об этом раньше, искренне рассмешил бы его, и только! Характер не тот, для обыкновенного-то письма он редко набирался терпения, к тому же времени не хватало. А тут… Иногда на рассвете уже сидит за столом с простенькой ручкой, а чаще с карандашом в непослушных, нетвердых от ревматизма пальцах. Стоит задуматься в тишине, как перед глазами возникают лесные тропы. До сих пор их зовут партизанскими. Как живых, видел он товарищей, с которыми прошел по тылам врага в ту пору…
Но почему — только в ту пору?
Сразу после революции Михаил Салай дрался с немецкими оккупантами и гайдамаками в партизанских отрядах Василия Боженко — батьки Боженко, как его звали, — и Николая Щорса, а во время Великой Отечественной войны сам создал партизанский отряд, быстро переросший в соединение из трех отрядов, там же, на родной Черниговщине, в тех же лесах.
Естественно, что на страницах книги о последней войне нет-нет да и оживет эпизод далекого прошлого, связанный с именами дорогих ему людей, которых многие знают по учебникам истории, а он видел своими глазами. Удерживая прошлое, память помогала действовать в боях этой войны, а потом и рассказать о них.
Словом, когда рукопись была прочитана, стало ясно, что это не мемуары, нет, это рассказ о партизанских рейдах, победах и тяжелых испытаниях, об армейских командирах, вырывавшихся из вражеского плена в партизанские лагеря, о сельских парнишках с немецкими автоматами на груди, ибо арсенал врага всегда оставался для партизан ближайшим источником вооружения.
Было о чем рассказать, но самым близким друзьям Михаил Гордеевич не раз жаловался, какое это, оказывается, непростое дело — написать книгу. Да еще такому писателю, как он! Если б знать заранее, можно б тесней подружиться с родной грамотой, а то… Он, конечно, учился, но все время что-то мешало учебе, мешало овладеть словом, скажем, так, как винтовкой или косой.
Он родился в семье крестьянина-бедняка, в Кролевецкой Слободке Новгород-Северского уезда Черниговской губернии. Бедняки — все бедняки, но и они разные бывали. У одного дом покрыт соломой, а другому и такая кровля кажется царской: на его хате — одни дыры, а все думы хозяина — о детских ртах, ждущих хлеба. Сызмальства Михаил Гордеевич работал, помогал отцу с матерью, рано началась непрерывная битва за кусок хлеба, а с нею и участие в борьбе за судьбу обездоленного труженика.
Напряженное и счастливое время мирной работы в укомах и райкомах партии, в политотделах МТС длилось недолго. Снова — война.
И потянуло рассказать о ней. Это желание и поднимало на рассвете, а иной раз и вовсе не давало спать. Это и что-то еще…
Что же? Вот-вот угадается и окажется, наверно, простым, но таким, без чего трудно объяснить преданность новой работе и упорство в ней. Этого ведь не объяснишь общими словами.
Но откроем рукопись…
Глава первая
О начале войны я узнал, находясь в театре. Наверно, это звучит несерьезно, по меньшей мере несолидно как-то. А почему, собственно? Было именно так.
Я в то время уже несколько лет жил и работал в Москве, любил ее площади и парки, имел особенную привязанность к подмосковным прогулкам среди берез и елей, где радовала глаз открытая и ласковая природа.
В этот день, двадцать второго июня сорок первого года, я с женой тоже собрался за город подышать чистым и солнечным воздухом — очень хорошая была погода. Подумалось, позвоню Митрофану Негрееву, который, как и я, командовал партизанским отрядом у батьки Боженко и с которым мы дружили с тех пор, приглашу его для компании. Раздался телефонный звонок — Митрофан звонил мне, как будто мы сговорились:
— Идем в театр смотреть «В степях Украины»!
Его предложение победило, и вместе с женами мы оказались на дневном спектакле в Малом театре. Украина, степи, партизаны — нас это приманивало, тянуло. Зрители вокруг были оживленные, лица веселые и бодрые, я еще подумал — верно, таких людей и зовут счастливыми, хорошо помню радостное ощущение этой минуты. Спектакль смотрели с интересом.
Вдруг после второго действия объявляют, что сейчас по радио будет выступать Молотов. Все сразу насторожились, озабоченность появилась в глазах соседей, беспокойное предчувствие, с которым жилось последние месяцы, наполненные сообщениями с фронтов войны, развязанной фашистами в Европе. Защемило сердце.
М. Г. Салай
Молотов сказал о вероломном нападении фашистской Германии на нашу Родину. И зал почти опустел. Никогда не забуду, как этот воскресный, выходной день сразу превратился в настойчиво-рабочий. Люди заспешили: кто на завод, кто в учреждение, а кто уже и в воинскую часть. Не было на лицах следов нервозности, а тем более паники, но, конечно, не осталось и недавних улыбок. Незримая черта прошла через жизнь, отрезала от нас все мирное и дорогое… Находясь на той же земле, мы как бы вступили в другой мир, для многих незнакомый, живущий по своим законам.
Но нам-то с Негреевым эти законы и этот враг, вооружившийся теперь усовершенствованным автоматическим оружием, были знакомы. В первые дни и недели после нападения, пользуясь преимуществами, которые дали фашистам внезапность и превосходство в технике, они начали захватывать наши города с такими родными названиями, что сжималось сердце.
Мы с Митрофаном Гавриловичем, не сговариваясь, невольно вспоминали людей, которые после революции воевали с немцами в полках Щорса и Боженко. Воображение тянуло нас в знакомые места, где мы могли, без сомнения, встретить надежных друзей и организовать партизанские отряды. Поговорив об этом, мы решили связаться с Демьяном Сергеевичем Коротченко, который в восемнадцатом году тоже командовал партизанским отрядом и не раз выполнял поручения Щорса и Боженко, а сейчас был одним из секретарей ЦК Коммунистической партии Украины.
Потом ко мне приехал Иван, мой брат, хотя и младший, но партизан, можно сказать, старый. Перед войной он преподавал в Тимирязевской академии, был кандидатом философских наук, а в относительно далекие годы, вдруг ставшие такими недавними, возглавлял партизанский отряд на Черниговщине. Иван горячился, перебирал вслух имена наших старых партизан, сколачивал основу отряда. Позвали Негреева, начали втроем обсуждать план действий…
Но война еще раз доказала, что не все зависит от людского желания и даже от людской готовности. Надо уметь, сжав кулаки, встречать самые суровые испытания и любые неожиданности: на то она и война.
Иван был назначен комиссаром дивизии московских ополченцев, Негреев, руководивший заводом, получил важное военное назначение, а меня, возглавлявшего тогда строительный трест, послали начальником укрепленного района — началось строительство линии обороны на подступах к Москве. Пусть еще на дальних подступах, но все же — к Москве. Вот так… Командование предугадывало острую ситуацию под Москвой и делало все для защиты столицы.
Прощаясь, мы условились, что, как только обстановка изменится к лучшему, тут же соберемся и попросим послать нас в тыл врага, на Украину, чтобы и дальше действовать вместе.
Под Москвой, там, где протянулась предполагаемая линия обороны, вовсю работали люди: строители, ополченцы, местное население. Ночь и непогода не мешали им, не останавливали их; мешала вражеская авиация: фашисты бомбили и обстреливали из пулеметов с неба. Все чаще появлялись у нас убитые и раненые. Нам присылали пополнение, подчеркивая необходимость нашей работы.
Однажды моя жена Соня, Софья Васильевна, сказала мне, что в нашу Сычевку с подкреплением прибыло немало людей с Украины. Мой давний товарищ, бывший партизан, решительный и порывистый Исаак Мейтин, который вместе со мной приехал создавать укрепрайон, прибавил, что там есть и черниговские. Я заволновался.
Соню, ведавшую питательным пунктом, беспокоило, чем побыстрее накормить большую партию прибывших, а меня с Мейтиным интересовало, нет ли среди черниговцев знакомых.
Они были. Мы встретили четырех или пятерых партизан прошлых лет. И услышали, что райкомы готовили группы в партизанские отряды, создавали в лесах склады продовольствия и оружия. Многие из тех, кого не взяли в партизаны, кто возрастом постарше и вроде бы отвоевал свое, но не хотел оставаться под властью немцев, уходили на восток с надеждой, что сумеют там помочь армии. Вот подоспели к строительству рубежа обороны под Москвой.
Рассказывали, что, уходя из сел, добро свое они зарыли от врага, сельскохозяйственные машины эвакуировали, а что не удалось отправить на восток, поломали, чтобы не служило фашистам. Урожай сожгли на корню и в скирдах. Я слушал, представлял себе, как горел на полях золотой украинский хлеб, и тяжело становилось на душе.
А еще мне рассказали, как распался отряд, для которого были созданы партизанские базы в Узруевском лесу, — я его хорошо знал, этот лес. Уже назначен был командир отряда. Он встретился с секретарем райкома перед тем, как начать подбор людей и формирование. По-партизански это обычно, и чаще всего так и бывает: сначала определяется командир, а потом уж он собирает себе отряд… Вместе с секретарем райкома пошли они обедать в столовую. Только сели за стол — налетели немцы, послышался свист бомб. После бомбежки обоих, тяжело раненных, с трудом извлекли из-под развалин. Их отвезли в Шостку. В тот же день в город ворвались немецкие танки. Некоторые из тех, кто намечал себе путь в Узруевский отряд, ушли теперь за Десну.
Я спросил: а почему туда? И мне ответили: вспомнили, что в восемнадцатом году там действовал отряд под командой Соколова. И сейчас слух идет, что за Десной появились партизаны, а командует ими Соколов, лихо бьют немца, хорошо скрываются. Нашли ли добровольцы отряд Соколова — неизвестно, говорят, никто не показывает, где он поставил лагерь.
Вернулся я домой в большой задумчивости и в большой растерянности — одновременно. Вспомнился мне документ, выданный Щорсом и до сих пор хранящийся у меня. Называется он почему-то смешно и торжественно: реляция. Вот его текст:
Салай-Соколов Михаил Гордеевич, член Повстанкома Новгород-Северщины и Глуховщины, организатор партизанских отрядов в Новгород-Северском уезде. Уже в мае 1918 года т. Салай руководил наступлением трехтысячного партизанского отряда на город Новгород-Северский… В результате деятельности отряда т. Салая противнику был нанесен значительный урон, подорвавший моральное состояние гайдамацких частей. Привлечено в ряды красного партизанского отряда большое количество добровольцев.
Т. Салай-Соколов лично участвовал в партизанских боях, проявляя храбрость, поддерживая высокое моральное состояние бойцов.
Салай-Соколов… Это была моя партизанская фамилия, кличка. Не могли сейчас встретить Соколова за Десной, если у меня не появился в тех же местах однофамилец. Скорее всего, людская выдумка, легенда опережала быль.
Но один вывод из этого я имел право сделать и сказал себе: тебя хотят видеть там, товарищ Соколов.
Глава вторая
И тут мне был нанесен предательский удар. Никому не пожалуешься — нанесла его болезнь, но это было большое горе, потому что болезнь оказалась тяжкой.
Ответственная работа — создание рубежа обороны близ Сычевки — занимала меня целиком: ей приходилось отдавать не только мысли, но и руки. Взяв лопату, я нередко работал на рубеже днем и ночью, помогая товарищам. Не заметил, где и когда сильно простыл, и рухнул пластом. Острый ревматизм… Руки и ноги словно отнялись. Три месяца я лежал неподвижно, и медсестра кормила меня с ложечки, как ребенка.
Стыдно это было и мучительно. В то время, когда каждый помогал бить врага всем, чем мог, чтобы остановить его, я лежал… и смотрел в потолок. Да где! Меня эвакуировали в Казань. Едва закроешь глаза — в них оставленный рубеж у Сычевки или Узруевский лес, в котором было спрятано оружие, но не было партизан.
М. Г. Негреев
«Выкарабкаться!» — твердил я себе. К весне 1942 года я начал подниматься на ноги, выписался из госпиталя и вернулся в Москву, отбросившую врага. Я спешил приобщиться к делу, а дело у всех было одно — бить фашистов, но здоровым меня еще не хотел считать никто. И правда, все суставы мои оставались опухшими, болели, ходить свободно я не мог, опирался на палку, которую не выпускал из рук.
Но в жизни никогда не бывает все темно без просвета. В самые тяжелые минуты я всегда искал и хорошее, что скрашивало и облегчало горести. И находил. Я вел эти поиски с улыбкой, может быть над самим собой, но все же, как минимум, была улыбка!
Приехав в Москву, стал я оглядываться и узнал, что здесь, в столице, брат Иван и Митрофан Негреев. Разве не радость? Еще какая! Созвонились и съехались на квартире у Негреева. После объятий и приветственных слов быстро возобновили разговор о создании партизанского отряда с участием «стариков» — боженковских и щорсовских ветеранов. Родные леса по-прежнему звали, а обстановка там была такая, что хоть завтра поезжай — пригодишься.
Решили, что надо куда-то идти, предлагать себя, свои знания и опыт, свои силы, вовсе не иссякшие еще, несмотря на годы и, как у меня, например, временную хромоту. Правда, Митрофан Негреев посмеивался надо мной:
— Куда ты пойдешь с палкой-то?
— Не волнуйся, — отшучивался я. — Как пойду, так палку дома оставлю.
— Обманешь начальство?
— Иди ты! Скоро я вообще без палки буду ходить! Обманывать? Не знал я в жизни большего греха. Я верил: поправлюсь. Однако когда мы явились в июне в Центральный штаб партизанского движения, свою палку я еще сжимал в руках — вынужден был. Принял нас заместитель начальника штаба, выслушал внимательно, поговорил серьезно и душевно и предложил ехать из Москвы… не в тыл врага, как мы собрались, а туда, где разместился Украинский штаб партизанского движения (УШПД). Для чего? Помогать формированию там штабов будущих партизанских отрядов — это значит отбирать в первую очередь командиров, комиссаров и начальников штабов.
— Но мы сами хотим лететь на Черниговщину! — заволновался я.
Наш собеседник ответил, что мы знаем людей и он считает нас поэтому очень подходящими для предложенной работы. Тут мы, дескать, принесем самую заметную пользу.
— Вы проведете эту важную работу лучше других. Попробуйте отказаться после таких слов.
Мы спускались с Негреевым по лестнице, и с почти нескрываемым злом Митрофан проговорил:
— Это все твоя палка! Все она помешала!
И так трудно ему было сдержать досаду, согласиться с тем, что вместо Черниговщины (места, откуда он и сам, кстати, был родом) мы окажемся еще глубже в нашем тылу, что внезапно он вышиб палку из моих рук ударом ноги и она полетела по ступеням, громко и долго гремя.
Я продолжал идти, как будто ничего не случилось, а Митрофан обогнал меня, поднял палку и протянул мне. Но я прошел мимо, ничего не сказав. И с тех пор я уже не брал в руки палку. Даже в лесах, где не было таких гладких дорожек, как в этом столичном здании…
Но пока мы поехали к Демьяну Сергеевичу Коротченко. Он тепло встретил нас, связал с партизанским штабом, и мы начали работу. Каждый день встречались с людьми, разговаривали, отбирали, завидовали тем, кто скоро снова окажется на Украине. Через определенный срок мы предложили из числа добровольцев не триста, а пятьсот человек, а потом начали просить, чтобы и нас послали на Черниговщину.
И вот по решению ЦК КП(б)У и УШПД нам поручили организовать группу, которая смогла бы создать и возглавить партизанский отряд. Вернувшись в Москву, мы тут же взялись за это. Наши старые товарищи, узнав о новости, зачастили к нам с просьбами не забывать о них. И скоро группа подобралась. Вот она: начальник штаба — мой брат Иван Салай (партизанский псевдоним — Кругленко), заместитель командира по разведке — Александр Каменский, которого я знал с восемнадцатого года. Несколько слов о нем, Саше Каменском.
Сын рабочего, он и сам с пятнадцати лет, за три года до Октябрьской революции, стал рабочим на фабрике в городке Хорол, а потом на одном из мариупольских заводов. Там в семнадцатом году вступил в партию большевиков и в Красную гвардию, помогал устанавливать и защищать в Мариуполе Советскую власть. Теперь он работал на военном заводе, но мы доказали, как он нужен для организации борьбы в тылу врага, и его отпустили.
И еще два товарища по гражданской войне — помощник командира отряда по материальной части — Исаак Мейтин (я о нем упоминал) и предполагаемый начальник связи — Илья Шкловский. С начала этой войны он работал в Совнаркоме РСФСР, занимаясь эвакуацией промышленных предприятий из прифронтовых городов, но, поскольку партизанская доля не обещала облегчения, его тоже отпустили. Отпустили и молодого Михаила Попова, который до войны был способным сотрудником Наркомвнешторга, а сейчас хотел бить врага своими руками и готов был занять должность адъютанта командира, порученца, любое дело делать, что доверят, лишь бы не сидеть в Москве, занимаясь хотя и важной работой, но не такой, которая в его глазах была важнее всего. Друзья — на войне, на фронте. И он рвался на передовую, хотел держать оружие в руках.
Радистов нам предложил УШПД. Это Саша Кравченко и Катя Филиппенко, из числа той молодежи, которая была отобрана в разных городах для учебы в партизанской школе связи и проделала к этой школе долгий путь, такой же необычный, как и показательный. Катя — из Ворошиловграда. Фашисты были в десяти километрах от города, когда ее вызвали в райком комсомола и спросили, не хочет ли она стать партизанской радисткой. Она оставила мать с тремя младшими ребятами, потому что понимала свой долг перед ними так: нужно помочь победе. И началась незабываемая дорога в школу.
Катя была назначена старшей в группе ровесников, собравшихся стать партизанскими радистами, ей вручили направление на всех (бумагу), и они двинулись… на восток. Гитлеровцы развивали наступление сорок второго года, рвались к Волге, к Сталинграду, наша армия тогда отступала, и вместе с нею откатывались другие организации, в том числе и партизанская школа связи. Катя с ровесниками искала и догоняла ее. Сначала двигались в военном эшелоне, который разбомбило на станции Лозовой. Там похоронили пятерых товарищей-комсомольцев. Железная дорога была разбита, пошли пешком. До Ростова. Оттуда комендант города направил ребят в Армавир. А потом отправились дальше — в Сталинград.
Все забились в одно купе пассажирского вагона и добрались до Сталинграда, окутанного пылью и дымом, нашли тех, кто показал наконец, где их партизанская школа. Она разместилась на берегу Волги. Предъявили документы, успели, потому что в ту же ночь школа эвакуировалась в Саратов. Вверх по Волге — на пароходе «Орджоникидзе», почти не выплывая из-под бомбежек, к которым начали привыкать, если это вообще возможно. Но главное — плыли уже не кем-то, а курсантами школы связи. В Саратове через шесть месяцев Катя Филиппенко с отличием окончила школу, стала классной радисткой, научилась прыгать с парашютом и была зачислена в нашу группу.
Расскажу об одном молодом враче из нашей группы, которую тогда называли инициативной. Недалеко от Москвы, близ станции Чкаловская Северной железной дороги, в корпусах бывшего детского дома, расположенного в лесу, на природе, работал партизанский эвакопункт. Каждую ночь с аэродрома имени Чкалова улетали самолеты в тыл врага. Не все возвращались… А если возвращались, то привозили сюда раненых партизан, стариков, женщин и детей из окрестных деревень, сел. Раненым тут же оказывали неотложную помощь, больных помещали на излечение в изолятор, детей определяли в детские дома, стариков — в дома для престарелых. Это была глубоко людская точка в военном организме…
Начальником медсанчасти эвакопункта работала молодой врач Валентина Михайловна Покровская. Ей едва исполнилось двадцать пять. Ну, конечно, молодая женщина и молодой врач, но всех привлекали серьезность ее отношения к трудной работе, расторопность, знания, которые при такой непрерывной и разнообразной нагрузке всем быстро становятся видны. Ничего удивительного, что именно ей предложили лететь с нами в тыл врага. Но… у Валентины Михайловны был двухлетний сын. Малютка. И утром она должна была дать ответ. Только одна ночь на раздумье. А подумать есть над чем, есть от чего поболеть сердцу. С кем оставить сына? С сестрой? И увидит ли она его еще, вернется ли оттуда, куда может улететь, если скажет «да»? Или навсегда сын назовет свою тетю мамой? Надо ли говорить «да»? Ведь никто не неволит. Она и так на посту врача, на очень напряженной работе, связанной с боями. Приносит пользу…
Однако сколько раз, видя плохо обработанную рану, запущенную болезнь, необихоженный перелом или вывих, Валентина спрашивала себя: неужели никто не поможет пострадавшему там, на месте? Да и кто же сделает это, если ты сама откажешься, не поедешь? В партизаны не посылают приказом. Туда идут добровольно. Всю ночь Валентина Михайловна не ложилась спать. А утром сказала «да».
И еще одна молодая девушка последовала, можно сказать, ее примеру, хотя пока они были незнакомы. Это — Шура Иванова, которая в шесть лет потеряла отца и потому рано приобщилась к труду. В девятнадцать лет, в начале войны, она работала в Краснопресненском райвоенкомате Москвы, там окончила курсы сандружинниц и была включена в нашу группу.
Еще в Саратове мы встретили Петра Сергеевича Коротченко и позвали его лететь с нами в тыл врага. Мы знали его с восемнадцатого года. Совсем юный брат Демьяна Сергеевича участвовал в партизанском движении, был в одном из моих отрядов умелым разведчиком. Он вступил добровольцем в Красную гвардию, а затем в Красную Армию, смело сражался против белогвардейцев и белополяков в рядах первого сводного кавалерийского полка. До войны он стал военным инженером 2 ранга; во время Великой Отечественной служил недолго в штабе Южного фронта. Когда мы предложили ему возглавить разведку в будущем отряде, он с радостью согласился, вспомнив о своей старой партизанской кличке: Кочубей.
П. С. Коротченко
Меня назначили командиром отряда. Комиссаром был назначен Негреев, мой земляк. Вырос он в семье крестьянина-бедняка из села Береза Глуховского уезда Черниговской губернии. Участвовал в первой мировой войне, в августе 1917 года вступил в партию большевиков, был активным организатором и руководителем красногвардейских и партизанских отрядов, а потом — комиссаром полка в Красной Армии. В мирное время находился на ответственной партийной и хозяйственной работе, пока не отправился добровольцем на войну с белофиннами.
До отправки в тыл врага мы должны были пройти краткие курсы при Центральном штабе партизанского движения (были они под Москвой). Получили там немало полезных знаний. Вспоминается, что почему-то в эти дни надо мною и Кочубеем посмеивался Негреев — он вообще не упускал случая пошутить.
Бывало, присядем в укромном местечке покурить в перерыве между занятиями, а он качнет головой, сокрушаясь:
— Ну что я с вами буду делать в лесу? Мало того что оба хромые, так ведь еще и старики! — Это он намекал прежде всего на меня. Мне шел пятьдесят второй. — В эти годы полагается дома свернуться калачиком, положить голову на мягкую подушку и спать, а вы!.. — смеялся Негреев.
Остается добавить, что сам он был на год старше меня.
Глава третья
Наш отлет уже не на один день задерживался из-за плохой погоды. Небо Подмосковья было в непроглядных весенних тучах, все время накрапывал или хлестал дождь, мы молили о небольшом чистом пятнышке над головой, хотя бы на полчаса, чтобы самолет мог подняться и взять курс на запад, но — без результата. Нарастало уныние, нервничали мы с Негреевым все больше, бывало, я просил его пошутить, посмеяться, а он только безнадежно отмахивался…
И вдруг назначают вылет — на вечер 12 марта 1943 года.
Наверно, на аэродром мы приехали чуть раньше указанного времени, потому что молодой дежурный сказал мне:
— Подполковник Гризодубова занята. Можете подождать.
— Доложите, что прибыла группа Салая.
Валентина Гризодубова запомнилась мне как собранный, готовый действовать в любую секунду, немногословный, но темпераментный командир. И — очень красивая женщина. Она была со вкусом причесана и одета, женственность пробивалась добротой и сочувствием (а нам скоро потребовалось и то, и другое!) сквозь холодную строгость ее взгляда.
Она была действительно занята, но именно нашим делом, как раз уточняла с летчиком Кузнецовым маршрут, по которому мы должны были достичь Черниговщины, и, естественно, нас тут же пригласили в кабинет. Они, Гризодубова и Кузнецов, наклонились над картой, лежавшей на столе. Летчик делал отметки. Поздоровались, и он объяснил нам, как будем лететь. Линию фронта пересечем недалеко от Людинова, вот здесь примерно. Немцы будут нас сильно обстреливать, и придется нам набрать максимальную высоту — до пяти тысяч метров.
— Как ваши люди, все здоровы, выдержат?
— Все будет в порядке, — ответил я.
И поймал на себе взгляд Негреева, добросердечный и заботливый. У меня была нелегкая гипертония, черт знает как это скажется на большой высоте, но я не сомневался, что под влиянием необходимости все малые неприятности отпадают и позволяют забыть о себе, и Негреев кивнул мне, прикрыв глаза. Хороший мужик…
Но испытания не кончились на этом.
В кабинет вошел майор и доложил, что погода опять нелетная и все намеченные полеты отменяются. Мы заспорили:
— Да что вы! В небе окна!
— Над нами, — согласился майор. — А путь у вас неблизкий… Самолет лететь не может.
Тогда мы стали угрожающе заявлять, что никуда не уйдем с аэродрома, что и так уже потеряли в ожидании погоды уйму времени, мы улетим сегодня!
И тут Гризодубова спросила Кузнецова:
— Ваш самолет готов?
— Так точно! — ответил летчик.
И споры разом стихли. Валентина Степановна сама хотела отправить нас, ей недавно звонили Демьян Коротченко и Тимофей Строкач (начальник УШПД), справлялись о нашей группе.
— Но я не могу рисковать людьми, — сказала Валентина Степановна. — Ждите. Я буду следить за погодой.
К полуночи небо прояснилось, и, как видно, не только над нами. Нас позвали к самолету. Он был готов к вылету, вокруг ходили механики в комбинезонах, осматривали машину и проверяли… Подошла эмка — легковой автомобиль, который сделали на нашем Горьковском автозаводе незадолго до войны и который стойко вынес на себе все тяжести и всю необихоженность военных дорог, на летное поле вышла из эмки Валентина Степановна и сказала, что можно грузиться и садиться в самолет.
Не верилось, но настал этот последний момент: посадка!
Быстро погрузили мы мешки с оружием, боеприпасами и медикаментами. Нам предложили надеть парашюты, мы стали помогать друг другу — вот уже и парашютные сумки у всех за спиной. Мы прощаемся с людьми, остающимися на аэродроме. Самолет бежит по дорожке, еще миг, еще… И вот рев мотора становится ровнее и мягче, земли не чувствуется, мы оторвались от нее и набираем высоту. Не знаю, кто запел первым, но через минуту все наши пассажиры, весь штаб будущего партизанского отряда пел в самолете.
Может быть, кто-нибудь из нынешней молодежи будет читать и скажет: «Ну придумал!» Нет. Ничто на свете не наполнено таким однообразием, как ожидание, можно сказать, таким изматывающим однообразием. Оно тянулось для нас долгие недели. И вот — летим… Да не куда-нибудь, а туда, куда хотели. Ходили, добивались этого. И вот — летим! Это была первая победа над всеми, как говорят, превратностями судьбы. Мы пели песни о Родине, народные песни, и пусть наши охрипшие голоса не пробивались сквозь рев мотора. Мы пели для себя. Это подлинно душа пела.
К линии фронта, как показалось нам, приблизились довольно скоро. Фашисты поймали наш самолет в перекрестие сильных прожекторов, и зенитная артиллерия открыла огонь. Кузнецов поднимал самолет, он быстро стал взмывать вверх — подальше от прожекторов и рвущихся снарядов. Я сидел в кабине, рядом с летчиком. Становилось все холоднее, и дышать на такой высоте уже было тяжело. Тут Иван, начальник штаба, подал команду выпить немного водки, чтобы согреться, ее нам выдали для этого случая заблаговременно. Мне стало легче: раз команда для всех, значит, ничего особенного, самочувствие у меня, как у всех.
А тут и через линию фронта перелетели…
Все шло пока благополучно. Приборы показывали, что мы недалеко от аэродрома, где должны были сесть или выброситься с парашютами. Самолет шел предельно низко. Но что же это такое? Ни сигнальных ракет, ни огней. Словно нас и не ждут! Спуститься еще ниже нельзя: сильный туман. Может быть, из-за тумана не видно и сигналов? Может быть…
— Что же делать? — спросил я у Кузнецова.
— Ложиться на обратный курс, — сказал он.
— Что вы!
— Пока не сожгли горючее.
Я вскочил и пошел посоветоваться с комиссаром еще не существующего отряда и начальником штаба. Конечно, решение было одно: искать сигналы. Пролетали то ли над оврагами, то ли над полями, то ли над лесом — ничего не видно, и Кузнецов начал разворачивать самолет.
Мы легли на обратный курс. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
При перелете через линию фронта самолет подвергся более сильному обстрелу. Мало того, на хвост сел истребитель, несколько минут шли под его огнем и сами отвечали ему из пулеметов, вели настоящий воздушный бой. Маневрируя, Кузнецов оторвался от фашиста, но в последний момент осколок вражеского снаряда все же угодил в крыло нашего самолета. Рация, которая находилась в крыле, перестала работать.
Я скомандовал, чтобы все приготовились к выброске на случай аварии. Но в полной мере показал свое мастерство наш пилот. Он продолжал вести самолет, долетел до аэродрома и сумел посадить израненную машину.
Весь следующий день мы провели на аэродроме, и я ругал про себя незнакомого мне Николая Попудренко, в соединении которого должны были совершить посадку или выброску и который не смог организовать встречу. (А что он мог поделать с таким туманом!) Гризодубова успокаивала, что погода улучшается и мы обязательно полетим сегодня, тринадцатого, а мне, человеку очень далекому от суеверий и насмешливо относившемуся к ним всю жизнь, лезли в голову мысли о том, что нас — тринадцать человек, летим — тринадцатого… Беда!
Валентина Степановна дала Кузнецову другой самолет. Над линией фронта нас снова крепко обстреляли, но не задели, пронесло, и тумана, подлетая к намеченному месту, мы не обнаружили. Зато было видно, как горят сигнальные костры, а едва мы сделали условный круг над ними, в небо взвились две красные ракеты. Кузнецов повел самолет на посадку — он имел приказ Гризодубовой при возможности взять раненых.
Все шло хорошо.
Мы сели, и к нам подбежали партизаны из соединения Попудренко. Только что были сильные толчки самолета, похожие на удары о мерзлую землю, и вот уже мы — в объятиях партизан, под градом их вопросов: еще бы, мы ведь из Москвы! Никого не знаем, а встретились, как старые друзья. Даже расцеловались. Заговорили, перебивая друг друга, спеша узнать, как дела у нас, как у них, и рассмеялись.
Кузнецов, в самолет которого погрузили раненых, осматривал землю, пробовал ее ногой. Она была сырой и вязкой, мокрый снег лежал на ней островками… Но что было делать? Распрощавшись с Нами, Кузнецов улыбнулся и сказал:
— Ничего! Попробую.
Нужно было взлетать. И скоро самолет загудел, разбежался… Мы еще стояли у костра, угощали партизан московскими папиросами, а они приглашали нас на лесной чаек, когда кто-то вдруг крикнул:
— Самолет идет на нас!
И другой голос прибавил:
— Ложись!
Люди вдруг попадали, а я не успел даже опомниться, оглянуться, а тем более — упасть. Накатил шум, и самолет сбил меня и еще нескольких человек, в том числе нашего молодого врача Валентину Покровскую. И вот я лежал на этой сырой земле, к которой так стремилась душа. Холодная струйка сочилась за воротник, невыносимая боль была в ноге, как будто ее отхватили, а губы шевелились и просили одного: воды. Мне протянули флягу, я сделал несколько жадных глотков и вскрикнул:
— Что вы, дьяволы! Это же водка!
И тут же услышал, как кто-то сказал:
— Ну если в этом разобрался, то, значит, живой!
Кто-то другой зачерпнул шапкой воду из лужи и дал мне. Я напился. Подошел Негреев и вздохнул:
— Ну как ты? Слышишь, Миша?
Я не ответил. «Какая глупая смерть! — думал я. — Прилетел во вражеский тыл, ничего не сделал и — на тебе, под колесами своего самолета».
— Ты слышишь меня? — повторил Негреев. — Следующим самолетом отправим тебя на Большую землю…
Вот когда я окончательно пришел в себя и закричал:
— Заткнись!
Он понял, что дело еще не так безнадежно, и покашлял в ладонь. А я спросил, где люди, чем заняты.
— Собираемся в лагерь Николая Никитовича Попудренко, там нас ждут, говорят, ужин приготовили…
— Без меня полакомиться хотите? Не выйдет!
Через час я действительно поехал со всеми в лагерь Попудренко, которого проклинал вчера за отсутствие сигнальных огней. Если бы мы сели вчера, возможно, не вышло бы и этой глупости с самолетом… И тут же я отругал себя за то, что забыл о навыках, которые считал для себя чуть ли не вечными. Партизанское житье-бытье не терпит никаких «если бы», из того, что есть, что случилось, надо быстро рисовать в мыслях реальную картину, оценивать обстановку и принимать решения. Так-то…
Николай Попудренко оказался радушным хозяином, дружелюбным, заботливым человеком и сразу спросил про самолет:
— Что случилось? Может, летчик виноват?
Это Кузнецов-то? Который так старался для нас!
— Нет, — ответил я, — Кузнецов — летчик хороший… Высказал предположение, что самолет у Кузнецова на этот раз был «чужой», он не знал его капризов да и земля расквашенная, похоже, заело штурвал и летчик не смог справиться…
Так оно и вышло, как выяснилось вскорости, когда Кузнецов связался с нами, чтобы проверить, все ли обошлось. Я к тому времени был уже на ногах, поэтому не считаю, что очень преувеличил, когда на вопрос Попудренко: «Как чувствуете себя?» — ответил:
— Хорошо, не волнуйтесь.
Вот наш врач Валентина Покровская еще долго ходила на костылях, но держалась, молодчина, не жаловалась. А через несколько дней прилетела Шура Иванова. Да не налегке, а с тринадцатью мешками груза — это были главным образом медикаменты. Медсестра спрыгнула с парашютом на сигнальные костры партизанского аэродрома, а за ней после двух-трех кругов с самолета сбросили груз. Врач Валентина Михайловна стала пациенткой Шуры, медсестра ее старательно обихаживала.
Первым партизанским ужином мы были удивлены: мясо, капуста, лепешки вместо хлеба… И всего вдоволь. Разговор велся непринужденный, шутили — в том числе и над историей с самолетом. Заиграла гармошка… Проводив нас в землянку, Николай Никитович сказал:
— Спите спокойно, вы у нас в гостях, никому вас тронуть не дадим.
Мы поблагодарили. Было приятно, что партизаны чувствовали себя хозяевами на родной земле, правда, пока даже за столом сидели с оружием, ну что ж, придет время…
Ночью, как ни странно, я думал не о своей пострадавшей ноге, а о гармошке. Очень уж хорошо играл молодой чубатый парень, моя крестьянская душа ворковала и радовалась. Мне виделась родная деревня с хороводом молодежи на околице. Поскучал о Кролевецкой Слободке и стал обмозговывать, как и когда мы сможем собрать свой отряд и повести его в глубокий тыл врага, за Днепр, — такая у нас была главная задача. Я видел как наяву близкие реки и речушки моего детства и юности моей — Днепр, Остер и Снов, которые нам предстояло пересечь. По реке плыла лодка, и сидел в ней рыболов, задумчиво играя на гармошке, пока течение несло его к заветным местам; перед рассветом я, не такой, как сейчас, а чубатый вроде нынешнего гармониста мальчишка, заплясал под гармошку в доме мамы, которой давно уже нет в живых…
Глава четвертая
Партизанский быт повольготней армейского, новостями здесь делятся быстрее и проще. Я еще только думал, как сообщить людям в лагере Попудренко, что прибыли старые партизаны, бывшие бойцы Щорса и Боженко, что они интересуются, нет ли здесь их давних друзей, а к нам в землянку уже без приглашения начали приходить однополчане той поры.
Первым пожаловал Платон Горелов, дерзкий партизан восемнадцатого года, он тогда в моем отряде командовал разведкой, а сейчас в одном из отрядов был комиссаром. После гражданской войны Платон учился с моим братом Иваном (снова ставшим теперь Кругленко) в Коммунистическом университете имени Артема, этот университет вместе с ними окончил и Негреев, поэтому понятно, что, как только Платон спустился в нашу землянку, к нему кинулись обниматься со всех сторон.
— Постойте же вы, очумелые! — радостно кричал он. — Дайте поздороваться с Михаилом!
Я приподнялся, и мы обнялись.
Платон рассказал нам, что остался в этом лесу под видом лесника и создавал здесь партизанские базы. Делалось все это по заданию Черниговского обкома партии.
Пока он говорил, в землянку входили люди, в которых я узнавал старых знакомых. Не сразу вспоминались имена, больше двадцати лет все же прошло со времени нашей последней встречи, но фамилии прорезывались в памяти, едва я вглядывался в лица этих постаревших людей: Бебих, Прус, Черненко, Шепель… Вот и опять мы в своей партизанской обители! Они рассказывали, что привели с собой много молодежи — детей, племянников, знакомых. Молодежь не хотела отставать, включалась в борьбу с захватчиками. В восемнадцатом мы тоже были молодыми, кое-кто даже очень…
Я смотрел на друзей своей молодости и радовался. Невозможно было бы не узнать их с первого взгляда!
В землянку вошел высокий седой старик с автоматом на груди. Две гранаты висели у него на поясе. Он потрогал белые усы, улыбнулся мне, правда сдержанно, скупо, неуверенно:
— Здравствуй, дружище. Рад видеть тебя.
Я ответил и посмотрел на вошедшего старика пристальней и дольше. А потом невольно спросил Платона:
— Кто это?
— Ба! Разве не узнаешь? — спросил Платон и при общем молчании воскликнул: — Да это ж Неруш!
Не может быть! Только-только порадовался, что всех узнаю, и сразу — осечка. Неруш? Он сильно изменился, совсем стал белый, но как же я мог! Неруш! Бесстрашный командир кавалерийского эскадрона в моем отряде…
— Ох, Степан, неужто это ты?
— Я, как видишь…
Мы расцеловались с ним. Еще и еще раз… Когда все пошли завтракать в землянку Платона, мы остались со Степаном Антоновичем Нерушем поговорить. И вот что я услышал… Жил он в селе неподалеку и сразу, едва стало ясно, что немцы могут добраться до этих мест, начал обдумывать, как создать партизанский отряд, с чего начать. Помогал ему Солдатенко, его заместитель по кавалерийскому эскадрону восемнадцатого года, я его помнил. События развивались неожиданно, торопили. Уходя в лес, Степан взял сына и племянника, Солдатенко — племянника, к ним примкнули фельдшерица из сельской больницы и учительница из школы, еще двое парней.
Райком направил Неруша в Узруевский лес, где надо было ждать появления отряда, но он так и не появился. Я сказал Степану, почему, так как знал об этом от людей, пришедших под Москву и рассказавших мне на оборонном рубеже в Сычевке, как пострадали под бомбами секретарь райкома и партизанский командир…
Вокруг Неруша и Солдатенко собралось в Узруевском лесу двадцать шесть человек. Так пока и воевали. Пользовались партизанскими базами, это помогало, но сил было маловато, все ждали: вот-вот придет отряд. Вместо этого окружили немцы — в урочище Моховом. Видно, даже малочисленный отряд здорово допекал оккупантов, потому что все время нападал на полицейские посты, громил, разгонял…
— Бой в урочище был тяжелым… Там эти гады убили моего сына. Вот видишь, какой я стал? — Степан тронул седину
Слева направо: М. Г. Салай, М. Г. Негреев, И. Г. Салай (Кругяенко)
А лицо его начало подергиваться. Мы помолчали.
В урочище Моховом погибли Солдатенко и еще несколько партизан. А остальных Неруш повел по лесам, пока не встретил большой отряд, который взял их к себе. Это был отряд Федорова, переросший затем в соединение.
Алексея Федоровича Федорова, первого секретаря Черниговского подпольного обкома партии, я дважды встречал в Москве в те месяцы, когда мы готовились лететь сюда. Он прилетал из вражеского тыла, заботился о нуждах соединения. А жил Федоров в гостинице «Москва», там, в его номере, мы вели беседы о партизанском деле. Алексей Федорович расспрашивал о прошлых днях, рассказывал о сегодняшних и обещал помочь в создании отряда, если я прилечу, звал.
После разговора с Нерушем я собрал все силы и, что называется сжав кулаки, пошел к Попудренко — узнать, чем и как он нам поможет. Заволновался. А сумеет ли? Захочет ли? Естественно волноваться, когда впервые встречаешься с человеком. Ах, если бы мы застали Федорова! Все было бы проще и быстрее!
Николай Никитович Попудренко встретил нас вчера торжественным ужином, специально, как сказали наши утренние гости, старые друзья, мобилизовал для этого все свои возможности, а вдруг это — точка? Организация отряда — совсем другое, кропотливое и хлопотное, гораздо более долгое дело. А кто же поможет, кроме Попудренко, оставшегося командиром соединения, созданного из тех отрядов, которые Федоров не взял с собой, чтобы враг получал удары и здесь?
В землянке Попудренко были командиры и комиссары этих отрядов, но Николай Никитович прервал деловой разговор и встретил меня улыбкой. А я, растревоженный воспоминаниями о плохой погоде, о неудачах перелета, спросил его прямо, при всех, на что мне надеяться. Попудренко пригласил меня сесть и сразу переадресовал вопрос всем. Поможем, дескать?
— Конечно, — ответили партизанские командиры.
— Ну то? Чув? — спросил он у меня, переходя на родную украинскую мову. — Ну что? Слышал? — Теперь я улыбнулся, укоряя себя за недавнюю мрачность, а он продолжал: — Мы так понимаем, что каждый из нас обязан помочь вам и вашим людям, а кроме всего, такой наказ оставил нам Федоров…
Может быть, это главное партизанское чувство — чувство товарищества, из которого и рождалась наша великая сила. На тысячи километров вокруг — леса, но будь в них и один человек с партизанской душой, выросший и воспитанный на партизанских обычаях, — он уже твой помощник и не присядет, пока не поможет тебе, пока не накормит, не отведет, куда надо, не сделает всего, что подсказывает общее желание бить врага.
Пока я говорил с Попудренко, Кругленко успел оборудовать штаб. Это была первая точка, связанная с рождением нашего отряда. Выглядела она так — вырыли квадратную канаву, траншею, в которую мы опускали ноги, когда садились, а сам квадрат земли становился для нас столом, на нем расстилали карты, раскладывали карандаши, компас и другие предметы., нужные для работы, а в обеденный час его покрывали плащ-палаткой вместо скатерти — ставь котелки, приятного аппетита.
А вокруг — сосны. Высокие — иной раз облака цеплялись за них. Елинский лес, в котором размещалось соединение Попудренко, славится соснами… Я до сих пор помню три сосны вокруг нашего «стола», каждый сучок нарисовал бы, даже не умея рисовать. Все сосны в лесу если не одинаковые, то вроде похожие, а наши словно бы выделялись, узнавались издалека.
За этим «столом» Попудренко провел в тылу врага первое совещание штаба нашего будущего отряда. Мы узнали, какие немецкие гарнизоны и станы полиции есть поблизости. Особо остановился он на гнезде предателя Пахома — тогда это имя прозвучало для нас впервые. Пахом со своей бандой обосновался в большом селе Чуровичи, километрах в тридцати от нас. Банда его насчитывала человек триста и уже немало вреда причинила партизанам. Выслеживала мелкие группы, нападала на них. Помогала гитлеровцам отправлять местное население в Германию на работы — иными словами, гнала земляков на фашистскую каторгу. А Пахом имел за это от гитлеровцев награды.
— А кто такой Пахом? — спросил Негреев.
Попудренко ответил, что это бывший офицер царской армии, штабс-капитан. В наше время втерся в доверие к простодушным людям и возглавлял военизированную пожарно-сторожевую охрану на одном из киевских заводов. Когда на этом заводе случилась крупная кража, судебные органы установили, что начальник охраны сам организовал ее. Пахом был осужден на пять лет и сидел в киевской тюрьме, из которой его вытащили… немцы. Он сразу изъявил желание служить им и был отправлен в Германию, где учился бороться с партизанами, овладевал наукой подчинения нашего населения немецкому порядку.
Вот теперь он и применял свои знания в Чуровичах и вокруг.
Оккупанты вызывали такую ненависть у мирных жителей, что десятки людей из каждого села рвались в партизаны.
— Не было такого случая у нас, чтобы после налета на какую-либо вражескую точку мы не приводили в лес новых бойцов из местных жителей, — сказал Попудренко, и я понял это как совет побыстрее начинать действия. — Без них и расти нечему.
Мы не стали тянуть. Первую вылазку запланировали на вечер следующего дня. Николай Никитович выделил в наш отряд из других отрядов своего соединения тридцать человек. Я хотел бы их всех назвать, но понимаю, что невозможно превращать даже рукописную книгу в длинный поименный список. Если я начну писать по такому правилу, то никогда не закончу. Поэтому назову лишь двух.
Армейский командир Андрей Дунаев. Он был переброшен на самолете через линию фронта для выполнения особого задания, но приземлился неудачно. Фашисты выследили его. На месте приземления парашютисты Дунаева ввязались в жестокий бой, в котором погибла добрая половина группы, в том числе радист с рацией. Но с остальными Дунаев вырвался из кольца, а через два-три дня встретил партизан и примкнул к ним. Это был смелый человек.
А вот еще — парень, даже не парень, а паренек, несмотря на свой заметный рост, Исаак Сосновский, сын сапожника из городка Короп. Гитлеровцы убили всю его семью: деда, мать, отца, двух сестер. Расправились с ними как с евреями. Истребили. Когда произошла эта расправа, Исаака не было дома, он работал пастухом в соседнем селе и пас в поле скот. Встретили его женщины, которые специально вышли за окраину города, похожего на большое село, рассказали парню обо всем, посочувствовали, предупредили: «Беги! Они и тебя убьют!»
Парню шел шестнадцатый год, и, конечно, он горько и беспомощно расплакался: не всякий взрослый удержит себя в руках в такую минуту, при таком-то рассказе о судьбе родных. А потом он взял у женщин припасенные ими продукты на первый случай, но пошел не куда глаза глядят, а в лес, искать партизан. И когда через много дней одинокого бродяжничанья нашел их и его хотели определить в обоз, сдавил дрожащие кулаки: «Я не спасаться к вам пришел. Хочу бить фашистов, дайте автомат!» Настоял, чтобы послали в отряд. К нам он пришел уже возмужавшим, перенесшим первое ранение, закаленным партизаном.
Вот вспомнил Сосновского и не могу не сказать еще об одном молодом человеке из числа тех же наших первых бойцов — Коле Черныше. Он пришел в партизанский отряд, когда узнал, что его отец погиб на фронте в бою за родную землю. У нас, в новом отряде, он скоро стал отважным разведчиком. Через несколько дней после первого боя Негреев создал комсомольскую организацию, и секретарем ее был избран Николай Черныш.
Так вот, с такими людьми наш малочисленный отряд под командованием начальника штаба Кругленко вечером 15 марта пошел на первую свою операцию в село Безугловка. Задание — разгромить стан полиции, отобрать у полицаев лошадей для отряда, захватить повозки и привезти на них продовольствие, с которым в лагере Попудренко было вовсе не так уж хорошо, как нам показалось во время недавнего, можно сказать праздничного, ужина, приготовленного по случаю нашего прилета из Москвы. Утром брат Иван докладывал, что все удалось: и полицаев разогнали — трех, схвативших оружие для сопротивления, убили, — и лошадей привели, и продовольствие привезли в двух повозках — первый транспорт отряда, — а главное, шесть молодых крестьян пришли в отряд добровольцами.
С этого дня бойцы отряда, который пока просто называли отрядом Салая, чуть ли не каждый вечер предпринимали вылазки в окрестные села, побывали в Тихоновичах, Бречи, Турье, Ивановке. Из Тихоновичей комиссар Негреев привел с собой семнадцать добровольцев. Был в группе командир Советской Армии Иван Куприков. В свое время его принесли с поля крестьянки. Подобрали почти мертвого, истекающего кровью, без сознания, насчитали у него двадцать одну рану. Ко времени появления Негреева в селе он уже мог ходить и попросился в партизаны. Была и молодежь…
Отряд наш креп, и через несколько дней мы отважились сделать налет на большое село Охрамеевичи — в двадцати пяти километрах рт нашего лагеря. Разведчики доложили, что там, в стане полиции, не меньше тридцати человек. Повел группу Кочубей. Ворвались в Охрамеевичи ночью, разгромили полицию, захватили лошадей, оружие, повозки, на рассвете провели в селе митинг — сошлось больше трехсот человек. С благодарностью крестьяне слушали сводку Совинформбюро, рассказ о положении на фронтах. А когда группа стала уходить, к ней присоединилось двадцать местных жителей.
Да, десятки людей пополняли партизанские ряды в каждом селе, но не надо думать, что все было просто и легко. С одной стороны, нарастало народное сопротивление, с другой — нарастала и ярость фашистов. Они зверствовали, никого и ничего не щадили. Из села Прибынь в наш отряд пришел Василий Иванович Погуляй. Дома остались мать, жена, трое детей: семья из пяти человек. На следующий день оккупанты прислали солдат за семьей — для расправы, но сельчане успели предупредить, и семья скрылась в лесу. А дом сожгли дотла. Многие семьи не успевали спрятаться… И все равно людей, рвущихся в партизанский лес, вражеские зверства не могли остановить. Останавливала кого-то трусость. Ну так для нее много не надо. А если уж кто отваживался идти в лес, в партизаны, то понимал — лес поможет победе и спасению тех, кто приблизит и встретит ее, победу.
И. Е. Мейтин
Серьезную операцию провел мой зампохоз Мейтин, которого друзья звали почему-то майором. Разведав, что недалеко от нас в одном из сел расположено немецкое хозяйство, «майор» собрал двадцать человек, вооруженных автоматами, взял пулемет и поехал добывать продовольствие для нашего отряда. Это была его прямая забота… По дороге, в Тихоновичах, он прихватил двух провожатых, которые знали, где это хозяйство, куда бегут все попадавшиеся на пути тропинки, и изъявили не только согласие, но и желание проводить партизан.
Налет на хозяйство был внезапным и успешным. Немцы, не ожидавшие такой дерзости от партизан, поплатились: двенадцать подвод продовольствия увез «майор», двадцать лошадей угнал. Его встретили крестьяне и сказали, что мадьярский разъезд, поспешно мобилизованный оккупантами, засел на обратном пути, чтобы перехватить партизан.
— Сколько их, этих мадьяр? — спросил «майор».
— Не меньше тридцати.
Другой дороги не было, время неоценимо, и «майор» решил пройти засаду с боем. Спрятав подводы и лошадей в кустарниках, он встретился с врагом «налегке», хорошо вооруженной кавалерийской группой, разбил мадьяр и благополучно продолжал двигаться дальше со всеми своими трофеями. Но скоро на дороге был замечен второй встречный разъезд — «майор» двигался с разведкой. Снова укрыли обоз, залегли и, подпустив карателей на малое расстояние, неожиданно открыли по ним сильный огонь. Четверо вражеских конников были убиты, остальные повернули и ускакали. А «майор» не только вернулся в лагерь с богатой добычей, но и привел с собой двадцать два добровольца, желавших стать партизанами.
22 марта, через неделю после первой вылазки, общее собрание отряда насчитало сто сорок пять человек. Все они были уже по возможности проверены нами, со всеми мы познакомились и поговорили. Сто сорок пять вооруженных бойцов — это сила. Обменявшись мнениями, мы решили назвать отряд именем Щорса. А затем партизаны нового отряда дали присягу. Мне кажется интересным привести ее текст, вот он:
Присяга партизана
Я, красный партизан, даю клятву перед Родиной и своими боевыми товарищами, что буду смелым, дисциплинированным, решительным и беспощадным в боях с врагами.
Я клянусь, что никогда не выдам своего отряда, своих командиров, комиссаров и товарищей партизан, всегда буду хранить партизанскую тайну, если бы это даже стоило мне жизни.
Я буду до конца верен своей Родине и партии.
Если же я нарушу эту священную клятву, пусть меня постигнет суровая партизанская кара.
Глава пятая
А не покажется ли кому-нибудь неправдоподобным, что мы за неделю собрали из жителей соседних с Елинским лесом сел, главным образом из молодых жителей, такой большой отряд? Я сам себе задаю этот вопрос и отвечаю: нет, это не было легкомыслием.
Шел сорок третий год. Зима и весна его были временем, когда менялись не только погода в природе, но и погода войны, если можно так сказать. Отзвучали строгие голоса горестных сообщений, пришла радость многих побед и освобождения. Захватчики утаивали от населения вести о разгромах их войск, о поражениях там и тут, но эти радостные вести кочевали по городам и селам, куда еще не доносились гулы фронтовой артиллерии. Их, эти вести, передавали живые голоса. Иногда шепотом, но передавали. И, конечно, люди все нетерпеливей ждали желанного часа, и не только ждали, но и сами стремились помочь ему, этому часу, подойти к их порогу.
Да, нетрудно понять: своим участием в общей борьбе люди приближали победу. Чувство долга, воспитанное в них смолоду, с пионерских и комсомольских лет, заставляло брать в руки оружие.
Приходили к нам главным образом, повторяю, молодые люди, почти подростки или только что перешагнувшие эту раннюю и обычно безмятежно-светлую пору человеческой жизни, полную самых невероятных, иногда фантастических мечтаний и загадываний наперед.
Почему такое юное пополнение? Отцы — на фронте, старшие братья — тоже, значит, в селах — старики, нередко едва живые, да вот она — молодежь, которая и шла к нам. Ребята шестнадцати-семнадцати лет становились бойцами. Их угоняли в Германию, на рабскую жизнь, а они убегали. Искали партизан. И находили. Не упускали случая попасть в партизанский отряд.
В селе Перелюб после налета на полицейский стан наш комиссар Негреев зашел напиться в хату, где, как тут же выяснилось, жила семья фронтовика. Старший сын этого фронтовика, Гриша, увидев Негреева, сказал матери, что уходит с партизанами, стал упрашивать Негреева взять его. Комиссар посмотрел на печальную женщину — вот-вот слезы брызнут из глаз, — спросил ее, сколько лет сыну, и опять подумал, сейчас расплачется, ведь не на рыбалку отпустить надо, а она передохнула и ответила просто:
— Большой уже. Пусть идет и воюет, как отец. А мы уж с Володей здесь перебьемся.
Но не тут-то было! Володя заявил, что он всего на два года младше Гриши, которому восемнадцать, и тоже стал умолять и настаивать, чтобы мать и его отпустила в партизаны. Все равно не удержать дома! Уйдет! Только будет тогда искать, где они, партизаны, а сейчас вот они, здесь, вот их командир… Теперь-то мать расплакалась, но, вытерев слезы, искренне принялась просить Негреева, чтобы партизаны обоих ее сыновей взяли в свой отряд. И Митрофан Гаврилович согласился…
К нам приходили сельские парнишки, чаще всего ни разу не державшие в руках оружия. Возникла неожиданная первая задача — научить молодых добровольцев обращаться с оружием! Хорошо, что у нас нашлось, кому это делать.
Бывший командир отделения Матвей Иванченко водил молодых партизан на стрельбище. Константин Косенко, лейтенант, пришедший в наш отряд, знал отлично все виды боевого оружия. История Косенко проста. Выйдя из окружения, он трудился чернорабочим на железнодорожной станции в Щорсе. Главная задача была — укрыться от немцев. А у нас он снова взялся за оружие. Автомат, пулемет, противотанковое ружье — как мастерски стрелял из них лейтенант! В трудные минуты напряженных боев он не раз сам ложился за пулемет, который знал особенно хорошо, потому что перед войной окончил пулеметную школу.
То, что к нам приходило много молодежи, бодрило меня, вселяло веру в будущее отряда. И правда, многие из этих молодых людей стали потом партизанскими командирами. Но поначалу большинство просилось в разведку. Разведка, требующая смелости и ловкости, особенно конная разведка, тянула сельских парней, хотя вместо седел они пока использовали мешки с сеном и нередко вызывали у других партизан насмешки, «гарцуя» в таких «седлах». Однако через месяц-другой у разведчиков появились друзья-кузнецы в окрестных селах, которые изготовили им металлические седельные детали, деревянные с успехом мастерили сами партизаны. А скоро снаряжение пополнилось и настоящими седлами, «позаимствованными» у оккупантов.
Я сказал — молодежь приводило на партизанские тропы чувство долга. Но это не всё. Отличала нашу молодежь еще одна примета. Эти юноши сами увидели и узнали лицо врага. У них у всех, буквально у всех, был личный счет к врагу за его зверства и злодеяния на оккупированной территории, за гибель родных и близких, за отнятые надежды, за унижение человеческого достоинства, к чему так чувствительна молодость и чего она не забывает. Я слышал от них рассказы об их жизни, когда подходил и беседовал с новичками в свободные полчаса, где-нибудь на ходу или под сосной, во время короткой остановки…
Первое примечание
Ну, например? Хотя бы один пример! Пиши Михаил Гордеевич вторую книгу, он, конечно, знал бы уже и учитывал, что в таких случаях необходим пример — для выразительности, для памяти. Но он не дожил и до выхода первой. Рукопись перелистана не один раз. Желто-серые ее листки ничего не прибавили. Нет в них такого примера.
Несправедливо! И даже горько…
Но ведь есть люди из соединения, которое в конце его рейдовых путей насчитывало более тысячи человек, есть же совет ветеранов, они должны помочь рождению книги своего командира. Не зря же он сидел ночами над этими листками, встречал за столом рассветы, и зимние, и летние…
Помогает Константин Михайлович Малов, один из руководителей совета ветеранов бывшего соединения. Конечно, есть живые люди, есть их адреса, почта. Конечно, нужно время, но тут уж ничего не поделаешь. Кроме того, люди заняты, работают в колхозах, в школах, в институтах, в милиции, в райкомах и выше, редко, кто на пенсии, ведь были молодыми, и сейчас еще не все дотянули до пенсионного возраста. Да и не каждый сумеет написать как надо. Но — терпенье и труд… Нужна привычка разбирать чужой почерк. Это ведь тоже не всегда радость!
Так или иначе, но в дополнение к командирским строкам появляются рассказы бывших молодых партизан.
Рассказ Владимира Андриенко
— Я из села Охрамеевичи Корюковского района. Хотя большая наша семья жила непросто, я хорошо учился в средней школе, в родном селе, и дальнейшие планы были — поступить на физико-математический факультет Днепропетровского университета. Но летом началась война, а скоро в Охрамеевичи пришли немцы.
Я любил свое село. Вокруг него, куда ни посмотришь, синеет лес. С лесом, рекой связано мое детство. Самое памятное: первый снег, зимние вьюги, половодье, первые цветы на лугах, хождение в лес за березовым соком, за ягодами, за грибами… Еще книги. Пристрастился к ним рано. В начальной школе читал Гоголя, Тургенева, Лескова, Сенкевича, Шевченко — все, что было у отца, который тоже много читал, хотя мало учился. Я мечтал, как буду щедро пополнять нашу библиотеку…
С приходом немцев все оборвалось.
Не сразу они пришли. Сначала через село потянулись беженцы, стада коров, овец. Во всех сельских дворах и огородах люди прятали в землю хлеб, одежду, рыли щели. Вечерами сидят возле домов старики, женщины, дети, семьи и соседи, тихо разговаривают, все стараются быть вместе. И даже ночью сидят так. Боятся расходиться…
А когда в село вступили немцы в своих касках и с автоматами на груди — на улице не было ни души.
Едва прошел фронт, стихли отголоски стрельбы — родился слух, что в Елинском лесу есть партизаны. Мы, ребята, только об этом и говорим, ищем вокруг, в полях, оружие и прячем, если находим, стараясь не попадаться на глаза полицейским. Они хозяйничают, распоряжаются всем — колхозным и государственным добром, землей и лесом, а перед немцами — сразу гнутся до земли.
Слух о партизанах превратился в действительность, когда всю зимнюю ночь через село шли бойцы отряда Сидора Ковпака. Ушел с ковпаковцами и мой бывший учитель украинского языка и литературы, дорогой мне человек Иван Лещинец. А мы, ребята, совершенно не были готовы к этому, испугались за семьи, которых, конечно, не помилуют ни гитлеровцы, ни полицаи… Мы остались в селе. Ждать пришлось до весны сорок третьего года, когда появились другие партизаны и перебили полицию. Охрамеевичи словно проснулись. Все забурлило, забыто и уже почти неправдоподобно! На окраине проходил митинг — сгрудилось, наверно, полсела. А мы, ребята, начали собираться…
Провожали меня мать, отец, сестра. Все плакали. Я надел черную железнодорожную шинель, подаренную мне как-то мужем сестры, подпоясался широким ремнем, сжимал в кармане ржавую гранату-лимонку и держался сурово. Условились, будто я ушел проводить сестру отца (в сорока километрах она жила), больше ничего не придумали. Это — для полицаев. Дождались партизан за селом — пять парней нас было. Подскакивает к нам командир, в короткой кожаной тужурке, в черной кубанке, с биноклем на груди. Это был, как потом выяснилось, Петр Сергеевич Коротченко, а партизаны называли его Кочубей.
— Кто такие? — спрашивает. — Куда идете?
— Охрамеевичские… К вам, в лес.
— А что же вид у вас такой не боевой?
Так и хотелось его спросить: разве? А черная шинель с широким ремнем? Лимонку выдернуть из кармана, показать, что ли? Но он спрашивает:
— Комсомольцы?
— Да.
— А комсомольские билеты с вами?
— Да.
— Тогда садись в подводу, поехали.
Вот так и попал я в лес. Ждал, будут трещать партизанские костры, освещая шумный лагерь, а оказалось — темнота, дверь в землянку завешана плащ-палаткой, а землянка — как яма на пять шагов, что в ширину, что в длину; хоть и жарко натоплено, а тянет на воздух, где холодно и мокро. В общем, сразу понял, партизанская жизнь — это не романтика, а испытания. Через пять дней был уже в бою…
А через месяц, как сообразительный боец, не раз доказавший свою храбрость, Владимир Андриенко был зачислен в спецподразделение минеров, уверенно овладел сложным делом подрывника, стал командиром диверсионно-подрывной группы и нанес врагу серьезный урон на железных дорогах. Взрывы мин, заложенных его руками под рельсы, сбросили с них не один эшелон, везущий на фронт солдат и боевую технику. Из леса Владимир Андриенко вышел с двумя орденами Красной Звезды и многими медалями, с сознанием еще большего родства с землей, которую так любит.
Рассказ Ивана Корецкого
— А я из села Турья Щорского района… До войны ходил в школу в родном селе, окончил шесть классов, но, когда немцы пришли, в нашей школе разместился штаб жандармов и полицейских, она стала местом пыток, издевательств над мирными жителями…
Все перевернулось. Теперь за то, чем я гордился, стали убивать. Мужа сестры Веры, Андрея Быховца, арестовали в оккупированном Чернигове за то, что он был членом партии, и расстреляли. Потом забрали из дома Веру с двумя малолетками. Явился в дом полицейский, знакомый человек — мы рядом жили и в одной школе учились, — но теперь молчи перед ним, приказывает Вере:
— Собирайся сама и детей с собой бери!
Мать и Вера — на колени, стали умолять, чтобы он позволил детей оставить, младшему ведь четыре года. А он закричал, мол, хотите, чтобы они выросли и отомстили мне?
Веру расстреляли с детьми. Полицаи, которые их расстреливали, потом долго водку пили. Приходили в себя. А едва пришли, схватили и расстреляли мужа другой моей сестры, Марии, — Петра Мельника. За связь с партизанами. Посчитайте. Из одной нашей семьи расстреляли пять человек… Я говорить не могу. Если у Петра была связь с партизанами, почему меня не отправили в лес? Я хотел всех фашистов задушить своими руками. А мать говорит: ты же мал еще, пятнадцати нет… Но я знал свою дорогу, только надо было найти ее… Стал разведывать, прощупывать и нашел! А в отряде пришлось, конечно, прибавить годок, чтобы взяли.
Ваню Корецкого считали сыном отряда — в армии таких подростков зачисляли в сыновья полков. Выдали Ване карабин. В одном из первых боев в ложе карабина попала разрывная вражеская пуля и раздробила его в щепы. Это спасло Ване жизнь. За мужество, проявленное в бою, командир отряда перед строем вручил Ивану автомат, перевел в подразделение автоматчиков. Иван гордился, ему казалось, что уж это самые большие его радость и гордость, но когда еще после нескольких боев автоматчика Ивана Корецкого на лесной лужайке приняли в комсомол, а речь при этом, рекомендуя его, держал комиссар отряда, член партии с девятнадцатого года, Иван почувствовал себя взрослее и вправе еще больше гордиться. Вскоре под огнем он снял с убитого вражеского офицера и принес в штаб отряда сумку с важными документами. И все же, можно сказать, оставался мальчишкой. В одном бою чуть не заплакал, когда патроны у него кончились раньше, чем кончился бой: все стреляли, а его автомат молчал! С этих пор в каждый бой Иван брал с собой побольше патронов, за счет еды, чтобы и самому хватило, и с товарищами можно было поделиться. Патроны будут — будет и еда…
Рассказ Степана Бокача
— Прошло более года моей жизни в оккупированном селе Хрещатое. В этом селе я когда-то кончил школу-четырехлетку, отсюда бегал в семилетку в соседнее село Чемер — оно рядом, все хрещатовские мальчишки и девчонки переходили в чемерскую семилетку. После я учился в техникуме механизации сельского хозяйства и получил квалификацию техника-механика. Перед войной жил в Чернигове и работал бригадиром автоколонны, обслуживающей колхозы. Успел поступить в Московский автомобильно-дорожный институт. В родное село Хрещатое я приехал на каникулы, здесь меня война и застала…
Оккупанты сохранили колхоз, только теперь называли его общиной, а звено — десятихаткой. В такой десятихатке работал и я — ходил за плугом, косил траву, заготовлял дрова. Работа нелегкая и неинтересная, как будто на сто лет назад нас отбросили, но куда денешься? Раз назначили меня возить дрова из Горбачевского лесничества. Еду из Хрещатого в Чемер, солнце светит, снега уже нет, вся дорога в мерзлых кочках, коня рысью не пустишь, да и конь такой старый, что и по хорошей дороге не побежит, трясемся шагом.
Подъезжаю к конторе общины, на крыльце — немецкий комендант в офицерской форме, с автоматом на груди, еще издали слышу — кричит что-то непонятное. Переводчик держит шапку в руках, тянется, орет в тон ему:
— Лодырь, русская свинья, встать!
А комендант кинулся с крыльца к моей телеге. Автоматом замахнулся. Я съежился, почуяв недоброе, втянул голову в драный воротник кожуха. А он меня прикладом по голове, по шее — раз, раз! Переводчик во все горло:
— Встать, встать!
А не получается «встать», комендант бьет неизвестно за что, все сильней и сильней, кровь по лицу… А он командует, указывая рукой вдоль улицы: «Вег! Вег! Шнель!» Значит, надо быстрей туда ехать, где ждали уже другие подводы, многие возчики на них — тоже побитые, это комендант зло срывал за то, что его на морозе ждать заставили, пока подводы соберутся… А какой там мороз в весеннее утро? Значит, любой из них, когда захочет, тогда и может угощать тебя прикладом? И где? У тебя дома, в родных краях! Отсюда, из Хрещатого, мой отец ушел добровольцем в Красную Армию сразу после революции. Дрался с оружием в руках за новую власть и жизнь. Потом работал до конца дней в колхозе, на старости лет — пасечником. А теперь мне пришла пора заменить его.
Когда комендант избил меня, иные возчики шептали, торопясь уехать: «Еще спасибо скажи, что так обошлось. Мог и пристрелить!» В самом деле — спасибо говорить? За что? Такая и будет жизнь: либо гнись до земли перед новыми хозяевами, как холуй, либо… До войны мы почти забыли это слово за ненадобностью, а теперь всех немецких угодников окрестили холуями.
В то утро я, пожалуй, окончательно понял, что нет мне другой дороги, как только в партизаны, хотя от службы в армии меня и освободили по состоянию здоровья. Но ведь для партизан нет призывной комиссии. Хочешь драться с врагом, можешь держать в руках винтовку — иди.
Степану Бокачу было за двадцать пять. Не подросток, но и не старик. Он стал в отряде ординарцем комиссара, а недуга его никто не замечал… до августовской бомбежки одного из партизанских лагерей. Пикировали «юнкерсы», нащупывая цель, свистели бомбы, слышались команды: «Не подниматься», «Ложись».
Лошади, связанные между собой поводьями от уздечек, шарахались, а то и рвались из стороны в сторону. Сейчас оторвутся от привязи и убегут неизвестно куда! Командир отряда увидел, что какой-то партизан бросился к лошадям. Бежал неловко. Засвистела бомба, он упал. На него чуть не наткнулась пара оторвавшихся лошадей: одна храпела, другая испуганно ржала. В кустах старой лещины лошади зацепились уздечками за дерево, похрапывание перешло просто в стон. Партизан, ковыляя, поскакал за ними и увидел, что голова одной лошади где-то под ее же передней ногой, повод уздечки обмотал шею, а другая лошадь зацепила его и тянула к земле, душила соседку. Партизан выхватил нож, перерезал повод, и спасенная лошадь со свистом облегченно вздохнула.
Гул «юнкерса» удалялся.
Командир похвалил партизана и спросил, что у него с ногами, вспомнив, как неуклюже он прыгал на бегу. И только тут узнал, что у Степана плоскостопие, из-за которого его и не взяли в армию…
Три рассказа — три судьбы. Список можно продолжить. Молодежь действительно рвалась в разведку. Разведчиками стали Николай Штырхунов, Борис Бирилло, Василий Близнюк, Михаил Науменко… Все действовали смело, даже рискованно, но заметно выделялись в разведке Николай Кухоренко из Ивановки, Федор Калашников из Лемешовки, Михаил Осадчий из Дубровки, который сначала был связным Злынковского отряда, затем ездовым пулеметной тачанки, а вскоре стал командиром разведчиков. Разведчика Николая Кошеля из Тихоновичей отличала особая любовь к ручному пулемету. Николай овладел им в совершенстве. За свои отважные дела разведчик-пулеметчик был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени.
А Степан Надточий из тех же Тихоновичей соблазнился работой подрывника, не терпящей никаких ошибок. Не одну мину он поставил под рельсы на железных дорогах Черниговщины и Полтавщины…
Вот несколько молодых из тех, что пришли весной сорок третьего года в лес, начавший заполняться запахами оживающей зелени и робким теплом. Пришли не зря. Именно эта молодежь и вселяла в командира бодрость. Именно она и позволила Михаилу Гордеевичу заметить в рукописи:
Образовалась странная на первый взгляд, но неизбежная, поскольку сама жизнь ее образовала, особенность нашего отряда. Организовали его и командовали им ветераны партии и партизанского движения, помнившие не по чужим рассказам, а по личным встречам Щорса и Боженко, а личный состав отряда — это молодые, необстрелянные воины. Вот так. Мы соединялись как бы через поколение, ушедшее на фронт. Да, в партизанском отряде встретились, можно сказать, деды и внуки. И не где-нибудь, а в боях доказали стойкость и силу нашего родства.
Никто не сомневался, что так оно и получится. Но многое в те дни меня не только радовало, но и волновало. Наш отряд становился реальностью, судьбы отдельных людей сливались в одну, общую для всех судьбу отряда. Какой-то она будет?
Глава шестая
Среди законов партизанской жизни важнее многих других такой: командир должен все время заглядывать вперед, в завтрашний день. Чем чаще ты это делаешь, тем меньше досадных неожиданностей подкарауливает тебя. Досадных? Выскочило неточное слово, слишком легкое! Неожиданности — это бои, к которым ты и твои люди не готовы, а значит, и жертвы…
Помня, что наш отряд должен быть рейдовым и, по замыслу УШПД, ему предстоит переправиться на правый берег Днепра, дальше двигаться вслед за Федоровым, а если удастся его догнать, то и вместе с ним, я стал думать о том, что нам нужно быстрее перебраться через реку Снов, благо она еще закрыта льдом. Пока это легче, чем через две недели, когда лед потрескается, сойдет с места и вода понесет его. В половодье Снов разливается очень широко, на восемь — десять километров, мне не надо было об этом расспрашивать, я сам это видел не раз в детстве и в юности. Река, в сущности речушка, затопляет луга и рощи, становится преградой, которая может оказаться для нас, лишенных плавучих средств, непреодолимой. И разлив держится долго. Значит, надо спешить.
Ну хорошо, а с какой силой я появлюсь на правом берегу Днепра, в глубине немецкого тыла? Людей хватало, оружия тоже. Было достаточно гранат, взрывчатки, других боеприпасов. Были лошади и повозки.
А люди? Готовы ли они к опасному рейду? Посоветовался с Негреевым и Кругленко, и комиссар вдруг рассердил меня вопросом:
— А как ты-то сам себя чувствуешь?
Хотя правый бок и нога еще болели и я не мог похвастаться тем, что хожу нормально, я скрипнул зубами и промолчал. Негреев же почувствовал, что задел меня за живое, и быстро перевел разговор на веселый лад. Когда «майор», принимавший участие в беседе, сказал, что его беспокоят весенние дороги, как бы не пришлось побросать повозки и взять груз на вьюки, Митрофан подмигнул:
— В случае чего возьмем на вьюки и командира. Сделаем спецносилки и привяжем их между двух лошадей.
А. М. Дунаев
Все засмеялись. Я вообразил себя болтающимся между лошадьми и тоже рассмеялся.
— Не беспокойтесь. Верхом как-нибудь удержусь!
Приняли решение — послать разведку во главе с Андреем Дунаевым на Снов и найти для отряда переправу. Вернувшись, Дунаев доложил, что переправляться лучше всего в селе Новые Боровичи, где есть мост, потому что лед уже слабый, однако захватчики держат там гарнизон, штаб их расположен в школе.
Предварительно надо было разбить этот гарнизон, а потом двигаться через реку. Так и решили и приготовились к этому. Кочубей отобрал полсотни лучших партизан для основного удара, а дополнительную группу, человек в двадцать, возглавили Андрей Дунаев и Александр Каменский. Они должны были ночью по льду пробраться в центр села и поднять там шум и панику — выстрелами и взрывами гранат, отвлекая немцев, а тогда уж, едва прояснится, как пошло дело, Кочубей нанесет основной удар через мост.
И еще раз я убедился в том, что немалую ставку надо делать на неожиданность даже в сверхтщательно разработанных планах, бой без этого не бывает. Можно сказать, что ты проиграл войну, как только забыл, что у противника есть голова и руки. А противника, конечно, забеспокоили частые в последние дни удары партизан из Елинского леса…
— Когда мы подошли к реке, к мосту, — рассказывал на другой день Кочубей, — оказалось, что никакого моста уже нет. Он разобран. Значит, ребята могут ворваться в село, если перейдут Снов по льду, а мы отрезаны… и не сможем их поддержать! Что делать?
Каменский рассказывал:
— Ступили мы на лед и увидели, что он слабый. У берегов была вода, с обеих сторон. Хорошо, что мы заранее прихватили в хуторе Михалькове две доски и длинную жердь. По доскам перешли с берега на лед, а Потом со льда на берег. Я следил, как переправляются бойцы, и тут лед проломился — как раз подо мной! Я окунулся. Меня схватил за руку молодой партизан Кошель, но съехал по льду и окунулся вместе со мной. Дунаев не растерялся, успел протянуть нам конец длинной жерди, и нас вытащили из воды. Одежда быстро обмерзла, и мы побежали. К немецкому штабу… Согрелись на ходу. Нас уже ждал проводник, провел огородами всю группу. Для первых бросков у нас были гранаты. Немцы, полураздетые, начали выпрыгивать из школы, мы открыли огонь из автоматов. Ждем, вот сейчас вступит в бой Кочубей, а его все нет. Наконец стали приближаться автоматные очереди и его бойцов…
— Как же вы переправились? — спросил я Кочубея. — Без моста?
— Я себе все губы искусал, как мальчишка, думая, что не сумею поддержать ребят, — улыбаясь, сказал Кочубей, — потом сообразил: ведь прогоны от моста остались, целы, вот они, стоят, — и велел найти две-три доски.
Их нашли на берегу, из-под земли торчали, случайно были засыпаны землей — как раз три штуки. Передвигая эти доски по прогонам, вся полсотня и перешла по ним реку Снов.
Гарнизон в Новых Боровичах был разгромлен полностью. Захватили оружие и боеприпасы, лошадей, на них и переправили что смогли на свою сторону. А вот захваченную там пушку пришлось взорвать. И бочку спирта вылили (она тоже захвачена была). Очень жалел об этом трофее «майор».
Втроем — я, Негреев и Кругленко — обсудили результаты удара и решили восстановить мост перед переправой отряда. Выбрали и назначили день: 26 марта.
Не надо было предупреждать, в какой строгой тайне мы обязаны хранить эту дату. Жизнь отряда зависела от соблюдения секретности замысла. Тем больше испугал меня Негреев, когда пришел на следующий день и весело сказал, что партбюро дает мне небольшую нагрузочку.
— Какую?
— Побеседовать с партизанами о батьке Боженко. Очень просят. Надо это сделать, пока мы не ушли. Торопят!
— Слушай, Митрофан, а почему торопят? Случайно это? Или слух пошел, что мы вот-вот уйдем? Может, люди уже и число знают?
Негреев тоже нахмурился, брови сошлись на переносице.
— Думаю, это случайно. Выступи, Миша, никому не показывая ничего. Но мы, конечно, поимеем в виду, что быть надо настороже.
Я кивнул: не мешает, мы в тылу врага.
Партизан собралось немало: одни сидели на бревнах, другие на пеньках, а третьи устроились просто на земле, поджав под себя ноги. Перед самым началом беседы пришел и Николай Никитович Попудренко, выслушал доклад о нашем мероприятии, похвалил: «Оце дуже гарно! Послухаем!»
А я еще не знал, с чего начать. С того, как немцы захватили мой родной город Новгород-Северский, который оборонял в то время единственный местный отряд Красной гвардии в составе двадцати пяти человек? Или с Брестского договора, заключенного в 1918 году? Рассказать об этом? Так, наверно, все это молодежь знает из школьных учебников.
И сам собой родился и сложился рассказ о первой встрече с Боженко. Об этом нигде еще не написано…
После захвата Новгород-Северского немцами я на лодке переправился через Десну и решил идти лесами к Брянску с твердой целью: хоть до Москвы дойду, пока не встречу кого-нибудь из ЦК КП (б) У и не услышу, как жить и действовать дальше, как бороться с врагом.
До Брянска я, конечно, не пешком шел, а добрался уже на поезде и тут, на станции, встретил старого товарища и даже тезку своего — Михаила Бышко.
— Куда и зачем? — спросил он.
— Да я и сам не знаю!
Он засмеялся, а я рассердился:
— Чего ты ржешь? Ищу, кто научит, как жить!
— Пойдем со мной, — позвал он по-доброму.
— Куда?
— Сам увидишь и все поймешь. Пока не спрашивай. Молча мы вышли из вокзала и пошли по улице, пока не дошагали до большого дома, огороженного высокой стеной, как тюрьма.
— Это дом купца Могилевского, — сказал Михаил и постучал в железные ворота.
— Кто? — послышался голос со двора.
— Степан.
Я смотрю на него и думаю: чего он дурака валяет, какой он Степан, когда он — Михаил Бышко? Наверно, это был первый пароль, услышанный мной.
В одной из комнат большого дома два человека играли в шашки. Вскоре в эту же комнату вошел человек лет пятидесяти (для меня тогда — пожилой), среднего роста, в гимнастерке защитного цвета, в таких же брюках и в ботинках с обмотками. А во рту — большая трубка. Показал на меня пальцем, спросил играющих:
— Цэ що за парняга?
— Со Степаном пришел.
— Ага! — И он тут же подсел ко мне, нашедшему на столе газету и жадно читавшему ее, потому что я давно не видел никаких газет. — Издалека, товарищ?
— Из Новгород-Северского.
— Ну що там?
— Немцы.
— А ты сам их бачив?
— Как вас.
— Що ж ты там не остался?
— Зачем?
Собеседник мой так расхохотался, что застучал трубкой по ладони.
— Дывитесь, хлопцы! Он не знает, зачем! Ворога бить! Раз увидел, треба бить! У тебя есть товарищи?
Я рассказал ему об одном, который отправился в родное село поговорить с односельчанами и разведать, не поднимутся ли они бить немцев, о втором, готовом взять в руки винтовку, как только выйдет из больницы.
— Гарные у тебя товарищи! — похвалил мой собеседник, снова закуривая трубку. — Мы подружимся с тобой, если ты не пришел шпионить…
Я вспыхнул, вскочил, закричал:
— Я большевик!
— Ну, значит, должен все понять, а ты обижаешься! Я тоже большевик!
В это время вошел Миша Бышко и сказал моему собеседнику:
— А я вас ищу!
— На що я тоби?
— Познакомить со своим другом хочу — Салай Михаил.
— Да мы уже познакомились. Даже поругались! Боженко, Василий Назарович, — назвался он, протягивая мне руку, и добавил: — Кажут так: кто при первой встрече поругается, на всю жизнь станут друзьями… Да чи вы Михайлу покормили?
— Нет.
— Так що же вы! А ну!
Такова была моя первая встреча с Василием Назаровичем Боженко. Жил я тогда в Брянске десять дней и каждый день разговаривал с ним, но разговоры наши казались мне очень странными, он больше слушал и куда меньше рассказывал. Очень огорченный, поскольку Боженко мне нравился все сильнее, я признался Мише Бышко, что Василий Назарович, видно, так и не доверяет мне, молодому большевику. Тогда Миша воскликнул:
— Да от него никто не узнает больше, чем для дела нужно!
Подпольная работа и шесть лет каторги действительно научили Боженко умелой конспирации. Он объяснял мне потом: иначе и быть не может, ведь от этого зависят успех дела, жизнь товарищей. Нет, не жалкая подозрительность, а революционная бдительность всегда и во всем!
Дня за два до моего отъезда из Брянска Боженко сказал мне, что мы вместе поедем в Новгород-Северский уезд и начнем там работать подпольно, будем организовывать партизанские отряды. Я обрадовался тому, что услышал. И особенно тому, что вернусь в родной уезд. Опыта и даже представления о том, как организовывать партизанские отряды, у меня не было никакого, а вот элементы местничества были. Свой город, свой уезд!
В начале мая восемнадцатого года мы с Боженко приехали в Зерново под видом торговцев мануфактурой. Одним словом, спекулянтов. Еще в Брянске мне вручили паспорт на имя Ивана Васильевича Соколова. Сказать честно, даже к другому имени сразу привыкнуть трудно. А тут и фамилия. Но раз надо — значит, надо. Требовала конспирация. Василию Назаровичу я считался пасынком, приемным сыном. А вот батькой его звать начал легко и сразу! Может, потому, что и он меня не звал иначе, как сынок. Откровенно говоря, отсюда и пошло нарицательное имя Василия Назаровича — батька. Я был первым, а потом так начали его называть все в отряде…
Едва я кончил рассказ, как с партизанских застав в Елинском лесу послышалась стрельба. Разойтись не успели, взялись за оружие. Прискакал гонец и сообщил, что из Тихоновичей на наш лагерь крупными силами движутся захватчики.
Глава седьмая
Не хочу вызвать у нашей молодежи недоверие друг к другу. Да это и невозможно. Так нельзя ни воевать, ни работать. Нельзя жить.
Но в пору смертельных схваток с врагом для успеха необходимо в совершенстве владеть искусством конспирации, помня, что любое упущение, любой просчет или благодушие способны причинить непоправимый вред. Враг следит и слушает, держит в нашем расположении свои глаза и уши, и с этим глупо не считаться, а жестче говоря — преступно.
О дне переправы через Снов, намеченном нами, мы радировали, и радист, шифровавший этот текст, несмотря на предупреждение о необходимости строго соблюдать тайну, как видно, поделился тогда содержанием радиограммы еще с одним из радистов. Тот рассказал еще кому-то, что отряд имени Щорса 26 марта уходит за Снов. Иначе трудно объяснить, как немцы опередили нас и за сутки до этого срока бросили на лагерь хорошо вооруженный батальон с явной задачей — сорвать нашу переправу.
Больших сил сосредоточить и направить против партизан немцы сразу не смогли, но переправа, а значит, и весь замысел первого рейда оказались под угрозой. Едва мы отбили атаки захватчиков, как следует потрепав их, я послал разведку — искать другую переправу. Разведчики вернулись все мокрые — искупались в ледяной реке. Доложили: по Снову двинулся лед, переправа без саперных сооружений невозможна. И старых мостов нигде нет — от них остались жалкие следы… Значит сколько ни скрипи зубами, вывод один: мы вынуждены остаться в Елинском лесу до удобного случая.
И еще один нерешенный вопрос: кто же донес на нас оккупантам?
В Тихоновичах наша разведка задержала парня лет шестнадцати, щупленького, небольшого роста, с безобидным лицом. Звали его Павлик Т. (Не называю полностью фамилию, чтобы не смущать теперь потомков из того же рода.) Павлик Т. сказал, что несет письмо партизанам, и просил доставить его быстрее в штаб. Ну его и привели…
В ту же ночь на посту возле лесной дороги дежурный по лагерю обнаружил спящего партизана, часового. Устроили партизанский суд, приговорили к расстрелу — условно, дав возможность искупить вину в бою. Все равно некоторые качали головами, ворчали: слишком сурово! Обвинителем выступал Кругленко, а после суда совсем непроизвольно вспомнил и рассказал, что было с его отрядом в восемнадцатом году недалеко отсюда, в Андрейковичах, когда два часовых уснули близ села на посту.
Немцы, приблизившись к селу, схватили спящих часовых и тут же закололи. Без шума. Незаметно вошли в село и повели стрельбу. Партизаны выскакивали из хат и бросались в бой, драка шла врукопашную, но находившейся там роте из Андрейковичей пришлось отходить. Осталась в одном дворе группа партизан — двадцать четыре человека.
Окруженные плотным кольцом немцев, они дрались до последнего патрона — во дворе, в доме. Кончились патроны, и немцы схватили раненых в большинстве своем людей. Поглумились, поиздевались, а потом заставили рыть яму; когда яма была готова, всех связали одной веревкой, свалили на дно ямы и зарыли еще живыми.
Очень были злы на партизан немцы (у Андрейковичей после этой ночной схватки появилось восемьдесят семь немецких могил). Но до сих пор ни Иван, ни я, который знал об этой истории, не можем забыть двадцати четырех заживо погребенных ребят, наших товарищей. В их смерти виноваты уснувшие часовые, которые и сами погибли.
— Вот какие могут быть последствия, — сказал Иван.
И только он окончил рассказ, привели этого паренька — Павлика Т. В записке, адресованной партизанам, говорилось, что брат Павлика, секретарь бургомистра Турьи, благодарит партизанское начальство за активность и обещает скоро сам прийти в партизаны и привести с собой пять полицаев с оружием. Они-де нарочно пошли на службу к немцам, чтобы укрыться, вооружились и не дождутся часа, когда окажутся у своих. Примут ли их? Ну, конечно, они добудут ценные сведения…
Александр Каменский между тем доложил мне, что отец Т. — бывший кулак, два раза был в ссылке и сидел в тюрьме, это уже удалось выяснить в разговорах с нашими партизанами. Да, Александр не терял времени… Я поручил ему спокойно и подробно допросить паренька. И Павлик, почувствовав, что все складывается не так, как ему втолковывали, быстро сознался, что его послали сюда отец и брат по заданию немецкого бургомистра. Павлик должен был разведать силы партизан, заприметить их вооружение и обо всем рассказать, вернувшись с партизанским ответом на любезное письмо секретаря бургомистра.
Появилась неотложная задача — поймать и уничтожить подлецов, прислужников гестапо. Работали они в Турье, а жили рядышком, в селе Наумовка. Редко бывали дома, чаще — на службе, которую несли верой и правдой — истые предатели, зарабатывали себе хозяйскую милость. Пусть же получат партизанскую пулю, они ее заслужили.
Для приведения приговора в исполнение командование решило послать в Наумовку группу с Александром Каменским во главе. Он стал искать проводника и нашел в соединении еще одного парня с той же фамилией. Павлик при новом допросе показал, что и этот Т. — шпион, заранее засланный в партизанский лагерь. Тем не менее Каменский не отказался от мысли взять проводником Т., не только знавшего хату, где жили предатели, но и старавшегося отвести от себя подозрения усердием, исполнительностью.
Итак, Каменский повел группу в Наумовку, а мы решили, что должны усилить работу среди населения и, значит, уменьшить немецкое влияние на него, в том числе — на слабых духом, которые попадались под руку захватчикам и нередко служили им из чувства страха.
Наша работа среди населения? О, я сказал бы, что такая работа приносила не меньшую пользу, чем партизанский бой. Мы собирали крестьян — по этому случаю они охотно сходились в хатах, во дворах, на улице, если не мешали полицаи, и партизанские агитаторы читали им газеты, получаемые с Большой земли, сводки Совинформбюро, листовки. Что за листовки? Откуда мы их брали? Да уж печатали сами. У нас начал действовать свой печатный станок. Своя маленькая типография была, привезенная Негреевым с Большой земли. И в ней трудилась наборщица Клава Захарова, которая, бывало, с ног валится от усталости, а все равно: окликнешь — она оглядывается с улыбкой. Такой уж характер. Все любили ее, в шутку называли Клавой Рыжей, хотя была она белокурой. Так могут звать только среди близких друзей, пряча под грубоватым словом свою ласку. Чем ершистей слово, тем больше любовь. Клаву окружала всеобщая доброта.
Второе примечание
Клава Захарова… Как она стала партизанской наборщицей в лесной типографии? Откуда взялась? Из ближайшего районного городка? Или ее прислали с Большой земли, как говорили в то время?
Вот что удалось узнать о Клаве.
Когда началась война, ей едва исполнилось семнадцать, но она сразу же побежала в райком комсомола в Петрозаводске, где жила тогда семья стекольщика Захарова, и стала проситься на фронт радисткой. Что ж, что не умеет? Пусть пошлют на курсы. Но над ней посмеивались безобидно: подрасти, девочка! А она просто не вышла ростом. Может быть, от этого она была очень подвижной и пошла работать курьером сразу в два учреждения, пока не вынуждена была сесть на пароход и вместе с другими отправиться через Онежское озеро в эвакуацию. Проплыли мимо сказочных островков, которых много на озере… И вдруг над этими островками и над пароходом с женщинами и детьми повис немецкий самолет и начал бомбить и обстреливать. Он потопил пароход, которому нечем было защищаться. Клава и еще одна женщина долго бултыхались в ледяной воде озера, уцепившись за спасательный круг, брошенный с тонущего парохода капитаном. Судорога в ногах от холода и слезы на глазах от беззащитности, от обиды, что не могли помочь гибнущим людям… Почти в темноте появились спасательные катера и доставили всех уцелевших пассажиров парохода на Ивановские острова. На ноги Клава встала через месяц — в семье рыбака, где ее приютили, уговаривали остаться, но она жила одной мыслью — скорее на фронт, отомстить врагу за все, что видела, перенесла.
Менялись города и работа, которую Клава всегда выполняла как ударница. Наконец она оказалась в Саратове, где знающие люди подсказали, что надо найти УШПД, там могли подготовить к боевому делу и послать в партизанский отряд. Клаву отправили сначала в Москву, в типографскую школу. Проворные руки ее научились набирать шрифт, готовить для печати тексты. Самое трудное было — освоить украинский язык, чтобы набирать быстро и без ошибок. Но Клава и с этим справилась, тренируясь ночами, — практику проходила в типографии газеты «Известия». И вот — на плечах гимнастерка, в кармашке — удостоверение об окончании школы с отличными оценками. А еще через несколько дней — назначение В группу Салая. Кажется, всё…
Но шустрая Клава еще успела отличиться. По дороге на аэродром она заехала в партизанский госпиталь, чтобы познакомиться с партизанами, поговорить об их жизни, и попала в тот самый момент, когда одному раненому партизану срочно требовалось перелить кровь. Она предложила свою. Проверили — та же группа. И Клава отдала свою кровь незнакомому раненому…
Вот она какая — Клава Рыжая. Сколько листовок набрала она под открытым небом, когда от холодных букв, линеек, рамок мерзли, отнимались руки!
Михаил Гордеевич рассказывает дальше:
Как-то подошел я, посмотрел на работающую Клаву Рыжую — черные буквы так и мелькают, укладываясь в строки, а сама улыбается, — спрашиваю:
— Ты чего такая веселая, Клава?
— Так сводка хорошая! — ответила она и еще быстрее заработала.
Как же радовались этим сводкам в селах, за которые еще цеплялись оккупанты! Наши листовки появлялись в Охрамеевичах, Тихоновичах, Ивановке, в городе Щорсе. Это было для врага полной неожиданностью. В Щорсе наши разведчики расклеивали листовки и сводки Совинформбюро на домах самой полиции, бургомистра и даже гестапо. На видных, можно сказать, местах.
Немцы бесились, опасались подпольщиков, рыскали по городу, как ищейки, и всё напрасно! Мысли о партизанах им даже и в голову не приходили, а нам, конечно, помогало население. Много листовок и сводок наши разведчики давали в руки местным жителям, те расклеивали и распространяли их среди соседей, знакомых и желающих прочитать и передать товарищу, как говорили на фронте.
В этом смысле можно сказать, что весь наш народ был на фронте и противостоял врагу. Немцы могли уничтожить группу подпольщиков, партизан, но нельзя было уничтожить борющийся народ.
Однако в борьбе всегда выделяются герои, самоотверженные люди, имена и подвиги которых не забываются… Расскажу, например, о Екатерине Салощенко, простой крестьянке… В гражданскую, когда Боженко развернул работу по организации партизанских отрядов в нашем уезде, в Глухове начал действовать Михаил Бышко. Однажды чуть не попал в руки немцев. Задержали его на станции, стали расспрашивать, кто, откуда, вдруг подбегает молоденькая женщина и громко говорит:
— Я — Катя Салощенко, а это мой муж. Отпустите его!
Подходят еще две женщины, которых Бышко никогда в глаза не видел, и подтверждают: да, это муж Кати Салощенко, человек очень хороший, тихий, только сильно больной. Бедняга! И тоже стали просить немцев, чтобы отпустили его. Тем и кончилось, что немцы махнули рукой и отпустили «больного» беднягу. Катя привела его домой. И там оказался добрый молодец, на которого она показала Михаилу:
— Мой муж, знакомьтесь.
Через две-три минуты выяснилось, что не так-то просто, не случайно Катя вступилась за Михаила и вырвала его из немецких лап. Она узнала в нем партизана, которого видела в одном из ближайших сел. Поступок ее был вполне сознательным, и на риск она шла немалый: а вдруг немцы тоже узнали партизана и поэтому задержали?
Отправляя Михаила в Глухов, Боженко дал ему поручение — подобрать двух человек для работы на партизан. Михаил поговорил с молодыми супругами Салощенко, и они согласились. Сколько же они сделали потом для разведки и связи партизан, не скажешь в двух словах, не оценишь! В Киеве находилось бюро украинских большевиков, которое руководило всей работой по организации партизанских отрядов, готовящихся выступить против немецких оккупантов, против гайдамаков и прочих банд. Боженко посылал Катю Салощенко в Киев, она проходила чуть ли не через всю Украину, отыскивала нужных людей. Держала связь с новыми отрядами, пробиралась в Нежин и Таращу, приносила важные сведения, указания Всеукрревкома и деньги.
В июле таращанские партизаны подняли восстание против немцев и гайдамаков, но одни не могли долго продержаться, а час всеобщего наступления еще не пробил. Тогда Всеукрревком предложил Боженко перевести таращанцев в нейтральную зону, и для этого к ним была послана Екатерина Салощенко. Она передала приказ ревкома таращанцам и вместе с ними шла с боями до Путивля, где была тяжело ранена. Таращанцы не оставили там Катю, понесли с собой на руках.
Я тогда встречал их. Таращанцы все были оборванные, усталые и голодные, но радовались, что оторвались от немцев, вышли к своим, а Катя, увидев меня, расплакалась, ничего не говорила, лежала, вытирая слезы. Я думал, ну досталось женщине, можно и поплакать, да и все другие ее друзья так думали, улыбались, молчали, а она вытерла последние слезы и сказала:
— Ну, хлопцы, теперь считайте, что вы уже у батьки Боженко. Это Соколов, он вас доведет, если что… Я от радости плачу.
Немцы напали на след таращанцев и готовились нанести удар. Укрыли мы их в Шатрице и вооружили шатрицкий отряд, чтобы отбить немецкий налет, но оружия было мало. Это всех беспокоило.
Батька сказал: военревком знает, не может быть, чтобы не помог. Действительно, скоро на станцию в Зернове привезли много новых винтовок и пулеметов. Доставил их невысокий, коренастый человек, очень похожий внешне на мужичка-землепашца, только что оторвавшегося от сохи.
— Сколько оружия привезли? — спросил я о главном, что всех нас интересовало.
— Два вагона! — залихватски ответил молодой «мужичок».
И у меня вырвалось, как я ни старался удерживать солидность:
— Ого!
До этого оружие вагонами мы еще не получали.
— А как тебя зовут? — спросил я «мужичка», проникаясь к нему симпатией.
— Митрофан Негреев.
Позже батька говорил:
— Он нам еще привезет! — И похлопывал Негреева по плечу. — Храбрый хлопец!
Это было у батьки высшей похвалой.
От немцев таращанцы тогда отбились, из Зернова им привезли гимнастерки, ботинки, шинели — одели всех. Позже, создавая из нескольких партизанских отрядов полк для наступления на немцев, Василий Назарович Боженко включил в него таращанцев и назвал его Таращанским в память о первом крупном восстании против оккупантов в том году.
Мы с Негреевым, думая сейчас о тех днях, помнили, что и контрреволюция не спала. Однажды, когда из Зернова на двух подводах везли винтовки для вновь созданного отряда в Гутку-Ожинну, по дороге, в селе Жихове, на них напала банда контрреволюционеров, убила двух сопровождающих и захватила оружие. Входили в эту банду сын попа, почтовый чиновник да местные кулаки — два или три. Военревком тут же командировал меня в Жихово с таким документом:
Вследствие постановления Революционного комитета и ввиду неподчинения кулаков села Жихова Советской власти делегируется туда член Революционного комитета тов. Соколов Иван для ареста кулаков, сына священника, почтового чиновника и всех, противящихся Советской власти. На всех богачей наложить контрибуцию — 15 000 рублей и 20 пудов хлеба. Восстановить Советскую власть и организовать вокруг нее дружину из бедняков.
Все, как написано, так и было сделано. С врагами мы расправились безжалостно, с их пособниками — тем более. Этого требовала победа нашего народного дела.
Вот и сейчас для этой же цели послали в Наумовку отряд Каменского. Пока от него не было известий…
Глава восьмая
А через три дня в лагерь привезли отца и старшего сына Т., самого секретаря турьинского бургомистра, то есть — бывшего секретаря.
Каменский доложил: приблизились к Наумовке и остановились километрах в трех, на хуторе. Хозяйка Степанида и накормила, и рассказала, что Т. приходят в село только по воскресеньям, всю неделю — на своей службе, в Турье, и спят, где служат. Мы укрылись в сарае, решили ждать тех, за кем посланы, а Степанида каждый день бегала в Наумовку узнать, не пришли ли домой Т.
— Не боишься? — спросили ее.
— А, — ответила она, — семь бед, одна смерть!
На третий день она прибежала из Наумовки, торопясь и волнуясь, сообщила:
— Приехали Т.! Сама их видела. Сын остановился в своей хате.
Действовать надо было быстро, и Каменский спросил:
— Покажешь, где, Степанида? Пойдешь с нами?
Она подумала, махнула рукой:
— Пойду! Они поганые люди…
Ночью партизанская группа пробралась в село, разделилась и сразу ворвалась в дом старика и в дом его старшего сына. Схватили, связали, заткнули рты, чтобы не поднимали крика. Степанида показала дом самого Т., а дом сына — тот парень, которого взяли у Попудренко. Операция удалась, потому что была хорошо продумана. Две подводы ждали за селом, добежали до них, волоча пленных, и помчались в лагерь.
— Как же вы на две подводы уселись? — спросил я, помня, что группа была больше, чем могут взять две маленькие сельские повозки.
— Кто ехал, — ответил Александр Леонтьевич, — а кто бежал. А вскоре все уже не ехали, не бежали, а скакали. Посмотрите, Михаил Гордеевич, каких мы коней привели. Целый десяток!
— Откуда?
— Навстречу нам по дороге из Софиевки гнали лошадей полицаи. Ничего не сделаешь, пришлось с ними поздороваться.
Издали партизанская группа походила не на боевой отряд, а на мирных людей, с первыми лучами солнца движущихся на полевые работы. Видно, полицаи так и думали, что едут крестьяне, потому что подпустили их метров на пятьдесят. А «крестьяне» вели себя, как условились: задние потихоньку взяли автоматы, приготовились. Передние схватили оружие с повозок в последнюю минуту по сигналу Каменского — поднятая рука — и так ударили по застигнутым врасплох полицаям, что те не успели опомниться и ничего не смогли предпринять. Пятеро были убиты сразу, а трое бежали в суматохе в разные стороны, настегивая своих лошадей что есть силы.
Табун, конечно, оставили. Партизаны забрали его с собой.
Мрачный и злобный старик Т. не скрывал своего отношения к нам, но и не пытался выкручиваться, сказал со вздохом:
— Видно, не та карта пошла, проигрался я…
Сын его, подражая отцу, откровенно признавался в своих гнусных делах, но в глазах у обоих жила тоскливая надежда на то, что их помилуют за признание, даруют им жизнь. Особенно сын старался. Он первым заявил нам, что немцы готовят большое наступление на партизан, скапливая для этого силы в Турье, Холмах и окрестных селах. Сюда стягивается карательный корпус, силы полиции. Наступление намечено на конец апреля, когда Снов будет еще в разливе.
Ну что ж, лучшего времени для удара по отрядам, базирующимся на Елинский лес, не придумать. За партизанской спиной — широкая вода, можно вести бой на уничтожение.
Дальнейшие допросы предателей выявили, что в соединении Попудренко есть еще два шпиона, засланных с помощью старика Т., и еще два есть среди местных жителей в Тихоновичах и Ивановке, они дают немцам сведения о партизанах. Начали искать гадов. Но они сами открылись…
Ночью на одном из постов соединения Попудренко раздался выстрел. Когда прибежали туда с заставы, то увидели лишь одного часового, он лежал со смертельной раной и сдавленно стонал, а второго на месте не было. Раненого отнесли на заставу, он заговорил после глотка воды…
— Простите меня. — Это были первые его слова. — Я умру, так хоть напоследок правду скажу.
И он, и второй часовой — оба были шпионами, немцы их запугали, а они поддались. Тот, второй, едва оказались на посту вдвоем, предложил завтра же бежать из отряда, но перед этим убить Попудренко, чтобы было с чем явиться к немцам, чем оправдать себя. Первый не согласился. Пока они еще ничего не сделали плохого, лучше во всем сознаться и воевать честно, партизаны могут их простить.
— «Треба выкурить по цигарке и помозговать». Так ответил напарник, а только я занял самокруткой руки, — рассказывал умирающий, — как он выстрелил…
Утром на другой заставе задержали одноногого человека на деревянном протезе. Привели в штаб нашего отряда, ко мне, одноногий сделал вид, что очень обрадовался командиру, и объявил, будто шел к партизанам сообщить, что немцы готовят на них наступление.
Я кивнул и велел привести в землянку старшего из задержанных, то есть старика Т. Тот вошел, глянул на одноногого и с усмешкой спросил:
— Что ж ты так запоздал? Я вот, видишь, раньше тут очутился!
Одноногий принялся клясться, что не знает Т., и отрицал, что тот послал его в лес.
— А мальчишки где? — спросил старик.
Одноногий стал орать, что и мальчишек никаких не знает, но старый Т. сплюнул и объяснил, что два подростка (один — сын старосты из Прибыни, казненного Попудренко, другой — сын начальника полиции из Охрамеевичей, тоже убитого партизанами во время прошлого нападения на это село) посылались с одноногим как связные. А сам одноногий — уголовный преступник, в далеком прошлом — конокрад, за что ему крестьяне и перебили ногу.
Во время этого разговора с заставы привели двух подростков, которые сразу опознали одноногого — к нему шли. Так была разрушена шпионская сеть, закинутая немцами в наш лагерь перед наступлением.
В партизанской жизни, идущей на территории, занятой противником, есть еще одна особенность: эта жизнь резче делится на черное и белое, не терпит полутонов. В другом месте и в другое время, может быть, позволительно было бы заняться перевоспитанием преступников, определить им разные меры наказания, но партизанская действительность не допускала этого. Все совершеннолетние изменники были поэтому казнены, включая и двух доносчиков — в Тихоновичах и в Ивановке.
Николай Никитович Попудренко собрал командиров и комиссаров отрядов на совещание. Обстановка складывалась трудная. Немцы хотели во что бы то ни стало воспользоваться разливом Снова. Этот разлив давал им возможность взять партизан в плотное кольцо. Река уже разлилась на добрых восемь километров, при всем желании ее никак не перепрыгнешь. Нас готовятся раздавить, значит, начинать надо первыми. Оттянуть наступление немцев хоть на несколько дней — уже крупный успех, с каждым днем вода будет падать, открывая какие-то дороги, труднопроходимые, но все же…
Попудренко предложил неожиданными и решительными ударами разбить гарнизоны захватчиков в крупных селах, через которые шли главные дороги, поставить в этих селах свои гарнизоны и, таким образом, не дать немцам сосредоточиться для наступления, перекрыть подходы к нашему лагерю.
Мы поддержали решение Попудренко. Сразу наметили для налетов на врага и размещения своих гарнизонов такие села, как Перелюб, Турья, Ивановка и городок Корюковку. С первыми названиями читатель уже встречался, а вот про Корюковку нужно рассказать. Это районный центр, отмеченный за время оккупации несколькими памятными событиями.
В Корюковке — большой сахарный завод, и началось с того, что немцы вывезли все его оборудование к себе, в Германию.
Затем, в конце прошлого, сорок второго года, комендант Корюковки издал приказ: из всех окрестностей согнать еврейское население. Стариков, женщин, детей собрали на площади, перед этим велели им взять с собой лучшие вещи, а сейчас объявили, что они будут жить в гетто, в одном из сел, неподалеку от Корюковки. Люди поверили главному слову: жить! И вот под конвоем повели корюковских евреев по их последней дороге…
На виду у небольшого хутора колонну остановили, приказали сложить вещи в одну кучу у дороги, затем тех, на ком была одежда получше, стали выводить из колонны. Люди, как им велели, раздевались, складывали одежду и возвращались в свои шеренги голыми. А немцы уже поставили на соседних кочках пулеметы. Открыли огонь. Множество ни в чем неповинных, беззащитных женщин и детей полегло замертво за несколько минут…
Через некоторое время погнали сюда же цыган, собранных в Корюковке и в округе. Видно, люди знали, что их постигнет та же участь, не взяли с собой никаких вещей, ругали немцев на чем свет стоит. На площади цыгане играли и пели песни, будто собрали людей повеселиться. Начал падать снег, и к месту расстрела они пошли по снегу босые. И снова пели, плясали, посылали проклятия конвоирам, бросали в них крепкие снежки…
Когда им приказали остановиться, они ни за что не хотели выстраиваться в шеренгу, а, наоборот, сбились в толпу. В ответ на крики немцев вытолкнули из толпы молодую женщину, которая начала танцевать с бубном в руках. А ее окружили дети. Они тоже прыгали по снегу и плясали. Вероятно, матери, толкающие детей в этот круг и подпевающие им, все же надеялись разжалобить немцев, на которых не действовали слова, а песней и пляской пытались вымолить у них пощаду хоть детям. Или, может, просто издевались над. своими палачами. Некоторые дети, танцуя, спускали штанишки и показывали немцам голенькие задние места. А другие плевали в их сторону…
Когда офицер дал команду стрелять, два немецких солдата не подняли винтовок и отказались стрелять в детей. Тогда офицер подошел к ним и тут же сам застрелил обоих. Около шестисот убитых цыган похоронили жители хутора, видевшие, как они прощались с жизнью…
Но и после этого не стало в Корюковке тихо.
Скоро на нее совершили налет партизаны Федорова, разбили и разогнали немецкий гарнизон, но, конечно, они не могли долго удерживать районный центр в своих руках, и захватчики, усиленные ротами карателей и отрядами полиции, вернувшись, принялись за истребление мирного населения. Убивали людей на улицах, в домах. Десять дней фашисты истребляли население Корюковки — улицу за улицей, квартал за кварталом. Все эти десять дней гитлеровцы не разрешали жителям выходить из домов. Когда подходила очередь улицы или квартала, обливали дом бензином или керосином и поджигали, а тех, кто выбегал, расстреливали в упор. Бросали в дома гранаты. Так истребили более четырех с половиной тысяч человек.
Был день, когда, спасаясь от поголовного убийства, люди укрылись в церкви, считая, что хоть фашисты и звери, а в церковь все же не посмеют пойти. В этот день гитлеровцы действительно не пошли. А на второй день, когда церковь снова была забита народом, обманутым вчерашним спасением, когда среди икон сгрудились и застыли корюковские женщины и дети, гитлеровцы окружили церковь, облили ее со всех сторон горючим и подожгли. Вырываясь из огня, люди ломали церковные решетки, били оконные стекла, выпрыгивали на улицу, но гитлеровцы расстреливали их из пулеметов. А двери они закрыли снаружи…
Толпа навалилась и выломала двери. Из церкви вышли к немцам два священника с высоко поднятыми в руках крестами и не успели именем бога попросить пощады для людей, как были убиты…
Вместо корюковских домов и улиц остались пепелища, в лучшем случае с печными трубами: из тысячи трехсот домов городка уцелело десять. Там и тут на пепелищах лежали обгоревшие скелеты людей. Случайно спасшиеся корюковцы начали убегать в лес, к партизанам. Мы не сомневались, что они будут драться с гитлеровцами, не щадя себя.
Глава девятая
В середине ночи прилетел самолет и сбросил нам тридцать шесть мешков груза. Партизаны, собрав к утру мешки, доложили, что в них и винтовки, и противотанковые ружья, и боеприпасы, и медикаменты. Все самое необходимое упало, как говорится, с неба, затянутого в эту весеннюю ночь рыхлым туманом, похожим на серое покрывало. Но мы знали, что само небо ничего не подарит. Это брьла забота знакомых и незнакомых товарищей, далеких помощников партизан, хорошо продуманная и организованная работа.
Разбирая оружие, мы с Негреевым вспомнили, как раньше случалось в Зернове всему ревкому тайком переносить оружие на своих плечах из вагона, загнанного в тупик, по привокзальным улицам до укромного двора, в котором был наш склад. И сам батька Боженко не раз выходил ночами на разгрузку оружия — тяжелые ящики носили на расстояние не меньше километра.
А потом две-три крестьянские подводы увозили винтовки, спрятанные под солому, или другой оружейный груз на оккупированную Украину, где создавались в селах партизанские отряды. Двигались ночью, на день сворачивали в лес, заезжали поглубже и ждали, пока над лугами и дорогой снова повиснет серпик месяца.
Оккупанты охотились за оружейными караванами, расстреливали возчиков на месте, но люди снова шли на риск: как же еще бороться с оккупантами? Рисковали своей жизнью и жизнью своей семьи, домом и имуществом, всем, делая нужнейшее дело для борьбы с врагом. Не было подвод — уносили оружие на себе, в сумках.
Теперь оружие доставлялось вроде легче, по воздуху, но риск тот же… И конечно, как бы старательно ни снабжали нас оружием по воздуху, это не могло удовлетворить наши потребности целиком, и традиционно партизаны довооружались за счет своих боевых трофеев. Вот характерный список оружия нашего отряда: винтовок русских — 132, немецких — 40, мадьярских — 26, польских — 1, французских — 1, пулеметов ручных — 5, станковых — 1, автоматов советских — 40, немецких — 9, минометов— 1. Из них трофейного оружия: винтовок — 68, пулеметов — 6, автоматов — 9, минометов — 1.
Апрель начался с боев. Елинские партизаны первыми нанесли удары по карателям. Отряды, возглавляемые Николаем Попудренко, повторили дерзкий успех Федорова, захватили Корюковку, уничтожив при этом много немцев. Отряд имени Пожарского выгнал захватчиков из Перелюба и разместил там свою заставу. Другой отряд черниговского соединения — имени Боженко — совершил налет на село Турья, выбил фашистов, и здесь тоже появилась партизанская застава. Наш отряд — имени Щорса — поставил свой гарнизон в селе Ивановка.
Население радовалось, но мы предупреждали, что скоро тут могут развернуться сильные бои, советовали уходить в лес. Люди кивали, но все равно не спешили уходить, радуясь своим.
Начальником Ивановского гарнизона был назначен Михаил Попов, адъютант, мой верный помощник.
На другой день фашисты ударили по нашему гарнизону, но Попов умело командовал боем, в разгар которого я послал ему подкрепление из двадцати человек, вооруженных автоматами и пулеметом. Ивановцы устояли. Не отошел и партизанский гарнизон из Турьи. Почти до середины месяца после этого тянулась настороженная тишина, партизаны занимали села, а гитлеровцы вели себя так, будто смирились, хотя на самом деле готовили новые удары. Но и мы готовились встретить их.
12 апреля я послал в Ивановку начальника штаба, своего брата Ивана, и уже на подъезде к селу он встретил бегущее население. Он спросил, почему бегут в лес. Ответили, что из Турьи в Ивановку идет три колонны гитлеровцев. Иван пришпорил коня.
Наш гарнизон успел перегруппироваться, разделиться: на дороге из Турьи залегла основная часть, которую возглавил Кругленко; на дороге из Софиевки — другая, во главе с Поповым. Общее командование Иван взял на себя. Разведка уже донесла, что гитлеровцев около четырехсот человек, не меньше, у них три пулемета; бойцов в гарнизоне около пятидесяти. Нелегкое предстоит дело. Каждому ясно: надо мобилизовать всю волю и мужество…
Нет, не каждому… Один партизан, увидев, какие силы противника подходят к Ивановскому мосту, бросил свое место, бежал из окопа, с поля, еще не ставшего полем боя, но готового стать им через несколько минут. И был это тот самый партизан, которого две недели назад уже осудили за сон на посту, условно приговорили к расстрелу. Ждали, что он оправдается на поле боя, а он покинул товарищей. Когда его схватили и привели ко мне, партизаны потребовали, чтобы первый приговор тут же был приведен в исполнение. За трусость и дезертирство. Партизан не знает большего греха и преступления, чем бросить товарищей в беде. У труса не нашлось защитников…
На этом не кончились испытания и неприятности.
Мост на турьинской дороге, около Ивановки, был заранее заминирован, провода протянуты к электромашинке, находившейся в крайней хате села. Здесь же Кругленко устроил свой командный пункт. Едва гитлеровцы ступили на мост, Кругленко дал команду подрывнику, и тот повернул ручку машинки… Но… взрыва не последовало! Гитлеровцы шагали по мосту, стук их кованых сапог долетал до хаты, до подрывника, который лихорадочно копался в машинке вместе с Иваном, пока не обнаружили, что провода разъединены, нет контакта. До сих пор не знаю, что это: халатность подрывника или умысел какого-то вражеского лазутчика.
Контакты были восстановлены, когда небольшая часть карателей уже перешла мост и находилась от крайней хаты метрах в семидесяти. Иван сам повернул ручку и дал команду открыть огонь. Партизанские пулеметы и автоматы заработали одновременно с взрывом. Мост взлетел на воздух вместе с гитлеровцами, еще шагавшими по нему, а тех, кто успел подойти к Ивановке, — перестреляли. Фрицы, оставшиеся на той стороне оврага, полного воды, поставили минометы и пулеметы; развернулся серьезный бой. От мин Ивановка загорелась в восьми местах, пожары полыхали все злее и ярче. Несколько раз каратели пытались перейти реку вброд, но партизаны не давали. Находясь на открытой местности, захватчики несли потери и в конце концов начали отходить.
Иван уже радовался: ага, ничего не вышло у них с ходу! И тут в хату попала мина и взорвалась. Иван был тяжело контужен и ранен: у него перебило правую руку, осколком задело обе ноги, голова была в крови. Очнулся он в тишине, потому что находившийся с ним партизан-подрывник тоже был тяжело ранен, зубами Иван оттянул курок револьвера, чтобы не дать захватить себя и, если уж ничего другого не останется, пустить пулю в раненую голову. Но в дом вбежали наши партизаны, взяли раненых… Отнесли Ивана, истекавшего кровью, к повозке. То и дело он впадал в забытье, но все же сумел передать командование Попову, который прибежал сюда, узнав о ранении начальника штаба отряда. Повозка двинулась — Попов приказал срочно отвезти Ивана в лагерь.
Между тем гитлеровцы отходили, чтобы перегруппироваться, и Попов немедля организовал их преследование, переведя своих бойцов вброд через реку. Партизанский гарнизон удержался в Ивановке.
…Ивана привезли в лагерь. Он лежал очень бледный. Сердце у меня сдавило: я не видел до сих пор такой бледности у живых людей. А ведь это родной брат! Его везли двенадцать километров без хорошей перевязки, и крови он потерял очень много. Вызвали врача, который наложил Ивану на руку самодельную шину. Я успокоил Ивана: мы с Попудренко уже дали радиограмму, чтобы за тяжелоранеными прислали самолет, вывезли их. А он захрипел, что не хочет покидать нас, стал просить меня и Негреева, пусть, мол, здесь лечат… Но я и такие старые друзья, как Платон Горелов, а потом и Попудренко говорили ему, что нам предстоят тяжелые бои и перемещения, трудно будет наладить здесь лечение, а по-честному, невозможно, подлечится на Большой земле и вернется…
В тот же день захватчики развернули сильное наступление против партизанских гарнизонов в Турье и Перелюбе. Отряды имени Боженко и имени Пожарского сражались упорно, но под вечер были вынуждены отойти.
Наши партизанские заставы в селах, через которые тянулись крупные дороги, связывающие важные, в том числе железнодорожные, центры, выполнили свою задачу. Они не дали карателям сосредоточиться и нанести по нашему лагерю чувствительный удар. Мы вывели на предусмотренные перекрестки эти заставы в начале месяца, а сейчас уже середина. Река Снов еще в разливе, но для людей, знающих лесные маршруты, открылись тропинки, по которым можно дерзнуть вырваться из вражеского кольца.
Посовещавшись, решили не откладывать, начинать переход через весеннюю воду, переставшую быть непроходимой. А раненые? Те, которые сами не могли ходить, как, например, мой брат Иван… Фашисты группировались вокруг нас все гуще и плотнее, и самолет который день не смог сесть. Везти раненых с собой на повозках? А если это будет невозможно? Кто заранее скажет, пройдут повозки до конца нашего пути или нет? Я припомнил, как Негреев собирался возить меня на вьюке, и распорядился заготовить для раненых вьюки и носилки. Если понадобится, будем нести на руках.
Когда разведка сообщила, что каратели начинают решающее наступление против нас, мы были готовы к форсированию Снова. Значит, не зря, по замыслу Попудренко, партизанские заставы вошли в села и сражались там. Они позволили подготовиться к этому памятному переходу, выиграть время, те дорогие дни, за которые разлившаяся река начала падать и оголять сушу, обнажать в болотах проходимые тропы.
Для нашего отряда бой в Ивановке был, по существу, первым большим открытым боем. Можно сказать, боевым крещением. И многие партизаны, в том числе и молодые, очень неплохо показали себя в этом бою, встретившись с врагом что называется с глазу на глаз впервые. По донесениям командиров, особенно отличились Андриенко, Бондаренко, Дедусь, Кошель, Корецкий, Маслак, Михеенко, Надточий, Рымарь, Черныш.
Доказали и наши подрывники, какая они необходимая и действенная сила в партизанской войне. Под командой Мирослава Тарновского были взорваны два деревянных моста на дорогах Турья — Ивановка и Софиевка — Ивановка, еще один деревянный мост взорвали Михаил Осадчий и Василий Юрченко у села Шкрябово. В результате в ходе боя враг не смог подбросить подкрепление своим силам. А подрывники Геннадий Туманов и Алексей Морозов заминировали дороги. Их мины тоже сработали, покалечив два вражеских танка и одну легковую машину с офицерами: один из офицеров был убит.
Всего же в бою за Ивановку, так и не выиграв боя, немцы потеряли не меньше ста человек. Замечу сразу — нет ничего труднее, чем подсчитывать потери врага при быстрых партизанских налетах, к тому же чаще всего ночных. Но бой в Ивановке был другим…
У нас погибло два молодых партизана — Иван Селех и Павел Хоменко. Вместе с местными жителями партизаны похоронили Селеха и Хоменко тут же, в Ивановке.
Третье примечание
Сейчас установлен памятник на этой могиле. За ней ухаживают школьники Ивановки, с весны могила в цветах…
Глава десятая
Мы решили вывести свои отряды из-под вражеского удара, чтобы сохранить силы для ведения боев по нашей воле и в местах, более выгодных для нас. Партизанская тактика — не подчиняться вражеским планам, разрушать их, навязывать врагу свои. Это основа основ.
18 апреля каратели по всем направлениям повели осаду Елинского леса. Но еше 16-го мы устроили ложную переправу на Снове, у хутора Шевченко, чтобы ввести немцев в заблуждение, на самом деле наметив переход через реку совсем в другом месте, в районе села Кирилловна.
Немцы бросили танки на Ивановку, где еще держался наш гарнизон во главе с Поповым. Связь с ним была у нас установлена по цепочке — на расстоянии одного километра друг от друга дежурили конные разведчики. По этой цепочке мы получили донесение от Попова и передали приказ отойти к опушке леса, заминировав за собой дорогу.
Почти одновременно разгорелся бой в Тихоновичах. Оккупанты и сюда бросили танки. Как видно, они рассчитывали на большие баталии с крупными партизанскими силами, которым некуда было деться, оставалось только драться и погибать. Битва не на живот, а на смерть.
Попудренко послал в Тихоновичи подкрепление под командованием Платона Горелова. Приказал держать врага, пока партизаны не уйдут из лагеря. Лагерь должен быть к приходу карателей пустым. Простой приказ, да выполнить его непросто. Однако Платон не думал ни о чем другом. Недаром же он был старым партизаном.
Три танка двигались на рубеж, который заняла группа Платона на опушке леса. Он первым встал с противотанковой гранатой в руке и, бросив ее, удачно попал под гусеницу. Танк присел набок, еще граната — и раздался сильный взрыв. Товарищи, увлеченные и поддержанные примером Платона, уничтожили второй танк. Но третий был уже близко, шел прямо на партизанский окоп. Снова Горелов поднялся во весь рост, взмахнул гранатой. Из танка застрочил пулемет. Несколько пуль попало в грудь Платона, и наш друг замертво упал на землю, которую и в молодости и сейчас защищал от врага без страха.
Прощай, Платон! Я снова вижу, как ты первый спускаешься ко мне в землянку, когда я прилетел в Елинский лес, где ты уже партизанил.
В сорок пятом году прах Платона Горелова был перевезен на родину, в Новгород-Северский, и там захоронен с почестями. Это удалось сделать потому, что тогда, отбиваясь от немцев, партизаны не оставили тело командира, унесли с собой в лес, а немцы побоялись продвигаться дальше, окопались на опушке. Отошел к лагерю со своим Ивановским гарнизоном Попов, каратели и тут остались на опушке леса. Они не спешили — лес обложен с трех сторон, а с четвертой — разлившаяся река. Немцы стягивали силы к нашей ложной переправе, поддавшись на обман, а то, что мы рискнем перебраться через Снов в другом месте, им и в голову не приходило. Может быть, и партизаны не все верили в удачу, но команды выполнялись дисциплинированно и точно.
Я заметил: чем острее обстановка, чем сложнее положение, тем крепче дисциплина в партизанских отрядах. Это естественно.
Обстановка осложнялась… Собрав командиров, Попудренко известил о героической гибели Платона Горелова и о том, что отряд Кочубея, то есть Петра Коротченко, оказался отрезанным от нас в селе Охрамеевичи. Оттуда прибежали две учительницы, сказали, что в то время, когда Кочубей проводил в школе собрание местного актива, в село прорвались фашистские бронемашины, подкатили к школе и гитлеровцы ворвались в нее. Можно было предположить, что Кочубей погиб или, еще хуже, схвачен немцами. Учительницы уверяли, что видели, как его выводили из школы.
Если еще прибавить, что брат Иван в тяжелом состоянии ждал, когда его повезут не в госпиталь, не на аэродром, с которого самолет унес бы его на Большую землю, а за Снов, по топкой дороге, то станет понятно, как нелегко было у меня на душе. Но, несмотря ни на что, мы должны были быстро и правильно начать отход.
С утра враг перейдет в наступление, а нас уже не будет здесь. Мы опередим его на ночь — это много. Самое главное при таком отходе — тишина, абсолютная тишина, это сказали всем и командиры и комиссары…
Под моросящим дождем, сеявшим с низкого, словно бы опустившегося неба на узкую лесную дорогу, двинулись в путь. Несмотря на большое количество людей и лошадей, в течение всей ночи удавалось сохранять тишину. Километров через восемь под ноги легли болота, залитые водой. Вода держалась выше колен, а местами доходила до пояса…
Оружие и продовольствие уже навьючили на лошадей, в повозках оставались только раненые, но все чаще попадались места, где повозки не могли проехать, их проталкивали люди, сопровождавшие раненых, почти поднимали и выносили. Этим руководил Митрофан Негреев. Чавкали сапоги, иногда всхрапывали лошади, а людских голосов не было слышно, до сих пор говорили шепотом…
Вдруг моя лошадь стала вязнуть в трясине и тонуть, ее не удалось спасти, меня самого едва вытащили бойцы, и я пошел дальше пешком. Через несколько километров снова чуть не увяз, засосало один сапог, пришлось оставить его на память болоту, хорошо что на ноге удержалась унта, привязанная к поясу, этому я тоже научился давно…
Стройности в рядах никакой у нас уже, конечно, не было, да и не было заботы о ней, а тишина по-прежнему царила над всем нашим партизанским войском.
С группой партизан я выбрался наконец на довольно просторный островок, где можно было передохнуть, и увидел в темноте людей. Подойдя, разобрался — среди них стояла женщина и тихо плакала. Ее напрасно успокаивал мужчина с винтовкой, произнося без конца одно и то же:
— Не плачь…
— В чем дело, друзья мои? — спросил я.
Кто-то из партизан показал рукой вниз — на земле лежал тряпичный комок.
— Ребенок у нее умер.
Они переходили болото, ребенок расплакался, а мать испугалась, что крик его выдаст партизан, их обнаружат каратели, и плотнее накрыла младенца своим платком. Ребенок замолчал, еще шли долго, и мать радовалась, что он молчит, а на этом островке размотала платок и поняла страшное: ребенок задохнулся.
Это рассказали тихонько партизаны, женщина все плакала, а муж ее, тот самый мужчина с винтовкой, что твердил: «Не плачь!», — прибавил:
— В марте мы шли домой с поля в свое село. Вдруг видим, горит наш дом! Побежали. Оказывается, гитлеровцы село сжигают и в людей стреляют без разбора. Повернули в лес. Грудной-то был с нами, у нее на руках, а сынка первого, десятилетнего, ни в селе не видел никто, ни в лесу не нашли среди сельчан, которые туда бежали спасаться… До сих пор не знаем, где сын, утеряли. А теперь… Что же это?
Все молчали. И я молчал. Что я мог сказать ему? Война? Так это он и сам знал — на судьбе своей семьи. Не первую войну я проходил — сквозь самую ее гущу, и могу сказать, что никого она не касается так больно, как детей. Так несправедливо!
Мы воевали и за то, чтобы можно было растить детей щедро и спокойно, в мире. Может быть, нет у человека большей радости, чем та, какую приносят ему дети…
Вдруг на этом островке, промозглой ночью, среди болота, вспомнился мне мой сын Леонид, уже взрослый человек, возивший по фронтам бригады артистов, такую он неожиданно для меня избрал себе профессию, пошел в искусство. Где-то он сейчас? Жив ли? Осколок или пуля не спрашивают, кто ты, в любого норовят попасть… Я задавал себе эти вопросы, а ответить не мог. Далеко мы друг от друга находились, и давно не было от сына ни строчки. Я не лирик, человек суховатый, но сам себе мог признаться, как дорого заплатил бы за короткое письмецо от сына. Вспомнились дети моей сестры Степаниды, что жила в селе Леньково, неподалеку от Кролевецкой Слободки: племянник Борис Наумец, племянница Ульяна… Вот ведь как бывает! Вспомнились среди ночи, на гнилом болотном островке. Всех захотелось увидеть…
Четвертое примечание
Друзья-партизаны вспоминают, что однажды на лесном привале Михаил Гордеевич начал рассказывать о сыне. Маленький Леня больше всего на свете любил музыку, хотел играть. Сначала над этим в семье шутили, как над забавным случаем, а потом, когда сын начал старательно готовиться к поступлению в музыкальное училище, пригласили студента консерватории в качестве репетитора. Позже Леонид учился в музыкальном техникуме, у знаменитого пианиста и педагога Гольденвейзера.
Михаил Гордеевич не думал о такой судьбе для сына, но не мешал ему. Нередко, приходя домой после работы, особенно если там что-то не ладилось, просил сыграть песни, любимые смолоду. Какие? «Славное море — священный Байкал», «По диким степям Забайкалья». Они были популярны у всех друзей, бывших политкаторжан. Сын никогда не отказывал, играл, а бывало, и пели вместе…
Сейчас Леонид Михайлович — директор Московского государственного симфонического оркестра, заслуженный работник культуры РСФСР.
Борис Наумец — племянник — не раз навещал дядю в казанской больнице, приносил лекарства — с ними не так-то просто было в те дни… Когда Борис уезжал на фронт, дядя — больной, как утверждали врачи, безнадежно — с завистью говорил ему: «Будешь бить врага за нас обоих, за себя и за меня…» Пожелал ему боевых успехов и, как в песне поется, «если раны — небольшой…»
Племянница Ульяна огорошила — года за два до войны прикатила в Москву со словами об институте. Отважилась черниговская дивчина покорить столицу и науку… Ну, конечно, жить устроили, Михаил Гордеевич никому в этом не отказывал. Судя по письмам, он был ходатаем за всех земляков в их делах и заботах, связанных с московскими учреждениями, а за его обеденным столом чуть ли не каждый день собирались пять — десять гостей с Украины. Вот и Ульяну с дорогой душой приняли в маленькую квартиру с совсем уж крошечной кухней, которую делили с соседями; кормили-поили, об этом и речи не было никакой, но по поводу института Михаил Гордеевич сразу и строго, даже хмуро, заявил, чтобы Ульяна не ждала никакой помощи, никакого содействия, только на себя надеялась.
А она и не думала просить дядю, занимавшего крупную должность, о содействии, не такой была, сама поступила. И, быть может, на том гнилом островке у Снова вспомнились Михаилу Гордеевичу слова, говоренные Уле, чересчур строгие и зряшные…
Ульяна Владимировна рассказывает, что на примере дяди и матери можно было учиться настоящей любви между братом и сестрой. Вот какой был у них случай…
Незадолго до революции кинули Михаила Гордеевича в тюрьму за агитацию среди рабочих, а потом решили держать в одном из сел под надзором полиции и гнали по этапу туда. Путь лежал как раз через Леньково. Голодным он был, словно уже у смерти на пороге… Но тут хоть воды напиться бы! Конвоиры — их было два — злобные, то ли родились такими, то ли друг друга боялись, — гонят и гонят без передышки. А как раз мимо колодца брели, и какой-то мужик воду доставал. Приблизились, и Михаил Гордеевич увидел, что это Владимир, муж сестры. В горле пересохло, но он отвернулся — еще узнает Владимир, будут неприятности и у него самого, и у сестры… Но, видно, сильно он изменился, пока швыряли по тюрьмам, не признал его родственник.
Уже вечерело, и оба городовых надумали ночевать в Ленькове, сами устали. Повели арестанта к старосте, чтобы определил на постой. Жил староста по соседству с сестрой Михаила Гордеевича, и вдруг она сама прибегает. Староста хмурится — чего? А она рукой махнула — насмеялись, дескать, будто брата привели, а это вовсе не он. И рост не тот, и вся внешность не та, и голос… Да брат ее и не может быть арестантом в сером бушлате. Видать, этот убил Мишу, так и заимел его паспорт или уж совпало имя — мало ли Салаев вокруг!
А староста спрашивает:
— Ну возьмешь арестанта на постой, раз уж однофамильцы? На одну ночь всего!
Дома выяснилось, что узнал Михаила Гордеевича муж сестры еще у колодца, хотя это мудрено было и тюрьмы оставили след, и вырос он, и возмужал. Вот сестра и примчалась к старосте. А отмахнулась, уверенная, что брата ей ни за что не поставят, перехитрила всех. Зато чугун горячей воды в печке уже был готов. Михаил Гордеевич снял рубаху, принялся мыться, а Степанида Гордеевна говорит мужу:
— Смотри, это, правда, он. Видишь, пятно на теле, темное, оно у него с рождения. Родимое пятно… О, боже мой!
Значит, хоть и полной убежденности не было, она рискнула, прибежала и воду в печь поставила. А уж как кормила брата в тот вечер! Всю жизнь помнился вкус этого борща и вареников…
Было что вспомнить на островке у Снова, воспоминаний у человека с возрастом все больше, а времени все меньше. И живое горе женщины, встреченной на островке, требовало внимания в первую очередь.
Михаил Гордеевич пишет:
Я подошел к осиротевшей матери, все еще безутешно плакавшей, обнял ее и так, ничего не говоря, постоял с ней, пока она не затихла. И пошли вместе дальше. Когда нас догнала подвода, посадил на нее эту женщину и велел довезти ее до Гулино…
На рассвете, промокшие, продрогшие, без сил, мы добрались до Гулино, села, раскинувшегося на берегу Снова. Обмыться бы, просушиться, поесть. Отдохнуть бы — ведь прошли двенадцать километров по болоту. А некогда! И огня не разведешь. Гитлеровцы, обманутые ложной переправой и собравшие там танки и артиллерию, которых быстро сюда не перекинуть, открыли артиллерийский огонь. Довольно сильный. Костры были бы для них хорошим ориентиром. Опять ограничились сухим пайком…
Но в Гулино нас ждала радость, и большая. Здесь встретились с Кочубеем и его группой. Учительницы со страху приняли за него другого человека, а он выскочил из школы в окно, глядящее на огород, с огорода — в кустарник, из кустарника — в лес, там его ждали свои.
Он знал, что задумано идти на Гулино, вот и оказался здесь.
Перед переправой мы все же дали людям отдохнуть. Час-другой спали как убитые. Лесом шли недаром, приготовили плоты, и вот 20 апреля двинулись всей армадой через Снов, на правом берегу его еще километров пять прошли болотами и скрылись в Соловьевском лесу, где трава и пеньки были сухими.
Я подошел к подводе, на которой везли Ивана, спросил:
— Ну как ты?
А он показывает мне левой рукой — на большой палец! И улыбается. Да, да! Я даже сказал ему, чтобы перестал шутить.
— А чего шутить? Не шучу. Сначала меня сильно бросало из стороны в сторону, думал — не выдержу, а потом попросил привязать веревками и притерпелся… Ничего!
Я ждал, что люди болеть начнут. Ведь долго шли в ледяной воде. Нет, ничего, как сказал Иван. Обошлось. Ну разве два-три человека заболело.
Партизаны действительно могут вынести всё.
Глава одиннадцатая
Озлобленности фашистов не было предела. Еще бы! Мы вырвались из их кольца и перешли Снов. Они так старались запереть нас в Елинском лесу, но ничего не вышло.
Наша разведка доносила, что гитлеровцы, как всегда в таких случаях, мстят мирному населению, сжигают хутора и села, ловят и расстреливают семьи, сбежавшие в лес. Я в руках держал фашистскую листовку, в которой хвастливо говорилось, будто каратели уничтожили всех елинских партизан, а кто попытался перебраться через Снов, тех потопили. Пустили, дескать, пузыри «лесные бандиты».
Первыми над фрицами издевались их союзники. Мадьяры, сдававшиеся нам в плен при наших налетах на ближайшие села за Сновом, показывали нам руки, изображая детей и женщин: вот, мол, каких партизан уничтожили гитлеровцы.
Вернувшись из старого лагеря, разведка уточнила и дополнила, что на минах, поставленных в Елинском лесу нашим главным сапером, командиром спецотряда Мирославом Тарновским, подорвалось немало вражеских машин, среди них штабная автомашина, в которой нашли смерть три офицера.
Конечно, гитлеровцы не могли успокоиться, стягивали силы на правом берегу Снова, чтобы догнать партизан, но мы опять решили опередить гитлеровцев и уйти в Злынковский лес, километров за тридцать пять отсюда, а там уж разбить новый лагерь, за который при необходимости драться. Там леса были удобней для лагеря и для обороны.
Обговорили, что оросок до Злынковского леса совершим за одну ночь, и с наступлением темноты начали движение на новое место. Дорога, в общем, сухая, хорошая. Беспокоило и Попудренко и меня только одно препятствие — село Крапивное, где нас могли перехватить и встретить крупные вражеские силы, потому что в этом селе постоянно располагался гарнизон.
Так оно и вышло. Едва приблизились к Крапивному, вспыхнул бой. Но ведь мы его уже ждали, уже готовились. Впереди шла разведка соединения; каждый отряд, двигавшийся за ней, выдвинул по бокам дозоры, Николай Никитович решил обойти гитлеровцев слева и для этого сам пошел с отрядом имени Пожарского, а меня оставил с другим отрядом.
Скоро на левом фланге разгорелась отчаянная стрельба. Что там? Прискакал связной. Оказалось, там засел со своими головорезами Пахом, тот самый, о котором нам рассказывал Попудренко на первом заседании штаба нашего отряда, вокруг земляного стола, под тремя памятными елинскими соснами. Пахом, как потом показал пленный, прибыл в Крапивное со специальным заданием: притаиться, пропустить голову партизанской колонны, ворваться в нее с фланга и посеять панику.
Николай Никитович помешал ему. Связной передал слова командира соединения: отряду, который шел первым, отойти вправо, нам приблизиться к селу по прямой, о чем дать сигнал красной ракетой. По этому сигналу — общая атака на Крапивное с трех сторон.
— Есть, — сказал я, будто отвечал самому Попудренко, мне понравился его замысел.
И вот — красная ракета. И сейчас же — крики «ура!». Они доносились и слева от Попудренко, и справа. Мы ринулись вперед. Натиск был неожиданным и мощным, враг хотел перехватить и уничтожить партизан, а вместо этого сам не выдержал и бежал, оставив на поле боя много убитых и раненых. Мой первый вопрос к Попудренко, едва мы увиделись:
— Где Пахом?
— Не знаю… Ночь… Видно, бежал, подлец!
Мы помолчали, жалея, что не удалось разделаться с предателем. Когда-то я прочитал: «молчали об одном» — и подумал: как это так можно? А сейчас сам готов сказать, что в ту минуту мы с Николаем Никитовичем молчали об одном. Он вздохнул:
— Ну еще представится случай. Не уйдет!
Пятое примечание
Как выяснилось, Пахому удалось тогда улизнуть от народных мстителей — партизан. Он скрылся. Но от расплаты за прислужничество оккупантам, за сотни убийств, осуществленных не только руками подчиненных, но и собственными руками, гитлеровский холуй не ушел. В сорок шестом году Пахом был разоблачен и задержан и по приговору военного трибунала расстрелян.
К утру вошли в Злынковский лес и обрадовались, почувствовав под ногами рассыпающийся песок.
Но вот говорят, что нет худа без добра. Видно, и добра не бывает без своей доли худа… Приятно было идти в Злынковском лесу по песку, но он затруднял посадку и взлет самолетов, а с нами какой уж день перемещались тяжелораненые без надлежащей помощи, хотя рядом с ними все время были врачи: из соединения Попудренко — Андрей Иванович, из нашего отряда — Валентина Михайловна, дорогая каждому из нас, особенно тем, кто помнит прикосновение ее умелых, будто бы зрячих рук. Сбитая с ног при взлете тем же самым самолетом, каким и я (он доставил нас сюда из Москвы), Валентина Михайловна в сновском переходе еще не бросала костылей, однако работала, двигалась. Но как помочь раненым? Что сделаешь в непрерывном движении?
Тяжелораненых, среди которых находился Иван, надо было скорей отправить на Большую землю. Выбрали аэродром, шестую ночь жгли сигнальные огни, ожидая самолета, о котором заранее договаривались по радио. Что-то мешало самолету прилететь. На шестую ночь услышали шум мотора, да не с неба, а с земли. И не одного мотора. К аэродрому, куда подвезли раненых, прорывались вражеские броневики… Видно, фашистам по сигнальным кострам удалось засечь посадочную площадку и подготовить на нее нападение, от которого они ждали нешуточных результатов.
Больше всех встревожились раненые. Известно, партизан подвергался самым жестоким пыткам, попав к врагу, а они и так настрадались. Врачи уверяли их: не дадим фрицам! А в крайнем случае, вот у нас два револьвера, в каждом по семь пуль… Но до этого не дошло. Аэродромная охрана, погасив костры, сама отбила нападение, неожиданное, но не такое уж решительное. Броневики запутались в лесу без костров. Одну бронемашину, проникшую в лес глубже других, охрана сожгла, и у фашистов не хватило пороху продолжать ночной бой. А раненых уже увезли в лагерь.
Через два дня наконец сел самолет. Это было 29 апреля. И вот тут-то мы поняли, что такое песок. В самолет погрузили шестнадцать человек, он загудел, разбежался, но… оторваться от земли не мог. Все старания летчика ни к чему не привели. Колеса буксовали, залезая в песок все глубже.
До того как начался разбег, минут десять — пятнадцать назад, мы с Негреевым, придя проводить Ивана, радовались, что он улетит. Митрофан рассказывал, что Ивану хуже и хуже. А он молчит. И даже улыбается… Я это и сам видел. Теперь стало еще обидней и тревожней за него. И мысли не было, что самолет может застрять в песке, как в болоте.
— Что делать? — спросил Негреев у летчика.
— Не знаю… Не поднимусь с людьми. Да и без людей — еще вопрос!
Всех вынесли из самолета. Оставили по настоянию врачей и самих раненых одного Ивана, самого тяжелого. Самолет оттащили к тому краю площадки, откуда он только что неудачно пытался стартовать, и вот он снова покатился к лесу… Самолет гудел так, что казалось, вся Украина слышит. Уже конец площадки, сейчас крылатая машина наскочит на пни. Но раньше, чем это случилось, самолет поднялся в воздух и полетел над деревьями Злынковского леса. Наша сердечная тоска, можно даже сказать, сердечная паника оттого, что Иван и в этот раз не сможет улететь, оказались чересчур преувеличенными…
Однако почти все другие раненые остались в лесу. Надо было что-то придумать, а что?
Самолеты продолжали прилетать к нам, но только сбрасывали свои грузы, а не садились. Песок! Была ночь, когда к нам почти подряд прилетели семь самолетов, все благополучно разгрузились в воздухе, снабдив нас оружием, взрывчаткой и медикаментами, а утром разведка донесла из Злынки, что гитлеровцев это привело в бешенство: «Красные летают, как дома, а наши даже не показываются!» Как дома! Вот негодяи! Мы и были дома… А оккупантов мы вышвыривали раньше, вышвырнем и теперь!
Сел один самолет — летчик рискнул. Ночной ас. Но и ему не удалось подняться, даже пустому, — «аэродром» был сильно разрыхлен. А еще он сказал, что пустой больше и не попробует подниматься, стыдно будет вспоминать потом, как оставил раненых, и предложил партизанам сделать из древесных стволов дорожку для разбега самолета.
Все волновались — не узнали бы фрицы, что у нас на площадке остался на день самолет, — работали не отдыхая и еще раз показали силу партизанского братства. Сотни людей старались для пятнадцати раненых. За день уложили в песок уйму срубленных и очищенных от веток деревьев. Отличная дорожка была сделана уже к вечеру. И все увидели, что такое воля, слитая воедино! Самолет, который бессильно ковылял вчера, сегодня разбежался на новой дорожке, как на столичном аэродроме, и, покачиваясь с крыла на крыло, стал набирать высоту над лесом, удаляясь от нас. Мы следили за ним, пока он не исчез из глаз. И все махали ему руками, еще не чувствуя, как устали.
Глава двенадцатая
Рассказывая про отправку раненых, я пропустил такое событие, как Первое мая. Хоть несколько слов скажу, что это мой любимый праздник, и в лесу мы отмечали его от всей души и даже красиво… Лагерь был чисто прибран, украшен плакатами и лозунгами. Наши художники нарисовали каррикатуры на Гитлера, им тоже нашлось место. Над каждой землянкой привязали хотя бы красную ленточку к ветке.
А главное, настроение было хорошее. Вырвались из кольца оккупантов, готовились показать им, какие у нас силы. В десять утра состоялся лесной парад — по всем военным правилам. Люди почистили свое оружие, выпрямились, словно бы подросли, молодцевато держали строй.
Пожалуй, сердился, не в меру ругался и нервничал один Саша Кравченко, наш радист: никак ему не удавалось поймать Москву, а все хотели ее послушать. Но батарейки сели…
Мы пошли к Попудренко, поздравили друг друга с праздником, и Николай Никитович пригласил весь наш штаб к себе на обед и… концерт! Обед у него был отменный, а концерт — и слов не подберу. Как там пели, как декламировали! У нас в отряде была самодеятельность, бойцы сами пели под гармошку, радовали и забавляли товарищей, но здесь мне казалось, что я в настоящем театре, хоть забывай про лес.
Признался в этом Николаю Никитовичу, а он засмеялся, счастливый:
— Верно! Они и есть артисты! Лучшие черниговские артисты. Ну сейчас-то основная должность у каждого другая: кто пулеметчик, кто медсестра, — но ведь это не на век, так что не забывают своей профессии!
Очень понравился мне этот первомайский праздник в Злынковском лесу, похожий на мирную лесную маевку…
А гитлеровцы стояли всего в пятнадцати километрах. И мы уже продумывали, как будем бить их, обговаривали даже план совместного нападения на Злынку, где располагался довольно многочисленный гарнизон. Николай Никитович предлагал напасть на Злынку днем, в базарный день, считая, что так скорее достигнем внезапности. Я держался ночного варианта. Мы, конечно, договорились бы, но тут, на двадцатый день нашего пребывания в Злынковском лесу, пришел приказ УШПД за подписью Строкача, в корне менявший задачи соединения Попудренко и нашего отряда.
П. Н. Вонарх
Доставил приказ Яков Федорович Коротков, который спустился к нам на парашюте.
Николай Попудренко должен был по новому приказу, согласованному, конечно, с армейским командованием, перейти со своими черниговцами в междуречье, то есть в леса между Десной и Днепром. А наш путь лежал на Полтавщину — вместо Львова. Несколькими днями раньше, взвесив свои возможности, мы послали радиограмму с просьбой разрешить нам создать партизанское соединение из трех отрядов. Теперь нам разрешалось создать такое соединение и предлагалось назвать его Полтавским. Почему? Все объясняла наша новая задача: парализовать железные дороги на Полтавщине. Было понятно, что это тоже связано с готовящимся наступлением нашей армии.
Командиром нового соединения назначался я, комиссаром — Митрофан Негреев, начальником штаба — Иван Салай-Кругленко, но он отбыл из-за тяжелого ранения, и его обязанности стал исполнять Петр Коротченко — Кочубей. В отрядах на командные должности мы поставили Александра Каменского, Порфирия Вонарха, Илью Шкловского, Михаила Попова, Александра Цыбочкина — боевых, проверенных в деле товарищей.
Порфирий Вонарх, уроженец села Синявки, в апреле вступил в наш отряд, командовал взводом, ротой. Я верил, что он сможет командовать и отрядом. Партизанам нравились его спокойствие, умение быстро принимать решения. Быстро, но не наобум, продуманно. В самой острой ситуации Порфирий никуда не торопился. Это конечно же говорило о его личном мужестве, а партизанские бойцы такое ценят.
Г. Г. Еременко
Александр Цыбочкин до войны работал на заводе, был оставлен Черниговским обкомом партии на подпольной работе, а в марте пришел к нам в отряд. Храбрости ему тоже было не занимать, как оказалось в боях, где человека видишь сразу.
Войсковую разведку возглавил Андрей Дунаев, а моим заместителем по разведке стал Яков Коротков, тот самый, что привез новый приказ, выбросившись к нам с парашютом, — старый красногвардеец и чекист. Участник гражданской войны, он вел борьбу с басмачами в Средней Азии и уже тогда имел правительственные награды за храбрость. В общем, Яков Федорович — из старой гвардии большевиков, как и многие другие организаторы нашего соединения. А Мирослава Тарновского назначили руководителем инженерно-саперной части, в которую входила диверсионная группа. Материально-техническое дело по-прежнему поручили «майору» — Мейтину. А лечебно-санитарные заботы — нашему главврачу Григорию Еременко.
Подсчитали по спискам и донесениям: у нас более пятисот бойцов. Вооружены все — винтовками, автоматами, станковыми пулеметами, за последние дни к ним прибавились ротные и батальонные минометы. Вот только пушек еще не было…
Разумеется, при формировании соединения было уделено много внимания подбору и расстановке кадров политсостава, партийного и комсомольского актива. Всю душу вкладывал в это дело наш комиссар Митрофан Гаврилович Негреев. Для непрерывной политико-воспитательной работы среди партизан и местного населения были созданы группы агитаторов в каждом отряде. Опираясь на широкий партийный и комсомольский актив, на его личный пример в боевых и диверсионных операциях, мы могли решать задачи, поставленные Украинским штабом партизанского движения.
Сколько бы я ни занимался делами, как бы серьезны они ни были, а все время подбиралась и точила мысль: расстаемся с Попудренко. Давно ли я собирался его корить за то, что нам не выложили сигнальных огней в ту туманную ночь и заставили самолет возвращаться обратно в Москву, а вот уже и расстаемся. Отчего так устроен человек, что лишь перед самым расставанием он в полной мере чувствует и понимает, как дорог ему тот, с кем он сегодня прощается? Этого не переделаешь, наверно, потому что по-настоящему не оценишь друга без разлуки — такова жизнь…
Николай Никитович позвал нас, всех командиров и комиссаров отрядов, к себе на ужин. Короткое слово сказал, как мы воевали в эти месяцы и какие дела нам предстоят. А потом выпили по чарке, как водится, за успех… Разговоры всё не ладились, от грусти, наверно, охватившей всех. Начали скрывать ее за шутками, загадками, анекдотами, мужики всегда от грусти, которая вдруг обнажится, убегают в шутки и смех. Маскируются.
Не помню уж, кто первый спросил: какой город у нас называется именем одного мужчины и ста женщин? Недолго мучились — Севастополь! А смеялись долго.
— А какой город стоит на сене? — спросил Попудренко.
Ну ясно было, что Сена, с большой буквы, это река, и на ней стоит Париж. Да, мы еще давным-давно, впервые услышав об этом, помнится, потешались, что столица Франции стоит на сене. Большой буквы ведь не различаешь на слух, и звучало это забавно, как, впрочем, и сейчас забавляло уставших партизан. Но уж очень просто. Делаем вид, что задумались, что ломаем голову. Опасались подвоха. И наконец сдались:
— Не знаем!
— Какой?
— Париж, — сказал он.
И так мы долго опять смеялись! Не ловил, оказывается, и всех этим поймал!
Оживленней становилось за столом. Рассказали, как Гитлер разговаривал со своим портретом: «Скажи, Адольф, что дальше будет?» И портрет ему отвечает: «Меня снимут, а тебя повесят».
Подняли еще по чарке — друг за друга, и тогда Попудренко попросил меня рассказать о себе. Я отбиваться начал:
— Зачем?
— Ты среди нас старший. Батька, можно сказать. Я все выбирал время, чтобы попросить — расскажи о чем-нибудь интересном, а вот уж и до разлуки — день-другой… Расскажи! Некогда откладывать.
— Обо всем не расскажешь.
— И не надо обо всем! Давай какой-нибудь случай — из прошлого, когда многих из нас еще и на свете не было…
Его начали поддерживать другие, я понял, что не отобьешься, пусть и говорить не хотелось, лучше бы еще посмеяться, рассеяться немного. Но тут вспомнился один, можно сказать, веселый случай, и я согласился:
— Слушайте, чтоб вам…
Первым к революционным делам из нашей семьи потянулся старший мой брат Степан. Он и плотничал, и столярничал, устроился работать на лесопильный завод в Узруевском лесу, отец глядел и радовался: вырос помощник! А брат Степан уже скопил злобу против богачей и — это было перед самым пятым годом, — поскольку других революционеров рядом еще не видали и не слыхали, связался с отрядом Савицкого, который действовал в Узруевском лесу. Кто он был по убеждениям, этот Савицкий, не могу сказать, не знаю, но бедных не трогал, а на богачей-живодеров нападал, как Робин Гуд.
Невдалеке от нашей слободки, в хуторе Фирсове, жила одна помещица, которая так боялась крестьянской расплаты за свои издевательства, что, не считаясь с расходами, держала у себя драгунов для охраны имения. Ну вот, как-то Савицкий возьми да и напиши ей письмо, что приедет в гости. Пусть, дескать, ждет и готовит драгоценности. Она, конечно, скорей об этом земскому начальнику и в город, исправнику. Те даже руки потерли: вот случай покончить с Савицким, изловить его!
Охрана прибыла на следующий день. Помещица радушно приняла командира, поставила на стол всякие угощения, сама уселась рядом. Только начали ужинать, командир делится с ней тревогой, что, по его сведениям, каждый час может появиться Савицкий и лучше ей свои драгоценности принести в эту комнату, а он поставит на часах солдат с винтовками и кинжалами. Так и сделали. После ужина командир еще говорит помещице: для успеха операции, чтобы не спугнуть Савицкого, драгунам следует снять посты вокруг усадьбы, спрятаться где-нибудь в помещении и ждать тихо, он скомандует, когда потребуется их помощь. И это исполнили. Командир выставил в местах, укрытых от взгляда, свой тайный дозор. Помещица его похвалила, какой он умный да хитрый, а он смеется: вы же еще не знаете, какой! «Ах, — говорит помещица, — появится Савицкий, узнаю, даст бог!» — «А он уже здесь, — отвечает командир, — позвольте представиться… Савицкий!»
Оказывается, это и был Савицкий. Опередив охрану, обещанную исправником, под ее видом он сам прибыл в имение помещицы со своими людьми. Драгунов они заперли в помещении, барыню привязали к стулу, а к ее ногам и рукам — по свертку, в которых, сказали, запакованы бомбы, взрывающиеся от крика. Едва помещица крикнет, так, мол, и взлетит на воздух…
Ну она и сидела тихо, пока драгуны не вырвались из заточения и не вынули из свертков на ее руках и ногах… морковь! Савицкий тем временем был уже далеко…
Человек, надо полагать, смелый и дерзкий, уверенный, что приносит людям добро, он устроил еще несколько налетов на помещичьи усадьбы, раздавая добычу обездоленным крестьянам-беднякам. Поймать его было трудно, потому что все его люди вроде моего брата днем ходили на работу и выглядели мирно. Но после нападения на хозяйку хутора Фирсова разъяренная жандармерия начала выслеживать Савицкого с собачьим усердием и в конце концов убила, а группу переловила по доносу — попался один фискал. И Степан оказался в Сибири. Как политический.
— За Савицкого? — спросил кто-то из слушавших.
— Не только… Приходя с завода домой на воскресенье, он, бывало, приносил с собой листовки против буржуев и помещиков, учил меня, как надо незаметно распространять их… Примерно, ездили мы с отцом в базарные дни в город, ходишь по базару и сунешь две-три листовки в воз крестьянина. А однажды я ухитрился положить несколько листовок в карман городовому.
— Как?
— А так… Городовые, случалось, пристраивались к крестьянской компании выпить чарку-другую. Вот и этот, известный злодей и придира, остановился возле нашего воза поживиться, когда знакомые подошли к отцу потолковать о жизни, а отец, конечно, приветил их… Ну как раз городовой чарку пил, тогда я и сунул ему листовки в карман шинели, вынув их из-за пазухи. И тут же отправился бродить по базару — интересно мальчишке… А после — разговоров! В полицейском участке, при начальнике, этот городовой полез за чем-то в карман и рассыпал по полу листовки. Его из полиции вовсе выгнали, а слух по всему Новгород-Северскому разнесся: революционеры-то пошли так действовать, что городовые из своих карманов листовки вынимают!
— Сколько вам тогда было?
— Четырнадцать.
— После Степана — первая опора отцу, стало быть.
— Да, он меня всеми правдами и неправдами в земское ремесленное задумал отдать. А я ведь не окончил даже церковно-приходской школы, и отцу, конечно, указали: не лезь. Но у него шесть ртов в доме кроме жены, моей матери. Давай отец молить священника, отца Андрея, чтоб тот выписал мне справку об окончании школы. Тот выпить любил и передает через попадью, что это будет стоить двадцать пять рублей. Где взять такие деньги? Пришлось телку продать, кое-что заложить, у друзей занять по рублю, по два, и вот священник принял нас в кухне. Объясняет, что для порядка должен сначала меня проэкзаменовать. Я дрожмя дрожу, а он задает вопрос: «Утром ползает, днем ходит, а вечером на четвереньках стоит. Что это?» Думал я, думал и отвечаю: человек. Он вроде рассердился сначала: почему? Я еще больше задрожал, бормочу: «Маленький ползает, потом ходить научается и ходит, а станет стариком — уж ничего не может, даже и ходить, только на четвереньках стоит». Поп развеселился, кричит: «Угадал!» С его справкой приняли меня в ремесленное, но вскоре выгнали оттуда.
— За что?
— Как политически неблагонадежного! В политике я, конечно, еще не разбирался, но в распространении листовок уже имел опыт и помогал в этом своему товарищу Гойко, который не раз приносил в училище листовки РСДРП. Схватили меня на этой самой ярмарке в Новгород-Северском и посадили в карцер при полиции. Для моего отца было это целое горе, но все же опять он набрал денег на взятку и выкупил меня, взял на поруки.
— Обошлись вы отцу!
— Да уж! Мы с ним вместе начали думать, как дальше быть, и уговорил он немца Остермана, чтобы взял меня к себе в механическую мастерскую учеником…
Тут я тяжко вздохнул, а кто-то из гостей Попудренко спрашивает:
— Чего так?
— Да вскоре я крепко побил сына этого Остермана. Очень он лез к нам, ученикам, до зуботычин доходило. Раз ударил моего соседа, тщедушного паренька, а я и огрей его молотком! И опять полиция…
— Вот тебе на! Ругали, небось, сами себя?
— Да нет… Это была моя первая политграмота. Надзиратель на меня орет: «Какое же ты имел право бить хозяйского сына?!» Я спрашиваю: «А он нас бить имеет право?» — «Значит, имеет!» — кричит надзиратель.
После этой истории я, отсидев в полиции, решил уехать из Новгород-Северского подальше, не веря, что везде одинаково. Думал, не может так быть… Уехать без паспорта нельзя, а паспорта мне по возрасту еще не полагалось. Волостной писарь Авдеенко заломил за него двадцать рублей. Опять отец одалживал. Действительно, обошелся я ему… Пять рублей дал Владимир, муж сестры Степаниды. И с паспортом отправился я в Никитовку, на рудники. Работал там самую черную работу. Спать примащивался у коксовых печей, вместе с другими бездомными. Познакомился и подружился там, на Нелеповском руднике, с Михаилом Бышко, с которым потом воевал против оккупантов под началом батьки Боженко.
Там я пережил эпидемию холеры. Жуткая картина была. Идешь, смотришь, на земле лежат трупы, а то человек впереди тебя, шагая на работу, вдруг упадет и начинает корчиться. Боролась власть с холерой одним способом — никого с рудника не выпускали, живой цепью стояли охранники. И все же мы с Бышко надумали бежать, пока нас самих не скрючило. Первый раз поймали в поле, вернули на рудник. Через пару дней мы опять в бега. Удалось выскользнуть и добраться до Горловского рудника. Работы нет. Перебрались дальше, на Щербиновский рудник, и устроились в шахте. Ура! Работать в шахте несладко, вечером выберешься наверх, под небо со звездами, без сил, а все равно — ура! Стали получать чуть больше, чем раньше. Я работал навальщиком породы и подсчитывал в уме, сколько и когда смогу послать отцу. По-прежнему перебивались с хлеба на воду, но к шахте привыкли. То ли по привычке этой, то ли по молодости стало казаться, что одинаково — в поле пахать или в шахту спускаться.
Но шахта — это шахта, конечно. Техники безопасности никакой не было. Каждый день убивало по нескольку человек: то обвал, то коногона вагонеткой придушит, то еще что-нибудь. Считалось нормально — шахта! И взрывы газов бывали — тогда сразу гибли десятки людей.
Я работал уже забойщиком, когда попал под обвал. Сидел я один глубоко под землей и думал: ну конец! У меня была с собой бутылка подслащенного чая и кусок хлеба — шахтерский обед, всегда с собой брали. Пью чай, и такой он вкусный, лучше нет ничего на свете. Мысль о том, что придется, не видевши жизни, прощаться с нею, гоню от себя. Когда выпил весь чай — уснул. Очнулся — голова трещит, дышать нечем. Потом начало грудь теснить, сжимать. Не знаю, как долго лежал без сознания, а пришел в себя оттого, что за ноги меня тянут. Повезло! Выручили товарищи, добрались. Навсегда это вошло в меня, как закон жизни: держись товарищей!
А жизнь текла все интересней, осмысленней. Машинист Новиков все чаще говорил со мной на политические темы, я уже и сам говорил с другими. В декабре десятого года девятнадцатилетним шахтером я вступил в РСДРП…
Скоро на руднике — большая забастовка. Казаков вызвали. А я попал в число зачинщиков, меня давай по тюрьмам гонять, ну, думаю, выйду на волю, не такое вам устроим, держитесь, хозяева! Из тюрьмы меня — в деревню, под надзор полиции, да я и там времени даром не терял, не раз с крестьянами о политике заговаривал, и пристав трижды сажал меня под арест, пока не надумал отдать в солдаты — надоело ему возиться с бунтовщиком, как он говорил. И отдал. Началась империалистическая, царю требовались солдаты.
Так я впервые взял в руки оружие. Не я один. А с оружием мы смогли добиться всего…
Глава тринадцатая
Едва ли не самым серьезным препятствием на партизанских путях были железные дороги. Они всегда бдительно охранялись захватчиками. Двигаясь дальше по своему маршруту, мы приближались к железной дороге Гомель — Бахмач. Ее надо парализовать.
Что ж! Мы ведь шли на Полтавщину, чтобы взрывать там железнодорожные пути, и я сказал своим командирам: вот вам первый случай для опыта.
У нас был большой обоз, и для движения через железную дорогу мы наметили переезд за селом Деревины, на котором, по донесению разведки, стояла сторожевая застава; а в селе находился стан полиции — сорок человек. Сначала надо было разгромить полицаев, а уж потом захватить переезд.
Учитывая важность задачи, с первым отрядом пошел комиссар соединения Негреев. Помог сильный дождь, который грянул в полночь на подходе к Деревинам. Боевой отряд продолжал двигаться. Нападение на полицию было настолько внезапным, что она, по существу, не приняла боя, большая часть полицаев разбежалась, открыв дорогу на переезд. Туда была немедля послана разведка во главе с Андреем Дунаевым, но что-то долго не возвращалась. И ни одного выстрела не доносилось. Я начал беспокоиться, потому что соединение уже сгруппировалось в Деревинах. И вдруг прибегает Исаак Сосновский и докладывает, что переезд очищен от фрицев. Тогда я и обратил внимание на этого парня, спрашиваю:
— Как очищен?
А он помедлил и отвечает:
— Мы их перекололи.
Без бахвальства, по-деловому, сурово говорит. Вот как, оказывается, это было…
Через полкилометра от Деревин разведчики приблизились к переезду, разделались с двумя вражескими часовыми, а потом ворвались в сторожевую будку, где спали еще несколько солдат, и, не дав им очнуться, покончили с ними. Заметив, что по ту сторону переезда топчутся еще три захватчика, Андрей Дунаев сам переоделся в немецкую форму, за ним быстро переоделись еще два разведчика, втроем вышли из будки, приблизились к часовым и разделались с ними.
По-моему, это пример того, что мало напасть, надо еще и после нападения действовать, не теряя ни секунды, дабы не пропало преимущество, которое дала внезапность.
Соединение быстро перешло железную дорогу и завладело селом Кусеи. В стороне остался железнодорожный мост, охраняемый гитлеровцами. У них были пулеметы, но огонь они открыли, когда мы были уже в Кусеях. Если и доносился до них какой-то шум с переезда, то они не придали этому значения, там свои сторожа. А поводом к открытию огня им послужили два наших взрыва: это партизанские подрывники, словно бы салютуя успешному преодолению серьезного препятствия, подорвали железную дорогу.
Когда я въехал в село Кусеи, меня встретил Митрофан Гаврилович, и еще раз я убедился в любви комиссара к шутке, а главное — в способности при самых сложных обстоятельствах не изменять этой своей любви. Он держал в ладонях несколько куриных яиц, предлагая:
— Могу яичницей угостить. Свежие яйца!
— Откуда?
— Веду заготовку.
— И много заготовили?
— Ящиков тридцать или больше… Только подхожу к одной хате, — объясняет он, — высыпают женщины и говорят: «Вы бы, товарищи, здесь яйца забрали!» — «Какие?» — «Да как же! Фрицы заготовили, со всех сел вокруг свезли, упаковали в ящики, но отправить не успели».
— Скажи Мейтину: пусть запасается, а что не сможет взять — раздаст населению.
Светало… Мы встретили этот рассвет в небольшом, но уютном Добрянском лесу. Очень хотелось полакомиться яичницей, но нельзя развести костры — вокруг вражеские самолеты.
Три наших разведчика — Черныш, Кошель и Сосновский — остались в Кусеях следить за противником. Спать разведчики не ложились, на рассвете сидели в хате и завтракали, когда вбежала хозяйка: фашисты! Ребята вмиг выскочили во двор, притаились: три бронемашины шли по центральной улице. На окраине ставили орудия — стволами к лесу, это наши увидели, перебравшись через огороды в кустарник. Прибыли автомашины с пехотой. Двое остались наблюдать, а Сосновского отправили в лес через луг, заросший некошеной травой…
Он добрался до соединения. Да, гитлеровцы были уверены, что мы в лесу. И не ошиблись.
Не заставили себя ждать и самолеты, хотя костров мы так и не развели. Замаскировались старательно, и немцы сбросили бомбы наугад. Через час Шкловский доложил: на заставу из села Перепись пришла женщина и рассказала, что она сама видела в селе восемнадцать вражеских бронемашин. Взяла ребенка, чтобы ответить, если остановят, будто идет к своей матери в соседнее село, но ей удалось благополучно дойти до партизан.
Так нас заперли и со второй стороны. Что делать? Думалось, надо стараться пока не обнаруживать себя: может быть, удастся оторваться от врага с его обильной, но не лесной техникой. Послал ординарца в отряд имени Щорса, где был Негреев, приказал, чтобы до последнего не открывали огня. Ординарец, вернувшись, сказал, что комиссар и сам принял такое решение, но, по данным щорсовцев, много фрицев и в селе Мостки, то есть южнее нас. Это уже походило на кольцо…
В штаб соединения скоро прискакал Попов и доложил, что с запада от Добрянского леса, в селе Глубоцком, замечены гитлеровцы с танками и кавалерией. Кольцо замкнулось. Ах, если бы мы были в другом лесу, попросторней, поглубже! А этот лес похож на остров среди полей, окружавших его вместо воды. Со всех сторон открыт для удара! Можно и нужно это было заранее предусмотреть, а сейчас уже не поправишь.
Да ведь и партизаны, хоть они и способны вынести все, люди, а людям надо было дать после ночного марша с боями передышку, надо было поесть хоть холодного, раз отказались от костров ради скрытности.
Фашисты будут всячески провоцировать нас на то, чтобы мы обнаружили себя. Они не сомневались: мы здесь, в лесу, больше нам негде было укрыться, а следы мы оставили заметные: и в Деревинах, и на переезде. Но костер, стрельба — это конкретные цели. Да, они будут стараться выяснить конкретные цели, вывести нас из себя, значит, наше дело — не позволить им добиться этого! Лес хоть и невелик для маневра, а все же — лес, наш дом, и, пока мы в его гуще, враг нас не видит, не ведает, где мы, боится нас. Молчать, держать врага в страхе!
Сначала в целях разведки фашисты послали в лес мирных жителей — двух женщин и двух мужчин. Крестьяне не дошли до нас, попрятались от вражеских наблюдателей за деревьями, посидели с часок, возвратились и, похоже, сказали, что никого не обнаружили.
А. Л. Каменский
Двумя цепями гитлеровцы сами пошли к лесу через луг. Когда они были уже недалеко, пулеметчик Мамет Байрамов нервно крикнул Каменскому:
— Командир! Давай команду стрелять!
— Нельзя!
Обошлось без выстрелов, которые могли перерасти в бой, втянуть в него всех, а у нас была совсем другая задача — дойти до Полтавщины и там действовать согласно приказу. Гитлеровцы начали поворачивать в каких-нибудь ста метрах от нашей цепи. Многие партизаны вскинули винтовки и автоматы, чтобы стрелять им в спину, но Каменский и Косенко замахали кулаками по сторонам, предотвращая стрельбу.
— Наступают — не стреляй, отступают — не стреляй, — ворчал Байрамов. — Стихи пишут про фрица — сколько раз увидел, столько убей. Я вижу, а приказ — не стреляй!
Трудно бывает на войне бороться с эмоциями, с переживаниями бойца. Желание угостить захватчика пулей кажется ему разумнее всяких объяснений. У этого бойца, может быть, убили родных: мать, сестру, брата, может быть, друга, может быть, захватили город, где он рос и жил, его родной дом, может быть, он видел на своем военном пути рвы с телами расстрелянных фашистами детей, сожженные деревни с сотнями печных труб над пепелищем, где когда-то звучали человеческие голоса… И пусть безымянными остались для него расстрелянные, вместо хат которых теперь стояли на земле только каменные рощи труб, все равно он был полон ненависти к врагу и желания отомстить за все его злодейства.
Но тактическая задача требовала, чтобы мы не принимали боя в Добрянском лесу, где фашистам удалось окружить нас. Бой, самый мужественный, все равно мог поставить точку в истории только что родившегося партизанского соединения. Недаром из УШПД нам так часто напоминали: «Не ведите открытых боев. Сохраняйте партизан. Больше пускайте под откос поездов, выводите из строя паровозы, это самое главное, закройте движение!» Для этого наше рейдовое соединение и шло на Полтавщину, но туда надо было еще дойти.
Бой в Добрянском лесу был выгоден гитлеровцам, они нас вызывали на этот бой. Обсудив в штабе сложившуюся ситуацию, мы решили — до самой критической минуты не обнаруживать себя, но использовать время с толком, создать круговую оборону на случай, если фрицы отважатся войти в лес, и дать им хороший отпор.
В оборону, в помощь отрядам, расположившимся по всем сторонам Добрянского леса, мы поставили даже разведчиков соединения; они держали рубеж с юга, против Мостков. Все дороги и просеки, ведущие в лес, заминировали. Диверсионные группы Тарновского проникли в тыл к гитлеровцам и заминировали некоторые дороги, по которым они могли подбрасывать подкрепление к Добрянскому лесу…
Мы поехали по отрядам, чтобы объяснить обстановку и поднять дух наших партизан, сказать, что командование ищет выход из леса, окруженного гитлеровцами. Это было правдой. Мы разведывали, нет ли где неизвестной, не помеченной на картах дороги, лес всегда полон тайн, в том числе и таких — вдруг в самом глухом его закутке обнаруживается дорога, накатанная какими-нибудь стихийными дровосеками. Пока ничего похожего не было, но Кочубей разрабатывал оперативный план выхода, а «майор» Мейтин, получив задание досыта накормить партизан перед возможным походом, ломал голову, как это сделать. Костры все еще оставались для нас запретными.
А гитлеровцы считали, что не выпустят свою добычу из Добрянского леса, оказавшегося для нас ловушкой. Быть может, от этой уверенности и не торопились с атакой, оберегали себя от излишних потерь. Из Кусей вернулся Черныш, его разведданные содержали новые, очень любопытные сведения: фашисты приказали населению приготовить лопаты, чтобы через день-другой зарывать партизан в лесу.
Один отряд здесь уже поплатился жизнью, об этом тоже рассказал нам Черныш… В сорок втором году в этом лесу был партизанский отряд, который так и назывался — Добрянский. Кроме того что он был малочисленным и не очень-то вооруженным, гитлеровцам удалось заслать в него шпиона, который и передал им эти радостные для них цифры — отряд слаб. Все равно, однако, он героически сражался три дня. Убили командира, тяжело ранили комиссара, и он умер в лесу.
«Так будет и сейчас!»— говорили немцы.
Глава четырнадцатая
Конечно, нас было больше, чем местных партизан в отряде прошлого года, и вооружены мы были несравненно лучше, но ведь и фашисты стянули сейчас сюда куда более внушительные силы. Конечно, наступление наших войск на фронте, перемена общего положения меняли психологию и самих гитлеровских солдат, но это были лишь одиночные случаи. Их и оценивать можно было с точки зрения психологической, а не оперативной…
А такие случаи были!
В одном из отрядов, например, нам доложили, что в лес пришел немец и сдался в плен. Он оказался переводчиком, служил у гитлеровского коменданта в Добрянке, соседнем селе. Мы пригласили его сесть и рассказать все по порядку. Рассказ короткий. Фашисты готовятся к большому наступлению. Он пришел предупредить нас. Он их ненавидит. «Я не хочу больше им служить, хочу бороться против них, прошу поверить мне! Да, я сотрудничал с ними, подчинялся и хочу смыть свою вину. Я не боюсь, что меня могут завтра убить, как и всех вас, я иду на это сознательно!» Родом он был из немцев Поволжья.
Наши разведчики продолжали искать дорогу для выхода из Добрянского леса, но везде натыкались на гитлеровцев. Первая ночь прошла спокойно, а вторая? Кочубей и Дунаев в поисках дороги с небольшой группой разведчиков доехали до села Прокоповки, разгромили там старостат, перебили почти всех полицейских и, вернувшись в лес, привели с собой группу местных жителей, которые попросились в отряд. Возглавлял их худощавый человек с палкой в руках, по фамилии Малов. Он прихрамывал. И, как выяснилось, был политруком в Советской Армии…
Шестое примечание
Константин Михайлович Малов, собирающий воспоминания бывших партизан, радующийся каждой новой страничке с каким-нибудь любопытным фактом, никак не хотел рассказывать о себе. Неудобно. Один из руководителей совета ветеранов, вдруг кто-то скажет — вот, воспользовался возможностью себя показать. Да нет, ничего, дескать, не надо, найдется, о ком рассказывать. Пришел в лес, как и многие другие, отыскал, к своему счастью, партизан и снова включился в активную борьбу с захватчиками.
Откуда пришел? Да из числа попавших в окружение армейцев. Включился в борьбу снова. Значит, уже воевал где-то? Да, с первых дней войны… Все это интересно? Кому? Читателю?
Ну ладно, без эпитетов и лишних слов. Как было…
Рассказ Константина Малова
— Я москвич, коммунист, окончил военно-политическое училище перед самой войной. В период военных действий, которые наш полк начал под Ровно в первые дни войны, после ранения комиссара полка (как раньше называли) исполнял его обязанности. Дрались без отдыха. При прорыве из окружения в районе села Оржица на Полтавщине я был ранен и контужен. Тяжело. В каком-то сарае, куда гитлеровцы свалили раненых, пришел в себя. Попробовал двигаться, не вышло: руки и ноги не работают. Плохо слышал, ничего не говорил больше месяца, а потом еще долго заикался…
Часовые смеялись: медленно дохнут русские! А нас кроме молодости, которая боролась за себя, и армейской закалки поддерживала ненависть к врагу. Теперь будущее не представлялось без борьбы с врагом. Для этого и хотелось встать на ноги.
Видно, чтобы помочь нам «дохнуть», нас перевезли в Хорол и посбрасывали на каменный пол в каком-то здании, именуемом — госпиталь. В окнах ни одного стекла. А на дворе уже осень. Начались болезни. Тиф, воспаление легких… Каждый день умирали десятки человек. Перебитая нога распухла, стала как бревно. Гной и сукровица на ней образовали корку. От ветра, который не удерживали в открытых окнах рваные шинели, мы сбивались плотнее, стараясь согреть друг друга. Насекомые, уничтожать которых не было сил, переползали с одного на другого, копошились в тряпках, прикрывающих раны.
Русский медперсонал помогал нам чем мог: как-то лечил, как-то кормил, а однажды, воспользовавшись тем, что гитлеровцы стали передавать тяжелораненых родным, меня с чужими документами выпустили на волю.
От села к селу, попутными подводами, под сеном и соломой пробирался к цели. Она была одна: партизанский лес. Хотя ходить без подпорок я еще не мог… Люди прятали, помогали. Кормили, от детей хлеб отрывали. Чем их отблагодарить? Одним: думалось, вот приду к партизанам…
Но не так-то это легко. Партизаны везде и нигде. Люди слышали о Ковпаке, о Федорове. Где они? Вроде где-то под Черниговом и Гомелем. А не встречаемся. Так добрался до Прокоповки, на санях. Сил, честно говоря, мало, нога опять похожа на бревно. Меня оставили в селе, взяла к себе семья Шкляровых, но все ей помогали чем могли — и едой, и одеждой. Меня «передавали» на содержание из дома в дом вроде пастуха. Низкий поклон всему селу! Оно — моя вторая родина.
Вечерами в хату набивались мужики, кое-кто доставал из-за голенища немецкие газеты «Колокол» и «Новый путь», толковавшие о «новом порядке». Сводки с фронтов невеселые плюс фашистское бахвальство. Некоторым нелегко было в те дни отыскивать опору для веры в быстрое возвращение своей армии, но вот что главное: я старался поддерживать эту веру, и ведь никто не выдал меня! Одна и та же надежда заполняла людские сердца.
Вспомнив свою рабочую молодость, я чинил «ходики», будильники, замки. Весну сорок третьего года встречал на завалинке хаты, насаживал бабам вилы, мастерил грабли, выздоровление на воздухе шло быстрее. На улице — мальчишки, и среди них бегал хозяйский сын Володька, не раз шепотом предупреждал меня: «Костюк, в хату! Полицай идет!»
Вокруг меня сами собой группировались такие мужики и парни, что хоть завтра в лес веди. Но куда? Где взять оружие? Тоска сжимала сердце. И вот… Когда я услышал, как ручной пулемет дал длинную, непрерывную очередь, узнал сразу: наш. Едва одевшись, скорей на улицу, где слышались выстрелы. Вижу, на перекрестке — крепкий хлопец, форма гитлеровская, а на пилотке — красная лента. Партизан! Что выделывало сердце — словами не скажешь. Кричать хотелось от радости… Когда шли к командиру, по улице навстречу вели пойманных полицаев, но начальник полиции, с чисто полицейской кличкой — Урядник, успел сбежать на велосипеде, в одном белье. «Ладно, думаю, земля большая, а некуда тебе бежать, попадешься…
Вместе с Маловым пришло несколько человек из Прокоповки и соседнего села Будище, один лучше другого. Но… война есть война. Она не терпит благодушия и легкомысленной доверчивости. Тем более война в тылу врага. Если за доверчивостью один душевный порыв, это может дорого стоить. У нас была своя служба, проверяющая людей, и она работала. Однако в приходе этой группы было обстоятельство, которого не зачеркнешь: они пришли в окруженный лес, в отряд, взятый врагом в кольцо. И это само по себе говорило о многом, о готовности людей сражаться в партизанских рядах хоть день, хоть час. Если кто-то еще не понимал нашего положения, я объяснял. Ни один не ушел. Скоро все показали себя храбрыми бойцами. А Константин Малов стал у нас комиссаром отряда, которым командовал Александр Каменский. И когда я забеспокоился, что он с палкой, еще прихрамывает, как будет воевать, Негреев рассмеялся:
— А ты какой прилетел?
— Так… уже все в порядке!
— Ну и у него все будет в порядке. Столько ждал человек. И политруки нам нужны!
Нужны нам были не только политруки, и самое время вспомнить тут добрым словом армейцев — командиров и бойцов, — которые в период отступления их частей, вырываясь из окружения, чаще всего раненные или контуженные, при помощи местного населения прятались от гитлеровцев, искали и так или иначе находили связь с партизанами, а нам оказывали такую помощь в обучении военным премудростям сельских парней, в командовании разными операциями, что и переоценить трудно.
Ну, например, Григорий Шакута из Лемешовки. Может быть, вспомнился сейчас раньше других, потому что пришел к нам за несколько дней до Константина Малова. До войны в родном селе Григорий окончил среднюю школу, работал в поле, заведовал колхозным клубом. Призвали в армию, стал сапером. Уже в первые месяцы войны показал себя храбрым, знающим сапером, командующий армией К. К. Рокоссовский присвоил ему звание младшего лейтенанта и назначил командиром саперного взвода.
Смоленский лес, окружение… С четырьмя бойцами младший лейтенант вышел из окружения, а дальше? Несмотря на свирепые вражеские облавы, Шакута вывел бойцов в черниговские урочища с надеждой найти партизан. Не удалось. Бойцы болели. Двое остались в Сеньковке, двое в Кирилловне, а сам Григорий добрел до своей Лемешовки. Не для того чтобы успокоиться. Очень скоро вступил в подпольную группу, которая слушала радио, вела среди населения беседы о положении на фронте, опровергая фашистские преувеличения, рассказывала о зверствах гитлеровцев на нашей земле, собирала оружие для передачи партизанам или организации своего отряда.
Когда разведчики Дунаева проникли в Лемешовку, Григорий установил с ними связь и не только сам ушел в отряд, но и увел с собой молодых подпольщиков Анисенко, Калашникова, Письменного и еще нескольких добровольцев.
Это Григорий Шакута, в совершенстве зная наши и вражеские мины, стал у нас первым учителем партизанских подрывников. Многие операции с подрывом мостов, эшелонов, автомашин он провел сам. Я о них еще расскажу, а пока вернусь в Добрянский лес…
В числе тех, кто пришел из села Будище, были два брата Неборачко, и один из них, Максим, привел нас к могиле командира и комиссара бывшего Добрянского отряда. Его попросил об этом Негреев, услышав, что Максим хорошо знает этот лес, знает, где находится и партизанская могила. Шли по узкой лесной тропе. Подойдя к могиле, сняли шапки, опустились на одно колено, постояли, почтили память своих незнакомых товарищей, защитников Родины. Помню, возвращались, долго неся шапки в руках, как от близких родных, принятых этой действительно сырой после весенних дождей землей.
Молчание прервали мы с Негреевым, заговорив с Максимом о том, не знает ли он не открытого, а вроде бы тайного выхода из этого леса.
— Ну как же! Есть одна просека, — сказал Максим.
Я остановился:
— Какая просека?
— Вон там, у Мостков, растет сосновый лесок, молодой, а через него тянется просека…
— Подожди.
Я вынул карту — молодой лесок есть, но никакой просеки в нем не обозначено. Это была немецкая карта, из планшета офицера, убитого недавно. Как раз то, что нужно! Это нам на руку.
— Подводы по ней пройдут, по этой просеке?
— Подводы? Да, с трудом, конечно, но пройдут.
— Без труда не вытянешь и рыбку из пруда.
— И окажемся близко к Мосткам, а там большой гарнизон гитлеровцев с танками и бронемашинами, — сказал Негреев. — Бросятся на нас, отрежут путь.
— Не каркай. Не похоже на тебя.
Гитлеровцы усиленно обстреливали из орудий наш лагерь, то место, где стоял штаб. Я распорядился перенести штаб почти на опушку леса, за ней и начинался молодой сосняк. Я уже принял решение — воспользоваться просекой, о которой сказал Максим Неборачко. Тем более что для противника мы двигались в совсем неожиданном направлении, будто глубже залезали ему в пасть. Он к этому никак не готовился, еще не приучился к мысли: от партизан жди всего. Посоветовался с Негреевым еще раз, с Кочубеем, послали разведку — проверить просеку. Проводником группы Дунаева был Максим, перед которым я, как вспомню его, так и снимаю мысленно шапку за знание родного леса, за то, что не испугался ни болотных троп, ни ответственности.
Максим Неборачко у нас в соединении выполнил немало ответственных заданий и был награжден позже орденом Красной Звезды.
…Обстрел леса все усиливался, и ясно становилось, что эта ночь, а тем более завтрашний день не будут спокойными. Лес загорался. Конечно, сырая листва не давала пожару неудержимого разгона, но если гитлеровцам удастся поджечь лес еще в нескольких разных местах, нам станет хуже. Пока, правда, пожаром воспользовался наш находчивый «майор». Его повара развели костры на полянах среди горящего леса и сварили обед. Поели горячего.
Начало темнеть. Вернулся Дунаев, доложил, что просека проходима, обоз пропустит. Я велел Дунаеву расставить разведчиков вдоль всей просеки, чтобы не было никакого подвоха для колонны, а отрядам — готовиться к маршу. И тут припустил такой дождище, что лесные костры стали гаснуть!
То ли природа помогала нам, то ли просто счастье улыбалось, но во всяком случае мой ездовой Василий Иванович Погуляй хоть и шутя, а говорил:
— Господь он знает, кому помогать!
Шумный, густой, долгий дождь был, конечно, очень кстати. Без единого выстрела, под носом у фрицев, мы вышли из леса на далекий луг. И тут дождь кончился, тучи разогнало, ярким утренним светом, какой обычно бывает в самом начале солнечного дня, враз окинуло всю землю… А перед нами — село Ильмовка, и в нем полицейские, мобилизованные для уничтожения партизан в Добрянском лесу. Всю ночь они несли вахту на дорогах, а сейчас сели завтракать, не предполагая, что мы уже вышли из леса. Видно, что просека была им незнакома.
Андрей Дунаев получил задание решительным ударом уничтожить полицаев.
Он взял с собой всю конную разведку, переодетую в полицейскую форму, сам, понятно, тоже переоблачился и без происшествий въехал в Ильмовку. Полицаи начали выглядывать, выходить из хат на улицу, едва появился перед их штабом незнакомый отряд. Дунаев привстал на стременах и воскликнул:
— Господари! Я привез вам приятное известие. Зовите всех!
Почти все и так уже были на улице, к ним прибавились остальные из соседних хат. Тогда Андрей поднял руку к шапке, и по этому сигналу партизаны начали стрелять из автоматов. Полицаи обрели невиданную прыть, пустились врассыпную. Убитые падали.
Мы пошли дальше. Крестьянки выносили партизанам хлеб и молоко. Впереди ждал нас большой Тупичевский лес, но до него надо было еще с боем пройти Владимировку, буквально прорваться через нее. Село лежало среди болот — не обойдешь.
Вот уже показалась маковка церкви. В селе — вражеский гарнизон, говорили, не меньше ста человек. Но… выбор у нас был один — быстрее выиграть этот бой, сделать его коротким.
По испытанному методу перед селом я развел свои отряды, чтобы нанести удар с разных сторон. Разведка, пешая и конная, оставалась при мне, я мог сразу бросить ее туда, где будет нужней поддержка. Первый и второй отряды пробрались к Владимировке через болота, иногда люди проваливались в трясину по грудь, многие буквально ползли, тяжело пришлось нашему новому, еще не совсем здоровому партизану Константину Малову, но товарищи помогли, и скоро с обеих сторон села партизаны вышли на огороды, можно сказать, на наши ударные позиции.
Не задерживаясь, ворвались в село. Сильная стрельба и взрывы гранат послужили сигналом для нас — вперед! Бой был короче, чем я думал. Гитлеровцы сопротивлялись неорганизованно. Когда я подъехал к их штабу, то увидел вокруг много убитых. Мне показали труп начальника полиции. А где начальник гарнизона? Никто не знал.
Но дорога через Владимировку к Тупичевскому лесу была, как можно полагать, свободна, и я отдал соединению команду незамедлительно двигаться туда. В это время возникла стрельба у церкви. Ко мне подскакал Дунаев и сказал, что начальник гарнизона (это видели владимировские жители), а с ним еще несколько офицеров и солдат укрылись в подвале под церковью и оттуда обстреливают наш обоз, двинувшийся мимо. Церковный подвал имел приготовленные бойницы.
— Гранаты!
Два разведчика — Алексей Морозов и Василий Юрченко — подползли к бойницам церковного подвала и швырнули туда гранаты. Взрывы были такие громкие, что у меня в ушах зазвенело. Уж не знаю, оглушили гранатометчики фашистов или поубивали, но стрельба оборвалась, и обоз покатился дальше. Короткие остановки были только для того, чтобы подобрать трофеи.
Прорыв через Владимировку вовсе не означал, что мы истребили весь ее гарнизон. Мы спешили к Тупичевскому лесу, который мог укрыть нас, долгий бой грозил обернуться западней, и я не удивился тому, что у деревни Александровка нас стали догонять бронемашины, брошенные в преследование за нами противником, очухивающимся, ну, скажем, приходящим в себя.
Но ведь и мы не лыком шиты. Наши саперы-диверсанты успели пусть наспех (лучше так, чем никак), а все же заминировать дорогу, по которой мы только что прошли, и одна бронемашина, как раз та, что была с пушкой на прицепе, подорвалась (вместе с пушкой), а остальные не рискнули преследовать нас дальше, постояли, повернули обратно и затарахтели.
Утро еще не кончилось, а мы уже втягивались в Тупичевский лес. На другой день получили радиограмму из УШПД: «Салаю, Негрееву. Тактику маневрирования отрывом противника без потерь одобряю. Начсоставом проведите разбор боя. Строкач».
Разведка, оставленная нами для наблюдения за врагом в районе Добрянского леса, привезла интересные сведения: мало того что гитлеровцы даром развернули и провели наступление на Добрянский лес, когда нас там уже не было, они на обратном пути в Кусеи и Добрянку наскочили на наши мины. Подорвались четыре машины с солдатами, беззаботно сидевшими в кузовах.
Ну, конечно, оккупанты убеждали местных жителей, что уничтожили партизан, проникших в Добрянский лес. Кое-кто даже уверял, что они и листовку выпустили и писали в ней, будто партизаны истреблены, а командир и комиссар убиты. Я этой листовки не видел…
Глава пятнадцатая
Гитлеровцы не оставили нас в покое. Самолеты-бомбардировщики налетали на Тупичевский лес. Гитлеровцы, не способные углубиться в лес, обстреливали его из танков и бронемашин. Мы сопротивлялись, прибегая к партизанской хитрости. В трех километрах от своего лагеря развели костры, и бомбардировщики со свастикой на крыльях усердно обрабатывали это место. Бронемашины, рисковавшие прорваться в лес, перехватывались нашими разведчиками.
Мы все время вели активную разведку, дабы знать, что предпринимает враг вокруг нас и даже что он замышляет, к чему готовится. Андрей Дунаев — умный и отважный человек. Но при всей подготовленности ему бы не провести разведки, необходимой в военном деле как воздух, особенно когда действуешь во вражеском тылу, если бы не было надежных помощников, способных действовать, как того требует обстановка, порой чуть ли не в одиночку.
Спроси меня, кого бы я назвал в числе лучших разведчиков, выросших у нас в отрядах, я вспомнил бы многих, конечно. Хорошие, сообразительные, решительные были парни. Но прежде всего хотелось бы назвать Михаила Осадчего, восемнадцатилетнего партизана. Рано лишившись отца, он воспитывался отчимом, Даниилом Прокофьевичем Сусло, который работал лесником в Злынковских лесах и был человеком мужественным, честным и справедливым. Он закладывал продовольственные базы для партизан, накануне оккупации сам ушел в Злынковский партизанский отряд, затем был проводником в соединении А. Ф. Федорова, и за удивительное знание всех троп и зарослей Федоров называл его генералом леса. Михаил поддержал добрую славу своего отчима-воспитателя.
Я уже рассказывал, что во время боя в селе Ивановке Михаил со своими товарищами подорвал деревянный мост на одной из дорог к селу, а заодно они же уничтожили охрану соседнего железнодорожного моста. Через три дня Дунаев повел группу в глубокую разведку к Тупичевскому лесу, и снова отличился Осадчий. Он участвовал в схватке с вражеским гарнизоном в селе Большие Щербиничи, где разведчики уничтожили двенадцать гитлеровцев. Во время нашего выхода из Добрянского леса разведчики вместе с подрывниками устроили засаду на шоссе и уничтожили две автомашины с солдатами и боеприпасами. Активно действовал Михаил с подрывниками Морозовым и Мухой, разведчиками Чернышом и Бирилло.
Из Тупичевского леса впервые, по-моему, Михаил повел небольшую группу в самостоятельную разведку по окрестным селам. О нем я еще расскажу…
А сейчас о других. На опушке Тупичевского леса разведчики Кошель, Сосновский, Высоцкий и Анисенко заметили бронемашину и три автомашины с пехотой. Фашистов было более семидесяти, а наших — четверо. Но они преградили немцам дорогу. Однако те быстро сообразили, что из укрытия их обстреливают всего-навсего несколько человек. Бронемашина попыталась обойти героев слева, но Анисенко пополз ей наперерез, а когда бронемашина поровнялась с ним, бросил противотанковую гранату. И удачно! Бронемашина загорелась.
Перестрелка нарастала Высоцкий был тяжело ранен. Сосновский взвалил его на плечи и понес, а Кошель с Анисенко отходили следом, отбиваясь от гитлеровцев и прикрывая раненого друга. Видно, немало они перебили вражеских солдат, те остановились на полдороге, а наши разведчики вернулись в расположение партизан, принесли раненого.
Еще одна бронемашина и четыре машины с пехотой подорвались на минах, потому что наши саперы, несмотря на усталость и голод, прежде всего заминировали подъезды к лесу. Партизаны посмеивались: на кого посылают фашисты свою технику и солдат, если уничтожили нас еще в Добрянском лесу?
Чтобы окончательно уверить их в нашем существовании, мы решили сами нанести удар и выбрали для этого бывший совхоз Глебово, где сейчас враг разместил свое хозяйство с откормочным пунктом для скота. В этом хозяйстве работала большая группа военнопленных, и я распорядился, чтобы Вонарх и Шкловский, отряду которых был поручен налет на Глебово, приказали своим разведчикам связаться с военнопленными: наверняка там будут люди, готовые к схватке с гитлеровцами и способные быстро и четко доложить обстановку.
Так и сделали. Наиболее горячим и одновременно деловым среди военнопленных оказался молодой старший лейтенант Александр Алексеев. Раненный в бою под Тупичевом, он попал в плен, а едва отдышался, был послан на работу в Глебово. Нашей разведке и командованию он сильно помог в организации налета на хозяйство, а позже, после налета, ушел с отрядом в партизаны и скоро стал начальником штаба в том самом отряде, который нападал на Глебово. Да, грамотные в военном деле люди, преданные борьбе за победу, не терялись у нас. Такое пополнение обогащало наши ряды, как говорил раньше, в восемнадцатом, военспецами. Тогда они были из старых войск, а сейчас — свои.
Итак, нам стало известно, что глебовское хозяйство охранял вражеский гарнизон в составе ста человек, и почти столько же было там полицейских. Ну что же, это нам подходило, мы не выбирали мелкой цели. То, что Глебово находилось всего в восемнадцати километрах от Чернигова, тоже не пугало, такая дерзость часто приносила успех, потому что противник был уверен в своей безопасности.
И. М. Шкловский
А тут выяснилось, что вечером 2 июня глебовский гарнизон меняется, одни солдаты уезжают в Чернигов, другие приезжают. Этот день и выбрали для нападения, так как смена гарнизонов всегда связана с потерей бдительности, некоторой суматохой. Илья Шкловский привел отряд и окружил казарму, но она оказалась пустой, немцы до того беспечно держали себя, что одни солдаты уже уехали, а другие еще не прибыли и, похоже, на ночь глядя не собирались прибывать. Партизаны напали на полицаев, охранявших военнопленных, перебили холуев, а пленных освободили. Начальник полиции выскочить на улицу не успел, был убит на своей квартире.
Схватили директора хозяйства Кизняка, но тут вышла такая история… К Шкловскому подошли две женщины и стали упрашивать, чтобы он взял их с собой. У обеих были пятилетние дети — девочка у одной и мальчик у другой. Шкловский стал отказываться: это ведь так рискованно — в лес, с детьми. Но женщины расплакались — им и детям грозит смерть, одной как еврейке, второй как жене видного до войны работника-коммуниста, а сейчас фронтовика. Фашисты докопаются…
В это время вывели расстреливать Кизняка. Женщины увидели его под конвоем и притихли. А узнав, в чем дело, говорят — он добрый, помогал скрываться от фрицев, брал на работу, хотя не имел права, к людям хорошо относился. Военнопленные, которые были рядом, подтверждают. Илья Шкловский отпустил Кизняка и взял с него клятвенное слово, что он сам доведет до полного разгрома это хозяйство, — ночь кончилась, партизанам пора было уходить, и Кизняк это слово не только дал, но и сдержал. Он собрал рабочих, известных ему своим настроением, поджег все постройки, уцелевшие при первом партизанском налете, а оставшийся скот разогнал подальше, чтобы его могли взять себе крестьяне. Со своей группой Кизняк ушел в лес и, попав в партизанский отряд, продолжал сражаться с фашистами.
А Шкловский привел тогда из Глебова около семидесяти отличных лошадей, много разного продовольствия привез партизанам. С ним пришли и влились в наши ряды бывшие военнопленные. Так что напрасно немцы писали, будто уничтожили наше соединение. Поторопились. Мы, наоборот, росли.
По всем, самым серьезным сведениям, фашисты готовили против нас новую карательную экспедицию. А кроме того, мы не могли задерживаться в Тупичевском лесу, хоть и глухом, но уже «транзитном» для нас. Нас ждала Полтавщина, путь туда лежал через междуречье. «Может, удастся еще свидеться с Попудренко», — думал я, скучая по нему. Не знаю, как кто, а я долго не могу забыть человека, с которым рядом шел по этим лесным дорогам и который не раз обогревал меня в пути своей душевной чуткостью. Увидимся! Междуречье — это ведь теперь его волость, мне предстоит быстро пройти леса между Десной и Днепром, а ему тут воевать…
Увиделись раньше, чем думалось. Скоро нам сообщили, что соединение Попудренко тоже в Тупичевском лесу, зашло сюда, направляясь в междуречье. Установили связь, а через день приехал ко мне сам Николай Никитович. Кроме дружеской встречи была и другая цель: обсудить, как лучше пройти в междуречье. Мы и раньше об этом говорили, но называли друг другу разные маршруты, искренне считая их более разумными и удобными. Попудренко предлагал идти лесами, запущенными самой природой, с болотами. Обойдется — не привыкать, зато эта дорога труднодостижима для врага, укрыта от его глаз, — на деле доказано. По ней прошли соединения Ковпака и Федорова, отправляясь за Днепр. Это партизанская дорога.
Я соглашался и высказывал свои сомнения. Два раза гитлеровцы пропустили по этому пути партизан, а на третий приготовятся и встретят. Они ведь тоже обдумали, как можно было бы сделать, чтобы не пропустить ни Ковпака, ни Федорова. Не лучше ли пойти совсем новой для себя и противника дорогой, без партизанских следов? Вот — через села Буровка, Церковище, Пастовбица, Павловка… Оттуда рукой подать до урочища Мокрые Велички в Любечевском лесу. Это уже междуречье.
— Ты что — с ума сошел? — озабоченно спрашивал Николай Никитович. — Через чистое поле идти? А перед Мокрыми Величками — шоссейная и железная дороги. Это погибель!
— На твоем пути тоже и шоссейная, и железная дороги есть.
— Но зато — леса, там и укрыться, и отдохнуть можно.
— Полями мы пройдем свои пятьдесят пять километров за одну ночь.
— Ночи в июне коротки.
— А мы прибавим шагу.
— Думаешь, не заметят? Больше тысячи человек в открытую!
— Так ведь ночь.
— Нет, невозможно!
До споров доходило, до громких слов, но так мы друг друга и не убедили. Я проводил Николая Никитовича до границы своего лагеря. Оба были в задумчивости, вздыхали, молчали, и вдруг он говорит:
— Сам не знаю, что со мной! Что-то ноет и ноет сердце…
— Да и у меня неспокойно на душе. Любой маршрут, какой ни выбери, труден, и риска хоть отбавляй!
Николай Никитович улыбнулся и протянул мне руку:
— Ну да все будет хорошо!
— Еще встретимся и поработаем вместе после войны, — сказал я.
— Да, да… Обязательно.
Мы пожали друг другу руки и три раза поцеловались по старому обычаю. Сели на коней, которых до сих пор вели в поводу, повернули их, и каждый поскакал в свою сторону.
— Встретимся в междуречье! — услышал я голос Николая Никитовича.
Но не пришлось. Встреча среди тех деревьев, на той лесной полянке была моей последней встречей с Николаем Никитовичем, душевным человеком, бесстрашным партизанским командиром.
Мы уже были в междуречье, когда пришла первая весть о тяжелом положении, в которое попало соединение Попудренко…
До железной и шоссейной дорог на своем пути они шли спокойно, разбив один вражеский гарнизон. Перешли железнодорожное полотно, приблизились к шоссе и тут встретили сильный огонь хорошо укрепившегося врага. Попудренко дал команду прорвать засаду. Три раза бросались его отряды в атаку, но враг ввел в бой танки и бронемашины с артиллерией, которые ждали где-то рядом и быстро подошли сюда по шоссе. Из Чернигова по железной дороге прибыла моточасть и, оказавшись в тылу у партизан, преградила им отступление в Тупичевский лес. Вот все, о чем мы узнали: Попудренко в кольце.
Идти ему на помощь — не могло быть другого решения у нашего командования. Соединение начало готовиться, а в район этой жестокой схватки мы выслали разведку, которая, вернувшись, сообщила, что братское соединение Попудренко вырвалось из окружения и ушло в Тупичевский лес, оставленный четыре дня назад.
Казалось, отпала необходимость идти на выручку товарищам. Сами прорвались, а теперь и неясно даже, куда идти. «Обошлось, обошлось», — повторял я, успокаивая себя и думая, что в знакомых лесах Николай Никитович быстро приведет соединение в порядок и мы еще действительно встретимся.
Но едва наш радист Саша Кравченко установил связь с УШПД, оттуда поступила радиограмма о гибели Попудренко. Не хотелось верить. Как это произошло?
Позже разведчики, встречавшиеся в своих походах с партизанами других отрядов, установили и принесли нам такие подробности гибели Николая Никитовича. Ночью соединение переходило дорогу. Гитлеровцы бросили на измотанных неравными боями партизан хорошо вооруженную часть из Климова. Явно их подкарауливали. Соединение оказалось разорванным — часть впереди, часть, вместе с Попудренко, за дорогой. Он нервничал: связи никакой. И сам решил с разведкой перескочить дорогу, но, едва они достигли ее, над дорогой взвились осветительные ракеты, известные всем фронтовикам «фонари», повисавшие в небе, над головой, и медленно спускавшиеся на парашютах, когда вокруг становилось светло, как днем. Командиры соединения, сумевшие в конце концов вывести партизан в знакомые и родные Злынковские леса, поняли, что окружены большими силами карателей.
Днем над отрядами партизан кружили самолеты, кидали листовки, призывая сдаться в плен, за что предлагались хлеб и земля. Ночью гитлеровцы не спали, стерегли партизан, всюду встречали огнем, сжимая кольцо окружения.
Удивительно хладнокровно вел себя Николай Никитович Попудренко, заражая, лучше сказать, вооружая, своим спокойствием всех других. В ночь на 7 июля попытались устроить новый прорыв. Головной отряд выдвинулся и приготовился к бою, когда послышался топот коней в партизанском, так сказать, тылу. Это Попудренко со своими ближайшими помощниками мчался верхом вдогонку за головным отрядом, видимо, чтобы принять участие в ответственном бою…
Все, кто видел его тогда, видел в последний раз. Вражеский огонь из всех видов оружия раздался навстречу конскому топоту. Николай Никитович замертво упал с коня…
Тогда мы еще не знали этих подробностей, была только весть, что он погиб. Собрались все командиры и комиссары, чтобы выразить свое горе и свою любовь к погибшему, стояли в молчании, сняв шапки. Комендантский взвод дал в честь партизанского командира три залпа из винтовок.
Николаю Никитовичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. А сразу после войны прах его с почестями перенесли в Чернигов, где он был секретарем обкома партии, где все его помнили и знали.
Прощай, Николай! Я не забуду твоей помощи — открытой и деловой, когда мы прилетели с Большой земли. Не забуду, как тесно взаимодействовали наши партизаны, нанося удары по врагу. Не забуду тебя, сколько бы жизнь ни подарила мне времени наперед.
Глава шестнадцатая
Мы одолели свой путь в междуречье, до Мокрых Величек в Любечевском лесу. Сначала проехали разведчики во главе с Кочубеем и Дунаевым, одетые для спокойного движения по тылам противника в форму полицаев. Старательно разведывался весь путь, предстоящий соединению. Дело было нелегкое. Да и ситуации разные. Вот, например, одна, в которую наши разведчики неожиданно для себя попали…
Темнело. С утра вела разведку группа Николая Черныша, а с темнотой ее сменила группа Михаила Осадчего. Для глубокой разведки отряд Кочубея и Дунаева был хорошо снаряжен, имел четыре повозки, пулеметную тачанку, которой правил Николай Кошель, сказавший Дунаеву при первом взгляде на пулемет: «Это оружие по мне!» Действительно, он был крупный парень с большими крестьянскими руками…
Почти в полной темноте Осадчий ввел своих разведчиков, Сашу Казначеева и Михаила Науменко, в село Голубичи, расположенное на единственной проезжей дороге, в нескольких километрах от «железки» и неподалеку от села Церковище, в котором обосновался полицейский стан. Опросили жителей — говорят, что полицаи сидят в Церковище, а гитлеровцы — на железнодорожной станции Голубичи. Здесь никого, тихо. А на улице даже гармошка заиграла — свадьба или еще какое-то гулянье. Собрались уже уходить — мимо ветряка, огородами, как и пришли. Осадчий сел на своего резвого жеребца…
И вдруг властный окрик на немецком языке: «Стой! Кто вы?» Что делать? Автомат на груди, но куда стрелять, в кого? Он не знает, а его увидели. Возьмись за оружие, и тебя тут же убьют. Дунаев напоминал не раз: «В разведке едва ли не самое важное — верно сориентироваться в первые секунды». Подскакали Науменко и Казначеев, и Осадчий ответил в темноту:
— Мы — полицаи, — по-русски и по-немецки, это он умел…
Еще вопрос:
Откуда и куда?
Едем из Церковища в Репки, к коменданту.
Слово «полицаи» и четкий ответ, видимо, успокоили того, кто задавал вопросы. А Михаил начал слезать с коня, и его товарищи спешились: дескать, чего же избегать встречи со «старшими друзьями»? Из темноты, сгустившейся под разросшимися деревьями у плетня, вышли вражеские солдаты. Осадчий подошел и протянул им руку. Поздоровались. После этого приблизился Казначеев и предложил угоститься самосадом. Солдаты закинули винтовки за спину, достали сигареты. Задымили. Один солдат, рискнувший взять самосаду, закричал: «Крепкий русский табак!», — заохал, закашлялся, а остальные над ним смеялись. Осадчий спросил:
— Ну мы можем ехать?
— Нет, сейчас приедет офицер, он пропустит.
— А что у вас за дело здесь? — небрежно поинтересовался Осадчий, помня, как местные только что уверяли, что никаких врагов в Голубичах нет.
— В Чернигов кавалерия прибыла, а кормить коней нечем. Вот нас сразу и отправили за сеном. Офицер как раз на возу…
«Значит, — подумал Осадчий, — офицер тоже двигался с разведкой, выслал этих солдат вперед». Тут один из солдат, приглядывавшийся к нему, отвел руку с сигаретой, спросил:
— А почему у тебя автомат русский?
— А потому, — ответил Осадчий, — что наша полиция участвует в экспедициях против бандитов-партизан и каждый, кто добыл себе оружие в бою, владеет им.
Раздался топот коня, солдаты снова схватились за винтовки, а из темноты, оттуда, где ждал разведчик Науменко, послышался голос связного Анисенко:
— Чего там?
— Коля! — повелительно крикнул Осадчий. — Быстро возвращайся к начальнику полиции, объясни, что нас задержали. Пусть он спешит, а то опоздаем в Репки к коменданту!
Николай ускакал. Это слышно было. А скоро заскрипели тележные колеса. Катились возы с сеном, подъезжал вражеский офицер. С другой стороны появился Николай Черныш, поспешивший на выручку товарищам. Он остановился около Науменко, спрыгнул с коня и решительно стал приближаться к группе под деревьями, автомат — в правой руке.
Чуть раньше, чем он подошел, подъехал первый воз с сеном, на котором были вражеский офицер и женщина. Офицер скатился с воза, вгляделся в Осадчего, в Черныша, потянул руку к пистолету и крикнул:
— Партизаны!
Солдаты отскочили от Осадчего, принялись снимать с себя винтовки, но партизаны опередили их. Первой очередью Николай Черныш сразил офицера, а следом открыли огонь Осадчий, Казначеев и Науменко. Похоже, ни один фашист не сбежал. А если кто и укрылся от огня в темноте, то где-то тихо вжимался в землю. Когда Николай Кошель на своей тачанке ворвался в Голубичи, крича: «Куда стрелять?!»— с врагами было покончено.
Весь следующий день, до железной дороги, чтобы определить место перехода ее (форсирования «железки», как мы говорили в обиходе), наши товарищи ехали пшеницей. Она была уже высокой, вымахала чуть ли не в рост лошадей…
Разведали удобное для форсирования «железки» место, а когда соединение спустя два-три дня переправилось через крутую насыпь, специальная группа из разведчиков-диверсантов (у нас была создана и такая — диверсионно-разведывательная группа) под командованием Григория Шакуты и с участием Михаила Осадчего, Дмитрия Наумова, Василия Близнюка и Алексея Чистякова заминировала и взорвала железнодорожный мост у села Пастовбица, в районе станции Голубичи. Взрыв был таким сильным, что не только мост развалился, рельсы и шпалы полетели, но и пшеница полегла с обеих сторон возле железнодорожного полотна…
Можно полагать, что гитлеровцы «пропустили» нас, отвлеченные соединением Попудренко. На два соединения сил у них уже не хватало. Шел не сорок второй, а сорок третий год…
В лагере мы устроили веселый обед для разведчиков. На столе всех удивила свежая колбаса.
— Пока вы ездили на операцию, мы с Кармазиным свою операцию провели. Что же вы думаете, мы тут сидим сложа руки? — объяснял Мейтин.
Уж не знаю, был ли Кармазин колбасником по профессии или здесь у него открылся такой талант, но колбаса удалась на славу. Она напоминала московскую копченую, хотя, правда, называлась тупичевской, потому что делать ее начали в Тупичевском лесу. Очень удобной оказалась она для сухого партизанского пайка. Тогда разведчики шутили:
— За такую колбасу орден не жалко дать!
— Подождем, — смеялся и я, — пока научатся на солнце окорок коптить!
Запаслись этой колбасой и — снова в поход…
Шли неудержимо. Серьезные схватки с мадьярскими и полицейскими гарнизонами случились уже за железной и шоссейной дорогами. Темп движения обессиливал людей, и, когда мы оставили за собой свыше пятидесяти километров и вошли в небольшой лесок, никто не мог даже поесть, так хотелось отдохнуть и уснуть. От усталости, забыв о голоде, все буквально повалились на траву…
Из УШПД пришла телеграмма, обязывающая нас установить связь с местными партизанскими силами. Это была работа, которую не успел сделать Попудренко, но которую надо было сделать, воюя дальше за свободу живых и честь погибших.
Среди законов партизанской жизни есть один, может быть самый общий, но и самый дорогой: партизанское братство. Я говорил уже, что и один партизан в лесу всегда окажет помощь другим, тем более совершившим дальний переход. Сейчас это подтверждалось… Помню, Андрей Дунаев рассказывал, как партизаны из отряда Збанацкого, будущего Героя Советского Союза и писателя, встретили его разведчиков в междуречье и помогли им. «Приняли как своих… Умыться дали, накормили, уложили спать… Как просто, а как нужно! Когда узнали, что мы разведчики рейдового соединения, показали удобную стоянку — на рейде треба отдохнуть».
Разместившись в междуречье, мы не раз бывали в гостях у командования соседних отрядов, но для начала всех приняли у себя. Приезжали к нам Таранущенко, Збанацкий, а Дунаев, выполняя задание УШПД, даже переправился через Десну и возвратился оттуда, из Нежинского леса, с сообщением, что там действует большой партизанский отряд «За Родину», командир — Бовкун.
Вооружение всех этих отрядов, скажем честно, не по их вине, оставляло желать лучшего. Мало автоматов прежде всего. Связи с партизанским центром, с УШПД, они тогда еще не имели. Из УШПД вдруг пришел приказ: «Салаю. Выявленные вами отряды подчинить себе».
Поход на Полтавщину не отменялся. Что же, брать эти отряды с собой, оголять междуречье? Зачем? Оперативно двигаться такой большой колонной и надежно располагаться было почти немыслимо. Да и накормить такое соединение в тылу врага — задача. А если не брать с собой эти междуреченские отряды, для чего же их подчинять себе? Они же невольно будут от нас оторваны!
Обсудили эту новую ситуацию всем штабом и со всех сторон. И послали в УШПД радиограмму, что подчинять нам междуреченские отряды нецелесообразно. Слов, помню, было много — мы доказывали. Ответ пришел короткий: с нами согласились. Приказывали прислать заявки на вооружение. Это, конечно, сделали. Помогли отрядам установить самостоятельную связь с УШПД. Они получили рации.
А вот сами мы чуть не остались без рации! У нас стал выходить из строя привод установки РП-2. Нам сбросили другую рацию на замену, но при падении она разбилась бывали и такие неудачи. Подобрав рацию, убедились плохая упаковка. Мы получали вооружение, запасались толом и минами, чтобы действовать на железных дорогах, и не сомневались, что нам успеют прислать еще одну рацию. И действительно, скоро спрыгнула девушка-радистка с рацией за спиной, но опять не повезло. Как заговор! При спуске радистка довольно далеко отклонилась от намеченного места, зацепилась стропами парашюта за верхушки деревьев, повисла. Представляете себе, висит одна на дереве ночью, а внизу — никого. Она вынула нож, какой давался всем парашютистам, перерезала стропы, рухнула на землю. Сильно ушиблась, но это, как выяснилось, когда ее подобрала наша поисковая группа, не так страшно. А вот рацию разбила! Сначала расстроилась — опять без связи! Но привод уцелел, и мы смогли наладить свою старую рацию.
Занятые всеми этими делами, мы пробыли в междуречье двадцать дней. Напоследок получили радиограмму, предупреждавшую, что нам надо ждать посадки самолета. Легко было догадаться — к нам прилетят Коротченко и Строкач, которые были у заднепровских партизан. А может, так мы думали просто потому, что хотели увидеть Демьяна Сергеевича и Тимофея Амвросиевича, поговорить о ходе войны, о главных новостях, которые им, конечно, были известны, о наших партизанских делах и о семьях, они держали связь со штабом. Вот была бы радость!
А. П. Цыбочкин
Но зарядили дожди, мы зря смотрели на небо, по лицу текло… Однажды я услышал, как ординарец Петя грозит гуске Гале, что убьет ее.
— Ну что ты опять стоишь на одной ноге! Всегда, когда стоишь на одной ноге, как цапля, так и дождь льет!
Эту молодую гусыню привезли в штаб разведчики, чтобы зарезать и сварить командованию жирный обед. А мы оставили Галю — уж кто так назвал ее: Негреев, Кочубей или я сам, — не помню. В пять утра я обычно был на ногах, и если заспишься хоть на четверть часа, Галя уже щиплет за бока — не столько будит, сколько требует, чтобы ее накормили, — она привыкла есть с рук или из тарелки. Вечером задержишься где-нибудь в отряде, она бегает вокруг вперевалочку, гогочет, зовет.
Оказывается, она и дождь предсказывала. Вот такая была у нас Галка…
За эти двадцать дней в междуречье мы не раз беспокоили гитлеровцев, и крепко.
Как-то, сразу после пяти утра, едва я позавтракал (печеной картошкой и кусочком сала), пришел ко мне Кочубей:
— Я с докладом, товарищ командир.
— Что такое?
— Разведали мы станцию Малейки. Вся — в складах. Два — с зерном, один — с продовольствием, а еще один — с боеприпасами. Охрана — гарнизон мадьяр в сто восемьдесят человек и семьдесят полицаев. Считаю, что операцию можно поручить кутузовцам, их разведка уже была на станции.
Именем Кутузова стал называться у нас третий отряд, которым командовал Цыбочкин; Михаил Попов был у него комиссаром. Я предложил усилить отряд ротой из местных, междуреченских партизан, способных оказать большую практическую помощь, и в тот же вечер пошли на Малейки.
Проделав быстрый марш в двадцать километров от нашего лагеря, глубокой ночью партизаны напали на станцию с двух сторон. Одну группу вел Цыбочкин, другую — Попов. Сняв посты, первый дал сигнал ракетой, по которому Попов, уже подобравшийся к мадьярской казарме, атаковал ее и забросал гранатами. Рота междуреченского отряда имени Коцюбинского под командованием Петренко бросилась к складам. Этот бой еще раз показал, что такое внезапное нападение. Противник потерял больше половины солдат и полицаев, станция была разгромлена, все склады сгорели дотла, движение поездов через Малейки надолго прекратилось. С нашей стороны был ранен один — сам Цыбочкин, но легко.
В другой раз в районе села Мнев наши разведчики наткнулись на колонну гитлеровцев. Эта колонна прошла по улице сожженного хутора Хропатый и, оставляя за собой пепелище, двинулась к Мневу, до него — еще километра два. Разведчиков вел политрук дунаевской разведроты Степан Шелудько, в недавнем прошлом командир взвода разведки, в артиллерийской части, которая попала в окружение под Винницей. Вырвавшись из окружения с группой бойцов, молодой лейтенант попытался сам организовать партизанский отряд, потом связался с подпольщиками Чернигова и наконец попал к нам. Негрееву, нашему комиссару, конечно, по душе пришлось, что в этих опасных, переменчивых условиях Шелудько сберег свой партийный билет, выданный ему в феврале сорок первого года политотделом 15-й танковой дивизии. Армейский разведчик и у нас был назначен в разведроту.
Так вот, отстреливаясь от внезапно появившихся гитлеровцев — их было около ста, — Шелудько с шестеркой партизан стал отходить к Мневу, хорошо зная, что там сидят мадьяры. Другой дороги не было. Приближающаяся стрельба всполошила мадьяр, и они включились в нее. Шелудько тут же велел своим разведчикам вести огонь в обе стороны. Гитлеровцы, решив, что село занято партизанами и что они столкнулись именно с партизанской разведкой, открыли по Мневу огонь из минометов. Начался настоящий бой… между немцами и мадьярами! А наши разведчики, выбрав удобную лощинку, отползли к лесу, оставив ретивых вояк самих разбираться в этой баталии.
Нешуточный бой длился более трех часов! Одни считали, что берут партизанское село, другие — что отбиваются от наступающих на Мнев партизан.
Честно говоря, я и сам раньше думал, что такие вещи случаются только в кино. Ан нет! Степан Шелудько спровоцировал такую схватку, о которой 15 июля 1943 года сообщило даже Совинформбюро. В сводке писалось, как группа разведчиков партизанского отряда, действовавшего в Черниговской области, столкнула немцев с мадьярами; как начальник гарнизона, чтобы отбить крупные силы «партизан», выслал против них триста человек. «Тем временем, — сообщалось далее, — партизаны-разведчики незаметно отошли. Ничего не подозревавшие мадьяры наседали на хутор, занятый немцами. После трехчасового боя с ротой немцев мадьяры ворвались в хутор и только здесь, при виде семидесяти раненых и тридцати пяти убитых немцев, поняли, что партизаны их ловко провели».
Немалые потери были и у мадьяр. Наши подпольщики — крестьяне — подсчитали, что убитых с места действия вывозили на восьмидесяти подводах. И рассказывали, как нещадно немцы ругались, обвиняя во всем мадьяр, затеявших остервенелую перестрелку.
Вскоре после этого враг предпринял большой поход на наш лес, но основную ударную силу опять составляли мадьяры, и никакой уверенности в себе на этот раз у них не было. Да, все оккупанты боялись леса! Они днем-то входили в него с двумя оглядками, а ночи и вовсе не отваживались в нем проводить. За каждым деревом им мерещился партизан. Наше положение было более выгодным — мы видели своего врага, знали, в каком количестве он идет на нас. Перед этим боем мы бесшумно взяли в плен несколько вражеских разведчиков.
Чтобы заманить противника в лес, увеличить и использовать панические настроения в его рядах, я опять запретил открывать огонь до общей команды. Каменский и Цыбочкин, возглавлявшие оборону своих отрядов, нервничали — мадьяры подошли к ним почти вплотную, углубились в лес на пять-шесть километров. А команды все нет! У них, на флангах обороны, находились Негреев и Кочубей, успокаивали: не тревожьтесь, команда будет.
Я был в центре обороны, у Вонарха, в отряде имени Щорса. Время приближалось к вечеру, все чаще пробирались связные из других отрядов, командиры просили начать бой, но сами терпели, выдерживали дисциплину, это, понятно, увеличивало наши тактические возможности.
Однако и в самом деле было уже пора, и я дал сигнал к бою. Что тут началось! Ураганный огонь открыли с флангов и по фронту. Мадьяры побежали из леса, оставляя убитых. Отступавших, как было договорено, атаковал отряд Каменского, чего они опять не ждали, так как на том краю леса было маленькое болото и мадьяры думали, что оно их защитит, а Каменский перешел его.
В ту же ночь мы перебазировались в другой лагерь, благо лес был глубоким, а этот обжитой лагерь нам все равно вот-вот покидать. Я ждал усиленного наступления вражеских сил и вновь прибегнул к первооснове нашей партизанской жизни: маневрировать! И конечно, старый лагерь и все дороги к нему мы заминировали…
Как и следовало ожидать, враг пошел на место, где партизаны дали ему бой, на следующий же день; лагерь он «взял», но, правда, пустой, а на мины нарвался, и к его потерям прибавились две бронемашины и больше тридцати убитых.
Наша разведчица Лиза Пашковская, работавшая переводчицей во вражеской комендатуре, передала нам разговор между командиром части, наступавшей на нас, и гитлеровским комендантом. Первый уверял коменданта, что партизан в междуречье больше нет, он их «истребил и разогнал», а комендант насмешливо отвечал: «Через день-два они появятся и опять заполнят весь лес. Вот увидите!» Надо отдать должное его опыту: он оказался прав.
Скоро мы покинули междуречье, но там остались другие, хорошо вооруженные бойцы. А я, пожалуй, расскажу еще только об одном эпизоде нашей борьбы на берегах Днепра и Десны. Сначала Коротков, а потом Шкловский сообщили мне, что фашисты хотят открыть, так сказать, навигацию на Днепре, пустить пароходы вверх по реке от Киева до Чернобыля и обратно. Об этом донесла наша разведка из Киева. И душа сразу воспротивилась: не позволим! Ни за что не позволим, чтобы по нашему дорогому Днепру пошли пароходы с вражеской командой, под фашистским флагом!
Вражеская затея имела и пропагандистский характер: надо было показать населению, что у них, немцев, все в порядке, вот и пароходы пустили. Не дадим! У нас для этого оружие в руках.
Вспомнилось, как в восемнадцатом году партизаны прекратили курсирование пароходов по Десне с вражескими грузами на борту. Грузы были одинаковые — награбленное у крестьян добро, на подводах свозили его из окрестных сел в Новгород-Северский, а оттуда по Десне отправляли в Чернигов. Партизаны тогда посовещались и решили: «Потопим или перехватим пароход. Немцы думают, что дорога по реке безопасней других, что она для нас недостижима, так докажем им другое».
Для надежности, чтобы действовать без промашки, Демьян Коротченко темной сентябрьской ночью с половиной отряда переправился на правый берег Десны, окопался там, замаскировался, а другая половина залегла на левом берегу реки. Услышав из Новгород-Северского гудок парохода, готового к отходу, партизаны приготовились и стали ждать. Скоро пароход показался, поравнялся с ними. Ударили по нему с обоих берегов из пулеметов и винтовок. Капитан, как выяснилось потом, был тут же убит, а его помощник смертельно ранен: они оба стояли на палубе во время нападения партизан. Тогда боцман, не выполняя приказа Коротченко: «Причаливай!», — попытался увести пароход назад, но опять начались залпы с обоих берегов, и, не зная, куда деваться, пароход закрутился на месте…
До тех пор он крутился, пока не подплыли на лодках партизаны, среди которых оказался бывший капитан-речник. Он встал за руль и по рекам Десна и Выть привел пароход в село Погребки, находившееся в руках партизан. Кроме ценного имущества, добытого на пароходе, было поймано несколько вражеских офицеров. Навигация по Десне прекратилась.
Разъяренные немцы, потеряв пароход, объявили большое вознаграждение за головы партизанских командиров. Оттого, наверно, что не знали они, кто овладел пароходом, в объявлении была и моя фамилия. За мою голову, то есть за голову Соколова, обещали двадцать тысяч рублей золотом. Помню, мне тогда это невольно польстило — изрядная цена!
А взятый пароход так и достоял в Погребках до дня, когда Новгород-Северский освободили партизаны. Они сами отремонтировали этот пароход, привели к пристани и передали городским властям как партизанский подарок…
Теперь на берегу Днепра залегли шестьдесят партизан под командой Ильи Шкловского, чтобы встретить пароход из Киева. Укрепились и замаскировались. Ждали долго. Уже казалось: напрасно. Но вот наблюдатели, выставленные для встречи парохода, сообщили: приближается! А вот вдали показался и пароход, медленно увеличиваясь. На палубе сидели гитлеровцы: это партизаны увидели, когда пароход поравнялся с ними.
Шкловский скомандовал:
— Огонь!
Все оружие — и пулеметы, и винтовки — было заряжено бронебойными пулями. Снаряд из противотанкового ружья попал в машинное отделение. Пароход сразу задрейфовал, его понесло к правому берегу. Гитлеровцы, как было видно в бинокли, от внезапного нападения ошалевшие до неподвижности, очнулись, задвигались. Заменили убитого рулевого, что-то сделали в машинном отделении: им удалось набрать пары и уйти обратно в Киев. Но не только этот пароход не доплыл, или, как говорят моряки, не дошел до Чернобыля. Фашисты вообще отказались от мысли возобновить пассажирское движение по Днепру, поняв, что каждая посудина с их флагом будет партизанской целью.
Через три дня мы без потерь форсировали Десну, обсушились на дневке в Краснянском лесу, потом незаметно нас тут никто не ждал — пересекли шоссейную дорогу Чернигов — Киев, три дня прожили в Хрещатинском лесу, отдохнули и двинулись дальше.
Глава семнадцатая
Двинуться-то мы двинулись дальше, да ушли недалеко. На Полтавщину пришлось пробиваться — с первых шагов. Фашисты не в шутку решили сказать нам «стоп» и со всех сторон обложили крупными силами в Ново-Басанском лесу. А лес этот совсем небольшой, и мы сразу лишились своего главного преимущества — маневра. Нас ждал бой с врагом лоб в лоб, нам ничего не оставалось, как пойти на врага тараном, чтобы вырваться на волю.
К селам, напичканным полицаями, гитлеровцы подтягивали танки и бронемашины. Нас окружали все плотнее.
Как же так получилось?
В район Нежина, в его леса, на два дня раньше соединения прибыл отряд имени Кутузова под командованием Цыбочкина и Попова. Мы послали туда же, еще глубже, разведку во главе с Андреем Дунаевым. В Нежинском лесу Цыбочкин встретился с командиром отряда «За Родину» Бовкуном и узнал: действует железнодорожная ветка Чернигов — Нежин. Наши мысли уже были нацелены на парализацию железных дорог, и естественно, что Цыбочкин обдумал и обговорил со всеми командирами, как взорвать железнодорожный мост на перегоне Вересочь — Дремайловка и надолго вывести из строя.
Бовкун усилил отряд нападения двумя взводами своих партизан. Да, взаимодействие продолжалось…
Наши бросились на мост с разных сторон. Слева тут же убили двух часовых, а справа завязался бой — там находилась землянка сторожевой охраны. Еще шла перестрелка, когда бойцы диверсионной группы отряда заложили под мост большую мину и отошли с электромашинкой, сообщив об этом Попову, а он просигналил общий отход…
Преследуя партизан и спеша на мост, фашисты взбежали на него, и в это время громыхнул взрыв. Мост рухнул.
Стрельба на мосту послужила Цыбочкину сигналом для налета на станцию Вересочь. Партизаны забрасывали гранатами каменный вокзал, где засели, отбиваясь, фашисты. А тут — взрыв моста, затем — пожар на вокзале. Гитлеровцы в панике выскакивали из здания и попадали под огонь партизанского пулемета. Немало гитлеровских солдат было уничтожено, станция, включая железнодорожный путь и стрелки, разрушена, склады с боеприпасами и продовольствием, награбленным для оккупационных гарнизонов в городах Украины, сожжены.
Налет удался, но он занял всю ночь, уже наступало утро, а возвращаться в Нежинский лес, чистым полем, можно было только затемно. На день партизаны углубились в другой лес, ближе к Десне. Отряд скрылся, но ведь не скроешь разгрома станции, взрыва моста, гитлеровцы повсюду разослали разведку, расставили дозоры, а обнаружив отряд, бросили на него два до зубов вооруженных батальона.
Бой продолжался до ночи. Ночью гитлеровцы в лес не пошли, но и партизанам преградили путь. Командиры приняли дерзкое решение — уйти за Десну, но и там уже укрепились фашисты. Попытка переправиться через Десну не удалась. Тогда, не мешкая, с боями пошли вверх по левому берегу, а потом, оторвавшись от врага, ушли в Елинский лес и дальше умело действовали, но уже в другом, бывшем соединении Попудренко, под другим началом. Сначала мы сердились, сгоряча обвинили Цыбочкина чуть ли не в дезертирстве, а потом все узнали. Волей военных обстоятельств кутузовцы расстались с нами.
Ничего не было слышно и от Андрея Дунаева. И это волновало меня не меньше, потому что происшествия разных войн, то, что называется опытом, приучили меня к постоянной и глубокой разведке, я уже говорил об этом, не грех и повторить. Разведка! Жить, воевать без нее нельзя. Это все равно что ослепнуть. И сейчас я испытывал нечто подобное. Казалось, нет разведчика-командира надежнее Андрея Дунаева, я верил ему. Нельзя было принимать решения наугад, заставлять партизан идти куда-то на авось, требовалось снаряжать новую разведгруппу, но сколько времени потеряно!
Положение соединения, сгруппированного в Кабыжчанском лесу, осложнялось. 1 августа гитлеровцы бросили на нас авиацию — двенадцать бомбардировщиков. Мы маскировались, маневрировали, разводили костры, обманывали врага, изображая лагерь, дважды гитлеровские летчики попадались на эту приманку. Пока попадались… Но как долго будет длиться это «пока»?
Где же Дунаев? Где Андрей? Разведчикам дали рацию, с ними ушла радистка Катя Филиппенко. Но и рация молчала… А ведь помимо всего сердце болело за Дунаева, которого я, прямо скажу, полюбил как боевого товарища. Да такого верного! А рация все молчала…
Седьмое примечание
Кроме рукописи, есть несколько страниц партизанского дневника Михаила Гордеевича. Короткие, вот уж в самом деле скупые строки. Иногда отдельные слова. Записи непостоянные, нерегулярные. Значит, очень часто было не до них… Но в эти дни в каждой записи среди другого хоть слово — о Дунаеве.
«11.7.43. От Дунаева нет сообщений… По рации не могу с ним связаться… Дал указание, чтобы в каждом отряде занялись подготовкой подрывников. Назавтра — совещание всех командиров для разработки плана выполнения приказа Строкача о парализации железных дорог Полтавщины. Значение этого возрастает в связи с боями на Орловско-Курском фронте.
12.7.43. Два дня идет дождь… Особенно заливает наш «аэродром», куда пока еще не сел ни один самолет… Нет сообщений от Дунаева!»
«28.7.43. Уже за Десной… Кабыжчанский лес. Прошли 40 километров за день, устали, а перед нами — река Остер… Берем ее вброд, трудно, болота торфяные. Лошади вязнут. Подошел ко. мне партизан Михаил Сибирский и попросил разрешения устроить переправу. Я, конечно, разрешил… Всё разгрузили, повозки переправляли порожними, теперь и лошади без помощи людей вытаскивали их на другой берег. А грузы переносили на себе в воде выше колена… Усиленно разведывают нас вражеские самолеты. Надо двигаться, но задерживает Дунаев…»
И вот наконец первая весть от разведчиков!
У них, у Дунаева, оказывается, испортилась рация, и ничего не могли поделать. Думали: вот сегодня починят, завтра починят, а не получалось. Ушли же далеко. Дунаев прислал наконец комиссара Степана Шелудько с двумя разведчиками, чтобы доложить: живы, скоро вернемся, а пока задерживаемся, потому что в этом районе — в Ново-Басанском лесу — не все ясно.
Между тем среди наших партизан начались весьма нежелательные, а проще сказать, недопустимые разговоры. Зачем идем на Полтавщину? Там нет леса, сторона степная, негде партизанам прятаться, по-своему воевать. У одного — неосторожное слово, а у другого уже — трусливая фраза. «Вот Цыбочкин и Попов ушли себе в Елинский лес. Молодцы! И нам бы туда…»; «Бомбят, а еще хуже будет!»
Надо было решительно ломать эти настроения, и я потребовал на вечер готовности к длительному переходу. Выслал разведку в сторону железной дороги Москва — Киев, которую нам предстояло пересечь. Потом старший разведгруппы Анисенко рассказывал:
— Вышли на опушку леса. Осторожно, не спеша. Залегли. Видим, кто-то пробирается навстречу. Что за люди? Смотрю в бинокль, жду и вдруг: «Это же Дунаев! Это наши идут!» Ну, конечно, чуть «ура» не кричим, верхового снарядили в лагерь — сказать и доложить, что наш Дунаев возвращается!
С чем он вернулся?
— В Ново-Басанском лесу гитлеровцев нет.
— А чего ж ты застрял с такой важной вестью?
— Ждал, когда смогу именно это доложить. Их было довольно много, они обшаривали весь лес, метр за метром, несколько дней, пока не убедились: никого!
— А ты сидел там?
— Там.
— Где же вы прятались?
— В болоте. Точнее, среди трех болот, а с четвертого края заминировались. Фашисты подходили, близко подползали — и танки, и пехота, обстреливали, но мы уже натренированные, мы — ни гу-гу… И они ушли в твердой уверенности: пусто в лесу!
— А если возвратятся?
— У меня там разведка и связные в селах. Можно идти.
— Сегодня и пойдем, — сказал Негреев.
— Ну что ж, — ответил Андрей.
— Выдержат твои разведчики? Вы ведь отмахали уже…
— Километров сорок, — сказал Дунаев. — Ничего, выдержим, раз надо. А если еще подъемных капель дадут граммов по сто!
В десять часов, говоря по-военному — в двадцать два ноль-ноль, сквозь лесную темень двинулась наша колонна.
Не закрывая глаз, я вижу ее всю… Вот она — колонна соединения, моя колонна! Я говорю это не из какого-то честолюбивого командирского чувства, а только из чувства родства, как боен говорит: мой полк.
Впереди — конный дозор из трех всадников. В трех километрах от него — конная разведка с Андреем Дунаевым во главе. А между ними — два конных связных: Сосновский и Калашников. За разведкой — еще два километра со связными и — головная застава, которую на том пути к Полтавщине возглавлял Константин Малов, прошедший пытки германского плена и присоединившийся к нам в Прокоповке с палкой в руках; он еще хромал, но это не помешало ему в первых же боях показать себя храбрым человеком. Партизаны сразу оценивают нового человека с этой стороны. Малова заметили.
Головная застава была вооружена, как мы говорили, досыта: две повозки. На одной — ПТР и гранаты, на другой — пулемет «максим» и миномет с запасом мин. Такая застава могла вести упорный бой с противником и дать возможность всему соединению развернуться в боевой порядок.
Первый отряд ведет Александр Каменский. Вот он — шагает впереди отряда с автоматом на груди, с пистолетом ТТ и двумя гранатами на поясе. Через плечо — полевая сумка и бинокль. Только этим, пожалуй, он и отличается от бойцов-партизан. У всех — автоматы, гранаты. За плечами — сумка или трофейный ранец с боеприпасами и продовольствием.
Затем штаб соединения — на повозке, в которую наш ездовой с веселой фамилией Погуляй, несмотря на мое предупреждение ничем не выделяться, ухитрялся запрягать пару самых отменных лошадей, а за штабной повозкой двигалась рация. Рация — это сердце. Пока она живая, пока бьются в ней голоса, закодированные, зашифрованные, но живые, вместе со всей страной, всем народом живем и мы, находящиеся как будто бы далеко, в отрыве от всех. Приказы и доклады об их выполнении, слова участия и просьба о какой-то конкретной помощи — все это вбирали в себя голоса рации и разносили по адресам, как сердце доносит капли крови до кончиков пальцев и возвращает к себе.
Враг старался лишить нас связи с Большой землей и между отрядами, охотился за партизанскими рациями. Понятно поэтому, как мы охраняли их в походе. Я вижу и сейчас яснее, чем в кино, честное слово: идет радист Саша Кравченко, одна рука на автомате, а другая — на повозке с драгоценным грузом (он всегда держался за борт повозки, словно бы спокойнее чувствуя себя, когда не только видел, но и ощущал повозку). Сзади, почти вплотную к повозке, две наши радистки — Катя Филиппенко и Нюра Мамонтова с гранатами на поясах и пистолетами, кобуры расстегнуты. По обе стороны от повозки, не сбиваясь с взятого ритма и не отвлекаясь ни на что самое интересное в пути, по виду легко, но крепко шагают два расторопных партизана, умелые и бесстрашные бойцы, постоянная охрана рации — Рябец и Маска. Эти пять человек готовы каждую минуту вступить в бой за рацию и умереть за нее. Но мы не допустим этого. Точно расписано, кто и какую помощь немедля оказывает им.
За рацией — повозка комиссара и агитпропотдел со своей типографией, при этой повозке неотлучно находится начальник агитпропа Василий Чмиль, никакая сила не оторвет его. Он местный, с Черниговщины. Родившийся за девять лет до Октябрьской революции, успел еще увидеть кулаков, которых звали мироедами, пас их скот, а потом боролся с кулаками и подкулачниками, став одним из первых комсомольцев в родном селе. И председателем комитета бедноты был. Может быть, смолоду привыкнув стоять за справедливость, пошел учиться в юридический институт и даже был оставлен в его аспирантуре, но привлекла работа в родных местах, среди простых людей, интересы которых защищал. Тогда — от отдельных нарушителей законности, теперь — от захватчиков. У Василия Ивановича Чмиля была хорошая военная подготовка, он прошел действительную службу в армии, был политруком. И сейчас он не только сочинял листовки, проводил беседы с партизанами и с населением оккупированных сел, читал в этих селах сводки Совинформбюро, инструктировал и готовил партизанских агитаторов, но и частенько брался за оружие, показывая товарищам достойный пример в боях.
Рядом с ним — Клава Рыжая, у которой с чьей-то легкой руки появилась и вторая, такая добрая, шутливая и ласковая кличка: Иван Федоров. По имени первопечатника.
Потом — комендантский взвод, его ведет Куприков, шагая на израненных ногах вперевалку, как утка, но всегда впереди взвода. Дальше — санчасть, повозки, на которых — раненые партизаны. Врачи и сестры рядом, кто где — так кажется на первый взгляд, а на самом деле они идут там, где самые тяжелые раненые. Не сводят с них глаз… (О партизанской санчасти я собираюсь сказать несколько отдельных слов, да никак не намечу, где.)
Затем — обоз, повозки с боеприпасами, с продовольствием. Сахар и крупа про запас, хлеб, сало, мясо и колбаса, тупичевская, наготовленная Кармазиным тоже про запас. За обозом партизанки ведут на поводках коров. Эти коровы тоже входили в хозяйство «майора» Мейтина, молоко помогало выздоравливать раненым.
А уж дальше — второй отряд. У нас теперь два отряда, и щорсовцы обеспечивали боевую мощь центра колонны. А роль арьергарда выполнял конный взвод, который ехал сзади них, с отрывом в километр. У конников была тачанка, на ней — пулемет, миномет и ПТР. Еще дальше, в трех километрах от основных сил, двигался конный дозор, замыкавший всю колонну. Как водится, между дозором и взводом — связные.
Вот такой была колонна на марше. Командир — в середине, возле него — адъютант, ординарец, а также пять верховых для связи. Комиссар — в авангарде, начальник штаба — в арьергарде.
Большое соединение — большая сила, но нередко и большие трудности. Ведь это в тылу врага. Я вздыхаю и сейчас, вспоминая, как сложно было порой с едой, а еще чаще — с водой. И не столько для людей — человек при острой потребности может выпить и болотной воды, переполненной головастиками и червями, — сколько для лошадей, потому что лошадь к гнилой воде не притронется. С ними прямо беда, а ведь лошади — наши родные помощницы…
Мы идем, мы движемся. А кажется — стоим: так тихо. Дорога мягкая, колеса у повозок не только смазаны, но и обмотаны соломенными жгутами, бойцы весь день помогали ездовым. Пролети ночной жук над колонной — все услышат. И ни у кого даже мысли нет закурить. За шум и огонек — строгое наказание, вплоть до расстрела. Мы идем, мы движемся по тылам врага…
Глава восемнадцатая
Вот сейчас, пока движется колонна, я, пожалуй, и расскажу о наших медиках. Как назвать их — работниками, бойцами? С ними все случалось…
Помню, после одного из внезапных боев я вызвал к себе начальника нашей медико-санитарной части Григория Еременко и давай на него не только голос повышать, но и ногами топать! Во время боя он заметил, как несколько немецких грузовиков отделилось от основной колонны, встретившейся нам, и пытается уйти в сторону от шоссе по грунтовой дороге. То ли они фланговый маневр задумали, то ли просто улизнуть хотели. А Еременко бросился к группе партизан, вооруженных двумя ручными пулеметами для охраны санчасти, и увлек их за собой. Бежали наперерез врагу пока не выбрали позиции для пулеметов и не встретили уходящие грузовики ураганным огнем. Подоспели другие партизаны, поддержали пулеметчиков, а Еременко возглавил общий обстрел врага, в результате которого было выведено из строя восемь грузовиков, истреблено больше двадцати солдат. Остальные бежали. А на полевой дороге, оголив железные ребра, дотлевали грузовики.
— Ваше дело — отвечать за раненых! Вы — врач! А вы их бросили!
Бледный Еременко отвечал мне:
— Я не бросил… Оставил на жену… Она тоже врач. А я еще и командир.
Разумеется, в конце концов я сказал ему слово в похвалу за находчивость и храбрость, даже обещал к награде представить, но предупредил:
— Впредь, если оставите свое место без разрешения командования, будете наказаны. И строго. Запомните это.
Двадцатилетний Еременко встретил войну фельдшером мотострелкового батальона. Вырвавшись из окружения, долго шел на восток, пока, истощенный, больной, не добрался до родной Корюковки, откуда и пришел к нам с женой Верой Ивановной. Сначала был назначен в разведку и участвовал в нескольких операциях, привел в отряд более тридцати молодых колхозников из сел Корюковского района: он многих знал и мог поручиться за них. Возглавил санчасть, когда мы стали соединением.
Храбрый человек, он не случайно назвал себя командиром. Однако он и врачом был не только знающим (потому что хорошо учился в медицинском техникуме до войны), но и искусным. Однажды в санчасть положили партизана, у которого осколками разрывной пули было изуродовано лицо. Легко догадаться, что оборудование и медицинский инструмент в партизанской санчасти самые примитивные. Здесь не до пластической операции! Но, посмотрев на разорванные губы, ноздри, поврежденные челюсти парня, Еременко взялся за дело. Помогала ему медсестра Оля Янченко. При свете керосиновой лампы долго и тщательно Григорий Гаврилович сшивал кусочки разорванной живой ткани. Наложили повязку на лицо раненого, оставив небольшое отверстие, чтобы кормить молоком и бульоном. И как же были рады, когда через несколько дней, сняв повязку, увидели: все хорошо срослось, и лицо стало похоже на прежнее.
Я назвал Олю и припомнил, какая беспокойная забота охватила нас сразу, едва возник отряд: где взять нужное количество медицинских сестер? Ведь не каждая девушка сможет работать медсестрой, даже если захочет. А у нас их стало больше двадцати — ив санчасти соединения, и в отрядах. Откуда? Еременко и Покровская создали постоянно действующие курсы медицинских сестер и сами учили девушек часа по два, а то и по три ежедневно на протяжении двух месяцев. Занятия проводились серьезно — я сам это проверял. Один раз, когда в санчасти не было раненых, я, совмещая проверку с практической пользой для дела, сам сыграл роль раненного в позвоночник. Сестры у нас появились не только в строевых ротах, но и в разведывательных и других подразделениях. Галя Прищепа, Ольга Корень, Мария Мирошник, Александра Скрипко, Люба Жарова, Аня Безрукова, Анна Столяр, которую все знали как Ганну, Галю, а еще толстушка Нюра и тихая невозмутимая Маруся, чьих фамилий я не помню, — вот они, наши сестры, имена и лица которых сохранились в памяти. Скольким раненым они помогли встать на ноги! А надо было (это не раз случалось) — любая из них бралась за оружие. И защищая санчасть, и тогда, когда ходили в разведку с партизанами, и всегда, как только возникала в этом необходимость. Шуру Скрипко скорее надо назвать разведчицей, чем медсестрой. Не могу не сказать еще хоть слово о том, чем всегда удивляли меня эти девушки. Ведь им было не легче, а пожалуй, — и труднее, чем всем, но они как будто и не знали усталости. Бывало, партизаны шагают со своей ношей на плечах, истомились, молчат, опустили головы, а медсестры еще и ягоды собирают для раненых: чернику, костянику, бруснику. И каждый получает теплое слово впридачу…
Но ведь не только помощью раненым ограничивалась работа партизанских медиков. У нас, например, на протяжении всех рейдов было совсем мало больных. И эго объясняется не одной нервной мобилизацией людей, из-за которой на войне вообще меньше болели: некогда было. Нет. И Еременко и Покровская осуществляли придирчивый контроль за приготовлением пищи на всех партизанских кухнях, за водой из разных источников, которые нередко гитлеровцы или их приспешники-холуи отравляли. А такое малоприятное дело, как борьба с паразитами? Грязное дело во имя чистоты. Наши медики возили с собой примитивные железные бочки, в которых на остановках парили партизанское белье и верхнюю одежду. И ни разу не дали вспыхнуть в соединении сыпняку!
Труд врача, и без того нелегкий, был вдвойне тяжелым на войне, особенно — у партизан, где не хватало ни условий, ни медикаментов. Все тяготы партизанского быта делили с нами и врачи, и сестры. Молодая наша москвичка Валентина Михайловна впервые села на лошадь, когда переправлялись через Снов. Без седла. Посередине реки она оказалась под лошадью, в воде. Не запаниковала, не закричала. Преодолела реку, обняв лошадиную шею, и выбралась на берег, мокрая и замерзшая. Обсушиться бы, переодеться… Но — вперед. Только и успела, что вылить воду из сапог да немного отжать одежду. И сама на себе испытала, что это такое — нервная мобилизация, назавтра даже насморка не было.
Как-то я сказал Покровской: вот разобьем врага, и не раз среди мирных дней будет вспоминаться, как плыла через ледяную апрельскую реку. А она подумала вслух:
— А может быть, вспоминаться будут совсем простые вещи. Как трудно было в лесу носить на носилках раненых, да еще ночью — ноги то и дело цепляются за корни деревьев. Как вынимали неподатливый осколок из глубокой раны при свете коптилки…
Но еще далеко было до воспоминаний, хотя мы верили, что придет их пора. А пока шли через Кабыжчанский лес по дороге к Новой Басани, большому селу на самой границе с Полтавской областью. Хорошо бы побольше лес! Выбирать было нечего. Дальше, на Полтавщине, лесов нет — открытый, просторный край, а действовать надо. Как? Я ломал голову, но ничего лучшего не придумывалось, как сделать не кратковременную остановку, а постоянный лагерь в Ново-Басанском лесу, то есть в лесу близ села Новая Басань. Это уж у нас на Украине так повелось — называть лесные острова и рощи лесами по имени какого-нибудь крупного близлежащего села.
Ну вот, тут нечего было выбирать. Базировался же на этот лес местный партизанский отряд. Когда гитлеровцы предприняли «проческу» Ново-Басанского леса, отряд поднялся к Нежину, в Кабыжчанский лес, где можно было и маскироваться лучше, и маневрировать. Там мы и повстречались.
Правда, отряд насчитывал около ста двадцати партизан. По сравнению с нами можно сказать — всего сто двадцать. Были случаи, когда партизаны этого отряда расходились мелкими группами и прятались в поле или селах, а потом снова собирались в назначенном месте.
У нас это не выйдет. Наше соединение, придя в Ново-Басанский лес, еще выросло за счет людей, с которыми установил связь Дунаев во время разведки. Каждый из них привел группу будущих партизанских бойцов, поручился за них. Как раз в это самое время удалась и операция, которую задумал и провел Коротков, опираясь на данные нашей агентурной разведки. Нам доложили, что в казачьей сотне, находившейся на службе у гитлеровцев, зреют настроения против своих хозяев и желание перемахнуть к партизанам. Конечно, мы должны были установить, правда ли это, и в том случае, если правда, помочь подневольным или обманутым казакам перейти к нам.
Основная часть сотни размещалась в городе Яготин. С группой Дунаева, отправившейся в разведку, Коротков послал в Яготин трех партизан во главе с командиром-разведчиком Карпом Величко. Задача: проверить все про казаков, держа свою работу, все действия в глубокой тайне, и, коли потребуется, установить с ними связь.
Как проверить? Вот вопрос, вставший перед Карпом Величко, едва он прибыл в район Яготина и разместился со своими помощниками на чердаке брошенного дома в селе Лесники неподалеку от города. В конце концов поступили так: установили связь с партизанами из местного отряда, а они познакомили с яготинской девушкой Галей, своей связной. У Гали оказалась подружка, которая «крутила любовь» с казачьим сотником.
Я. Ф. Коротков
Удалось сделать так, что Галя как бы случайно оказалась при свидании сотника с подружкой.
И сотник первым заговорил о том, что большинство казаков тянется к партизанам, да где их найти? Галя пожала плечами и осторожно пообещала помочь.
Величко назначил час встречи, сотник согласился, но в условленное место не пришел. Это не могло не вызвать беспокойства. В чем дело? Через два-три дня Галя выяснила: его задержали допоздна немцы. Следующую встречу из предосторожности Величко назначил в совсем безлюдном месте, в большом яру, то есть — овраге.
На этот раз сотник явился. Договорились, как будут действовать. Величко предупредил, что в сотне могут быть немецкие осведомители. Да, среди казаков. Так что необходима бдительность. Но сотник отмахнулся — не до того сейчас, успеть бы повоевать за родную землю, смыть кровью свою вину за прошлое.
Сотня несла охрану железнодорожной станции, там и договорились встретиться на следующий день, вернее, за час до полуночи. Подходили к станции, когда раздался винтовочный выстрел, а за ним — взрыв гранаты. Что случилось? Это не по плану!
А вот что — как рассказал вышедший навстречу партизанам сотник. В казарму казаков близ станции вдруг заявился немец. Увидев, что казаки с котомками и оружием, понял обстановку, выбежал и выстрелил из винтовки, выпустив в ночное небо трассирующую пулю. Это, конечно, был сигнал тревоги. Один из казаков бросил вслед немцу гранату. Раненого фашиста захватили в плен. Он сказал, что должен вот-вот прибыть карательный поезд из города Дубны.
Тут же выяснилось, что ни одной автомашины нет. Накануне немцы забрали у казаков восемь автомашин. Пришлось сотнику признать, что он дал маху, а немцам уже было известно о подготовке сотни к переходу. Величко поинтересовался, есть ли близко еще немцы. Несколько человек засело, оказывается, на станции. Отобрали отряд и атаковали ее под руководством партизана Дмитрия Наумова, всех укрывшихся там гитлеровцев перебили.
Но на чем уезжать, к тому же — быстро, не ждать же поезда с карателями! Побежали в соседнее хозяйство, созданное немцами на базе МТС, застали управляющего, русского, который отдал машину хозяйства, ЗиС-5. В ней уехало вместе с партизанами сорок пять казаков, вчера еще служивших врагу, уехало при полном вооружении. Напоследок взорвали в немецком хозяйстве двадцать тракторов и бензосклад.
Вот с этим пополнением Величко и прибыл в Ново-Басанский лес. Не приехали, а добрались пешком: машину пришлось сжечь — в дороге сломалась. На второй день пришли еще четыре казака с ручным пулеметом, двигались по следу. Рассказали, что каратели с поезда, примчавшегося из Лубен, учинили расправу над населением.
В соединении был создан новый отряд взамен того, что вынужденно оторвался от нас. Дали отряду имя Чапаева, а командовать им поставили Андрея Дунаева.
Через пять дней проверили отряд на важной операции. Продовольственные запасы были на исходе, и мы разработали план захвата вражеского хозяйства в селе Усовка. Правда, это находилось более чем в тридцати километрах от лагеря, зато сулило многое: там откармливали скот перед отправкой в Германию. По плану, тщательно разработанному под руководством Кочубея, чапаевцы, которых повел Дунаев, быстрым налетом разгромили вражеский гарнизон и полицию. Запрягли в повозки лошадей (их в хозяйстве было много), открыли склады и, к радости, обнаружили, что там были мука, сахар и соль. Соль особенно обрадовала — обыкновенная соль. Бывало, идут партизаны на боевое задание, а поварихи дают одно-единственное поручение: соли не забудьте, соли! Если, конечно, попадется…
Ах, партизанские поварихи! Или, как они еще сами себя называли, кухарки. Что за самоотверженные и безропотные это были женщины! Кончается марш, все с ног валятся — так устали, а им спать нельзя и просто присесть для отдыха нельзя, нужно еду готовить партизанам, которым, может быть, через час — в бой. Нередко их и самих, что называется, окатывало огнем. Повозка с котлом юной Жени Пинчуковой попала однажды в такой переплет, что все вокруг головы гнули от свистящих рядышком пуль, а она и не думала, что ее могут убить, думала только, как бы не лишиться продуктов и котла, чтобы было в чем и из чего накормить партизан. А Мария Власенко, готовая накормить в любое время дня и ночи? А Фаина Мартыненко, которая могла и вкусно накормить и хорошую песню спеть, и в разведку ходила, и на часах стояла! А Ольга Дорошенко? Она не только обеды готовила отделу пропаганды,'но и научилась наборному делу и стала помогать нашей Клаве…
Обратный путь лежал недалеко от Новой Басани, уже рассветало, и Кочубей повернул отряд направо, чтобы пройти полевой дорогой, подальше от бывшего райцентра, где теперь много гитлеровцев. Оказалось, что они уже приготовились к встрече отряда и, спохватившись, начали преследовать чапаевцев, обходивших райцентр. Наши скрылись в леске, а за собой оставили прикрытие, которое держалось до последнего. Больше часа слышался пулемет, сдерживающий немцев, но ничто не бывает бесконечным. Сделаны последние выстрелы из ручного пулемета, израсходованы последние патроны, брошена во врага последняя граната. Однако отряд ушел…
Радио принесло радостное сообщение об освобождении 5 августа Орла и Белгорода. В Москве был первый артиллерийский салют. Негреев и Чмиль постарались, чтобы население быстрее получило эту сводку Совинформбюро.
А местные события не радуют… Ночью на одном из постов — стрельба. Спрашиваем пароль — молчат, считаем до трех — молчат, на выстрелы послышался только собачий лай, значит, была вражеская разведка с собаками. Утром может быть и удар карателей. Наученные нашей маневренностью и оперативностью, они тянуть не будут.
Глава девятнадцатая
Пожалуй, это были самые трагические дни в истории нашего соединения. Не потому, что гитлеровцы окружили нас превосходящими силами: в Вядловку пришли средние танки, в селе Святильном — тяжелая артиллерия, в Мочалище появилась вражеская пехота без машин. Но скоро сообщили, что машины стоят чуть дальше бывшего села. Не потому, что нам предстоял жестокий бой, у нас не было иного выхода, и мы готовились к этому бою, минируя дороги, укрепляя оборонные рубежи. А потому, что мучила неизвестность: ну выдержим день, два, три, а дальше?
Серьезной помощи ждать неоткуда. Уходить некуда. При всей нашей силе у нас меньше, чем у карателей, и людей, и боеприпасов, и возможностей пополнять их. Драться до последнего и погибнуть? А задание? А поезда, летящие под откос, — они же мерещились врагу… Наша армия Наступала, приближалась к нам и ждала помощи. Настал час, когда особенно требовалось взрывать и задерживать вражеские подкрепления, посылаемые на фронт, технику, снаряды — любой груз, способный помочь врагу.
Митрофан Негреев и Василий Бурим провели совещание политсостава соединения, партийные и комсомольские собрания… Василий Филиппович Бурим с осени сорок первого года руководил подпольной группой в селе Хрещатое, близ которого мы прошли недавно. Благодаря его работе мы получили из Хрещатого крепкое пополнение, а теперь он стал правой рукой Негреева, коммунисты избрали его секретарем партийного бюро. Коммунисты и комсомольцы честно говорили о нелегком положении, создавшемся у нас в Ново-Басанском лесу, о необходимости стойко сражаться, своим примером поднимать и поддерживать боевой дух у всех партизан.
Обычно собрания кончались тем, что новых людей, своих боевых товарищей, принимали в партию и комсомол: чем труднее складывалась обстановка, иной раз — не труднее, а просто безвыходнее, тем больше партизан подавали заявления на клочках бумаги с простыми и могучими словами: «Хочу умереть коммунистом» — так писали на фронте, так и у нас. Я не знаю других слов, которые, несмотря на их краткость, передали бы столь же полно большую силу, ту любовь к своей советской Родине, что вела людей в бой, и немолодых, не первый раз встающих на ее защиту от врага, и тех, кто впервые взял винтовку в руки.
Под самый конец этого дня противник все же провел атаку против нашего первого отряда. Да какую! Он приближался, не стреляя. Вроде как предприняли этакое психическое испытание. Как назло и у нас пулемет, за которым лежал сам начальник штаба отряда Константин Косенко, заело. Командир отряда Каменский кричал ему:
— Костя! Скоро ты исправишь этого нахала?
А Косенко, знаток оружия, все возился…
Гитлеровцы подходили, за их спинами слышались уже какие-то команды, а наш пулемет молчал. Автомашины вдалеке подвозили вражеских солдат, которые, укрываясь в складках местности, догоняли первую цепь. Вдруг одна легковая машина, как видно, с офицерами, двигаясь по дороге, огибавшей опушку леса, налетела на мину, поставленную партизанами, и подорвалась. Это словно послужило для атакующих сигналом — они прибавили шагу и даже побежали. До них оставалось метров семьдесят, не больше.
Тут наконец-то ожил пулемет Косенко. Застрекотал, поддерживая автоматные очереди, «максим». Убитые фашисты в разных местах валились на землю. Ближе послышалась команда гитлеровцев: «Вперед». Те, что пытались залечь, опять поднялись и побежали. Застрочил еще один, подоспевший на помощь Косенко, пулемет. Вступили в дело гранаты, их взрывы вклинились в гущу автоматных очередей. Немцы тоже отчаянно стреляли, но все же повернули, и тут Каменский поднял отряд в контратаку. Партизаны с криком «ура!» преследовали фашистов до линии, где те уже окопались за день. Отбросив врага, наши быстро вернулись в свои окопы.
Когда я после этого боя приехал из первого отряда в штаб, от щорсовцев вернулся Негреев: оказывается, и туда гитлеровцы пошли — с бронемашинами. Щорсовцы дали им отпор. Свалили, как сказал Негреев, две бронемашины. Ясно, это еще не бой, они прощупывали нас, проверяли готовность, разведывали огнем.
Перед рассветом «майор» хотел накормить людей горячей пищей. В кухне развели осторожные огни и начали готовить завтрак, но не успела закипеть вода, как оглушительной россыпью с разных сторон начали бить по этим огням фашистские пушки. Пришлось быстро разбрасывать и заливать поленья, а завтрак есть почти сырой: мясо только распарилось, а крупа нагрелась. И опять партизаны показали, что умеют в трудную минуту стерпеть и это: «Ничего, лишь бы животик погреть, а там допреет!» Еще сохранился талант шутить. А может быть, он у наших людей бессмертен?
С рассветом начался бой. Тремя цепями гитлеровцы перебежками приближались к линии обороны первого отряда. На второй они бросили пехоту и бронемашины. А на рубежах третьего отряда, у чапаевцев, пока было спокойно. Вонарх вскоре попросил подкрепление, но я, еще не разгадав, откуда последует главный нажим врага, предложил держаться самому. Туда поехал Негреев.
Через полчаса из отряда имени Чапаева прискакал Степан Шелудько, ставший его комиссаром. Очень они подходили друг другу — Шелудько и Дунаев. Армейские офицеры, как уже стали называть командиров нашей армии, бывшие разведчики, в душе оставшиеся ими навсегда, да и не только в душе. Мы не раз поручали им ответственные разведзадания. Смелые до дерзости люди, молодые, любившие, чтобы у них все получалось ладно. Кони у обоих были не только самые резвые, самые сильные, но и красивые, как у нас, на Украине, говорят — баские.
Шелудько сказал: немцы пошли в наступление со стороны Мочалища. У них много бронемашин. Есть и танки. Ясно, где решили нанести фашисты свой главный удар.
Дунаев встретил врага так, что порадовал меня военной сметкой. Сложился какой-то свой трафарет в боях против бронированной техники — сначала петеэровцы, а уж потом, как бы в последнюю очередь, гранатометчики. Дунаев расположил гранатометчиков, выбранных из самых храбрых бойцов-диверсантов, сразу за минным полем. Они стали активной и грозной силой, остановившей бронемашины. У нас не было еще в достатке ни противотанковых ружей, ни боеприпасов к ним, так что боевая дерзость командира, отвага и умение гранатометчиков выручали.
Однако главным средством в борьбе с танками у партизан была и осталась мина. И на этот раз минеры не промахнулись. Два танка не прошли минного поля, подорвались, а третий, вместо того чтобы вырваться на оперативный простор, от которого он был уже недалеко, стал сдавать назад, отстреливаясь, и повернул. Две танкетки на фланге еще недолго продолжали двигаться, пока не попали под огонь петеэровцев. Бронированный кулак не только не пробился, но и рассыпался.
Чапаевцы ликовали — победа, но она, конечно, не была окончательной. Хотя и на рубежах первого отряда бой затих, а щорсовцы подвергались только артиллерийскому обстрелу, я понимал: это временная передышка. Гитлеровцы перепланируют и повторят удар сегодня же. И верно: среди дня они повели наступление на все рубежи нашей обороны сразу. Два танка и бронемашины шли теперь на щорсовцев. Я послал им подкрепление, весь свой резерв, при штабе оставил только комендантский взвод и разведчика Морозова с тремя диверсантами.
И в это время за моей спиной крикнули:
— Танки!
Тут же я услышал гул танков вблизи штаба. Еще два танка приближались прямо к нам по лесной просеке.
— Морозов!
Он не ответил мне. Раздался сильный взрыв, и один танк загорелся. Оказывается, Морозов уже был на просеке. Второй танк некоторое время еще двигался вперед, но уже вроде бы осмотрительней, не так шустро. Алексей Морозов и Василий Близнюк швырнули и в него гранаты, но не попали. Комендантский взвод открыл огонь бронебойными пулями. И танк повернул.
Эта просека тянулась между позициями двух отрядов, и ее никто не заминировал, положась на соседей. Вот так бывает! Оплошность могла обойтись нам дорого — заходом врага с тыла, нападением на штаб соединения. Отряд Каменского отошел на вторую линию обороны. Правда, к вечеру отбил прежние рубежи и вернулся на них. А вот чапаевцам не удалось этого сделать — они отступили, оставшись таким образом на последнем рубеже, третьего у нас не было.
Что завтра? Что, в конце концов?
Не теряя надежды, не впадая в уныние (на это, как говорили мои товарищи, у меня хватало сил в трудные часы), я тем не менее не мог не задавать себе неизбежных вопросов. Отвлекался воспоминаниями… Бывали ведь и прежде такие положения, из которых, казалось, ни спасения, ни выхода…
Да вот хотя бы.
После организации партизанских групп в Городне и Злынке, куда посылал меня батька Боженко, я на одну ночь заглянул в Кролевецкую Слободку, чтобы увидеть мать, отца и младших братьев Ивана и Павла, с которыми кроме всего хотел посовещаться по общим партизанским заботам. Рано утром отец, как всегда, уехал в поле, предупредив меня, чтобы я долго не спал. Напротив нашего дома жил кулак Грыгар, если заметит, что я дома, — жди гайдамаков. Нагрянут.
Я кивнул отцу и тут же крепко уснул — измотался за эти дни. А матери жаль было меня будить… Сын дома, сыну сладко спится, что еще нужно матери? Разбудил меня брат Павел одним словом: «Миша!» По вскрику этому все было понятно, я быстро оделся, обулся, только выбежал во двор, в воротах — гайдамаки. И немцы.
Павел едва успел вернуться к бревну, которое тесал для бани, я остановился рядом, взялся за бревно, помог повернуть. А сам думаю: всё, всё. Взять топор у Павла, что ли, хоть одного успею рубануть, а их вон сколько! Подбегают гайдамаки, спрашивают:
— Где Салай?
Так. Они меня не знают. Иначе у меня про меня не справлялись бы. Если им и описали как следует того, за кем примчались, не узнали. Недавно у меня были большие волосы и усы, а перед выходом на это задание я их сбрил и еще в Зернове, бывало, подойду к зеркалу — сам себя никак не узнаю. Показываю рукой на дом:
— Наверно, там…
Шесть гайдамаков немедля бросились в хату, а двое, с винтовками, остались возле нас.
— А вы кто такие?
— Я работник у Салая, — отвечает Павел, — а этого он нанял мне в помощники, баню рубить.
А я ничего еще не мог придумать — хватать мне топор или так бежать? Мама с гайдамаками в хате… Побегу — тогда меня пристрелят и ей конец. Как можно? Увидел ее в открытое окно. Она смотрит из хаты на меня, слышу, дрожащим голосом спрашивает:
— Старик-то? Он в поле уехал…
— Да не Тот Салай! Где твой старший сын?
Вот она, решающая минута… Но, наверно, в такие минуты мать умнее всех. Я уж не говорю, что наша мать, Устинья Степановна, недаром слыла в слободке умной и догадливой. Сообразила, что они меня не узнали, эти, приехавшие ловить… И давай меня ругать! Сами, дескать, не рады, что у них такой сын, житья из-за него нет, не знает, как и наказать, только бы появился! Но его нет и нет.
— А где же он, разбойник?
— Давно уж не был.
— Веди в погреб!
И мать пошла через двор к погребу, а гайдамаки толкали ее в спину. Смотреть на это, хоть искоса, и виду не подавать было невозможно. Павел говорит:
— Давай вынесем бревно, земляк. Как, Панове, можно нам бревно вынести?
Не успел гайдамак ответить, я повернул бревно:
— Еще бы тут подтесать.
Не могу же я уйти, когда мать с гайдамаками в погребе. Они затолкали ее туда первой. Я протянул руку, но Павел мне топора не дал, сам подтесывает. Выбираются и гайдамаки с мамой:
— Нету!
Тогда наш охранник махнул нам рукой:
— Несите!
Подняли мы бревно и пошли в переулок, где лежали другие бревна. Павел — впереди, а я — за ним. Гайдамаки поусаживались на коней, которых другие держали в переулке, а я думаю: сейчас выглянет Грыгар, увидит меня и заорет: «Вот же он!» Не выглянул, не увидел… Мы вернулись во двор, кивнули матери и — в огород, в коноплю. Притаились с братом. Лежим, и вдруг — три выстрела. Павел схватил меня за руку и шепчет:
— Это не у нас во дворе. Это дальше.
Я буквально набрал в рот земли, чтобы не крикнуть, не позвать: «Мама!»
Позже выяснилось, что, уезжая из слободки, гайдамаки действительно палили в воздух — для острастки…
Ничего, выберемся и мы из Ново-Басанского леса! Надо верить. Не отчаиваться. Бойцы не должны видеть командира потерявшим уверенность хоть на миг. Заметили это бойцы — пиши пропало! От отчаяния до паники — один шаг. Хоть в чудо, а верить. Верить, сколько бы мы ни потеряли замечательных товарищей по оружию. В этом Ново-Басанском лесу, возвращаясь с задания и напоровшись на засаду, погибли Борис Бирилло и Федор Харитоненко, два друга, которые всегда рядом были в боях, похоронены в одной могиле…
Весь следующий день гитлеровцы жали на нас. Отошел на вторую линию обороны Каменский со своим отрядом. У меня появилась мысль, что если уж нам прорываться, то в направлении, о котором гитлеровцы не думают, за Днепр, в Ходской лес. Без проводников не обойтись. А пока — переменить стоянку, к нашей фрицы пристрелялись. Пусть в границах небольшого, Ново-Басанского леса, но все же переменить. Не стоять на месте!
Была такая темная ночь, что сидишь на лошади — и головы ее не видишь. Это хорошо. А тут еще полил дождь как из ведра. Тоже не пожалуешься, для маневра годится, но нельзя даже на карту взглянуть. Мы сгрудились с Негреевым и Кочубеем, ординарцы накрыли нас плащ-палаткой, и под нею мы развернули карту. При свете карманного фонаря наметили новое место, послали связных в отряды. В полночь двинулись…
Не скажешь, что обошлось без происшествий. Первый отряд сбился с маршрута, оторвался от нас и натолкнулся на гитлеровцев, двигаясь в сторону Мочалища. Когда отряд повернул, фрицы начали преследовать партизан, как волки, гонящиеся за добычей. Темнота и дождь им помешали, а нам помогли: к рассвету мы соединились, все были в новом лагере, среди болот, где раньше отсиживалась разведка Дунаева.
Утром 9 августа захватчики опять повели наступление на наш вчерашний лагерь, собрав для этого еще большие силы и предварительно обстреляв его из орудий. Но… только зря потратили снаряды. Беспрепятственно прочесав этот край леса, где нас уже не было, они в ярости бросились на розыски исчезнувших партизан…
Вокруг нас — болото и толстые сосны — ребята называли их противотанковыми. Казалось, день закончится спокойно, отдохнем, обсушимся. Но если все дни в Ново-Басанском лесу по напряжению и какой-то давящей бесперспективности были самыми трудными, то самыми черными стали их последние часы.
Мы послали Дунаева с разведкой проверить, нет ли из этого леса-капкана дорог, не перехваченных гитлеровцами. Не нашли, будто не было таких дорог. Все закрыты врагом. А по одной дороге — это видели разведчики — к карателям подошло подкрепление, не меньше двух свежих батальонов. К вечеру Дунаев возвращался в лагерь просекой, которую наши диверсанты заминировали, но пикетов там не поставили, и разведчики налетели на свои же мины. Погибли Николай Анисенко и Михаил Сибирский. Пострадали Михаил Осадчий и Федор Калашников. Первый был серьезно контужен, второй ранен осколками в глаза и лицо. Его долго и терпеливо лечила Александра Сергеевна Иванова-Коротченко — не только перевязывала раны, но и собирала в лесу ягоды, варила кисель, размачивала комочки хлеба и кормила с ложечки, потому что боец не мог есть твердое. Оба не покинули нас, лечились в соединении, в лесу. Михаил Осадчий весной уже, кстати, перенес одно ранение и тоже лечился «дома». Правда, первое ранение было не очень тяжелым, а это похуже…
Дунаев не пострадал. Можно сказать, случайно остался в живых. Но вот беда — взрывы обнаружили нас! Про беду, как известно, недаром говорится, что она не приходит одна. Пришла беда — открывай ворота!
Гитлеровцы предприняли несколько бросков, пока еще не окончательно стемнело. Первыми их встретили и отбили щорсовцы. К чапаевцам опять придвинулись танки. Я послал туда помощь во главе с Кочубеем. Помог второму и третьему отрядам и Каменский. Фашистов задержали. Надолго ли? Они обложили болота, концентрируя силы, и вели нарастающий обстрел партизан, которые уже два дня не ели и снова не могли сварить себе никакой еды. Лошади, тоже голодные, стояли в упряжках.
Передышку нам дала ночь. До утра…
Глава двадцатая
Ночью к нам в лагерь пришли несколько партизан со стороны Нежина, те самые, что знали этот Ново-Басанский лес со всеми его тропами как свои пять пальцев, потому что входили в тот отряд, о котором я уже упоминал. Они сделали короткий рейд на север, а теперь возвращались. Натолкнулись на засаду у села Ярославка, одного из ближних сел, забитых карателями, привезенными из Киева, чтобы уничтожить нас. Новобасанские партизаны, ведя бой, разделились на две группы, которые отошли в разных направлениях, оторвались от карателей.
Одна встретилась с нами. Сразу поняли новобасанцы, как нужна нам их помощь, и стали обсуждать, есть ли такая дорога, которая может скрытно вывести из леса большое соединение с обозами, то есть со множеством лошадей. Я и Негреев обговорили разные варианты…
Легко, конечно, сказать, и даже с ухмылкой: ну вот, как трудно, так сейчас же выручает какая-то тайная дорога, неведомая врагу. А чему же тут удивляться? Нечему, если подумать. В какой-то, очень малой доле это была и счастливая случайность, можно допустить, но далеко не только. Далеко! Партизаны оставались хозяевами своих лесов. Да, мы были хозяевами своей земли, даже захваченной врагом. И как хозяева, естественно, мы знали ее лучше захватчиков. Наше детство протопало по ней, по этим грибным тропинкам, по этим просекам босыми ногами — это не только лирика…
Новобасанцы обдумывали, подсказывали, но главную роль сыграл политработник Чапаевского отряда Андрей Борисенко, который прибыл в отряд недавно, из соседнего Кабыжчанского леса. Ново-Басанский лес он знал не хуже коренных новобасанцев и показал дорогу.
В каком она состоянии? Пройдет ли, протолкнется ли по ней обоз?
Тут же послали Александра Алексеева с разведчиками проверить это. А пока ходила разведка, бойцы «позавтракали». Я беру простое слово в кавычки, потому что уже вторые сутки мы ели только сахар. «Майор» раздавал его по горсти. Сладко, да не жирно, а все же еда! Запивали водичкой и держались.
Вернувшись, Алексеев доложил, что дорога проходима, а главное — на ней нет фрицев, обнаружилась все же прореха в их кольце! Я дал указание Мейтину, чтобы раздали еду из НЗ — неприкосновенного запаса. Был такой запас и у лошадей, их тоже накормили. И началось движение по узенькой лесной дороге, пропавшей в кустах и сырых травах. Ах, как она пригодилась!
Погода нам опять помогала, хоть говори — молитвами Погуляя. Дождь — проливной, гром — орудийный, молнии вспыхивают на миг, позволяя видеть друг друга и ориентироваться, и вновь темно — хоть глаз выколи.
В глубине леса, потихоньку отправляясь за нами, как бы тая, специальная группа с шумом перегоняла лошадей и повозки, создавала для противника видимость жизни лагеря. Вот, мол, лесные жители-партизаны маются под дождем, куда им деться! Изредка стреляли из автоматов и пулеметов, подчеркивая тревогу за охрану лагеря, которого давно не было.
Мы двигались почти под носом у гитлеровцев, и подрывники на ощупь минировали дорогу за последней заставой, группой прикрытия.
Вышли из леса незамеченными и перед рассветом такой же заброшенной полевой дорогой, минуя села, приблизились к шоссе Киев — Прилуки. Здесь гитлеровцы, если бы заметили нас, могли отрезать путь танками. Не успели, не заметили. Шоссе осталось за спиной, но еще ждал переход через железную дорогу Москва — Киев. Мы держали курс на разъезд Марковцы. Разведка донесла, что он охраняется только мадьярами и полицейскими, потому что все гитлеровцы до сих пор «окружали» нас в Ново-Басанском лесу.
Шли мы быстро, рассчитывая на внезапность. Кочубей с конным взводом бросился на Марковцы из ложбины. С дороги повели в атаку свой отряд Каменский и Малов. И мадьяры бежали вдоль железнодорожной насыпи, укрываясь за ней и отказываясь от боя. Потом наш подпольщик, работавший на этом разъезде, доложил, как мадьярский командир сказал: «Ох, большой партизан идет. Не будем стрелять, может быть, и он нас не тронет!» Заметив, что уходят мадьяры, полицаи также бежали в лес.
Мы еще переходили железную дорогу, когда со стороны станции Марковцы показался бронепоезд. Он катил перед собой две пустые платформы — на случай, если дорога заминирована. Наши диверсанты Морозов и Юрченко действительно заминировали ее справа от разъезда, откуда могли показаться гитлеровцы скорее всего. Оттуда и появился бронепоезд. Платформы взлетели на первой мине, а вторая не срабатывала.
После первого взрыва бронепоезд остановился и начал обстреливать нас. Я послал к бронепоезду Шкловского с группой партизан, вооруженных ПТР. Началась перестрелка, и поезд тронулся, медленно откатываясь.
— Уйдет, уйдет! — нервничал Юрченко. — Не так ты поставил свою мину! Что-то не так!
И в это время раздался сильный взрыв — мина сработала. Загорелся паровоз, если так можно сказать о бронированном тягаче, после одного из выстрелов петеэровцев в нем вспыхнуло и пошло разрастаться пламя.
К четырем танкам, нескольким бронемашинам, пяти грузовым и одной легковой автомашинам, уничтоженным нами в Ново-Басанском лесу, прибавился бронепоезд, надолго выведенный из строя. О живой силе, по самым скромным подсчетам, не учитывая раненых, могу сказать — гитлеровцы потеряли в этих боях не меньше двухсот солдат и офицеров.
К. М. Малов
Мы приближались к Нежинскому лесу, и он скрыл нас раньше, чем догнали каратели. Но через несколько дней разведка снова доносила, о том, будто разделались с нашим соединением (второй раз!). А мы между тем разрабатывали далекие маршруты для диверсионных групп к железным дорогам степной Полтавщины.
Еще в междуречье мы начали готовить к действиям умелых подрывников. Мы заблаговременно создали сорок диверсионных групп, по три человека в каждой.
Становилось все неспокойнее, но учеба не прекращалась. Нельзя было упускать время, да и бывает ли спокойная обстановка у партизан? Помню, как Николай Щорс, обойдя и объехав отряды батьки Боженко, похвалил его за то, что люди задорно настроены, рвутся воевать с оккупантами, и вдруг сказал: «Но вот то, что не проводят у вас военных занятий, это из рук вон плохо! Общий недостаток — во всех отрядах». Батька нахмурился и пробурчал в ответ: «Мы — партизаны». А Щорс возразил горячо, как всегда: «Тем более! В тылу врага бывает посложнее, чем на фронте! Делу учить надо!» Батька слушает да на меня косится: что ж, дескать, при парне выговариваете! А Щорс смеется: «Ничего, пусть наматывает на ус. Молодому жить и воевать, врагов много. Пригодится, Василий Назарович!» Тогда же батька открыл курсы для командиров в селе Хильчачи, подобрав преподавателей из командного состава с образованием и выделив из горячих советов Николая Щорса одну фразу: «Будет хороший командир, будет и отряд хороший!»
Сейчас я переиначил ее мысленно для себя: «Будут хорошие подрывники, полетят и поезда под откос, вместо того чтобы везти на фронт танки и живую силу, снаряды и хлеб». Кроме того, что в каждом отряде готовились подрывники, особую группу Тарновский создал при штабе соединения. Из нее трех человек и послали на железную дорогу Киев — Нежин через четыре дня после того, как соединение обосновалось в Нежинском лесу, на кабыжчанском участке.
Но счет уничтоженным эшелонам противника открылся раньше. Я все приберегал эту новость, чтобы о начатой нами войне на рельсах рассказать покучнее, что ли, в одном месте. Еще из леса у села Красное, так называемого Краснянского, где у нас была недолгая стоянка после перехода через Десну, еще до трудного марша к Новой Басани мы снарядили группу подрывников на железную дорогу Киев — Полтава. Повел их Михаил Осадчий, командование доверяло ему чуть ли не стокилометровый опасный переход по тылам врага. С ним отправились казавшиеся нам лучшими по всем своим данным подрывники Дмитрий Наумов и Иван Гуськов. Мы в них не ошиблись.
26 июля, после терпеливой и тщательной разведки на месте, там, где их никто не ждал, близ станции Яготин, на первом же перегоне от этой станции, наши подрывники поставили мину, на которую скоро и наехал эшелон. Были разбиты паровоз и пять вагонов с живой силой, которая стала мертвой. Один вагон, как подтвердила наша железнодорожная агентура, был с офицерами. Урон захватчикам мы причинили заметный, и путь почти на сутки вышел из строя. А ведь это путь к фронту!
Может быть, эта первая вылазка наших подрывников и подала мысль о том, что относительно далекие рейды на железные дороги Полтавщины могут быть успешнее попыток разместиться поближе к этим железным дорогам и надежнее обеспечат выполнение задачи, стоящей перед нами. И вот из Кабыжчанского леса, где мы раскинули новый лагерь, группа подрывников — Морозов, Юрченко, Надточий — пошла на железную дорогу Киев — Нежин, активно используемую врагом для доставки военных грузов на фронт.
В ночь на 16 августа между станциями Бобровницы и Кабыжча на мины наехал немецкий эшелон. Под откос полетели паровоз и пять вагонов и платформ с солдатами и автомашинами.
Щорсовцам достался «рабочий» участок недалеко от лагеря, по дороге Киев — Полтава. Подрывники группы Ивана Пришепы выбрали удобное место на уклоне, в небольшой балке, и здесь пролежали сутки, наблюдая за охраной и высчитывая, как она согласует свой контроль за путями с движением поездов. Ночью вслед за гитлеровской охраной они бесшумно и незаметно появились на путях, положили и замаскировали две мины и уползли. Не прошло и часа — поезд. После взрыва паровоз лег поперек дороги, а вагоны сорвались с рельсов и покатились вниз. Разбилось восемь вагонов с живой силой, и движение других поездов было задержано на сутки.
Гитлеровцы спешно чинили дорогу, но скоро почти здесь же отличилась группа диверсантов из Чапаевского отряда во главе с Дмитрием Наумовым. О нем хочу рассказать подробнее. Это был молодой рабочий из Корюковки, комсомолец, от которого война потребовала невероятной стойкости, потому что внесла такие серьезные испытания в его жизнь, каких и не сочинишь. Только война их преподносит. Без всякого сочинительства.
Перед войной Дмитрий, которого всегда тянуло к учебе, оканчивал Воронежский государственный университет, собираясь стать специалистом по экономической географии зарубежных стран. Призванный в армию, дрался на сталинградском направлении, где попал в окружение, в плен. Впрочем, в плену он был недолго. Ему удалось совершить побег, спрыгнув с поезда, который шел по родной Украине, мимо Белой Церкви. В течение многих дней, лучше сказать ночей, он пробирался проселочными дорогами в сторону родной Корюковки, на себе убеждаясь, как украинское население, хозяйки хат, пустеющих от горя и разорения, матери полуголых и голодных детей, помогали своим солдатам, одевали, кормили и лечили, если надо. А ему надо было, потому что свалил тиф. Однажды, подобрав Наумова на дороге, его поместили в тифозный барак в Ичне, откуда помогли ему бежать.
В Корюковку он пришел за несколько дней до того, как фашисты сожгли ее. Увели отца, а Дмитрий успел бежать в лес. И тут, в лесу, в двух километрах от Корюковки, он нашел отца среди расстрелянных карателями земляков. Своими руками похоронил его в том же лесу и пошел искать партизан. Вот что он сам рассказывал:
— Я кружил по лесу, не зная, куда направиться и что делать, как вдруг увидел женщину в простой и заношенной одежде. Она стояла метрах в пятидесяти от меня. Оттуда и сказала: «Товарищ Наумов, вам, как старшему лейтенанту Советской Армии, полагалось бы в партизанах быть». — «Да я их ищу!» — «Вот вам пропуск». И она протянула мне партизанскую газету, назвала пароль и сказала, что в этот день я должен пройти еще около сорока километров, чтобы застать партизан возле села Тихоновичи. Я пошел… Не пошел, а побежал, так, считайте, больше и двигался весь день. Возле Тихоновичей меня остановили… Так я попал действительно к партизанам, не зря торопился… А женщина в лесу, как позже выяснилось, была членом подпольной партгруппы в Корюковке, до войны — учительницей.
Сначала Дмитрий Наумов был у нас рядовым бойцом, потом разведчиком, минером. Росли его авторитет, известность среди партизан. Избрали секретарем комсомольской организации всего соединения. В партизанские месяцы своей жизни вступил в партию.
В ночь на 21 августа Морозов, которого у нас называли просто Мороз, взорвал еще один поезд на дороге Нежин — Киев. Пострадали два паровоза, катившие этот эшелон, и семь платформ с автомашинами.
У Тарновского, командира диверсионных групп, который готовил их действия, можно сказать нашего главного диверсанта, даже походка стала молодцеватой. Еще бы! Были недели, когда взрывы на железных дорогах повторялись в разных местах чуть ли не каждую ночь. Конечно, работа была нелегкой и опасной, но к ней привыкли. Диверсанты так и говорили: «Иду на работу!» Иногда за сто и даже сто пятьдесят километров. Тарновский снабжал подрывников толом и минами. А Мейтин наделял диверсантов колбасой и салом — сухим пайком.
Как-то так случалось, что самым тяжелым в этой «работе» стали считать ожидание: отправят диверсантов, а от них — день, два, три никаких вестей. И сами не возвращаются. Как нервничали Каменский и Малов, когда их диверсанты неделю не возвращались с задания и ничего не могли доложить командованию!
Помню, я и Негреев набили свои трубки настоящим табаком и сели покурить. Было это утром 25 августа. Давно мы не имели хорошего табачка, курили свой, партизанский: мякина, крапива и малиновый лист. Мякина горит, крапива дает крепость, а малина — аромат. Когда чапаевцы захватили у немцев на Козелецкой дороге листового табаку, то и нам в подарок перепало. Наслаждаемся. По одной трубке выкурили, набили по второй. И тут подходит мой ординарец:
— Что-то случилось… Каменский и Малов бегут сюда, Каменский даже без фуражки. То ли потерял, то ли надеть забыл…
Тут и они подбегают.
— Разрешите доложить?!
Я уж вижу — Каменский улыбается, догадываюсь, что это не беда.
— Если что хорошее — докладывай, а если плохое, то лучше после завтрака.
Оба замахали руками и — наперебой:
— Вернулись! Наши вернулись!
Мы позвали диверсантов к себе, усадили за примитивный стол, «майор» Мейтин раскошелился — поднес вернувшимся по чарке, а они — Михаил Насонов, Александр Серый, Дмитрий Бумажников — поведали, почему так задержались.
— Тот наш связной, которого указал нам товарищ Коротков, схвачен гитлеровцами и куда-то увезен. Мы сами добрались до железной дороги. Подход к ней очень труден. По обе стороны от полотна фрицы лес вырубили, и в таком хаосе он валяется, что только белке по нему скакать. Так мы и скакали, как белки. Ночью…
Вслед за командованием первого отряда приуныли и Дунаев с Шелудько — «исчезли» их диверсанты. Я застал однажды у чапаевцев Каменского, он успокаивал Дунаева:
— Я тебя понимаю, Андрей, сам ночами не спал. Вдруг там что-нибудь случилось, а я тут сижу? Понимаю, батенька… Ты послал на розыск?
— Ни от тех, ни от других ни слуху ни духу. — И Дунаев развел руками.
К вечеру настроение командира изменилось: вернулись разведчики Николай Черныш и Катя Рымарь. Доложили, что пошли по направлению к Хмелевикам. И на полдороге, в Гиринах, их схватила полиция. Хорошо, что заранее договорились: они, дескать, муж и жена, идут в Хмелевики к больному дяде. Обыскали их, оружия нет, но нашли деньги, которые им были даны на всякий случай, — две тысячи рублей, вдруг придется что-то купить или кого-то подкупить, мало ли…
С. А. Шелудько
— Где взяли столько грошей? — спрашивает старший полицай.
А Катя враз отвечает:
— Корову продали.
— А чего гроши с собой таскаете?
— А того, — говорит Катя, — что, может, мы домой не вернемся.
— Это почему?
— Партизан боимся. Они, бандиты, убили моего брата.
— За что же?
— А за то, что був такий, як ты! — крикнула Катя в лицо старшему полицаю. И тут же загалдели из разных углов:
— Полицаем був?
— Твий брат?
— Ну а кто же?
Черныш держит деньги в руке. Одни полицаи смотрят на них, другие еще галдят, и старший вдруг говорит:
— Вы одолжите нам гроши, а мы дадим вам бумажку, чтобы вас не трогали. И ступайте себе!
— А сколько ж одолжить, Панове?
— Да любую половину!
Катя заревела:
— Брата убили, дядя больной, корову продали, теперь половину денег отдавай! Боже мой!
Пришлось Николаю прикрикнуть на нее:
— Молчи, дура! Они ж гроши в долг берут, вернут, значит!
Катя еще пуще ревет, и он даже замахнулся на нее. Ушли с бумажкой, эта бумажка один раз пригодилась в пути. А в Хмелевиках пришли к партизанскому связному из местных жителей и встретили в хате Дусю Певчую, которая числилась среди «исчезнувших» диверсантов. Не могу ни вспомнить, ни найти фамилию этой девушки, хоть убей! Ругаю себя за эту забывчивость, за издержки партизанского быта… Певчая — прозвище, потому что она говорила нараспев, такой у нее от природы певучий голос. Как же разведчики обрадовались ей, тем более узнав, что хлопцы живы и задание выполнено! 23 и 25 августа взорвали недалеко от станций Хмелевики и Березань два эшелона с боеприпасами. А еще пустили под откос поезд с зерном, оно — тоже оружие на войне.
Всего же за эти дни и ночи на разных направлениях нашими подрывниками пущено под откос шесть эшелонов противника, два с танками и орудиями и четыре с живой силой. Движение поездов заторможено на пять суток, почти сутки — на каждый эшелон.
К уже названным партизанам-подрывникам прибавлю еще Николая Гребенникова, Федора Гусева, Василия Павленко.
Сколько сложностей приходилось преодолевать нашим подрывникам, каким опасностям они подвергались. Вот один характерный случай. Раз на перегоне Нежин — Бахмач, где, по данным разведки, ожидался большой состав с живой силой и техникой врага, наши подрывники заложили мину. Однако скоро вдалеке послышался шум… не поезда, а дрезины! Нужно было срочно убрать мину, чтобы сохранить ее для поезда и не выдать взрывом дрезины присутствия подрывников на дороге. Эту задачу сноровисто выполнил командир группы Михаил Насонов. Дрезина прошла, и мина была возвращена на место. Поезд взорвался. Эта группа пустила под откос еще три эшелона…
Начали истощаться запасы наших мин, без которых подрывники, образно говоря, как без рук. Мы встревожились. Погода не баловала — не было уверенности, что самолет доставит мины в нужный час. Что делать, как быть? У партизан одна надежда в таких случаях — на себя. Мы сами стали добывать тол — из немецких мин и бомб, чтобы делать свои взрывные устройства.
Д. М. Наумов
Одну из первых операций такого рода Кочубей поручил Морозову и Наумову. Правда, они начали с наших мин, ранее поставленных ими же на лесной дороге. Теперь их предстояло вынуть из земли, и риск был не меньшим. Риск оставался смертельным, тем более что мины были старые, несовершенные.
Все только казалось просто — сделать, как учили: расчистить над минами маскировку, снять ветки и пучки трав, раскопать немного и найти взрыватель, вставить чеку и вынуть детонатор. Это делалось на занятиях не раз. Но вот — дело… Не учебная, а настоящая мина. Одно неловкое движение — и взрыв, ты взлетаешь на воздух, минёру, как известно, нельзя ошибаться, каждая ошибка у него первая и последняя.
— Ну, я первый… — сказал Морозов Наумову.
— Почему?
— Я не намного, но старше тебя. Значит, ты должен меня пережить! — сказал Морозов и улыбнулся.
Довольно долго он копался с миной, а потом вернулся, показал детонатор: вот, дескать, и всё. Бледный. Руки дрожат — теперь можно…
Пошел Наумов. И тоже разоружил свою мину. Они обнялись и расцеловались по-братски, а потом долго лежали на траве и молчали…
Каждый поезд, не дошедший тогда до фронта, был для нас большой победой, но сейчас я боюсь, что наскучу, если начну обо всех диверсиях рассказывать подробно. Тем более что не только ими занималось соединение в эти августовские дни.
Глава двадцать первая
Армия развивала наступление в нашем направлении, и во всех селах в радиусе не менее шестидесяти километров от нас партизаны-агитаторы, в основном коммунисты и комсомольцы, читали крестьянам сводки Совинформбюро, распространяли газеты с Большой земли и листовки, выпущенные нашей типографией. Чмиль не спал по ночам, подготавливал их тексты, а Клава, казалось, не только не отходила от наборных касс, но и не присаживалась.
Под руководством Негреева вели эту работу, мобилизуя население на то, чтобы не выполнять требования захватчиков. А они старались побольше вывезти хлеба, угнать скота. Об угоне людей на работу в Германию гитлеровцам стало все труднее даже речь заводить. Едва колхозники, которые снова и с радостью начали называть себя так, узнавали, что замышляется операция по угону населения, они либо сами укрывали парней и девушек, либо отправляли их в лес, к партизанам.
Партизаны были для населения первыми помощниками и защитниками. С востока приближалась родная армия, и колхозники перестали платить захватчикам налоги, тормозили или вовсе срывали обмолот хлеба, вывоз скота. Наши диверсанты ходили не только на железные дороги. По просьбам колхозников они появлялись на полях и в селах, взрывали молотилки и тракторы, чтобы остановить грабеж. Если гитлеровцам все же удавалось где-то собрать скот, колхозники сейчас же сообщали об этом партизанам, и наши бойцы устраивали засады, нападали на грабителей, а скот возвращали владельцам.
Правда, если где-нибудь негодяй-староста снова видел у крестьянина корову, то, бывало, доносил захватчикам, что вот партизаны вернули такому-то скотину. И наши изменили, можно сказать, тактику, придумали другое: скот отбирали, перебив фашистскую охрану, крестьянам же, которые гнали коров, давали справки, что, мол, все у них отобрали партизаны, а через несколько дней, поддерживая жизнь населения, раздавали оставшимся без скота семьям совсем других коров, чтобы помешать доносам холуев.
О старостах и других прислужниках захватчиков можно сказать, что они заметались: одни искали способа замолить страшные грехи, связывались с партизанами, предлагали помощь, другие становились еще свирепее и беспощаднее напоследок.
Именно таким мерзавцем был бургомистр в Носовке, заместителем которого работал наш давний разведчик, смелый человек Дмитриенко. Мы решили убрать бургомистра, но как? Он никуда не выезжал, а в Носовку, набитую гитлеровцами, пробраться и совершить налет на управу было невозможно без больших жертв, которых предатель не стоил. Яков Коротков предложил и провел другую операцию.
Он написал на имя бургомистра письмо, в котором мы, партизанские командиры, упрекали его, что он не выполняет своих обещаний и требовали, чтобы лучше была налажена разведка и передача нам сведений об оккупантах. Через некоторое время мы успешно налетели на село недалеко от Носовки и разбили стоявший там вражеский отряд. Тут же было опять составлено письмо бургомистру, мы благодарили его и даже сообщили, что ему будет вручена партизанская медаль, как только наша армия вышвырнет отсюда фашистов.
Оба письма Дмитриенко положил на стол бургомистра, в его папку, когда бургомистр куда-то отлучился. Потом Дмитриенко пошел к гитлеровцам, пожаловался, как трудно стало работать, и намекнул, что подозревает в нечестности бургомистра. А фрицам в то время дай хоть маленький намек. Они набросятся на лучшего своего служаку! Так и получилось. Явились гестаповцы, вскрыли стол бургомистра, нашли два партизанских письма. Этого оказалось достаточно. Его схватили и отправили в Киев, откуда он не вернулся…
Бургомистром был назначен Дмитриенко, но за ним начали следить, и мы предложили подпольщику захватить из канцелярии все документы, которые могут нам пригодиться, и уйти в лес. Так он и сделал.
Если прибавить, что в Нежинском лесу активно действовали другие<партизанские отряды, то станет понятно, отчего захватчики приходили в бешенство.
О значении Нежинского леса не требуется долго говорить. Мы проверили на собственном опыте, что дислоцироваться большому соединению в Ново-Басанском лесу невозможно. Нельзя маневрировать, значит, нет возможности и укрываться, навязывать врагу свою тактику, делать свое дело. Из Нежинского леса мы «доставали» железные дороги, которыми пользовался враг. И решили — этот лес, пригодный и для укрытия, и для маневра, врагу не отдадим. Дела на фронте у оккупантов складывались в тот период все хуже. Наша разведка из Киева доносила: генерал, командовавший «уничтожением» партизан в Нежинском лесу, требовал подкрепления. А откуда было гитлеровцам брать новые силы? Все, что могли, они отправили на фронт, а мы не прекращали диверсий.
На железнодорожной магистрали Киев — Нежин в ночь с 1 на 2 сентября Иван Прищепа, отличившийся уже во многих диверсионных операциях, подорвал эшелон с живой силой врага. Через пять дней он же со своим товарищем — черноморским моряком Петром Цимбалистом — пустил под откос эшелон с танками и боеприпасами. В этой группе хорошо действовали подрывники Петренко и Муратбек Мусабеков.
Гитлеровцы изощрялись в выдумке и стараниях обезопасить движение. 9 сентября они пустили впереди эшелона с боеприпасами паровоз, чтобы проверить дорогу. Свободно катился паровоз, двигались вагоны следом, все шло будто бы хорошо. Но после станции Рудьковка во втором вагоне от паровоза-тягача взорвалась магнитная мина. Весь эшелон начал взрываться и сгорел. Это на станции Рудьковка наши подпольщики (из железнодорожников, работавших там) поставили магнитную мину, которой их снабдили партизаны.
Кроме военной охраны фашисты стали рассаживать на железнодорожном полотне полицаев. Наги диверсанты почему-то называли этих охранников «попугаями». Снимали их бесшумно и ставили мины. «Попугаи» не помогли, не остановили партизанских диверсий. Тогда на охрану железных дорог оккупанты стали выгонять местных жителей, делая это с обычным гитлеровским живодерством. Каждому селу отводился участок, и, если на нем происходил взрыв, село сжигали, а население расстреливали, полностью или частично. Гитлеровцы жили за счет грабежей и не могли оставаться без сельских хозяев, этим и объяснялось вынужденное «частично». Они все сожгли бы и всех расстреляли бы, если бы можно было самим остаться в искусственной пустыне.
Крестьяне рассаживались или расстанавливались вдоль путей на расстоянии не более двухсот метров друг от друга, и с этими постами было не так просто. Кому легко обречь на сожжение свое село, а себя на смерть за связь с партизанами?
Но попадались и такие, что говорили:
— Делайте свое дело!
Будто приказывали…
И как снова не сказать — население действовало заодно с нами, только в этом секрет партизанских успехов. Бывало, наш комиссар говорил: «Ну пошли… Люди нас поймут и помогут». И так всегда было — люди помогали…
Вспоминается, в восемнадцатом году перед началом наших наступательных действий во всех селах тоже поднимались крестьяне. Они шли к нам большими партиями, вооруженные кто чем мог: кто нес топор, кто вилы, кто косу на плече. Это было народное восстание. Люди шли драться за свою рабоче-крестьянскую власть, против иноземного ига и гайдамаков, защищавших буржуев и помещиков.
Раз, когда мы готовились к штурму Новгород-Северского, я ехал из батальона в батальон и увидел на Стародубском шляхе большую толпу — человек триста, — пылящую из Шептаков и Кролевецкой Слободки. Подождал, гляжу, некоторые с винтовками, припрятанными после войны; есть и с охотничьими ружьями дедовского образца, но больше — с вилами, с топорами на длинных топорищах, похожими на старые секиры, а то и с лопатами.
Многие меня знали, сели поговорить тут же, на травке.
— Куда это вы? — спросил я.
— Как куда? Немцев бить!
— У них винтовки. А у вас… лопаты.
— Только дай сойтись — поглядим, от кого перья полетят! — закричали они. — А лопаты взяли — окопы рыть. Иль тебе не надо?
Тогда же узнал я, как сожгли мой родной дом: слышать-то слышал, а теперь рассказали подробности.
Немцы с гайдамаками приехали в Кролевецкую Слободку, стали грабить население и такую контрибуцию наложили, что, продай крестьянин все свое добро, у него не хватило бы и половины заплатить. Забрали добро и у моего отца, Гордея Григорьевича, которое он всю жизнь наживал трудом, увели кобылу и жеребенка, потом и вовсе узнали, что он — Салай, и подожгли дом. Сам отец успел скрыться в лесу, видел с горки, как горят дом и постройки во дворе. Казалось, не было конца горю его, но еще большее горе испытывал он оттого, что не знал, где Устинья, жена, моя мать. Могла попасть в руки к гадам. Он-то думал, убегая, что застанет ее в поле или в этом лесочке, где уже попрятались от немцев многие слобожане…
Мать и правда побежала было в лес, да увидела пожар, дрогнуло сердце, повернула назад. Немцы ее схватили. Избили шомполами. Мало того, потащили к дому, стали раскачивать за руки, за ноги, чтобы бросить в огонь. И в это время крикнул кто-то из столпившихся рядом крестьян:
— Братцы, спасайте ее!
Крестьяне рванулись и встали между огнем и немцами. Те оставили старуху и начали хватать и избивать крестьян. Но крестьян больше было. Такая каша заварилась! В суматохе мать уползла в коноплю, а немцы еле вырвались и, задыхаясь, побежали за подкреплением.
Утром собрали всех кролевецких жителей — мужиков, женщин с детьми, стариков и старух. Объявили, что вчера партизаны устроили налет на немецких солдат. И что сейчас, дескать, будет над ними суд. Привезли из тюрьмы схваченных накануне партизан Михаила и Семена Черняков, пытали их перед женами и детишками, перед всеми слобожанами, а потом расстреляли. Выпытывали у жен Михаила и Семена, где моя мать. Она пряталась у соседей. Те знали, но не выдали. А отец в это время шел лесной дорогой, чтобы найти партизан, получить винтовку и бороться с захватчиками. Человек он глубоко верующий, шел и вслух спрашивал себя: «Где же тут бог? Да и есть ли он, коли позволяет такое?»
Своими зверствами немцы только ожесточили против себя крестьян. Вот объявление восемнадцатого года:
«Жители обязаны доносить ближайшему немецкому учреждению о появлении разных банд в местности или ее окрестностях. При неисполнении этого требования они будут наказаны самым строгим образом, как соучастники этих банд, и не могут надеяться на какое-либо снисхождение».
Спустя четверть века гитлеровские коменданты словно бы списали у офицеров кайзера строки этих объявлений. И превосходили их в зверствах, за которые партизаны — народные мстители платили им ненавистью и пулей.
Никакие трудности не останавливали нас. Борьба не бывает легкой. В подтверждение этого хочу рассказать еще об одном эпизоде наших боев с врагом в те дни, когда мы скрывались в Нежинском лесу. И еще об одном человеке — о девушке-партизанке Ирине Рубцовой.
В тридцати километрах от нашего лагеря, в селе Чемер, там, где до оккупации был совхоз «17 лет Октября», а теперь гитлеровцы устроили откормочный пункт для скота, мы решили провести операцию. Решили разгромить этот пункт, откуда гитлеровцы еще отправляли мясо в армию и в Германию. По данным разведки, Чемер охранялся фашистским гарнизоном. Две группы партизан — под командованием Косенко и Алексеева — обошли Чемер, тихо сняли посты и ворвались в село.
Гарнизон размещался в каменном доме. Партизаны окружили его и стали бить по нему бронебойными и зажигательными пулями. Гитлеровцы упорно отстреливались. Пулеметчик Мамет Байрамов подполз к ним совсем близко и застрочил в окна, из которых со звоном полетели стекла. Тяжелая рана, полученная Байрамовым, прервала пулеметные очереди. Вот тогда к пулеметчику и поползла молодая медсестра Ирина.
Она захватила с собой две гранаты, чтобы швырнуть в окно казармы, откуда усиливался огонь. И ей удалось сделать это. Впервые в жизни Ирина бросила гранаты, но так удачно метнула их одну за другой, что в казарме вспыхнул пожар и стрельба оттуда поубавилась. Не зря учили Ирину товарищи. Теперь можно и к Байрамову вернуться, помочь ему. Но Ирина не доползла до пулеметчиков. Три пули настигли ее, попав в голову и в ноги…
Товарищ по расчету взвалил Байрамова на плечи и вынес из-под огня. А из партизан, добравшихся до них, один лег за пулемет, другой принялся искать Ирину, звал, но она так и не отвечала в темноте. Как потом выяснилось, она забралась в высокую картофельную ботву и там потеряла сознание…
Много подвод, нагруженных продовольствием, ушло отсюда, много откормленного скота угнали партизаны, а Иры так и не нашли.
Утром ее подобрали гитлеровцы и отправили в Чернигов. На допрос. Они ведь и полумертвых партизан терзали. Очнувшись и сообразив, где она, Ира пыталась перекусить вены на своих руках — со следами этого и привезли ее в больницу, на допросах — ни одного слова. Теряла сознание, но не отвечала.
Наша армия так быстро заняла Чернигов, что фашисты, удирая, оставили раненых, в том числе и Иру. Вот тогда она и рассказала о себе, безымянная для врага, а теперь назвавшая свое имя: Ирина Рубцова. Ее отправили в тыловой госпиталь, операцию сделали хорошие армейские врачи, но было уже поздно, началась гангрена. За жизнь Иры боролись еще два месяца, однако спасти ее не удалось, Ира умерла. А перед смертью сказала: «Очень жалею, что бросила всего две гранаты. Но у меня больше не было».
Восьмое примечание
Вот что еще удалось найти об Ирине Рубцовой в партизанских документах.
Она, можно сказать, местная, родилась по соседству с Черниговщиной, в Брянской области, в районном центре Злынка, в семье рабочего Акима Кузьмича. Ее мать Мария Иосифовна до войны была депутатом районного Совета. В школе Ира стала пионеркой, любимые слова, которые она запомнила и часто повторяла, принадлежат Долорес Ибаррури: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!». Когда в марте сорок третьего года фашисты угоняли молодежь из Злынки в Германию, Ира бежала в лес и столкнулась с группой разведчиков Дунаева. Строгий командир, считавший, что партизанская борьба — мужское дело, отказался взять Иру с собой: «Да вы понимаете, девушка, куда проситесь?» Щупленькая, с длинными «школьными» косами, в «городском» пальтишке, холодном и неудобном для леса, она ответила: «Конечно, понимаю, раз сама пришла к вам». И тут послышались выстрелы. Тревога! «На тачанку!» — крикнул Дунаев некстати появившейся девушке.
Так, по свидетельству очевидцев, и произошло ее вступление в отряд.
Первые дни она стирала белье, готовила пищу. Потом окончила партизанские курсы медицинских сестер. Но этого ей было мало. Все время то одного, то другого просила научить пользоваться оружием, овладела пистолетом, автоматом, гранатами.
Менялся и внешний вид партизанки. Партизанский портной перешил для Иры немецкую шинель, отрядный сапожник подогнал ей трофейные сапоги, а другой умелец сшил серую кубанку с красным верхом из сигнального флажка. Иру стали называть в отряде — Красная шапочка. Ее любили. В боевых операциях она не раз удивляла партизан хладнокровием. И ее единодушно приняли в комсомол. Это было незадолго до нападения на Чемер…
Черниговский врач Иван Гаврилович Будаш, державший связь с партизанами, свидетельствовал, что Ирина не выдала немцам никого и ничего. Умерла она в тульском госпитале, в декабре сорок третьего года.
Сейчас пионеры-следопыты собрали немало материалов о подвиге Иры и передали их в музей Злынковской школы, где училась Ира. Имя Иры носит лучший пионерский отряд этой школы. Одна из улиц города Злынки, связанная с жизнью юной партизанки, названа именем Ирины Рубцовой.
Михаил Гордеевич приложил к своей рукописи стихи об Ирине, при этом рассказывая:
— Написал их Костя Малов. Не очень профессиональные, вероятно, эти стихи, но уж что несомненно — от всего сердца. Наши, тоже самодеятельные, партизанские композиторы положили стихи на музыку, сочинили песню, в которой звучало имя Ирины. Я часто повторяю про себя строки из этой песни:
Раз пришла к нам девушка с ясными глазами, Милая, простая, с длинною косой. Что бы ей доверить, мы не знали сами, Но она сказала нам: буду медсестрой. Молодая девушка с ясными глазами, За тебя пожертвовать каждый жизнью мог. Как это случилось, мы не знаем сами, Почему отряд наш Иру не сберег!Глава двадцать вторая
Днем 9 сентября к нам прибыл офицер из УШПД, спустившийся на парашюте в соседний отряд. Это был лейтенант, поразивший меня молодостью и отличной боевой подготовкой. Он так разбирался в партизанской тактике и задачах, что, казалось, родился здесь. Фамилия его — Пушков.
Так вот, Пушков привез нам новый приказ — быстро переправиться через Десну и Днепр, на правобережье, не стремиться к соединению со своей армией, а оставаться в тылу врага и продолжать «работу» на вражеских коммуникациях, всяческими способами нарушая их и тормозя передвижение противника.
Конечно, грустно было уходить от нашей приближающейся армии, это нетрудно понять. Но нетрудно было понять и то, что фашистские захватчики не собирались складывать оружие, требовалось добить их, чтобы освободить всю Украину, а не только свою Черниговщину, это ясно было и штабу партизанского движения, и каждому партизану. Никто не заявил, как раньше, в том далеком, восемнадцатом, когда хоть и редко, а доводилось слышать: «Никуда я не пойду от родного села!»
Сложность нашей новой задачи заключалась в том, что предстояло одну за другой преодолеть две реки: Десну и Днепр. Еще хорошо помнилось, как мы недавно переправлялись с правого на левый берег Десны, но даже ее, мою родную красавицу, не сравнишь с привольным Днепром. Однако и это не все. Еще ни одно партизанское соединение не преодолевало такой реки, как Днепр, когда она свободно течет меж своих берегов. Героические партизаны Федорова и Ковпака рискованно и бесстрашно переходили Днепр ранней весной. Лед трещал, а иногда и ломался под ногами людей и коней, но все же для тех переправ не требовалось столько лодок и плотов. Столько плавучих средств!
Нам же сейчас позарез требовались эти плавучие средства для переправы обоза и орудий, которые у нас уже появились, нашим людям предстояло встретиться с полноводным Днепром, обняться с ним, пройти через такое испытание. Переправа! Надо было обдумать все ожидаемые и неожиданные детали этого дела.
Ну, конечно, я снова призвал на помощь прошлое… Было это двадцать пять лет назад. Стоял август, и мой отряд готовился к преодолению Десны, чтобы участвовать в освобождении Новгород-Северского. Отряд разросся, к делу готовилось столько же людей, сколько и теперь. Да и люди были такие, как теперь: много молодежи, но немало и пожилых, а то и стариков. Женщин, правда, было куда меньше. Меньше, конечно, было и грамотных, образованных специалистов.
Да и я был не тот. Мне тогда исполнилось всего двадцать шесть лет. Теперь могу сказать — всего! Ровно вдвое меньше нынешнего. Больных ног не было и в помине, зато не было и опыта…
Сбивать паром под носом у немцев — эту мысль мы сразу отбросили. Обнаружат, легко догадаются, что мы затеваем, и сами подготовятся к встрече. Было предложение — построить плавающий мост через реку. Тоже отказались — много леса нужно рубить, много времени расходовать на это, а главное — снова выдать себя. У нас же была задача — тайно переправиться через довольно широкую Десну и ночью напасть на врага.
Оставалось одно — лодки. А где столько лодок взять, где добыть? Все лодки немцы предусмотрительно стащили в Новгород-Северский и охраняли. Значит, там их и надо было брать. Один из охранников — матрос Чуденко — еще раньше был завербован в подпольный новгород-северский отряд, но вместе с ним лодки сторожили три гайдамака.
Подпольным отрядом руководил Харченко, тоже бывший матрос, да еще с крейсера «Аврора», ему и поручили эту операцию, тщательно продумав ее.
Утром немцы заметили лодки, плывущие по Десне, всполошились и, конечно, прежде всего кинулись на пристань. А там, в сторожке, еще ночью, в тот час когда на посту стоял Чуденко, побывал со своими людьми Харченко. Гайдамаки спали. Подпольщики взяли столько лодок, сколько смогли, а остальные пустили по течению, как заранее условились. Гайдамаков, заткнув им рты, увезли с собой, но надо было окончательно сбить немцев с толку, поэтому Чуденко привязали к лавке и оставили в сторожке, по его просьбе «наградив» тремя синяками.
Когда прибежали немцы, он стонал. Объяснил: гайдамаки оказались изменниками, напали на него с какими-то людьми, избили, связали, а лодки пустили вниз по реке, перерубив всю привязь. Немцы, видевшие плывущие лодки, поверили; нам же только это и требовалось: место переправы было намечено выше по течению, и таким образом наш подпольщик отвлек немцев от партизан.
А Харченко доставил больше двух десятков лодок…
Но как поставить в лодку телегу? Придумали: сначала перевезли людей, затем связали по паре лодок и уложили на них заранее приготовленные помосты. Получилось нечто вроде парома. Ну, а лошади? Вплавь, конечно!
Все шло хорошо, но разве обходится такое большое дело без осложнений? Наверно, невозможно это. «Лошади не пошли в ночную реку. Как их ни заталкивали, они не поддавались, что тут было делать?
Выручил один старик из местных крестьян. Говорит:
— Стойте, хлопцы., Давайте я сяду в лодку, возьму одного коня за повод и потяну за собой.
— А другие?
— Вяжите к его хвосту другого, а за ним третьего, по пять-семь штук. Поплывут, авось.
— Ты, старик, думаешь, что это гуси?
— Вяжите!
И ведь вышло по-стариковски! Все только ахнули. А кони оказались на том берегу. Иных пришлось подстегивать хворостинами, иных уговаривать: «Но, но, милый!». Одолели Десну…
Сейчас мы находились от нее в сорока — сорока пяти километрах. Для натренированных партизанских ног — расстояние на одну ночь. Лежала на пути речка Остер, неглубокая — по пояс, неширокая, но все же метров до тридцати, ручьем не назовешь, а особо запомнились ее берега. Торфяные, крутые. Когда шли сюда, переправу наладил партизан Сибирский, предложивший разгрузить телеги и переправлять их пустыми, я рассказывал об этом. Сейчас его не было, он погиб в Ново-Басанском лесу. Но ведь опыт остается. И торф, хоть и быстро разжижался под сапогами, ботинками и копытами, не остановил нас.
Путь держали к селу Максим, лежащему уже на правом берегу Десны. С левого хорошо видны хаты этого села. Высоко, на самой горе, стояла хата колхозника Артема Домашевского, с которым связали нас междуреченские партизаны. Отряд Збанацкого снова оказал нам большую помощь, на этот раз в переправе через Десну. Он сам переправлялся в том же районе, возвращаясь в междуречье, и по-хозяйски, гостеприимно, можно сказать, уступил нам право первыми сделать это.
Артем Домашевский и другие крестьяне, помогавшие партизанам, заранее затопили у берега лодки и баркасы, чтобы гитлеровцы не обнаружили их скопления. Теперь наши разведчики, посланные вперед, помогали достать и подготовить к переправе этот «флот».
Километрах в пяти от Десны, в селе Волчек, соединение перед рассветом сделало привал на завтрак. Расходовать свои продукты не пришлось: местные крестьянки с охотой кормили партизан, угощали горячей едой и радовались нам так, будто уже сама армия пришла. Сеял мелкий дождь, утро было пасмурное, солнце почти не проглядывало из-за облаков, а запомнилась эта короткая остановка в Волчке как солнечная, радостная. Настроение было особое и у партизан, и у крестьян.
Ушли на правый берег лодки с первыми партизанами, на баркасах, застланных досками, поплыли пушки и повозки с продовольствием и боеприпасами, вслед за ними переправлялись лошади. Труднее было с коровами, особенно с быками, дюжину которых, тяжелых, откормленных, мы недавно захватили в гитлеровском хозяйстве. Но и их загнали в воду, перетащили. Мейтин пока и слушать не хотел, но я думал о Днепре и понимал: недолго коровам и быкам оставаться нашими спутниками…
Почти все соединение было уже за рекой, когда меня изрядно напугал Артем. Приплывает на лодке и передает: тебя просят, чтобы быстрее переправлялся. Значит, там что-то серьезное! Прыгнул в лодку к Артему, поплыли. Хотя Артем работал веслами привычно, ухватисто, с силой, переплыть Десну — это не две и не три минуты. Встретил меня Каменский.
— Что, — спрашиваю, — за беда?
— Да нет, — говорит, — никакой беды, пойдемте скорее в хату, а то яичница остынет.
И здесь устроили партизанам угощенье. Крестьянки села Максим ждали нас за столами не только с яичницей, но и с полным обедом. Несмотря на то что прилетели два бомбардировщика, кружили над селом и бомбили его, хозяйки разводили огонь в печках и стряпали. Эта вера в нашу партизанскую победу на берегу Десны шла от большой веры в непременную победу советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Все со дня на день ждали свою армию. Рассказывали, как настрадались, вытирали слезы от радости, глядя, как партизаны едят нехитрое и небогатое, но такое вкусное, домашнее угощение: сало, огурцы, пирожки. Борщ с хлебом!
Больше всего ласкал душу хлеб. Ведь у нас в лесу хлеб почти всегда был пресный, соли, как я говорил, не хватало, пекли несоленые лепешки. А тут!.. Артем, гостеприимствуя в своей хате, попросил Негреева, чтобы он разрешил подать к столу по чарке самогонки.
— А чего ты меня спрашиваешь? — попытался отшутиться Митрофан Гаврилович. — При чем тут я?
— Это дело душевное, — сказал Артем, — значит, политическое. Вот я и того… к комиссару!
Негреев помялся, но разрешил. По чарке, не боле! Вот и Десна за спиной! Мейтин доложил, что при форсировании реки утонула рыжая кобыла, и одна обозная телега опрокинулась с настила на баркасах, уплыла вниз по реке, а в ней — и мои валенки, на которые можно было, конечно, плюнуть с усмешкой, да я так и сделал, но потом не раз вспоминал о них, потому что валенки, если не геройствовать, требовались мне иногда и летом, несмотря на августовское солнце.
А вечером мы двинулись сквозь лес по направлению к Днепру. К рассвету разведка выбрала место для лагеря, остановились и тут же провели совещание с командирами и комиссарами отрядов. Задача, поставленная недавно перед нами, стала задачей наступившего дня. Большая задача. Днепр — это не Десна. Как быть с нашими ранеными? Отправить на Большую землю — не успеем приготовить площадку для посадки самолета, да и погода, как назло, неблагоприятная, нелетная. Тучи над головой — в несколько этажей. И решили — оставить на левом берегу, в хорошем месте.
Это был первый случай в моей партизанской практике, когда мы оставляли своих раненых. Но лучше действительно ничего не придумаешь. Малова, Дунаева и Шкловского послали с партизанами искать для раненых такое место, где они были бы в безопасности во время отхода фашистских войск. Три группы поехали в разные стороны, а встретились в одной точке, в районе села Сукочи. Недалеко от него, среди болот, возвышалась сухая площадка, хорошо укрытая зарослями сосняка, проезжие дороги — далеко, а вода — под ногами. Мы с Негреевым осмотрели это место и согласились с выбором.
Через два дня лагерь для раненых был оборудован, вырыли две землянки и два колодца; два шалаша поставили — один для кухни, а другой, из парашютного шелка, для амбулатории. Завезли достаточно продовольствия, оставили коров для молока и свежего мяса, не зря Мейтин старался перетащить их через Десну. Само собой разумеется, оставили и охрану.
Возглавил ее боец из Щорсовского отряда Дмитрий Никифорович Круголь. После того как пришли части родной армии, Круголь всех подопечных переправил в Чернигов, определил в госпиталь, а сам в рядах армии отправился воевать дальше. А тогда мы расставались со своими ранеными товарищами…
Тяжело было на душе, всякое расставание с близкими людьми — нелегкая вещь, но боевое задание торопило. Отряды уже разведывали вероятные участки на Днепре для организации переправы, проводили партийные и комсомольские собрания, чтобы мобилизоваться до конца, свести все силы в кулак.
Весь правый берег реки был хорошо укреплен гитлеровцами. В вилке между Днепром и его правым притоком Припятью лежал сыпучий песок. Вот эти три километра противник и не укрепил, видимо, считая, что, избегая песчаного берега, опасного для техники, войска не рискнут здесь переправляться. Легко, в самом деле, залезть в мешок между двумя реками. А партизан фашисты не ждали, тем более нашего соединения, «уничтоженного» еще в Ново-Басанском лесу. А мы пришли… И задумали форсировать Днепр именно в этом месте.
Местные жители, особенно старый рыбак Опанас Филейко, знавший Днепр как свои пять пальцев, вызвались помочь нам. Их помнил Шкловский со времени своего нападения на пароход, пущенный захватчиками из Киева в Чернобыль по Припяти. Вот и встретились… Крестьяне подсказывали для переправы разные места, называли Нижние Жары, Сорокошичи, Теремцы, спорили, где лучше, но мы остановили их, помирили. Преодоление Днепра нельзя было затягивать, и мы попросили помочь нам сосредоточить лодки и дубы — большие днепровские баркасы — в Сорокошичах.
Люди постарались. При помощи Опанаса Филейко для нас собрали в Сорокошичах тридцать лодок и девять дубов. Мысленно я уже скомандовал «Вперед», но давно известно, что человек предполагает, а судьба располагает, то есть вносит свои поправки. События этой ночи еще раз подтвердили, что нельзя забывать об этой неслучайной, жизнью рожденной истине. Я помнил о ней и разыгрывал в уме возможные перемены: если так, то я — так…
Мы думали и о переправе в Теремцах. Там тоже готовились лодки и дубы, в сумерках туда начали двигаться некоторые силы соединения, но за шесть километров от переправы я получил донесение о том, что на правом берегу гитлеровцы густо поставили артиллерию, приготовившись нас встретить. Донес кто-то о нас? Вряд ли, хотя нельзя исключить.
И у них ведь тоже действовала разведка. Могли и лодки заприметить. Так или иначе, надежное, казалось, и уже обеспеченное средствами переправы место отпадало.
Повернули к Сорокошичам, до которых было не меньше пятнадцати километров. Я решил не останавливаться: завтра фрицы могут укрепиться здесь, перед песками Припяти, еще сильнее, а послезавтра… Неумолимое время действовало против нас. Приказав создать в Теремцах впечатление подготовки к переправе, жечь костры, имитировать подход партизан, я ускорил движение колонны. В Сорокошичах уже шла погрузка. Многие местные мужчины подошли с баграми и топорами. Половину лодок спарили, застелили досками. Все было тихо. Первым переправился отряд имени Щорса, занял на правом берегу оборону во главе с Вонархом и повел во все стороны разведку.
Грузился обоз. Подошел дед Филейко:
— Я ведь не зря доказывал, чтоб лошадей здесь пускать. Чуть выше есть островок, отсюда не видать, а лошади найдут. Отдохнут — и дальше за людьми… Осилят!
— С лошадьми ясно, — ответил я. — Сейчас пошлем на этот островок людей.
Рядом вздохнул Мейтин, грустя о коровах и быках. Да, с ними тоже все ясно было. Они не одолеют такой воды. Я распорядился, чтобы их раздали людям, помогавшим нам.
Каменский и Малов, со своим отрядом прикрывавшие переправу, заняли позиции для охраны Сорокошичей, а в Теремцах дразнили гитлеровцев подготовкой к переправе. Между тем основная часть отряда имени Чапаева переправилась через Днепр в Нижних Жарах и соединилась с щорсовцами. Этих двух переправ противнику пока не удалось обнаружить, хотя самолеты вдруг появились над Сорокошичами, повесили осветительные ракеты, но только и отняли у нас час времени. Все замерло в это время на реке и на берегу… Близился рассвет, и мы заспешили. Может быть, поэтому, когда ставили тяжелую повозку штаба в большой баркас, сильно ударили по дну колесом и не заметили трещины. Мы были уже на середине реки, когда вода забурлила в баркасе, так начала пробиваться, что я спросил, все ли умеют плавать. Оказалось, не все. Ведро было в баркасе лишь одно, начали вычерпывать воду этим ведром и шапками, я думал о людях, о штабных документах в ящиках, которые могли навсегда уйти под воду. Но… что сделаешь? С берега нас не видно. Голос не долетит — далеко, да и громко кричать нельзя. Гребцы налегли на весла, скоро я велел раза три крикнуть: «Лодки сюда!» Услышали, помогли. В две подошедшие лодки мы пересели сами, перегрузили часть штабного имущества, да и баркас, освобожденный от груза, дотянули до берега.
Можно, пожалуй, радоваться, но… Я писал уже, что несколько дней в Ново-Басанском лесу были самыми трагическими для нашего соединения, а этот день на правом берегу Днепра, был, наверно, самым тревожным для меня. Мы ничего не знали об оставшихся в Сорокошичах партизанах первого отряда. Прикрывая всех, сами они не успели переправиться. А как пройдет этот день, что будет? Каменский и Малов еще раз доказали, какие они думающие и требовательные командиры. Все повозки с вооружением и другими грузами отряда были замаскированы во дворах, партизаны, выполняя приказ, не появлялись на улицах, чтобы их не могли обнаружить наблюдатели с самолетов противника. А они летали, «утюжили» Днепр. Одна неосторожность, одна оплошность могла бы все погубить. Но этого не случилось…
Между тем я волновался и отправил на левый берег Негреева и Короткова, чтобы они помогли командованию отряда, хорошо вооруженного, но с минимумом боеприпасов. И без рации.
Когда следующей ночью отряд переправился и мы обнялись с Негреевым, то, честно, прослезились. Нам казалось, в ожидании этой минуты прошли не одни сутки.
В тот же час было решено форсировать третью судоходную реку — Припять, чтобы выйти из вилки между ней и Днепром раньше, чем гитлеровцы запрут нас здесь. Река, конечно, поуже Днепра, не сравнить, но задача осложнялась тем, что места эти мы знали неважно, а связи с населением — пока никакой.
По правому берегу Припяти тянулись укрепленные позиции врага, а в Чернобыле был прочный опорный пункт. Куда ни устремится, куда ни повернет наша разведка — везде фашисты. Но вот от Дунаева поступило сообщение — он дошел со своими разведчиками вверх по Припяти до Аревичей и там связался с местными жителями, в семьях которых были воины нашей армии, идущей к Днепру, или коммунисты, расстрелянные в месяцы оккупации. Аревичане с охотой согласились помочь нам.
Соединение — не группа разведчиков, и, чтобы подняться до Аревичей, нам надо было разбить фашистские гарнизоны в Парищеве, Посудичах и Гдени. Партизаны приготовились, проверили снаряжение, оружие, словно соскучились по бою. Каменский и Малов разделили свой отряд и напали на Парищево с двух сторон. Вражеские солдаты, застигнутые врасплох, засели в укреплении, как в берлоге. В бой вступили ПТР, пушки и миномет. Пустили в ход и гранаты. Как ни упорствовали гитлеровцы, а к утру были выбиты из укрепления и отступили к Чернобылю. Нам досталось немало оружия и продовольствия.
Щорсовцы под командой Вонарха и Шкловского разгромили гарнизон в Посудичах и тоже захватили много оружия, продовольствия и спирт, которому мы обрадовались. Нет, нет, не потому, что можно было согреться при случае, а потому, что в нем очень нуждались наши медики. Медикаменты у нас были на исходе, и врачи сами готовили лекарства из трав и спирта.
Чапаевцы под руководством своего комиссара Степана Шелудько ворвались в Гдень, охраняемую полицаями. Они разбежались, отказываясь от боя и панически отстреливаясь с перепугу.
Путь к Аревичам был открыт, и мы пошли туда, поражаясь следам войны, а точнее говоря — следам варварских фашистских преступлений. Уж партизан-то, казалось, ничем не удивишь, а все притихли. На карте еще значились названия деревень, а их самих не было на земле. Мы шагали мимо пепелищ, утыканных печными трубами. Черными и холодными, потому что и людей здесь не осталось.
Упустив Ковпака, фашисты срывали злобу на беззащитном мирном населении и на протяжении двадцати пяти километров сожгли дотла двадцать деревень, расстреливая женщин и детей. Спаслись лишь те, кто успел бежать в лес. В хуторе Лески Негреев с партизанами вынул несколько детских скелетов из колодца. Мы похоронили эти безымянные останки.
Может быть, фашисты думали запугать население, восстановить его против партизан? А добились обратного. С какой любовью и гордостью в тех же Лесках люди рассказывали нам о Ковпаке:
— Пока он стоял здесь, мы жили, как у Христа за пазухой. Фашисты его боялись. Он бил их, как надо!
Показали памятное место:
— Вот здесь стояла его повозка. Точно, под этим дубом!
Наши агитаторы знакомили с положением на фронте, читали свежие сводки, и люди удовлетворенно кивали:
— Скоро, значит, выберемся из землянок.
Нам собрали достаточно лодок и баркасов, помогли вязать плоты, и через четыре часа после начала переправы мы были уже на правом берегу Припяти.
Мы углублялись в лес с лирическим названием — урочище Дубрава. Попавшуюся на пути речушку Словечное перешли вброд. А вечером наш разведчик Николай Черныш привел незнакомого человека, сказав, что вот, дескать, выдает себя за своего, ищет партизан. Мы обменялись паролем и обнялись. Старший лейтенант Пахомов опустился на парашюте в незнакомый и безлюдный лес, но наша радиоинформация в УШПД о том, что в двадцатых числах сентября мы, скорее всего, будем в этом урочище, не подвела. И первым делом Пахомов поздравил нас с тем, что мы одолели Днепр.
Глава двадцать третья
Новое распоряжение Украинского штаба партизанского движения неожиданно и круто меняло нашу задачу. Мы приготовились — уже и своих подрывников нацелили! — парализовать железные дороги и шоссе Овруч — Чернигов и Овруч — Мозырь. В свое время эти дороги сильно разрушили партизаны Ковпака и Федорова, но гитлеровцы беспрерывно их восстанавливали. Обе магистрали питали фашистский фронт вооружением, живой силой, продовольствием. Значит, перерезать их — все равно что кровеносный сосуд перерезать.
Но… не дошли мы ни до этих дорог, ни до вместительного Мухоедовского леса, облюбованного для лагеря. Спускалась темная ночь, которую партизаны уже привыкли называть «хорошим днем», и «майор» открыл свой «магазин», в достатке выдавая солонину, сальце, крупу, лапшу и наставляя кухарок:
— Кормите, хозяюшки, ребят покрепче!
Он расщедрился не только потому, что привык видеть свой «магазин» то набитым, то пустым и надеялся вскоре опять пополнить запасы, а и потому, что ребятам предстоял нелегкий путь. Не на север, как мы прикидывали, а на юг, не от фронта, а к фронту! Мы должны были захватить переправу на реке Тетерев, притоке Днепра, у Горностайполя, в семидесяти километрах к западу от Киева, и удерживать ее до прихода нашей армии. Таков приказ.
Почесывая темя и ребячливо улыбаясь, Негреев спросил:
— Соединяемся с армией?
— Все еще может быть! — Я развел руками.
— Ладно, — обиделся он. — Без тебя знаю, что все может быть!
Пришел Кочубей, начали выбирать, какой дорогой двинемся.
— Лучший лес на пути — Толстый, — докладывал Кочубей. — Люди зря не назовут: там и деревья крепкие, и вода, и луга, но до Толстого леса одна дорога, через Денисовичи, а в них еще не была разведка, неизвестно — что и кто там. Вот и смекай!
Склонившись над картой, я сказал, что пойдем через Денисовичи, разведку туда — срочно.
— Ах, холера им, расковыряем гнездо, если что! — подхватил Кочубей.
Полночь застала нас в походе, потому что разведка не принесла ничего тревожного, и мы уже в селе получили донесение, что у дома, где до войны находилась школа, собралась толпа крестьян. Наш старший разведчик Алексеев сказал: зовут командира. Я подъехал. Светало… В следящих за мной глазах неразлучно мешались боль и радость, как, наверно, только на войне и бывает. Из толпы вышел седой-седой, прямо-таки столетний, дед с опрятно расчесанной бородой. Он держал на руках поляницу с курчавыми трещинами по краям. Снял шапку, поклонился, сказал:
— Примите от нас, от всих, цей хлиб да соль!
Я слез с коня, поклонился старику и хлебу, поцеловал деда и каравай, поблагодарил всех.
И тут вдруг из толпы вперед шагнул священник, поднял крест, торжественно пробасил:
— Да поможет вам господь на вашем тернистом пути в борьбе с супостатом! Мы все будем молиться за святое советское войско и за вас, партизан, спаси вас бог!
Как доложил мне позже Алексеев, этот священник не одну проповедь посвятил нашей армии и партизанам, хотя и он, как духовные отцы всех церквей, получил шпаргалку Геббельса, обязывающую молиться за Гитлера.
Тогда же, у школы, я рассказал старым и молодым жителям Денисовичей, что наша армия в некоторых местах уже перешла Днепр, скоро будет здесь, а женщины, словно в благодарность за эти слова, заторопились, закричали:
— Тут у нас фашисты-ироды согнали много коров из других сел. А дальше не успели угнать. Возьмите себе! Да и хлеба там ихнего много. Берите!
Мало того что мы захватили трофеи — оружие и боеприпасы, — Мейтин быстро пополнил свой запас. В нашем обозе снова появился десяток живых коров.
Но самое памятное для меня, что я тем утром в урочище Денисовичи словно бы впервые увидел, как красив лес! Мы остановились всего на день, чтобы привести себя в порядок, и я залюбовался сосновой веткой над головой, пичугой, которая села на эту ветку и почистила перья, покачалась. Она улетела, и стало жалко. Когда я последний раз видел чирикающую пичугу? Давно, кажется. Мы следили за совами и филинами и гнали их. Это были предатели. Поганые птицы! В поисках съестного всегда кружатся над партизанским лагерем и кричат на весь лес. Мало того что противно, еще и лагерь выдают.
Я огляделся… И заулыбался: сколько птиц! И на той, и на той ветке. И дальше, дальше. И все верещат — так чудно. Конечно, они всегда были, просто я не видел их и не слышал. Это приближавшаяся победа уже возвращала нас к вечным ценностям жизни… Так для меня навсегда и осталось: лес под Денисовичами — это птицы.
Однако же и дело. Уже в Толстом лесу на штабном совещании мы решили, что должны оставить след на дорогах в окрестностях, раз находимся здесь и эти дороги действуют.
Первую группу диверсантов под командой Владимира Андриенко, свалившего несколько эшелонов на железной дороге Киев — Нежин, послали к селу Любянка. С Андриенко были Серый, Михальченко и Татьяненко. Они успешно подорвали большой, длиной в тридцать метров, деревянный мост на шоссе Овруч — Чернобыль.
К селу Ильинцы своих диверсантов вывел командир второго отряда Порфирий Вонарх. С ним такие умелые подрывники, как Прищепа, Цимбалист, Тищенко и Бокач. Они заминировали мост на автомобильной дороге, когда дождь загнал промокших немецких часовых в землянку. Партизанам, как известно, дождь не помеха, а помощник, тем более в этом случае: они укрывались под мостом, когда ставили мины. Доложили командиру, а он говорит, чего, дескать, взрывать пустой мост, подождем первую автоколонну. Это могло быть не раньше чем на рассвете. Решили ждать.
Гитлеровцы усилили охрану моста, пустили обход по шоссе. Вонарх думал: раз обход, скоро будет и автоколонна. И точно: донесся натужный шум моторов, к фронту шли тяжелые грузовики, вот они уже на мосту. Вонарх и Прищепа взорвали мины. Результат — уничтожено пять грузовых автомашин, два противотанковых орудия, которые тащили на двух машинах, убито около шестидесяти солдат. И — мост разрушен.
Вернемся ли сюда — неизвестно, но пусть нас помнят.
Движение наше до Тетерева было нелегким. Перешли железную дорогу Овруч — Чернигов. Она, понятно, сильно охранялась, но мы не стали брать готовый переезд, сами сделали его себе, там, где насыпь высотой до метра, чтобы неожиданно было для врага. По обеим сторонам насыпи установили прочные козлы с щитами — съезды. Щитами накрыли и рельсы. Все же неплохо, что я еще в старой армии служил в саперной роте и учился инженерному делу. А пока наши пушки и подводы перекатывались с помощью этих приспособлений через насыпь, Кочубей в сопровождении своего неизменного, прошедшего с ним весь партизанский путь ординарца Володи Туника и группы конников совсем в другом месте, у станции Павловичи, штурмовал железную дорогу, отвлекая гитлеровцев. Мы не сомневались: потом догонят нас. Где-нибудь да проскочат. Кочубей по головам фрицев — а проскочит! Так и вышло…
Но перед ними лежали еще три лесные реки: Канава, Вересень и Тетерев, который надо было преодолеть, чтобы захватить переправу и удержать ее до подхода нашей армии. Еще раз я убедился, как точны народные названия. Канава! Так и выглядит эта речка — неширокая, неглубокая, зато в таких крутых берегах, что Тарновскому со своими саперами пришлось заранее прорыть пологие съезды. Была первая октябрьская ночь, вода будто бы враз похолодала, а партизаны шутили: «По привычке не страшно барину ездить в бричке!» Да, не впервой нам было брать реку вброд и вплавь.
А вот и Вересень — коварная, болотистая, паршивая река! Берега ползучие, топкие… Настелили узкую гать. Идешь по ней, вода по колено, а кто оступится — сразу по шею. Партизаны выстроились по обе стороны на краях гати и направляли таким образом подводы. Но и это не уберегло: две повозки свалились в воду. Шлепнулся и «майор». Мы с Негреевым подъехали к нему.
— Выкупался?
— Воротник мокрый, — улыбнулся он, — неприятно.
— На живом теле быстро высохнет, — успокоил Митрофан Гаврилович с улыбкой.
Партизаны шутили: согреться бы, а как раз когда самому понадобилось, кончились у «майора» запасы спиртного. Надо с врагами схватиться. Но до Приборска, говорят, их нет, а это — двенадцать километров.
Оказалось, не так. В селе Красиловка наши разведчики наскочили на немцев, расположившихся на ночь в школе и вокруг нее. Доспать до утра оккупантам не удалось. Разведчики перебили их и захватили большой обоз. Во время боя помещение школы загорелось, и все соединение двинулось через Красиловку в сторону Приборска по озаренным пожаром улицам.
Появилось и вино — согреться, и шоколад — закусить. Штабной ездовой Василий Иванович Погуляй привычно философствовал: «Господь, он знает, кому помогать!» — когда ко мне подъехал на коне Кочубей:
— Михаил Гордеевич! Прошу на минутку.
Мы отъехали в сторону.
— Вчера вечером в Приборск и Пироговичи прибыла фашистская дивизия. Много бронемашин, есть и танки, — докладывал Кочубей.
— Точно ли это?
— Донесли связные из Приборска, два разных человека, да и гитлеровский офицер, схваченный на хуторе, подтверждает.
В густом тумане остановили движение, я созвал командиров и комиссаров на короткое и быстрое совещание. Обстановка осложнилась — внезапно и странно. Зачем фашисты перебросили сюда дивизию? Почему? У них на фронте — дыры, а целая дивизия — здесь!
Потом мы выяснили, в чем дело. Фашисты ждали в этих местах высадки большого воздушного десанта, который готовила наша наступающая армия. Их разведка тоже не спала, работала. Десант этот выбросился значительно позже, в другом месте, и о нем я еще скажу… Переправа наших войск через Днепр в этом районе задерживалась, и партизанский рейд к Тетереву не понадобился для той цели, которая указывалась нам, но мы этого еще не знали. Нам предстояло встретиться с фашистской дивизией. Наши командиры высказались одинаково: драться! Иначе как овладеть переправой на Тетереве? Да больше и нечего было делать. Один разворот соединения занял бы не меньше часа, а потом — сядут гитлеровцы на хвост, пустят авиацию. Нет, надо было пробивать брешь!
Тетерев, Тетерев…
Я все помню, конечно, и рассказать мне хочется обо всем, назвать всех, кто был там, но вышел бы длинный рассказ, который потребовал бы много времени. Я вижу…
…как горели в тумане фашистские бронемашины на дороге близ Пироговичей. Мы наносили основной удар правым флангом, где шел первый отряд. Левее — на Приборск — двигались чапаевцы. А замыкал движение, прикрыв всех с тыла, отряд имени Щорса. Впереди — разведчики. Так что мы и в движении как бы сохраняли круговую оборону, кольцом перемещались сквозь лес и туман, готовые отразить удар врага с любой стороны. Но ударили мы первыми, потому что враг еще не обнаружил нас и не ждал здесь такой партизанской силы. Гитлеровцы рыли окопы у Пироговичей, когда на них напали конные разведчики, которых поддержали со своими отрядами Каменский и Вонарх. Захватили еще недорытые окопы, уложив немало гитлеровцев. А Косенко со своими пулеметчиками и расчетом ПТР, не медля, атаковал бронемашины, впритирку стоявшие у села на дороге и не успевшие развернуться для боя. Кто из гитлеровцев успел опомниться, стрелял беспорядочно — туман мешал. Бронемашины в тумане горели оранжево…
…как продуманно и отважно действовал Григорий Шакута, ставший еще в Ново-Басанском лесу из учителя подрывников начальником штаба отряда имени Чапаева у Дунаева и Шелудько. В то время как наш правый фланг уже ввязался в бой, Шакута вел чапаевский отряд, приближаясь к Тетереву на нашем левом фланге. Гитлеровцы открыли артиллерийский огонь по партизанам из ближайших хуторов. По шоссе вдоль реки к фронту двигалась колонна автомашин, сопровождаемая танками и бронемашинами. Они тоже открыли артиллерийский и пулеметный огонь по партизанам. Обстановка осложнялась, превращаясь в кризисную. Командир и комиссар в это время были у меня — по вызову, а Шакута бросил одну роту в атаку на хутор, откуда стреляли минометы, другую — на шоссе, по которому двигались бронетранспортеры и бронемашины. Колонна автомашин свернула на грунтовую дорогу, но Шакута тут же организовал группу конников и атаковал эту колонну. Результат ожесточенной схватки: подорван бронетранспортер, пять нагруженных доверху автомашин противника сожжено бронебойно-зажигательными пулями, убиты обер-лейтенант и несколько солдат. Поджигая машины, сам Григорий Шакута, спешившись, слишком близко подкрался к одной, выстрелил ей в бензобак с колена и, обданный горячими брызгами бензина, получил ожоги рук и лица. Позже он докладывал мне, что в бою особенно отличились командир роты Иван Пахмутов, партизаны Гуськов, Горчаков, Базилевич, Бокач, Иващенко, медсестры Катя Рымарь и Маша Мирошник. А когда я похвалил его, ответил просто: тут очень-де туман помог, он очень натекал с реки и клубился, полезное, мол, явление природы…
…как Дмитрий Наумов и его группа получили приказ — заминировать шоссе против танков, чтобы они не ударили нам в тыл. А их двигалось в сторону Киева — от нас — больше шестидесяти, огромной колонной, растянувшейся на шоссе. Но поставить мины не удалось: вся дорога была покрыта утрамбованной галькой, была, можно сказать, каменной. К счастью для нас, немцы еще не разобрались, с какой силой партизан столкнулись, танки не развернулись, ушли к фронту. А Наумов на ходу стащил с подводы, катившей мимо, ящик с бронебойно-зажигательными патронами и отдал своим пулеметчикам. Это были Рябец и семнадцатилетний Бойко, второй номер, с пулеметом Дегтярева. Кстати пришлась сообразительность командира группы! На дороге, на этот раз навстречу чапаевцам, двигаясь от реки, показался танк «тигр». Он шел медленно, точнее — то шел, то останавливался, как бы приглядываясь, крышка люка была откинута. До него было метров пятьсот, когда Наумов приказал пулеметчикам занять позицию на шоссе, подпустить танк поближе и открыть огонь. Они сделали это, когда до танка осталось метров двести. Стреляли, пока не израсходовали весь диск. На это ушли секунды, но они всё решили. Танк неожиданно взорвался, партизан сильно оглушило и засыпало землей. Когда они подбежали к танку — увидели, что он горит, а башня с пушкой валяются в кювете. Гитлеровцев рядом не было…
А. И. Морозов
…как послышались слабые крики «ура» и Алексеев, оказавшийся рядом, сказал мне: «Захлебнулись». В самом деле, будто бы отдельные люди кричали в тумане все тише… Но я ответил: «Нет, Саша, могу поспорить, увидишь…» — «А почему все тише?» — «Они удаляются. Дрогнули вражины!» Скоро отрапортовал связной: «Товарищ командир! Наши в селе!» Мы ворвались в Приборск…
…как моя ко всему, казалось, привыкшая лошадь неожиданно встала на дыбы, я упал с седла, а ездового Погуляя смахнуло со штабной повозки. Сильнейшие взрывы вдруг раздались в Приборске, атакованном чапаевцами. Зажигательными снарядами они подорвали вражеские склады с боеприпасами, только что привезенными сюда. Еще один взрыв — не такой громкий, но достаточно сильный — Черныш, Кошель и Дуся Певчая не дали двинуться в бой тяжелому танку, он загорелся, потому что Дуся прибавила к связке противотанковых гранат бутылку с горючей смесью. Это был немецкий танк типа «тигр», не принесший захватчикам успеха в боях на Курской дуге. Ко мне подвели другого коня, потому что мой Мишка бежал куда-то. Пришлось сказать заботливым ординарцам: «Нет, товарищи, так не годится, солдат обязан крепко держать оружие и коня». И когда двинулись к реке, я пешком пошел, но на первом же лугу мой ординарец Иван Зарецкий подвел пойманного Мишку. Он, бедняга, аж заржал от радости, увидев меня…
…как подскакал Кочубей сообщить, что все в порядке, брешь пробита до реки, а фрицы в панике бежали по дороге в Горностайполь. Видал я Кочубея — Петра Сергеевича Коротченко — в разные минуты, в самый разгар боя, но таким — впервые. Сидел на коне в своем черном кожухе без фуражки, волосы дыбом, воротник гимнастерки расстегнут. Октябрь, холода садятся, оттого и туман, а с него пот катится, глаза посверкивают, точно в них — всамделишный огонь. А в руке — шашка без изрядного куска на конце. Видно, так рубанул какого-то злодея в этом бою, что клинок разлетелся…
…как переходили Тетерев и людей сбивала с ног вода — хоть и неглубокая, а быстрая река! Переворачивало повозки, поэтому грузы, боявшиеся воды, брали на плечи, верховых лошадей навьючивали. А Яков Федорович Коротков вдруг говорит мне: «Посмотри, командир, как чапаевцы своих женщин уважают…» Я следил с берега за переправой, посмотрел левее. Партизаны чапаевского отряда несли женщин на себе. Все медсестры, кухарки, диверсантки легли на партизанские плечи, обхватив себя для верности за ноги. Так ребята — венками — и держали их над бурной рекой.
Хочется думать, что мой, безусловно, фрагментарный рассказ об этом большом и сильном бое все же передаст читателю, что нашим партизанам было уже по плечу вести открытый бой с превосходящими силами противника. Иначе в таком бою мы могли бы быть поголовно истреблены. Не так вышло благодаря умению и храбрости наших бойцов и командиров.
Само собой разумеется, что я не мог видеть и даже знать всего. Схватки шли на большом пространстве и со многими неожиданностями. Вспоминаю, как рассказывали о своем командире Порфирии Вонархе люди из отряда имени Щорса, в частности — Бойко:
— Во время боя он птицей летал на своей рыжей, с белой лысинкой на лбу лошади и успевал всюду. Он немедленно появлялся там, где было страшнее и рискованнее всего. Может, и не стоило командиру так рисковать жизнью, но мы, бойцы, любовались и гордились им.
Все рисковали. Но потому, наверно, и сожгли два вражеских танка, несколько бронемашин, много автомобилей с грузами и пехотой, подорвали склад боеприпасов в Приборске, разрушили там же узел связи, перебили десятки захватчиков… Бой, начавшийся до рассвета, стал стихать, когда солнце уже вышло, багровело в тумане.
Из-за Днепра, до которого отсюда было не более тридцати километров, доносился артиллерийский гул, и партизаны прислушивались:
— Это фронт работает!
Остановились мы в Ивановском лесу — густом, сосновом, с водой и пастбищами, здесь можно было ждать армию день-другой… Но не пришлось. Скоро Саша Кравченко принес радиограмму — нам вновь поручали парализовать железнодорожный узел Овруч в связи с тем, что обстановка несколько изменилась. Я уже говорил об этом…
Предстоял обратный путь. Вроде бы зря проходили. А не зря! Изрядно потрепали вражескую дивизию. Мы задержали двух фашистских разведчиков, переодевшихся в крестьянскую одежду, неплохо говоривших по-русски и забравшихся довольно глубоко в лес под видом грибников. Они сказали: генерал поклялся, что ни одного живого партизана отсюда не выпустит.
Он уже знал, что это не армейский десант, а обыкновенные партизаны. Обыкновенные и, можно сказать, необыкновенные, потому что близость фронта, своих удваивала партизанское мужество.
Конечно, не обошлось без оплошности, которая помогла генералу быстрее «разоблачить» партизан. Захватив село Воропаевку, мы почему-то не позаботились о том, чтобы ликвидировать бывшего старосту, а он наблюдал, как соединение прошло через село, и потом пробрался к гитлеровцам, донес. Правда, этот староста не миновал расплаты. Немцы вернули его в Воропаевку, в разведку, а крестьяне тут же, как он появился, сообщили об этом нашим дозорным. Он был схвачен, доставлен в штаб и во всем сознался. Предателя расстреляли.
Крестьяне, как и всегда, помогали нам. В лагерь пришли два жителя из Пироговичей, чтобы сообщить: гитлеровцы снова в селе, их еше больше. На другой заставе задержали женщину из Приборска все колени и руки в глине. Уходя от немцев, она долго ползла, боялась, но все же добралась до нас и сказала: в село прибыло много танков и пехоты на автомашинах. К вечеру эта информация дополнилась данными нашей разведки: на берегу Тетерева появилась вражеская кавалерия, а с фронта гитлеровцы повернули еще одну часть, которая должна была наступать на нас от Днепра. Окружение становилось плотным…
Проще всего, казалось, идти за Днепр. Там — наши. Но так же ясно было, что форсировать Днепр между двумя позициями безнадежно. Связи со своими не установлено, а если и установим, все равно — такая цель для врага! Перебьют на большой реке, которую мы один раз уже переплывали. Нет, опять вся надежда на скрытую дорогу, о которой чужеземцы не знают. Но где она, эта дорога?
Ничего не оставалось, как, не теряя времени, искать ее. Разведка валилась с ног, но каждый час был дорог. С разведчиками отправились Негреев и Кочубей. Романа Мангейма и Карпа Величко я послал к местным жителям — разузнать, расспросить и привести проводника, если удастся отыскать хоть какую-нибудь зацепку. Я на них надеялся — ответственные люди, расторопные и находчивые разведчики. Карп Величко вошел в нашу партизанскую семью в Злынковском лесу, после того как бежал из фашистского лагеря для военнопленных в окрестностях Гомеля, куда попал раненным. Дрался безбоязненно, смекалисто и скоро стал заместителем командира первого отряда по разведке.
На все поиски я дал им несколько часов.
Но еще больше задание осложнялось не вынужденно коротким сроком, а тем, что в села, набитые гитлеровцами, вход был закрыт и оставалось только рассчитывать на крестьян, бежавших от немцев и обитавших в лесных землянках. К рассвету командиры вернулись и привели с собой довольно мрачного старика, задержанного в лесу. Задержали его потому, что он бродил недалеко от нашего лагеря, а главное, был тем, о ком говорили в беседах с Мангеймом и Величко некоторые лесные жители.
Пригласив его присесть, я спросил:
— Как звать тебя, старина?
— Дед Степан.
— Кто ты?
— Лесник.
— А правда ли, что среди лесников попадаются шпионы? — спросил я. — Их устроители нового порядка будто бы задабривают, подкупают.
— Правда.
— А как ты, старый?
— Лесник, и все тут. А вы знаете, что и партизаны, бывает, врут, будто они партизаны, а сами фашистам служат, только ходят с красными ленточками на головах?
— Ну да? — усмехнулся я.
Я ждал, что и он усмехнется и мы разговоримся посвободней, но старик сидел все так же мрачно, с неподвижным лицом. Я сказал, что бывает. Мы, и правда, встречали в лесах группы людей, выдававших себя за партизан, и не сразу разбирались, что это бандеровцы — украинские националисты, действующие по указке Гитлера.
— А знаете, что вы окружены здесь? — спросил меня старик.
— Знаем.
— Ну вот, не завтра, так послезавтра немцы собираются вас слопать.
— Подавятся.
Дед по-прежнему сидел хмурый.
— х Завтракал? — спросил я его.
— Нет.
По моей просьбе принесли завтрак, но старик не притронулся.
— Водку пьешь?
— А кто ее не пьет?
Налили стакан спирту, но старик отодвинул:
— Не хочу.
— А чего хочешь?
— Спать, — грубо сказал он, и не только сказал, но встал, дошел до штабной подводы, завалился на нее и быстро уснул.
Только тут, когда посветлее стало, я разглядел его разношенные сапожищи, доверху заляпанные грязью. Набродился лесник. Чего он искал в ночном лесу? Крепко спал дед, да недолго. Вернулись Негреев с Кочубеем, разгоряченные новостью: воропаевские крестьяне сказали, будто есть дорога через болото, а где — толком никто не нашелся показать. Не ведают.
— Я покажу, — послышалось вдруг, и дед Степан поднялся с подводы, оставив на ней картуз. — Давайте карту.
То ли и вовсе не спал он, а слушал все наши разговоры, убеждаясь, что мы партизаны, то ли вскинулся только сейчас, но похоже, мы проверяли друг друга. Адъютант разложил карту, дед быстро нашел нужное место и ногтем провел дорогу там, где не было никакой дороги. Карту он понимал.
— Кто же ты, дед? Лесник? Откровенно!
— Не лесник, — ответил он строго. — Лесничий. По-новому — лесовод. Сам до войны прокладывал эту лежневку.
— А зачем?
— Лесозаготовки гут вели…
— Твой район? — Я ткнул пальцем в болото на карте.
— Нет, сейчас мой там. — И дед махнул корявой рукой в сторону Днепра
— А чего ж ты тут, в ночном лесу, кружил, топтался? Вон как устал, чуть живой. А сапоги какие!
— Вас искал. Дорогу показать. — Глаза деда под кустистыми бровями первый раз блеснули весело.
— Если это правда дорога, а не ловушка, — сказал Негреев, — мы вас наградим!
— Не в награде дело, — снова нахмурившись, фыркнул дед. — У меня два сына там воюют… откуда пушки слыхать… А может, уж и нет их… Я вас поведу. Обману — застрелите.
На скороспелом дощатом столе стоял стакан со спиртом, дед хватил половину и крякнул:
— Крепка, дьявол!
Вперед мы сейчас же выслали хорошую разведку с Алексеевым, а сами занялись подготовкой матчасти к движению: выбрасывали все лишнее, отбраковывали захромавших лошадей, поломанные подводы. И опять ездовые обвязывали колеса соломенными жгутами. В сумерках двинулись, возлагая все надежды на ночь и заброшенную лежневку…
Через три километра остановились, нас ждал Алексеев с разведчиками — сказать, что облазили весь край болота и не нашли никаких признаков лежневки.
— Нет дороги!
— Есть, — ответил дед. — Идти надо, а не стоять.
Почему я верил ему? Потому что не было другого выхода? Нет. Предателя чувствуешь по заученным фразам, неуемной угодливости, а дед Степан… Он ведь тоже не признал нас сразу, проверял, дорожил собой. И старому умирать неохота, а он, должно, хотел к тому же увидеть сыновей.
— Пошли.
Дед не обманул. Скоро мы, продравшись сквозь кусты, шагали по заросшей дороге, ремонтируя ее на ходу. Один мосток сделали, второй… Казалось, болоту не будет конца, но вот земля затвердела, послышался шум Тетерева… И тут выяснилось, что сразу за рекой нам надо пройти через маленькое сельцо, а можно ли рисковать, когда столько прошли? Как избежать этого риска, миновать незамеченными сельцо, где, может быть, укрылся предатель, который выдаст нас немцам? Есть ли дорога в обход? Посоветовались между собой и с дедом Степаном, и он сказал:
— Проведу.
И правда, провел. Весь наш обоз въехал в речку Тетерев, заросшую лозой, и тронулся по ней дальше, в сторону от села. Повозки в воде не стучали, копыт не было слышно. Шумел один бурливый Тетерев. Партизаны цепочками шли над рекой, в лозе. И вот мы выбрались на другую сторону реки, оставив за собой болото, из которого, думалось, нас никто не ждал.
— Ждут, — сказал старик, мой знакомый ждет, здешний лесник. Километра два отсюда — и лесу конец. Он вас встретит на опушке и дальше поведет. А я — все. Прощайте! Вот если б кто из вас моим сынам сказал, что я жив…
Дед вдруг скупо прослезился, впервые так по-стариковски расчувствовался. Притомился он за эту ночь еще больше, чем за прошлую, однако виду не подавал. Мы подарили ему верховую лошадь, крепко пожали руку, и он уехал в темень, в обратный путь. Как его фамилия? Накарябали тогда в блокноте, да все размокло при переправе через речку. Словно дед и правда не хотел ни ордена, ни известности за свое доброе дело. Лесничий с правого берега Днепра, в районе Горностайполя…
В конце леса нас действительно ждал лесник, тоже старый человек. Он повел полевой дорогой. В разных сторонах от нее взлетали в воздух осветительные ракеты. Немцы, просматривали местность. И мы отвечали им, разведывая свой маршрут. Ракетницы у нас были трофейные, так что тамошним наблюдателям ничего не стоило подумать, что здесь идет перегруппировка войск для уничтожения окруженных партизан.
К утру мы наконец-то втянулись в лес, называвшийся по-стародавнему — казенным. Подумали: ну вот, отдохнем. Но разведка донесла, что замечено скопление кавалерии, которую, как видно, собирались бросить против нас, и мы снова двинулись раньше, чем враг собрался. И оторвались от врага.
Уже под покровом ночи мы приближались к лесам у реки Уж.
Глава двадцать четвертая
Над лесом таяла ночь, но солнце еще не показалось, когда заставы заняли свои места вокруг лагеря. После нескольких бессонных ночей можно было поспать в начале дня. Ординарец снял с коня седло и потник. Седло — подушка, а потник — матрац. Простыни и одеяла были у нас не в моде, их с успехом заменяла шинель. И под бок — шинель, и на себя — шинель. Еще как удобно! Я быстро уснул.
Но часа через два меня уже тормошили Зарецкий и Алексеев.
— Товарищ командир, проснитесь!
Вставать не хотелось, и я еще с минуту либо притворялся спящим, либо действительно ничего не слышал, хотя наказал ординарцу сразу будить меня, если придет начальник разведки. И вот он здесь, а я не могу встать.
— Товарищ командир! Я встретил нашу армию!
— Разведчиков? — спросил я, севши.
— Три полка!
Я вздохнул, встряхнулся и велел ординарцу:
— Полей ему на голову холодной воды!
— Три полка, — повторил Алексеев. — Они заняли села Федоровку, Родонку, а также размещаются в нашем лесу, левее нас.
Пришел Негреев, и мы выслушали доклад по порядку: в Федоровке наших разведчиков задержали солдаты и офицеры в советской форме (правда, с погонами, которых партизаны еще не видели) и привели в свой штаб. Там с Алексеевым разговаривал полковник Харламов, назвавшийся командиром полка.
— Десант?
— Нет, своим ходом от Чернигова, через Припять и Уж…
Я невольно покрутил головой:
— Что-то больно рано…
И распорядился, чтобы поднимали партизан — для усиления обороны. Негреев одобрил. Фронт еще на Припяти, как могли очутиться здесь три полка, а с ними — три артдивизиона? Явился Кочубей, тоже разбуженный с большим трудом:
— А чего гадать? Мы с Алексеевым поедем и всё разузнаем.
Не успели они отправиться, прискакал связной с заставы первого отряда: задержаны пять офицеров, среди них — полковник и два подполковника. Кочубей поехал, чтобы привести их сюда.
Полковник Харламов сразу начал сердиться, едва они появились:
— Если вы партизаны, почему так встречаете армию?! Вы должны помочь нам! Я на вас жаловаться буду!
— Ты, батенька, не волнуйся, — ответил я, — вот обнюхаем друг друга и все решим.
— Уж очень вы долго нюхаете! Чего боитесь?
Как я понял по первой встрече и позже, был он человеком искренним и горячим, легким на жест и слово, широким. Другой офицер, подполковник Шапиро, как мы тут же узнали, гораздо более спокойно и достойно, но тоже обиженно сказал:
— Ваш начальник штаба, — и показал на Кочубея, — отобрал у нас на заставе оружие. Не подобает быть офицерам безоружными, да и нехорошо не доверять нам. Просим вас немедленно приказать, чтобы вернули нам личное оружие.
Я извинился — что поделать, бывает, человек к нам приходит будто бы с хорошими намерениями, а оказывается предателем. Вокруг противник, и закон у нас один: на каждом шагу — осторожность. Харламов похвалил нас так же горячо, как только что ругал. Мы познакомились. Подполковники Бурлаков и Шапиро командовали полками, получившими наименования Черниговских за освобождение Чернигова.
— Раньше чем приступить к разговору, предлагаю позавтракать, — сказал Негреев.
— Вот это по-партизански! — воскликнул Харламов, а когда принесли завтрак, прибавил: — Ого! Да вы не так уж бедно живете!
Я понял, что наш «майор» постарался. Но не стал разубеждать гостей, спросил:
— А вы бедствуете?
Оказалось, да. Успешно форсировав Припять, эти полки попытались развивать наступление, но Гитлер по клялся остановить Советскую Армию за Днепром, фашистское командование сосредоточило здесь крупные резервы и ввело их в бой. Над нашими армейскими частями, прорвавшимися за Припять и, естественно, удерживавшими завоеванные плацдармы, нависла угроза окружения. Черниговские полки, потрепанные в непрерывных наступательных боях, имевшие ограниченные противотанковые средства и вообще недостаточное количество боеприпасов на этом берегу Припяти, с трудом противостояли натиску танков. Это не могло долго продолжаться…
Гитлеровцы отрезали наших от Припяти. Кольцо окружения сжималось. И тогда Бурлаков и Шапиро на совместном совете решили прорываться к югу, чтобы сохранить живую силу и технику и в надежде встретиться с партизанами. Это им удалось, потому что фашисты не ждали такого маневра. Удалось встретиться и с партизанами с нами. А за сутки до этого они столкнулись с полком Харламова, из соседней дивизии, который тоже прорывался от Припяти на юг.
Разумеется, в боях с этими частями гитлеровцы несли большие потери, на поле оставались десятки танков и сотни трупов вражеских солдат, но и наши части, оторванные от своих тылов, понесли немалый урон в живой силе и технике. Бой есть бой. Теперь перед частями стояла одна задача: выйти на соединение со своими дивизиями и корпусами. Это было понятно. И мы начали обдумывать маршруты этого необычного рейда еще до получения радиограммы из УШПД и от командующего 1-м Украинским фронтом генерала Ватутина, адресованной мне и Негрееву. На нас возлагалась обязанность помочь частям выйти из окружения и соединиться с действующей армией.
От фронта нас отделяли около двадцати километров и река Уж, так что подготовка требовала приличного времени. А я дал на все приготовления к первому переходу… два часа! В восемнадцать часов объявил, что в двадцать мы начинаем движение. Подполковник Бурлаков и командир дивизиона тяжелой артиллерии. приданного полку Харламова, веселый капитан Сахно запротестовали. Это невозможно! Два часа — курам на смех!
— Хотите тут драться? — спросил я. — Гитлеровцы придут сюда, недолго ждать. А боеприпасов у вас надолго хватит?
Хлеб мы могли делить на всех и делились все время, пока армейцы были с нами. Мейтин шутил:
— Ну и ну! Пятью хлебами, как Иисус, пять тысяч кормлю!
Боеприпасов у нас на всех не хватало. Разделить больше не станет. Я спешил. И даже шумный Харламов остановил протесты товарищей:
— Как считает командование соединения, так и надо делать!
К реке Уж, притоку Припяти, подошли двумя дорогами и двинулись через нее без остановки. Не знаю, кто и для чего, может быть, немцы, для того чтобы помешать потерянным ими частям переправляться через реку, пу стили по ней много леса. Это мешало — переправлялись через Уж по грудь в воде. Солдаты и партизаны выстраи вались в реке в ряд, брались за руки и грудью удержи вали плывущий лес, пока переправлялись обозы и пуш ки За рекой — недолгий привал. Выливают воду из сапог, выжимают портянки, а кто и белье… И дальше!
Нас ожидало препятствие похуже реки — шоссейная дорога Чернобыль — Овруч, и разведка уже доложила, что по ней курсируют бронемашины. Радиограммы еще не было, она пришла позже, но по договоренности с товарищами я взял на себя командование, и разведка велась партизанами, которые знали эту местность. Впереди — Толстый лес. Там скроемся и отдохнем.
А шоссе перейдем между двумя мостами, которые очень недалеко друг от друга, по соседству можно сказать, удобно для нас. Взорвем оба моста и задержим движение бронемашин слева и справа. А кто взорвал — партизаны или армия, гитлеровцы, авось, сразу не раз берут. Ночь не выдаст.
Перед шоссе остановились. Выслали к мостам диверсантов с сильным прикрытием. Оказалось, что между мостами медленно ходят туда-сюда, как челноки, бронемашины. Послали Каменского и Кочубея с четырьмя орудиями. Сигнал для открытия огня — взрыв мостов. А взрывов нет и нет, все еще тихо. Перед одним орудием остановилась бронемашина, в которой засветилась электролампочка Похоже, держат связь А что еще?
— Ах, батеньки, не выдержу я, — жаловался Каменский Кочубею, как они потом мне рассказывали. — Чего они там копаются, на мостах? Упустим эту штучку. Не выдержу, бахну!
— Я тебе так бахну! — поднимал кулак Кочубей. — Не смей без моей команды.
Тут послышалась стрельба со стороны мостов. Значит, и там была сильная охрана. Бронемашина загудела и начала уходить.
— Огонь! — шепнул Кочубей.
Но раздались сразу или почти сразу три орудийных выстрела. Три ближайших орудия караулили эту бронемашину и не хотели ее упускать. Так и не доспорили позже партизанские артиллеристы, кто ее повредил. Однако важно, что бронемашина остановилась, из нее выскочили три гитлеровца и побежали, пересекая шоссе. Их перехватили Черныш и Кошель, выдвинутые вперед.
А эта бронемашина то ли разведывательная была, то ли командирская, в ней действительно находилась рация. Из-за разрушенных мостов другие бронемашины беспорядочно стреляли по колонне, двинувшейся через шоссе. Мы отвечали им из пушек. Но вот подошел и дивизион тяжелых орудий.
— А ну, капитан, — сказал я Сахно, поскольку обстрел продолжался, — направьте своих «мамаш» в обе стороны!
Капитан возликовал:
— Спасибо! А то они у меня без дела прямо почернели!
Гитлеровцы не ждали такого огня, от которого можно было оглохнуть, замолчали.
— Хватит, капитан. Вперед!
Светало, когда мы подходили к опушке Толстого леса. Дубы и сосны вокруг… И тишина… Надолго ли? Врагу, конечно, уже известно, с кем он имеет дело.
Не объявить ли привал?
Но передохнуть, позавтракать нам не удалось. Не дали. Небо загудело: появились самолеты. Сначала два разведчика — «рамы» и восемь бомбардировщиков, а вторым заходом — двадцать восемь. Они улетели, отбомбившись, и через два часа небо гудело снова. Мощно и грузно. А разведчики кружились над лесом беспрерывно. И по тому, как они, гитлеровцы, нас бомбили и как настойчиво и низко вертелись самолеты-разведчики, было ясно — бомбят наугад» ищут нас. Я объехал свой лагерь и стоянки полков, твердо потребовав от всех командиров: маскироваться! Нас не видят. Никаких костров. А если есть любители жечь хворост, пусть умело, тоже с соображением, палят его километрах в трех — пяти отсюда, демонстрируют «лагерь», отводят «юнкерсы». И маневрировать. Гитлеровцы дважды в одно и то же место обычно бомб не бросают. Считают — там уже обработали, отбомбили, они — педанты.
Похоже, что они все же нащупали район, где стоял один из полков. Организовали налет и сбросили бомбы. Но полка там уже не было. Он перешел в другой район.
Полк три раза изменял дислокацию в этот день. В прежних местах его стоянки поддерживались костры для привлечения бомбардировщиков. В итоге после этих налетов не погибло ни одного человека.
Но, как правило, после бомбежек и обстрелов редко обходилось без потерь — война беспощадна. И еще появится много лесных могил, на которые будут приносить цветы наши дети. Все отлично понимали, что эти могилы будут появляться до последней минуты, войну не уговоришь смилостивиться над солдатом или партизаном и перед самой Победой, но с приближением Победы ощущение боли все острее и тяжелее. Нет, наверно, лучше сказать — обиднее, потому что всегда тяжело терять друзей, трудно навек расставаться с ними. Как-то я спросил Михаила Осадчего, ставшего уже заместителем командира отряда имени Чапаева по разведке: «А что, по-твоему, самое страшное в нашей партизанской жизни?» Не помню уж, по какому случаю вырвался этот вопрос, так случилось. И он ответил: «Хоронить боевых друзей».
Это правда.
Командование соединения — Негреев, Кочубей и я — задумалось, как лучше вывести полки из Толстого леса. Последний бросок… Обменялись мнениями и согласились, что лучший вариант — идти через молодой лес. Там нет дороги — это нам на руку. Прорубим — всего-то километра четыре-пять. Зато выйдем в неожиданном для врага месте.
А чем рубить? Это же настоящий, большой лес, хоть и молодой. Много топоров нужно, и пилы нужны, чтобы за ночь проложить дорогу и пройти по ней. Я послал разведку в соседнее село Бовище, установил, что гитлеровцев там нет, а крестьяне готовятся к престольному празднику, и, честно говоря, так волновался за эти топоры и пилы, что решил поехать в Бовище сам, пригласив с собой Харламова.
Приехали — сказали, что на праздник. Поздравили. Как они нам обрадовались, как старались угостить! Была здесь и гармошка. Харламову аплодировали, когда он танцевал. А пока гуляли, крестьяне собрали нам пилы и топоры. В достатке. Даже наточили. Я сказал им, что нам в лесу нечем дрова заготовить для кухонь и для костров, чтобы обогреться.
Ну ты хитер! — заметил на обратном пути Харламов. — Полная подвода топоров и пил. Для кухонь!
— Осторожность все же… А ты здорово пляшешь!
— Соскучился.
— Да нет! Умеешь! Оторвал гопака.
— Донской казак по происхождению.
Армейские связисты соединили все лагеря в Толстом лесу телефонной связью, и утром подполковник Шапиро позвал меня к себе. Просил поскорее, если можно… Когда мы с Кочубеем подъехали к штабу полка, то увидели плотное кольцо офицеров, в середине которого стоял незнакомый полковник с картой в руках. Он оценивал обстановку как очень серьезную, а выйти из окружения единой колонной было, по его словам, невозможно. «Отставить партизанские выдумки!»
Я хлестнул коня, Кочубей за мной, мы ускакали. Рассказав Негрееву, что случилось, я стал приходить в себя. Все равно, говорю, военным надо помочь, даже если они будут дальше идти без нас и надеяться только на себя. Вот в эту самую минуту Саша Кравченко и принес упомянутую раньше радиограмму от Строкача и Ватутина, поручавших нам вывести войска из окружения. Теперь надо было ехать обратно, и немедленно. Но оказалось, офицеры сами уже к нам едут, нас уведомили по телефону.
Полковник Мухин по приказу командира корпуса с небольшой группой разведки пробрался в Толстый лес и разыскал полки, отсеченные окружением. Я уже не сердился, и он повеселел, но еще оправдывался:
Не понять же, правда, что вы командиры! Формы нет. Одеты, как любой другой партизан. Только и отличия, что бинокль ла полевая сумка. Теперь вижу, а сразу не заметил.
Все посмеялись, пошутили, как свои. Тогда я прочитал им радиограмму, которой они обрадовались, а больше всех — Мухин.
— Значит, командующий фронтом уже знает о нашем положении? К делу!
Вышли из землянки в лес, уселись на пеньках, как на стульях, и начали деловой разговор. Я объявил, что этой же ночью двигаемся к Припяти. Надо все подготовить. Оставить здесь негодные подводы…
— А если все годные?
— А вы не спешите так говорить. Проверьте прежде. Негодные — которые со скрипом. Ии одной скрипящей телеги чтобы не было! Двигаться будем мимо сильных гарнизонов врага, поэтому — никакого шума.
По сведениям разведки, вокруг Толстого леса уже сосредоточены две фашистские дивизии с танками. Гитлеровцы не успели раздавить окруженных там, за рекой Уж, и здесь готовили страшный удар на 8 или 9 октября. Это сообщала разведка. Честно говоря, у меня на душе кошки скребли. Сегодня уже седьмое. Немного времени было у нас в запасе…
— А какой дорогой мы пойдем? — спросили офицеры.
— Той, которой еще нет.
Не теряя ни часа, создали бригады из партизан и солдат, отбирая умельцев, владеющих пилами и топорами. В молодом лесу расставили охрану, разведчики-наблюдатели расположились за лесом, и началась рубка. Не больше чем в шести километрах от немцев. К девятнадцати часам дорога была прорублена. Усилили наблюдение, наши разведчики добрались до копен на полях у деревень Толстый Лес и Кливины, замаскировались в этих копнах. И через час двинулись: впереди конники во главе с Кочубеем, затем — отряд Каменского, за ним — полки… Прикрывал колонну отряд Дунаева.
Мы с Негреевым и подполковником Шапиро ехали впереди его полка. В большом напряжении находились все — и офицеры, и солдаты. Двигались тихо. Ни звука. Очень тревожили меня санитарные собаки, которые были в полку Шапиро. Я настаивал на том, чтобы оставить их в лагере. «Что вы! Собак, которые стольких раненых спасли? Нет, невозможно!» — отвечал он мне, уверяя, что они безукоризненно послушны.
Действительно, все обошлось. Ни в лесу, ни в поле ни одна собака ни разу не залаяла.
Скоро и Дунаев сообщил через связного, что вышел из Толстого леса вслед за нами. По новой дороге… Еще километров десять шли вместе с воинскими частями, почти до села Сергеевки, а там наши дороги разошлись — одна к фронту, к Чернобылю, другая к Овручу, в Мухоедовский лес. Наша разведка не только сопровождала дальше полки, но и установила, что у врага здесь нет сплошных позиций. Забегая малость вперед, скажу, что командиры 86-й и 117-й немецких дивизий генералы Зальцман и Грабих были сняты со своих постов за то, что упустили такую добычу.
В ЦК Компартии Украины и УШПД пришло письмо от армейцев, где описывалось их положение за рекой Уж и выражалась благодарность партизанам нашего соединения за помощь при выходе из окружения.
Девятое примечание
Некоторые выдержки из этого письма:
«Как подготовительные работы, так и операция по выводу нас отличались особой четкостью, тщательностью, продуманностью малейших деталей. Вся проведенная операция говорила о высоком организационном мастерстве, исключительной слаженности всех звеньев партизанского соединения тов. Салая. Буквально в часы были подготовлены переправы, проведена тщательная разведка маршрута, выставлены прикрытия в местах возможной встречи с противником, подобраны проводники. Только благодаря этому оказалось возможным совершить переход значительной массы войск с артиллерией и обозами, не имея при этом никаких потерь ни в живой силе, ни в технике».
В письме отмечаются командиры и комиссары отрядов, не забыты и хозяйственники, говорится о «самоотверженной работе начхоза И. И. Мейтина, который в чрезвычайно тяжелых условиях обеспечивал бесперебойное снабжение большого количества людей продуктами питания». И это тот самый Мейтин, которому партизаны жаловались, бывало, что прежде чем с ним договориться, нужно вместе пуд соли съесть, а он всплескивал руками, улыбался и отвечал, что соли-то как раз у него и нет!
Кроме официального письма была и дружеская записка, которую привезли партизанские разведчики в тот же день, когда проводили армейцев почти до места, 8 октября 1943 года. Вот она:
«Дорогой товарищ Салай и дорогие товарищи! Прибыли мы все благополучно, получили задачу на оборону. Завтра опять будем брать Чернобыль. Большое боевое спасибо всем вам за товарищескую помощь. И конечно, мы этого никогда не забудем. Совместно били и будем бить врага, чтобы наша Родина снова стала свободной землей».
Глава двадцать пятая
Наградой за все испытания стал нам лагерь в Мухоедовском лесу, недалеко от Овруча. Давно не видели мы ничего подобного! Большие сосны, сухо, вкусная вода совсем неглубоко, добрые луга для лошадей… Что еще надо? Но главная редкость заключалась в том, что мы простояли здесь, в этом райском лесу, целый месяц.
А как мы устроили этот лагерь! Вот уж верно, по всем правилам партизанской науки. С севера нас прикрывало болото, будто специально созданное там для этого и не захватывающее нашей территории, пощадившее ее. С запада первый отряд вырыл окопы с пулеметными гнездами, оборудовал позиции для ПТР и орудий. Второй отряд расположился на юге, а третий — на востоке. Теперь с востока ждали отступающего врага, и чапаевцы создали две линии обороны. Помню, Вонарх и Шкловский, осмотрев их, почесали затылки и взялись за вторую линию в своем, южном районе.
Заставы и дозоры были повсюду выдвинуты далеко вперед, на два-три километра за оборонительные позиции. Окружающие нас села — Грязиво и Пичмань, Жельня и Романь, Москалевка и Нечипоровка, Святки и Мухоеды — все приняли и разместили наших разведчиков-наблюдателей, так что, появись гитлеровцы, мы в лагере узнали бы об этом задолго до того, как увидели бы их. У болота — склад боеприпасов. В центре лагеря — штаб. И как всегда, недалеко от штаба — повозка комиссара и «хозяйство» Василия Ивановича Чмиля, наша типография, где день и ночь не прекращалась работа, размножались сводки Совинформбюро, принятые нашими радистами, писались и печатались листовки, которые распространялись по селам.
Кольцевая оборона, впервые примененная нами при оборудовании лагеря в Елинском лесу, по схеме, нарисованной нашим бывшим начальником штаба Иваном Салаем-Кругленко, оправдывала себя. Прочнее оборона — спокойнее быт в лагере, лучше настроение. А что это значит у партизан? Хорошее настроение — значит, боевое. Громы войны доносились до нас, страшные сполохи озаряли ночное небо, трепеща в облаках.
Мы пришли в эти леса по южным дорогам Белоруссии и видели здесь, как и на Украине, пепелища вместо сел на протяжении тридцати километров нашего пути — там, где дымили до войны очаги, хлопотали матери, играли дети…
Редко попадалась хата. Заглянешь в такую хату: тусклая лучина чадит в ней, как в прошлом веке, непременный скрип жерновов сопровождает людские вздохи, матери перемалывают ячмень для полураздетых и полуголодных детей, которым в лучшем случае перепадало в день по одной картофелине в мундире, без соли.
Немало людей месяцами жило в копнах. В норах, вырытых в сене. Как зверьки полевые.
А большее число крестьян, загнанных оккупантами в лес, рыло себе землянки. Перед такими землянками я сам видел раза два цветники! Да, в любой обстановке человек тянется к жизни, к весне. Эти цветники — из двух-трех стебельков или кустарников — вовсе не выражали смирение, готовность жить так до самой смерти. Нет, они демонстрировали любовь к жизни и веру в победу. И естественно, что партизанская рука тянулась к оружию…
Множество диверсионных маршрутов пролегло из Мухоедовского леса. Захватчики так и не сумели восстановить железную дорогу Овруч — Чернигов, выведенную из строя партизанами. Теперь ее перерезала линия фронта, и дорога ждала часа, чтобы понести на себе мирные грузы. Но с удвоенной энергией гитлеровцы гоняли поезда по направлениям Коростень — Овруч и Овруч — Мозырь, снабжая свои войска, изо всех сил пытавшиеся противостоять наступательным действиям Белорусского фронта.
Сюда мы направили свои группы.
В ночь на 24 октября диверсионная тройка под командованием Ивана Татьяненко на участке Богутичи — Словечно пустила под откос эшелон противника с живой силой и техникой. Уничтожено шесть танков и четыре автомашины, до ста солдат, разрушено тринадцать метров пути, поезда остановились почти на сутки.
В ночь на 29 октября другая тройка, под командованием решительного Ивана Прищепы, на участке Выступовичи — Бережесть подорвала два эшелона. По обеим сторонам пути остались одиннадцать искалеченных орудий, девять автомашин, было убито более двухсот гитлеровцев, разворочено сорок метров пути, а это приостановило курсирование железнодорожных составов на двое суток. На этом участке почему-то вошло в норму громить сразу по два эшелона противника. Случайно, конечно.
Но вот в ночь на 9 ноября почти на том же месте диверсанты Насонов и Бумажников подорвали эшелон с живой силой, идущий с фронта: одиннадцать вагонов раскидало, а паровоз лег поперек пути, на него и наскочил эшелон, движущийся на север, к фронту, тоже с живой силой. Неожиданный конец нашли себе двести двадцать гитлеровцев, тридцать два из них — офицеры. Вышел из строя и десяток автомашин. Похоже, проводилась перегруппировка или смена. Если так, вот где благодаря партизанским подрывникам повстречались солдаты фюрера, чтобы уже не расставаться!
В ночь на 15 ноября диверсанты под командованием Павла Тищенко своротили с путей эшелон с боеприпасами. Долго они рвались, долго гремели взрывы.
Все диверсии вроде бы похожи одна на другую, но это не так. Каждый раз — свое решение, свое волнение, свое мужество. И свой риск.
Гитлеровцы наконец додумались, как охранять пути от партизан и без «попугаев» (которые, может, и готовы были помочь оккупантам, да их подстреливали партизаны). Теперь не от хорошей жизни гитлеровцы по обеим сторонам полотна начали запахивать и бороновать полосы шириной до пяти метров. Есть следы на полосе — ищи мину, нет следов — не было никого и на шпалах.
Вспоминаю, как пришел ко мне местный крестьянин Петр Будковский, неоднократно выводивший наших диверсантов на железную дорогу. Мы сидели с ним, обедали, и тут он предлагает:
— А что, если сделать перекладину вроде мостика?
— Как?
— С одного конца привязывать к длинной доске козелок и сразу переносить его этой доской туда, на тот бок запаханной полосы. А потом и со своего конца — ставь под доску другой козелок и переползай по доске. Никаких следов.
Мы ухватились за это предложение. И взрывы на железной дороге продолжались. Я перечислил их далеко не все. А кроме того, мы выходили и на шоссейные дороги.
Из-за того что многие мосты на шоссе Овруч — Чернигов уже перестали служить врагу, он понаделал столько же объездов и отчаянно охранял их. Для охраны одного такого моста фашисты выделили человек двадцать. Мы разработали операцию по разрушению этого моста и, конечно, ликвидации гарнизона. Косенко повел сто партизан с двумя пушками. Перед селом разделились, обошли его с двух сторон и вместо сигнала дали с запада и востока по два орудийных выстрела. И — в атаку.
Пока партизаны превосходящими силами — как это редко бывало-то! — добивали гитлеровцев, диверсанты взорвали мост. Крестьяне же этого села не только накормили партизан, но и послали к нам в ряды двадцать парней.
На обратном пути, неподалеку от Жельни, партизанскую разведку встретил крестьянин. Он ждал на дороге и сказал, что фашисты приготовили впереди засаду, залегли по обеим сторонам дороги. Вторая группа наших разведчиков обнаружила засаду ближе, к лесу. Все стало ясно. Гитлеровцы думали пропустить партизан, зажать ударом с фронта и с тыла и разделаться с отрядом. Не вышло. Партизаны сами разгромили эти засады, проведя нелегкий двухчасовой бой.
В другой раз отряду имени Чапаева поручили снова взорвать мост, который захватчики восстановили в селе Грязиво. Чапаевцы уже ворвались в село, когда увидели, что впереди вовсю горит какая-то постройка. Большая. Оказалось, горит сарай, в который фашистский офицер велел согнать крестьян, а сюда послал женщину и старика — сказать, что, если партизаны не остановятся, он не выпустит смертников. Женщина, плача, рассказывала, что он, зверь, сам поджег сарай. Партизаны не раздумывали — отходить или нет. Бросились вперед, на пулеметный огонь. Жди, когда этот офицер откроет двери сарая! Они сами сбили с них замок и выпустили на волю всех крестьян, которых офицер назвал смертниками.
Мост, почти восстановленный, взорвали и сожгли диверсанты во главе с Иваном Прищепой.
Я уже называл этого человека, знающего свое дело и, добавлю, по самому серьезному счету бесстрашного. Он — из села Тужар Остерского района и вступил к нам в один из отрядов там же, в междуречье, с винтовкой в руках, захваченной им у немцев. Эта винтовка пригодилась двадцатилетнему партизану-комсомольцу во многих схватках, а скоро он был назначен командиром диверсионной группы. Во время одного из первых выходов на железную дорогу Нежин — Киев Иван убедился, что ночью немцы так усиливают охрану, что заложить мину невозможно. И он решил сделать это днем, когда охрана ослабевает. У знакомого колхозника в соседнем селе переоделись в крестьянскую одежду, заряд тола спрятали в корзинку для грибов. После того как прошел вражеский патруль, Прищепа сам заложил мину и тут же услышал шум поезда за поворотом дороги. Он скатился по насыпи в ельник и отсюда увидел, как наверху полыхнуло пламя и раздался огромной силы взрыв. Паровоз медленно завалился на бок, увлекая за собой платформы с танками. Отстреливаясь, партизаны ушли от погони.
А всего на железных дорогах группа Ивана Прищепы уничтожила двенадцать танков, шесть тяжелых орудий, семь автомашин, не меньше солдат и офицеров противника.
Именно Иван Прищепа со своими ребятами взорвал склады с боеприпасами в сараях бывшей колхозной фермы близ Приборска у реки Тетерев. Там же, закладывая мины на пути преследования врагом отходящих партизан, Прищепа подорвал один немецкий танк и заставил остальные повернуть назад.
Именно благодаря таким подрывникам, которые прошли партизанскую школу, наше рейдовое соединение могло выполнять свою главную задачу — в открытых боях громить оккупантов, наносить им ощутимый ущерб своими неожиданными диверсиями.
Мы тогда сражались под Овручем…
Илья Шкловский из одной засады привел трех пленных офицеров, уцелевших в подорвавшейся легковой машине, и среди них обер-лейтенанта. На допросах этот бывший купец, ставший нацистом, оказался словоохотливым. Он рассказал, что Гитлер вознамерился сдавить Советскую Армию в дуге у Днепра и опрокинуть в реку,
если, мол, останется кто в живых из частей, переправившихся на правый берег.
Я попросил переводчика задать пленному такой вопрос:
— Ну а как вы сами смотрите на это? Верите? Что может получиться у вашего фюрера?
— Сам? — удивился обер-лейтенант.
Я кивнул, а он задумался, вздохнул, покачал головой, опять вздохнул.
— Раньше я верил Гитлеру. Что бы он ни сказал, я не сомневался. А теперь… Никакие громкие слова не помогут. Италия уже оставила нас… Прав был Бисмарк: нам не надо воевать с Россией. Сначала шло хорошо, а теперь мне ясно: мы сами будем опрокинуты. А вы победите.
— Без второго фронта? — спросил Негреев.
Пленный махнул рукой.
В Мухоедовском лесу мы встретили двадцать шестую годовщину Октября. Накануне был освобожден Киев, и это украсило праздник. Наши листовки не только разлетелись по окрестным селам, но дошли и до Мозыря и Овруча. Во многих селах наши агитаторы сделали краткие доклады. В лагере на общем собрании партизан накануне праздника выступил Негреев. Он подвел некоторые итоги действий нашего соединения. Приведу их, потому что в них отразились и общие масштабы операций, и храбрость каждого. Мы прошли в тылу врага около двух тысяч километров, действуя главным образом в Черниговской области, где наше соединение возникло, и побывав в Брянской области РСФСР, в Полтавской и Киевской областях Украины и в Полесской области Белоруссии. Согласно тетрадям учета боевых действий, куда не записывали того, чего не видели своими глазами, за это время было уничтожено сорок шесть вражеских эшелонов, тридцать восемь танков, тридцать одно орудие, сто семьдесят три автомашины, выведен из строя бронепоезд, взорвано три железнодорожных моста и шестнадцать мостов на шоссейных дорогах, разгромлено семнадцать гарнизонов фашистских войск и тридцать один стан полиции в селах, истреблено около пяти тысяч солдат и офицеров противника. Партизаны разделались также с немалым числом предателей.
А вот и другие цифры, тоже показательные. За это же время среди населения мы распространили сто пятьдесят тысяч газет, полученных с Большой земли, и около пятидесяти тысяч листовок, выпущенных нашей типографией. В невольно оторванных от Родины уголках партизаны провели девятьсот шестьдесят бесед, сообщая людям о борьбе на фронтах Великой Отечественной войны и укрепляя веру в Победу.
В тот день Негреева слушали не только партизаны, но и многие жители ближайших сел, которые пришли к нам на праздник. Я разрешил пустить их в лагерь. Времена менялись. Для фашистов не было уже секретом, где мы находимся, но они ничего не могли сделать с грозной силой, разместившейся в их тылу, на своей земле. Наутро был парад. Партизаны выстроились и пошли боевыми колоннами в заштопанной и вычищенной одежде. А за ними шагали наши гости, жители местных деревень, молодые и старые. Помню и сегодня лица этих людей, сияющие застенчиво (потому что счастья тоже ведь стесняются) и вместе с тем радостно. Дорогие лица отцов, матерей, братьев, сестер солдат, торопившихся сюда в гуле фронтовых атак. Так что на этот раз у нас был не только парад. Была и демонстрация, организованная местным населением.
А после нее мы услышали громкое хлопанье крыльев и вскрики петухов. Что такое? Оказалось, крестьяне принесли их с собой, чтобы угостить партизан. Но не пойдешь с ними в рядах на демонстрации. И петухи разлетелись и раскричались, можно сказать распелись.
Веселый был праздник. И угощение вышло сытное. Но я не рассказал бы всего, если бы не сказал еще о письме Гитлеру и всей его своре, которое партизаны сочинили сообща, как некогда их предки-запорожцы — турецкому султану. И конечно, привлекли на помощь партизанских поэтов, юмористов, чтобы вышло позабористее и посмешнее. Я не могу процитировать всего письма, и не только потому, что оно длинное. Некоторых даже коротких слов в книге не повторишь. Партизаны отвели душу. Гитлера предупреждали: «Не возьмешь ты ни пшеницы, ни овса, а повесим мы тебя, как бешеного пса!» Писали, что ему не справиться с партизанами, «как воды в море не выпить и ветра в поле не поймать». Отпечатали письмо в своей типографии, добавив к тексту карикатуры, распространили перед праздником в селах, чтобы люди вместе с нами посмеялись над фашистами. Письмо дошло и до гитлеровцев. У одного из трех пленных офицеров мы обнаружили текст письма, переведенный с украинского на немецкий. Скучнее вышло, но довольно полно. И адрес в конце был указан точно, как у нас: Лесоград.
По этому адресу и здесь, возле Овруча, обитали в тылу врага не мы одни. Рядом с нами действовали большое соединение Александра Сабурова, отряды Владимира Яремы и Карасева (последний выполнял важную разведработу для командования Советской Армии). Вскоре после нашего прихода в этот район Карасев ушел со своим отрядом дальше на запад. Все отряды поддерживали связь между собой, а Сабуров установил связь с белорусскими партизанами, и можно смело сказать, что в тылу противника образовался партизанский фронт.
Мы получили радиограмму, наметившую маршрут нашего дальнейшего передвижения: Коростень, а за ним Западная Украина. Немцы откатывались. 18 ноября 13-я армия во взаимодействии с соединением Сабурова овладела Овручем. С сабуровцами в Овруче соединилась воздушно-десантная дивизия генерал-майора Румянцева, та самая, которую фашисты ждали и собирались уничтожить на реке Тетерев.
Мы начали движение, минуя село за селом, не давая врагу увозить награбленное и вскрывая его новые преступления. Так, в Селище фашисты не успели заровнять свежую могилу, в которую свалили шестьсот расстрелянных мужчин, женщин и детей. Дети были привязаны к груди матерей проволокой, чтобы на обоих хватило одной пули. На другой день над этой могилой жители Селища поставили памятник. Негреев позаботился, чтобы о зверской расправе фашистских захватчиков над жителями Овручского района Житомирской области был составлен протокол, который позже направили в Чрезвычайную Государственную Комиссию по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников <…>. Протокол составили в присутствии родственников. Среди родственников была, например, Оксана Селиверстовна Приходько, которая лишилась мужа и двух сыновей.
Через три дня мы расположились в Швабах, недалеко от Овруча, и к нам приехал Сабуров со своими помощниками. Встретили их как надо, партизанским обедом, который проходил без меня. Я лежал в соседней комнате и смотрел на всех сквозь распахнутые двери. Увы, болезнь свалила меня. Выпили по чарке за мое здоровье.
Как я уже не раз испытал на себе, болезнь всегда подбирается не вовремя. Я имею в виду, конечно, не этот дружеский обед, а общую ситуацию: началось движение! А мои суставы так распухли, что уже из Селища до Шваб я не мог доехать верхом, лег на повозку, и меня везли. Врачи перехватывали связных, не давали меня беспокоить, а перед встречей с Сабуровым сделали мне старинную операцию — пустили кровь, потому что не на шутку разыгралась гипертония.
Ну что ж, не в первый раз.
Глава двадцать шестая
Но мне становилось хуже.
Я старался держаться. Вспомнил прошлое, далекое… Как однажды мы ехали с Боженко и попали по дороге под такой сильный дождь, что батька предложил заночевать в селе Чернацкое. Утром дождь все лил, а батька ходил по хате, разминая свои колени и приговаривая:
— Вот бис його забери, цей дождь! Як вин иде, то у меня колени так болять, хоч кричи!
Я, грешным делом, подумал, что батька лукавит, не хочется ему покидать хаты, мокнуть, вот и ругает свои колени вместе с дождем. Я не понимал тогда, как это болят колени. А вот теперь и у меня тоже болят колени перед дождем, как в эти осенние дни… Осень на дворе, ноябрь кончается, желтеют и облетают листья. Неужели настала твоя осень, Миша?
Я ругал себя на чем свет стоит за откровенный вопрос, все настойчивее стучавший в висках. Иногда удавалось заглушать его деловой заботой, шуткой с друзьями, и надежда снова расправляла крылья. «Ну вот, — говорил я себе, издеваясь над своим малодушием, — раскис, как малое дитя! Будто не бывало похуже. Когда? Да хотя бы когда ранило первый раз, еще на той, империалистической…»
Меня сразу и ранило, и контузило. Очнулся ночью в черном поле, провел по ноге — липко и мокро, кровь. В ушах — звон. «Может, от тишины, — подумал я, — но больно уж оглушительно звенит». Позвал — ни звука в ответ. Никого. Ползти нужно, а куда, в какую сторону? Наши отступили, значит, на восток нужно, а где он?..
Вдруг донесся знакомый рокот. Издалека донесся, как из детства. Что это? Долго вспомнить не мог, чувствую слово, знаю, а сказать себе не могу. Колеса… Телега… Дорога там! А ползти — так уж к дороге, там — люди. И я пополз. Выбрался на дорогу. Часа два к ней полз, еще часа два на ней лежал, а никто больше не ехал. Дорога какая-то безлюдная, как и поле. Ну что ж, говорю, езжай по этой дороге сам. Езжай, то есть ползи…
Не знаю, сколько уж полз, ноги сильно набил, колени опухли, и руки стонут. Зато услышал, как впереди собака залаяла, значит, село!
Дополз до села и увидел огонек в хате. Испугался, что потухнет огонек, дотянул до хаты, на одних руках можно сказать — ладони пылали, точно обожженные. Долго, недели две, ни до чего потом дотронуться не мог, пока страх у них, у пальцев, не прошел и не отвалилась с них кровавая корка. Зато в хате оказался наш ротный фельдшер. Он перевязывал меня, все приговаривая, что меня надо бы куда-то отправить, но отправлять было не на чем. «Хочешь жить, ползи в тот лес, до батальонного околотка, оттуда отправят!»
Я хотел жить и снова пополз — в тот лес, еще километров пять, на перевязанных руках и ногах, приполз почти без памяти… И меня сразу положили на двуколку, уже загруженную другими ранеными, втиснули к ним под ноги. Лежу и слышу голоса: «Тесно!» — «В дороге утрясутся. Кто-то непременно богу душу отдаст, и место появится!»
Очнулся я уже в госпитале, когда врачи обсуждали, как мне ногу отпилить, чуть выше колена или под самый таз. Я поднял руки, чтобы защитить себя, ору: «Не дам!» Старый врач смеется: «Ишь какой! Развоевался!» А мне страшно сделалось: лучше бы уж убили, чем остаться без ноги в молодые годы. Чего-то несу, а врачи и не слушают меня, но когда начали температуру мерить перед операцией, она — под сорок. Так сильно подскочила от волнения, что отложили операцию, а с ней и пилу. Я радуюсь, да недолго. Через несколько дней второй раз на носилках понесли меня к столу. Вот еще полчаса пройдет — и я без ноги. И опять у меня — температура! Все ругаются, а какой-то молодой доктор тихо говорит: «Молодец? Гангрены нет и, может, не будет…» И вот пришел день, когда я вышел в белый свет на своих ногах!..
Сейчас мои товарищи готовились к переходу на Коростень, а я лежал и успокаивал себя: обойдется! Принесли вторую радиограмму от Строкача, предлагавшую мне немедленно лечь в армейский госпиталь.
— Не поеду, — говорю я. — Не могу я оставить вас.
Меня заверяют, что все будет хорошо, в порядке, они смогут и боевой дух сохранить, и дисциплину, и всё.
— Вы-то сможете, — отвечаю. — А я не смогу без вас.
Хоть плачь! Давно один лежу, всех отправил от себя, я повторяю, сам себе твержу: «Не поеду! Не нужен мне никакой госпиталь!» Через день командующий армией, действующей на нашем направлении, Черняховский, прислал за мной самолет. Но я не согласился лететь. Верил, что встану…
Сколько лет было тогда батьке Боженко, когда мы разъезжали с ним по черниговским селам, готовясь поднять их на врага? Он казался мне пожилым. Ему не было и пятидесяти. А сколько мне сейчас? Я задал себе этот вопрос и обомлел: пятьдесят три. Мы почти сравнялись с батькой. Полежал чуть-чуть и улыбнулся: ну что же, а какой он был молодцеватый, веселый! Раз по дороге в Зерново начал похваляться своим конем: «Оную коняку отобрал я у супостата, в бою. Ох и коняка! Поскачем наперегонки? Ось побачишь, як вин бежить!»
Лошадь у меня тоже была хорошая. Батька посмотрел на меня довольным, лукавым глазом, пошлепал коня по шее большой рукой, подобрал поводья и крикнул: «Гей!» И мы понеслись галопом, полетели. Он перегнал меня. Я уже начал уставать и крикнул ему, что сдаюсь, а он все скакал. Потом остановился. И когда я подъехал к нему, он хохотал своим заразительным, мальчишеским смехом, запрокинув голову, открыв рот — так счастливо! «Ну что, сынку, яка у меня коняка?»
Его не стало, когда партизанские войска вовсю развернули борьбу и мы уже оставили позади стольный Киев, где он недолго был комендантом. Тяжкая болезнь свалила его, Василий Назарович умер в августе девятнадцатого года.
И Щорс… Не успела у него затихнуть боль в душе от потери батьки Боженко, которого он ценил и любил, и этот злосчастный август не успел кончиться, как вот здесь, в сражении под Коростенем, за освобождение этого города, погиб сам Николай Щорс. Вот кто был совсем молодой, юный, на четыре года моложе меня тогдашнего. Удивительного таланта и бесстрашия, удивительной чистоты был человек!
Делами надо заниматься. Вставай. Немцы свели под Коростенем большие силы пехоты и техники. Это они стремились к осуществлению бредового плана Гитлера — оттеснить нашу армию за Днепр, откуда она пришла. Мы налаживали взаимодействие с частями двух армий — Черняховского и Пухова. Чувствую себя легче, хотя встать не удалось — болела голова, ноги тоже, собрал комсостав и вел совещание, оставаясь в постели.
Назавтра приехал Андрей Дунаев, доложил, что его отряд, занимавший оборону у Игнатполя и выдерживавший по три атаки вражеских танков в день, очень умело используя при этом каменоломни, сам атаковал село Михайловку и взял его, чем помог нашей наступающей дивизии. Командир просил представить отличившихся партизан к наградам.
Негреева послал с двумя отрядами — взять деревню Соловьи, где гитлеровцы держались против нашей армии на мощно укрепленном рубеже. Первое донесение: заняли северную сторону деревни, но немцы сразу бросили в бой танки, поддержанные артиллерией. Вынуждены отойти. Это было 6 декабря. Седьмого снова наступали на Соловьи вместе с партизанами соседнего соединения — заняли и укрепляются. Хорошо. Это обеспечивало армейский фланг.
Кроме того, в интересах армий мы вели разведку, вскрывая самые тайные планы и действия врага.
Докладывая, командиры коротко спрашивали:
— Как вы?
— Лучше.
Это было правдой. Но врачи предупреждали: ненадолго, под действием лекарств, и надо использовать улучшение, чтобы добраться до армейского госпиталя или до Киева. Я еще не сдавался… Все решило письмо Строкача, которое 8 декабря привез посыльный. Нам ставилась задача — идти глубже в тыл врага, парализовать шоссейные и железные дороги. Тимофей Амвросиевич писал:
«Если кто-нибудь из вас, командиров и комиссаров отрядов, по каким-либо причинам не сможет выступить для дальнейших действий в тылу врага, необходимо по вашему усмотрению принять решение о назначении других товарищей, могущих руководить боевыми действиями отрядов».
В. Ф. Бурим
В письме отмечались большие успехи соединения в борьбе с немецкими захватчиками, не раз почувствовавшими на себе наши удары, а я повторял про себя: «Мужайся, Михаил, это о тебе — так деликатно и осторожно: «Если кто-нибудь из вас…» В письме подчеркивалось, что настал самый ответственный период войны, когда партизаны должны оказать помощь Советской Армии в окончательном разгроме немецких захватчиков. А я думал, что могу лечь поперек пути своему соединению. «Надо прощаться».
Десятого в десять утра последний раз я собрал вокруг себя дорогих людей, проще сказать, родных, ибо нет родства, крепче боевого.
Я сказал, что нам доверено самим произвести замены в командовании, и передал соединение Митрофану Негрееву. А комиссаром стал Александр Каменский. Видно, непросто дались нам все предыдущие дороги по земле, болотам и рекам, потому через два месяца медики были вынуждены эвакуировать в тыл обоих, но соединение снова доказало свою жизнеспособность. Его возглавили командир Петр Коротченко, комиссар Василий Бурим и начальник штаба Александр Алексеев. Они знали людей, и люди их знали. Соединение проделало славный путь по дорогам Волыни…
Оттуда, с Западной Украины, дошла потом до меня горькая весть: погиб Николай Черныш. Разведчика убили бандеровцы, фашистские холуи и прихвостни, сведенные в вооруженные банды. Сколько бы они ни прикрывались выкриками о национальной борьбе, они были не больше чем бандиты, не знавшие пределов в своих зверствах, потому что дрожали за свою шкуру. Они служили фашистам, как в восемнадцатом служили кайзеру гайдамаки, тоже размахивавшие для прикрытия бандитизма национальными знаменами.
Когда узнал о гибели веселого и молодого Николая Черныша, сразу вспомнилась Катя Рымарь, его спутница на всех партизанских дорогах, на всех маршрутах разведки. Как же тяжело ей теперь! Подумал и о других партизанских семьях…
Нашу лесную, полную тяжелых испытаний и боев жизнь вели люди, а значит, в ней возникало все, что людскую жизнь сопровождает, или, лучше сказать, складывает, создает. Возникала и настоящая любовь. Нигде, пожалуй, как в этой жизни, и никогда, как в те дни и месяцы, люди не узнавали так глубоко и верно друг друга. Партизанские семьи: командир Чапаевского отряда Дунаев и радистка Екатерина Филиппенко, начальник штаба соединения, бесстрашный Петр Коротченко и помощница нашего врача Александра Иванова; еще одну семью образовали разведчик и подрывник Михаил Осадчий и медсестра Аня Безрукова…
Я радовался за них и всегда желал им счастья. Как и впредь желаю радостей всем партизанским семьям!
Пусть дети в этих семьях наследуют родительскую честь, будут всегда верны ей.
…Командиры вынесли меня из хаты на руках, подбадривая, подшучивая, ну а слезы, которые мелькали на иных мужских глазах, так ведь их принято не замечать, бис их забери, как говорил мой батька. Грузовик, куда поставили постель, вез меня в Киев, в тишину… Вдруг я подумал, что скоро увижу свою Соню. Когда я болел перед отправкой в партизанский край, она всю себя вложила в мое лечение, и я встал. Вспоминал ее сейчас с нежностью и благодарностью, на которые, казалось, не способна моя душа. А после моего отъезда Соня слегла… Лечилась в больнице, откуда могла, как рассказывали мне, и не выйти, так была плоха. Я писал тогда сыну моему, Леониду, прося по мере всех его сил морально поддерживать мою дорогую Соню, и не сомневался, что он сделает это, хотя она и не была его родной матерью. Соня опять поможет мне. Она умеет меня лечить. И потребуется — еще догоню свое соединение.
Партизаны на отдыхе
Хотя уже было ясно: не успею. Даже тишина на дороге, нарушаемая урчанием мотора нашего грузовика, свидетельствовала, что война шла к концу. Хоть малой каплей, а мы внесли свою долю в общую битву ради Победы. И я с низким поклоном вспоминаю живых и погибших партизан.
Пусть не обижаются на меня те, чьи имена не попали на эти страницы. Всех хотелось бы назвать сосредоточенного и задумчивого работника нашей типографии Марка Юрченко, который самодеятельно занимался не только типографией, но и ремонтом оружия; храброго пулеметчика Павла Данникова и еще двух бесстрашных пулеметчиков — Василия Лысенко и Николая Примака; юного Валентина Пикуля, которого не брали в отряд из-за роста, который стал наконец счастливее всех, когда ему доверили высокую должность — рядовой партизан, и это доверие он оправдал в боях; политрука взвода Петра Журбу, пришедшего к нам из села Хрещатое, где работал подпольщик Бурим, и воевавшего поначалу с винтовкой в руках, пока не удалось добыть себе в бою немецкий автомат; бывшего красноармейца Анатолия Нурутдинова, научившего многих партизан владеть винтовкой и умело вести себя в бою; юношу Михаила Галузу из Комаровки, у которого два брата погибли на фронте, а сам он сначала выпекал вместе с матерью хлеб для партизан в своем селе, в своем доме, а потом стал нашим бойцом; разведчика Игната Куца, пришедшего к нам в Ново-Басанском лесу, где нам было особенно трудно, и однажды проехавшего вместе с другими партизанами на хозяйственную операцию через горящее торфяное болото… Нет, всех не назовешь, это невозможно! Если попытаться о каждом рассказать хоть немного, все равно ничего не выйдет. Всех куда больше, чем может быть страниц в этой книге, да и получится ли она… Всех не назовешь еще и потому, что мои записи в те боевые дни не были постоянными, я и не думал, что когда-нибудь сяду писать книгу.
Запала мне в душу одна партизанская песня. Простая, она — об одном и обо всех. Уж не знаю, кто сочинил ее, по складу и духу она из тех, что рождаются как бы сами собой и живут долго и безымянно. Вполголоса у нас, бывало, пели:
На опушке леса старый дуб стоит, А под тем под дубом партизан лежит. Он лежит — не дышит, а как будто спит, Золотые кудри ветер шевелит. Рядом с ним старушка, мать его, сидит, Слезы проливает, сыну говорит: «Ох, болит сердечко по тебе, Андрей, Ты скажи словечко матери своей… Я ли не растила, я ль не берегла? А теперь могила будет здесь твоя».Так ведь не забудут же тех, чьи могилы затерялись на заросших партизанских тропах старых лесов.
Последнее, десятое примечание
На полях одной страницы в конце рукописи Михаила Салая попадается короткая неразборчивая, почти стертая строка: «Вот и прошел». Ну конечно же! Эти простые слова и дают самый полный ответ на то, что помимо всего тянуло его каждый день за стол с бумагой. Еще раз хотелось пройти по знакомым лесным дорогам перед тем, как навсегда проститься с ними. «Вот и прошел».



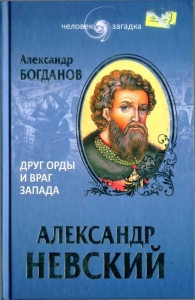
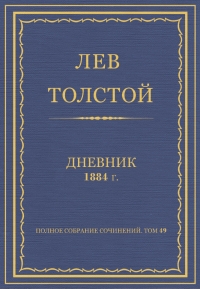

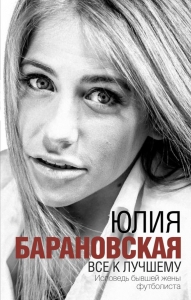



Комментарии к книге «По знакомым дорогам», Михаил Гордеевич Салай
Всего 0 комментариев