Виктор Наумов ЦАРЕВНА СОФЬЯ
МОСКВА МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 2015
знак информационной продукции 16+
© Наумов В. П., 2015
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2015
Посвящаю моей маме Людмиле Ивановне Наумовой
Предисловие СВИДЕТЕЛИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА
— Что ты знаешь о царевне Софье? — спросил я приятеля, обремененного университетским историческим образованием и ученой степенью.
— Тоже, что и все. Она была очень умная, хитрая, прекрасно образованная. Осторожный, тонкий и беспринципный политик в духе Макиавелли. Пришла к власти в результате кровавого стрелецкого восстания, которое сама организовала с группой помощников. Через кровь переступала легко, заманила в ловушку и казнила Хованского, свалив на него всю вину за стрелецкий бунт. Отличалась жестким, решительным, волевым характером; была в высшей степени властолюбива. Привлекательной внешностью похвастаться не могла: у нее были грузная фигура, некрасивое лицо, жидкие волосы. Она страстно любила князя Голицына — руководителя ее правительства. Заключила Вечный мир с Польшей, который на 300 лет закрепил за Россией Киев и Левобережную Украину. Организовала два неудачных похода на Крым. Заключила позорный договор с Китаем, передав ему освоенное русскими первопроходцами Приамурье. Вступила в борьбу за власть с возмужавшим братом Петром, потерпела поражение и закончила свои дни в монастыре. Примечательно, насколько решавшиеся Софьей внешнеполитические проблемы сохраняют свою актуальность: Украина, Крым и Китай сейчас у всех на слуху.
Что ж, мы видим здесь четкую и разностороннюю оценку личности и деятельности царевны Софьи Алексеевны, вполне подтверждаемую учебниками и справкой из Википедии. Но так ли верны и полны эти представления? Соответствует ли действительности противоречивый и в целом малопривлекательной образ Софьи, созданный публицистами, историками и романистами? Для ответа на этот вопрос необходимо полностью погрузиться в атмосферу российского XVII века, разительно отличавшегося от следующего столетия и почти непонятного в наши дни, собрать по крупицам все немногочисленные сведения исторических источников.
О царевне, опередившей свое время и вознесшейся на вершину власти в патриархальной стране, где публичная деятельность женщины была явлением новым и почти немыслимым, нарушающим традиции и устои русской государственности, официальные документы сообщают совсем коротко. Софья находилась у руля государственного управления, от нее зависело решение всех важнейших дел, но при этом она по большей части оставалась в тени, за спиной юных братьев-соправителей Ивана и Петра, от имени которых издавалась основная масса указов. Лишь иногда имя правительницы фигурирует в государственных актах наряду с именами царей. Ее участие в обсуждении и принятии государственных решений, за редкими исключениями, никак не отражено в делопроизводственных документах.
Таким образом, важнейшее значение приобретают нарративные источники — дневники, мемуары, публицистические произведения, записки и донесения иностранных дипломатов. Иногда эти свидетельства дополняют друг друга, порой вступают в противоречия, которые придется разрешать, чтобы достичь истины. Кто-то из мемуаристов был слабо осведомлен, излишне самонадеян или даже стремился намеренно фальсифицировать факты; кто-то оказался излишне доверчивым и с чужих слов сообщал неточные или ошибочные данные. Имена свидетелей эпохи Софьи будут постоянно упоминаться в нашей книге, поэтому читателю полезно поближе узнать всех этих людей заранее, чтобы встретиться с ними на ее страницах как со старыми знакомыми и узнать их версии событий.
Довольно полную и яркую картину времени царевны Софьи содержит мемуарно-публицистическое произведение Андрея Артамоновича Матвеева. Дипломат и администратор из плеяды сподвижников Петра Великого родился в 1666 году. Его отцом был Артамон Сергеевич Матвеев — выдающийся государственный деятель, руководитель внешней политики России в 1671–1676 годах, личный друг царя Алексея Михайловича. В доме Матвеевых воспитывалась супруга Алексея Михайловича и мать Петра I Наталья Кирилловна Нарышкина. В 1676 году, после воцарения Федора Алексеевича Артамон Матвеев из-за распрей с родственниками нового государя Милославскими был вместе с сыном сослан на Север, в Пустозерский острог. После смерти Федора царица Наталья Кирилловна в мае 1682 года вернула Матвеевых в Москву. Шестнадцатилетний Андрей был назначен комнатным спальником маленького царя Петра Алексеевича, а его отец приготовился занять пост главы правительства. В этот момент сторонники Милославских нанесли новый удар. В ходе спровоцированного ими стрелецкого мятежа 15 мая 1682 года Артамон Сергеевич был убит, а его сын чудом спасся.
После подавления восстания Андрей Матвеев продолжил придворную службу. В 1699–1712 годах он был послом России в Голландии, в 1712–1715 годах — в Австрии. Одновременно он выполнял дипломатические поручения Петра I во Франции (1705–1706) и Англии (1707–1708). По возвращении на родину он занимал посты президента Юстиц-коллегии и московского губернатора. В июне 1727 года Матвеев вышел в отставку. Умер он в Москве 16 сентября 1728-го.{1}
Андреем Артамоновичем написано замечательное сочинение — «Описание возмущения московских стрельцов».{2} Хронологически оно значительно шире стрелецкого бунта 1682 года и охватывает весь период правления Софьи. В конце записок Матвеева сообщаются также сведения о событиях 1698–1699 годов. Автор писал этот труд не ранее 1716 года, когда со времени правления Софьи прошло уже почти три десятилетия. Тем не менее он весьма точен во многих деталях. В описании первого, самого страшного дня стрелецкого бунта ощущается ужас шестнадцатилетнего юноши, на глазах которого озверевшие стрельцы разрубали на куски тело его отца. О последующих событиях юный Андрей, скрывавшийся от мятежников в потайных комнатах царского дворца, мог знать только понаслышке. В оценке личности и деятельности правительницы Софьи Матвеев весьма пристрастен, не жалеет черных красок для ее исторического портрета. Это неудивительно, поскольку он считал царевну виновной в подстрекательстве к стрелецкому бунту и, следовательно, в гибели своего отца. Тем не менее этот источник дает большое количество ценных и зачастую уникальных сведений о времени регентства Софьи.
Другой автор столь же детального описания эпохи Софьи Алексеевны является не только свидетелем, но и участником событий. Выдающийся просветитель, поэт, историк и публицист Симеон Агафонникович (в монашестве Сильвестр) Медведев создал «Созерцание краткое лет 7190, 91 и 92 (то есть 1682, 1683 и 1684. — В. Н.), в них же что содеяся во гражданстве»{3} — замечательный источник сведений о свершениях царевны в первые годы ее правления.
Медведев родился в 1641 году в Курске, службу начал в Курской приказной избе, затем был переведен в Москву, где поступил в приказ Тайных дел. В 1671 году под влиянием своего учителя Симеона Полоцкого он ушел с государственной службы и поселился в одном из монастырей, где выполнял работу письмоводителя и садовника. В конце 1674-го или в начале 1675 года Симеон Агафонникович постригся в монахи под именем Сильвестр, а спустя два года вернулся в Москву и стал основным помощником Симеона Полоцкого в его просветительской деятельности. За десять лет работы справщиком Печатного двора Сильвестр подготовил к печати более 150 изданий — азбук, учебных псалтырей, канонических книг, публицистических произведений. Полоцкий завещал Медведеву свою библиотеку и место придворного ученого. В 1681 году Сильвестр был назначен настоятелем Заиконоспасского монастыря, в котором открыл училище. С установлением власти Софьи Алексеевны в 1682 году он стал ее советником по духовным делам. В качестве придворного поэта он посвятил царевне ряд панегириков, прославляя ее мудрость и добрые дела на благо отечества.
Насколько Андрей Матвеев критичен по отношению к Софье, настолько же Сильвестр Медведев добр к ней. Последний пользовался покровительством царевны и состоял в дружеских отношениях с ее фаворитом Федором Шакловитым. Вместе они задумали в 1687 году создать публицистическое сочинение о первых трех годах правления Софьи. Для работы над «Созерцанием кратким» Шакловитый предоставил Медведеву большое количество официальных документов из архивов Разрядного и Стрелецкого приказов.{4} Автор частично включил их в текст повествования, в других случаях использовал информацию в препарированном виде. В «Созерцании» содержится много личных впечатлений, наблюдений, описаний событий, свидетелем которых являлся Сильвестр. Вместе с тем «Созерцание» несет в себе черты исторического исследования с глубоким анализом событий и отсылками к документам.
После падения Софьи Медведев был арестован в качестве одного из главных сообщников «заговорщика» Шакловитого. Ненависть новой власти не оставляла обоим шансов на спасение после двух лет тюремного заключения, пыток и издевательств придворный поэт был обезглавлен в феврале 1691 года.
Среднюю позицию между противоположными по направленности произведениями Матвеева и Медведева занимает сочинение князя Бориса Ивановича Куракина «Гистория о царе Петре Алексеевиче и ближних к нему людях».{5} Автор — действительный тайный советник, дипломат, генерал-майор, подполковник лейб-гвардии Семеновского полка и кавалер ордена Святого Андрея Первозванного — был одним из видных сподвижников Петра Великого. Куракин родился в 1676 году, а в апреле 1682-го был определен ко двору юного царя Петра, под влиянием которого сформировался как личность.
Свою «Гисторию» Борис Иванович создавал в самом конце жизни, в 1723–1727 годах, находясь в качестве русского посланника в Гааге и Париже. Оценка правления Софьи и первых лет царствования Петра дана им с высоты богатого жизненного и политического опыта человека европейской культуры.{6} Сторонник великого императора не кривит душой в интересах петровской идеологии — отдает должное мудрости и полезным свершениям царевны Софьи и оценивает установившееся после нее правление «партии» Нарышкиных как «весьма непорядочное и недовольное народу», прямолинейно описывает разврат, «дебошство», пьяные вакханалии молодого Петра. Князь абсолютно объективен и независим в суждениях, что значительно повышает достоверность его свидетельств. Однако его произведение имеет весьма существенный недостаток по сравнению с сочинениями Матвеева и Медведева: в период регентства Софьи ему было от шести до тринадцати лет. Ребенок в большинстве случаев не мог быть очевидцем событий, поэтому «Гистория» написана в основном с чужих слов, с привлечением официальных документов и записок других лиц. Сам Борис Иванович честен перед читателями, стремится показывать события в истинном свете, ничего не утаивая, однако используемая им информация иногда оказывается недостоверной и способствует закреплению исторических мифов. В качестве примера можно назвать фантастическое описание особенностей личной жизни царевны Софьи, на чем мы в свое время остановимся. Кроме того, Куракин нередко допускает хронологическую путаницу и порой смешивает разные события.
Ценнейшим источником по истории России второй половины XVII века является «Дневник» шотландца Патрика Гордона (1635–1699) — одного из лучших военных специалистов своего времени. На русскую службу он поступил в 1661 году, в 1678-м участвовал в обороне Чигирина от турок. Первый Крымский поход (1687) принес ему чин полного генерала. Во втором Крымском походе (1689) Петр Иванович, как называли его в России, был главным военным советником главнокомандующего — князя Василия Васильевича Голицына.
Пользуясь доверием и расположением правительницы Софьи и Голицына, Гордон в то же время поддерживал хорошие отношения с окружением молодого царя Петра. В момент дворцового переворота 1689 года он, как и прочие офицеры из Немецкой слободы, занял выжидательную позицию. Убедившись, наконец, что преимущество оказалось на стороне Петра, Гордон предложил ему свои услуги. Юный монарх принял его с восторгом. С этого времени пожилой генерал стал учителем государя в военном деле. Ни одно сколько-нибудь значительное военное мероприятие не обходилось без его участия. Особенно заметную роль Гордон сыграл во время второго Азовского похода, который завершился победой — взятием турецкой крепости Азов в устье Дона. В 1698 году генерал командовал правительственными войсками, рассеявшими полки взбунтовавшихся стрельцов под стенами Новоиерусалимского монастыря. Смерть Петра Ивановича 19 ноября 1699 года очень огорчила его венценосного тезку, лишившегося главного советника в деле преобразования российской армии на европейский лад.
Гордон начал вести записи в 1655 году, а последнюю запись сделал 31 декабря 1698-го. Его дневник — настоящее сокровище для россиян, интересующихся историей родной страны. К сожалению, первые годы регентства царевны Софьи (1682–1683) в этом источнике не отражены. Зато в записях за 1684–1689 годы имеются уникальные сведения о взаимоотношениях государственных деятелей и борьбе придворных «партий», о правительственных внутри- и внешнеполитических мероприятиях, о военных походах на Крым, о быте и нравах москвитян и жителей Немецкой слободы.{7} В изложении событий и оценках людей Гордон абсолютно честен и объективен. Превосходный аналитический ум этого свидетеля не допускает превратных толкований происходящего. Если генерал приводит в дневнике ходившие по Москве слухи, то предварительно подумывает их и отбирает только достоверную и существенную информацию. Недостатком данного исторического источника является только излишняя осторожность автора, проявляющаяся порой в недосказанности. Нередки случаи, когда Гордон сообщает, с кем он встречался и вел разговоры, но при этом умалчивает о их содержании.
Другой известный сподвижник Петра I Франц Лефорт (1655/56–1699) написал лишь короткие мемуары о первом Крымском походе.{8} Подполковник русской армии испытал все тяготы военного марша в безводной степи, охваченной пожарами. Можно лишь сожалеть, что честный и наблюдательный автор не оставил других свидетельств о времени царевны Софьи.
Весьма информативным источником являются «Записки о Московии» французского авантюриста Фуа де ла Невилля,{9} находившегося в России под видом польского чрезвычайного поверенного с конца июля до начала декабря 1689 года. Он был направлен в Москву французским послом в Варшаве маркизом Франсуа-Гастоном де Бетюном с целью разведать содержание переговоров русского двора со Швецией и Бранденбургом. О результатах своей шпионской миссии Невилль умалчивает, зато приводит множество интересных сведений о политической борьбе в России в 1682–1689 годах, стрелецком восстании, Крымских походах, посольстве Николая Спафария в Китай, нравах и религии московитов. Уникальны сообщения французского автора о замышлявшихся князем В. В. Голицыным государственных реформах. Вместе с тем не все сообщаемые Невиллем сведения достоверны — всё зависело от источников информации. Один из этих источников ясен — это уже названный нами Андрей Матвеев, с которым француз сумел наладить дружеские отношения. Невилль со слов приятеля воспроизвел негативную оценку Софьи: та будто бы была готова на любые преступления ради достижения и удержания власти. Вероятно, по рассказам того же информатора, обобщившего нелепые московские слухи, французский дипломат в красках воспроизвел недостоверную картину личной жизни царевны. Несомненно, с подачи Матвеева Невилль изложил версию событий 1689 года, представляемую петровской «партией»: о «заговоре» сторонников Софьи с целью убийства царя Петра и его окружения.
«Записки о Московии» впервые были изданы в Париже в 1698 году. Вне всякого сомнения, их использовали при работе над своими сочинениями Матвеев и Куракин. Так происходило тиражирование мифов о царевне Софье.
Большое количество ценных сведений о дипломатической и политической борьбе при русском дворе в период правления Софьи Алексеевны содержат донесения в Копенгаген датского посла в России Гильдебранда фон Горна. Чиновник Немецкой канцелярии датского короля Кристиана V фон Горн впервые посетил Москву в 1676–1678 годах в качестве секретаря посольства. В 1681 году он вторично прибыл в Россию — уже с самостоятельной миссией. К своей работе он отнесся с максимальным старанием и даже выучил русский язык. Весной 1682-го Горн был отправлен в Россию в качестве великого и полномочного посла Дании. Узнав о восстании в Москве, дипломат счел за благо задержаться в Гамбурге и прибыл к русскому двору лишь осенью, после окончательного подавления бунта. В ходе миссии основная задача Горна — привлечение России к датско-франко-бранденбургскому союзу против Швеции — не была выполнена, зато удалось заключить русско-датский договор с подтверждением дружественных отношений.
В донесениях Горн привел уникальные сведения о восстании 1682 года и последующей борьбе сторонников Софьи и Петра за власть и влияние. Датчанин имел возможность лично общаться и с теми и с другими, поэтому запечатлел взгляды, намерения и действия обеих сторон. Умаляет ценность донесений Горна как исторического источника излишняя самонадеянность автора, порой рассуждавшего о таких предметах, о которых он не мог получить полной и достоверной информации.
К сожалению, донесения Горна в большинстве своем остаются непереведенными и неопубликованными. Издано лишь два документа — от 23 октября и 28 ноября 1682 года.{10} Большое количество фрагментов донесений Горна содержится в книге американского историка Пола Бушковича, для которого они стали одним из основных источников исследования.{11}
Постараемся беспристрастно проанализировать свидетельства авторов мемуаров, дневников и донесений, чтобы не попасть под влияние врагов Софьи или, наоборот, не отнестись с излишним доверием к похвалам ее доброжелателей, из крупиц правды воссоздать яркий и трагический образ царевны и нарисовать картину жизни и деятельности этой незаурядной женщины. И тогда может оказаться, что расхожие представления о Софье во многом являются созданной идеологами Петровской эпохи и закрепившейся в литературе последующих столетий легендой о злой сестре великого преобразователя.
Глава первая МОЛОДЫЕ ГОДЫ
Дщерь государева
Софья стала шестым ребенком в браке царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны, урожденной Милославской. Для лучшего понимания характера нашей героини следует поближе познакомиться с ее родителями и дедом по матери, от которых она, по-видимому, унаследовала личные качества.
Австрийский дипломат Августин Мейерберг дал подробное описание внешности и характера царя: «Алексей статный муж, среднего роста, с кроткой наружностью, бел телом, с румянцем на щеках, волосы у него белокурые и красивая борода. Он одарен крепостью телесных сил, которой, впрочем, повредит заметная во всех его членах тучность, если с годами она всё будет увеличиваться… Дух его наделен такими блестящими природными дарованиями, что нельзя не пожалеть, что свободные науки не присоединились еще украсить изваяние, грубо вылепленное природой вчерне. Кроткий и милостивый, он лучше хочет, чтобы не делали преступлений, нежели имеет дух за них наказывать. Он и миролюбив, когда слушается своей природной наклонности; строгий исполнитель уставов своей ошибочной веры (написано католиком. — В. Н.) и всей душою предан благочестию. Часто с самою искреннею набожностию бывает в церквах за священными службами; нередко и ночью, по примеру Давида, вставши с постели и простершись на полу, продолжает до самого рассвета свои молитвы к Богу о помиловании или о заступлении, либо в похвалу ему. И что особенно странно, при его величайшей власти над народом, приученным его господами к полному рабству, он никогда не покушался ни на чье состояние, ни на жизнь, ни на честь. Потому что хоть он иногда и предается гневу, как и все замечательные люди, одаренные живостью чувства, однако ж никогда не позволяет себе увлекаться дальше пинков и тузов».{12}
Мейербергу вторит англичанин Сэмюэл Коллинс, придворный врач Алексея Михайловича: «Наружность императора красива; он… здоров сложением; волосы его светло-русые, он не бреет бороды, высок ростом и толст; его осанка величественна, он жесток во гневе, но обыкновенно добр, благодетелен, целомудрен, очень привязан к сестрам и детям, одарен обширной памятью, точен в исполнении церковных обрядов, большой покровитель веры; и если бы не окружало его густое облако доносчиков и бояр, которые направляют ко злу его добрые намерения, то его, без сомнения, можно было бы поставить наряду с добрейшими и мудрейшими государями».{13}
Уроженец Курляндии Якоб Рейтенфельс, живший в Московии в 1671–1673 годах, оставил наиболее подробную и доброжелательную характеристику внешности, образа жизни, привычек и характера русского царя:
«Росту Алексей… среднего, с несколько полным телом и лицом, бел и румян, цвет волос у него средний между черным и рыжим, глаза голубые, походка важная, и выражение лица таково, что в нем видна строгость и милость, а вследствие чего он обыкновенно внушает всем надежду, а страха — никому и нисколько.
Нрава же он самого выдержанного и, поистине, приличествующего столь великому государю: всегда серьезен, великодушен, милостив, целомудрен, набожен и весьма сведущ в искусстве управления, а также в совершенстве знает выгоды и планы чужеземцев. При этом он немало времени посвящает чтению книг (насколько это возможно при отсутствии литературы) и изучению наук, касающихся природы и политики. Большую часть дня он уделяет совещанию о государственных делах, немалую также размышлению о вопросах веры и богослужения, часто вставая даже по ночам для воздавания Богу хвалы по псалтири царя Давида. Довольно редко выезжает он на охоту в поместье, т. е. загородные дворцы. Посты он соблюдает строже, чем кто-либо, а пост сорокадневный, перед Пасхой, он строжайше соблюдает, добровольно воздерживаясь от употребления даже вина и рыбы. От всяких напитков, а в особенности водки, он так воздержан, что не допускает беседовать с собою того, кто выпил этой водки. В военном деле он сведущ и неустрашим, однако предпочитает милостиво пользоваться победами, нежели учить врагов миру жестокими мерами… Он занимается и благотворительностью и щедро оделяет нищих, коим не только почти ежедневно, собрав их толпу около себя, подает обильную милостыню, а накануне Рождества Христова посещает заключенных в темницах и раздает им деньги… Кроме того, Алексей так предан набожному образу жизни, что с ним постоянно духовник, без разрешения которого он не посещает даже никаких игр или зрелищ». В конце этого развернутого отзыва Рейтенфельс заключает: «Это государь доблестнейший и справедливейший, равного имеют немногие христианские народы».{14}
Шестнадцатого января 1648 года состоялась свадьба будущих родителей царевны Софьи — девятнадцатилетнего царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Милославской, пятью годами старше мужа. О матери царевны Софьи сохранилось немного известий. Коллинс пишет о Марии Ильиничне: «Теперешняя царица часто хаживала в лес по грибы (намек на ее бедность до замужества. — В. Н.). Она была недурна собою и красилась драгоценными алмазами скромности, трудолюбия и благочестия».{15} Другие иностранцы-современники, желая подчеркнуть бедность семьи Милославских, шли еще дальше, утверждая, что Мария в юности не только собирала грибы, но и торговала ими, а ее отец продавал вино заезжим иностранным купцам.{16}
Мейерберг дал нелестный отзыв об отце царицы, боярине Илье Даниловиче Милославском: «Выбравшись из грязи самого бедного люда и самого низшего дворянства и, по неожиданной прихоти играющего счастия, вознесенный на самую высокую степень почестей в Московии, он получил у царя весьма большую силу в качестве его тестя. Впрочем, не очень-то величается ею… Алексей и, еще важнее, сама дочь его, царица, в разговоре с ним зовут его всегда Ильей, а не тестем, не батюшкой. Да он и не пользуется какою-нибудь большою милостью у зятя и не один раз отведал его тряски за волосы на голове и бороде и кулачных тузов».
Далее Мейерберг описывает случай, весьма ярко характеризующий как отца, так и деда Софьи. Во время войны с Польшей русские войска потерпели поражение под Полоцком, «разнесся слух о приходе туда польского короля с многочисленным войском». 10 ноября 1661 года Алексей Михайлович созвал Боярскую думу и «совещался с ней, какою дорогою и с какими силами идти навстречу такому превосходному неприятелю». Сидевший недалеко от царя Милославский вдруг сказал:
— Государь, поставь меня воеводой твоих полков, и я пленю и приведу к тебе польского короля.
От подобного бахвальства Алексей Михайлович пришел в ярость и крикнул тестю:
— С чего ты, блудницын сын, приписываешь себе такую опытность в военном деле? Когда это ты набил руку на воинском поприще? Спрашиваю тебя: пересчитай свои славные воинские подвиги, тогда и мы можем надеяться, что исполнишь свои обещания. Пошел к праху, старик, со своими бреднями!
Государь вскочил, влепил Милославскому пощечину и начал трясти его за бороду:
— Как смеешь ты, негодяй, потешаться надо мной такими непристойными шутками? Сейчас же вон отсюда!
С этими словами Алексей Михайлович пинками выгнал Милославского из зала заседаний Думы и сам запер за ним двери. Австрийский дипломат закончил свой рассказ язвительным замечанием: «Илья съедает и переваривает в своем страусовом желудке эти, хоть и очень жесткие, вещи, только бы сохранять влияние…»{17}
Любопытно, что не менее осведомленный Коллинс дал Илье Даниловичу совершенно иную характеристику: «Он красивый мужчина, крепок сложением, как Геркулес, смел, имеет большие способности и такую огромную память, что помнил имена всех должностных чиновников 80-тысячного войска, знал, где они живут и какую должность каждый из них занимается. Царь больше его боялся, нежели любил, но царица всегда держала его сторону. Его сделали государственным казначеем и дали ему еще 6 или 7 должностей, которые он все исполнял очень деятельно, только не бескорыстно».{18} Свидетельство иностранного современника о больших способностях деда Софьи представляется особенно важным, поскольку его качества могли быть унаследованы внучкой.
Алексей Михайлович и Мария Ильинична произвели на свет многочисленное потомство. Первенцем царской четы стал Дмитрий, родившийся 22 октября 1648 года и проживший менее года. Затем появились на свет дочери Евдокия (18 февраля 1650-го), Марфа (26 августа 1652-го), Анна (23 января 1655-го) и сын Алексей (5 февраля 1654-го). Рождение шестого ребенка в царской семье отмечено лишь краткой записью в Дворцовых разрядах — придворной хронике того времени. Вскоре после наступления 7166 года от Сотворения мира, отмечавшегося в допетровской России 1 сентября, было зафиксировано: «Сентября в 17 день (1657 года. — В. Н.) родися Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичю, всеа Великия и Малыя и Белыя России Самодержцу, дщерь Государыня Царевна и Великая Княжна Софья Алексеевна».{19} Младше ее были Екатерина (27 ноября 1658 года), Мария (18 января 1660 года), Федор (30 мая 1661 года), Феодосия (29 марта 1662 года), Симеон (3 апреля 1665 года), Иван (27 августа 1666 года) и Евдокия (26 февраля 1669 года), прожившая всего два дня.
Рождение детей царской семьи сопровождалось несложными обрядами, отразившимися в сочинении бывшего подьячего Посольского приказа Григория Котошихина. Царица рожала в мыльне при помощи повивальной бабки и «иных немногих жен». После появления ребенка на свет царь первым делом посылал духовника, «чтоб дал родильнице и младенцу и бабке и иным при том будучим женам молитву и нарек тому новорожденному младенцу имя». Только после этого «в мылню входит царь смотрити новорожденнаго, а не дав молитвы, в мылню не входят и не выходят никто». Затем царь извещал патриарха о рождении ребенка. В одном из соборов Кремля начинался благодарственный молебен, к которому присоединялся вышедший от роженицы государь. Первосвятитель сообщал о рождении нового члена царской семьи «по всем церквам и в монастыри», где также начинали «молебствовать» и раздавать милостыню «нищим и убогим людем». Большая милостыня рассылалась в богадельни и тюрьмы, часть заключенных освобождалась по случаю радостного события. В города к воеводам и церковным властям отправлялись гонцы «с царскими грамотами, чтоб они Бога молили за государские здоровья и за новорожденнаго».{20}
Сразу же после появления на свет ребенка с него снималась мерка, в соответствии с которой изготавливалась «мерная икона» с изображением ангела-хранителя новорожденного. Принадлежавшая Софье Алексеевне икона святой великомученицы Софии написана на доске длиной 45 сантиметров — таков был рост царевны при рождении. С этим бесценным для нее предметом Софья никогда не расставалась. При рождении царского отпрыска обычно устраивался торжественный обед. Но «родильный стол» по случаю появления на свет Софьи был отложен на две недели из-за отсутствия в Москве царя Алексея Михайловича, который 25 сентября отправился на поклонение в Троице-Сергиев монастырь. Обед состоялся 1 октября в Золотой царицыной палате Кремля. На нем присутствовали патриарх Никон, грузинский, касимовский и сибирский царевичи, бояре, окольничие и другие придворные.
Еще один торжественный обед в той же палате — «крестильный стол» — был дан 4 октября в честь крещения новорожденной. Обряд исполнял патриарх Никон в Успенском соборе Московского Кремля. Имена крестных родителей царевны в источниках не зафиксированы, но, по всей видимости, крестной матерью была ее тетка, старшая сестра царя Ирина Михайловна.
Семнадцатого сентября 1658 года были отпразднованы первые именины царевны Софьи. Обычно эти торжественные даты в царской семье сопровождались всенощными и обеднями в одном из кремлевских соборов. Котошихин сообщает, что в такие дни в столице и других городах «люди работы никакие не работают, и в рядех не сидят (то есть не занимаются торговлей. — В. Н.), и свадеб не играют, и мертвым погребения не бывает». После литургии царь Алексей Михайлович раздавал архиереям, боярам, думным и ближним людям, стольникам, дьякам, полковникам и гостям именинные пироги или калачи. Приходским священникам и московским стрельцам посылались «корм и питье», а в тюрьмы и богадельни — милостыня. Затем в Золотой царицыной палате накрывался праздничный стол. Среди гостей на первых именинах Софьи были ближний боярин, известный военачальник князь Алексей Никитич Трубецкой, дед царевны боярин Илья Данилович Милославский, князь Дмитрий Алексеевич Долгорукий.{21}
Вероятно, маленькой царевне сразу же были отведены покои из нескольких комнат, в которых обитали также ее мамки, няньки, постельницы и прислужницы.
В течение первого года жизни Софья находилась на попечении кормилицы Марфы Кузьминой, которая позднее стала ее горничной. В 1659 году девочка перешла на попечение «мамы», то есть няньки. Эту должность при Софье исполняла княгиня Анна Никифоровна Лобанова-Ростовская, получавшая жалованье в 50 рублей в год. Среди других придворных царевны были казначея Прасковья Скрипицына, а также горничные, швеи и прачки. Вся прислуга царевен была женская.{22}
Маленькая царевна не испытывала недостатка в подругах: возле нее всегда находились сестры. Евдокия была старше на семь лет, Марфа — на пять. Еще одну сестру, Анну, девочка помнить не могла: та умерла, когда Софье было всего полтора года. Наиболее близки к ней по возрасту были Екатерина и Мария; первая из них была моложе Софьи на год и два месяца, а вторая — на два с половиной года. О занятиях царевен мало что известно, но можно не сомневаться, что они, по обыкновению всех девочек, бегали друг за другом по комнатам, лестницам и переходам Теремного дворца, играли в куклы, пятнашки и прятки, сплетничали, секретничали, ссорились и мирились. Какая-нибудь из сестер наверняка ябедничала матери и теткам на Софью, которая уже в детстве должна была отличаться сильным, жестким характером и гордым нравом, не соответствующим образцам христианского смирения, подобающего православной отроковице. Вне всякого сомнения, она превосходила сестер интеллектом и энергией, отличалась от них жаждой знаний и потребностью в духовном развитии.
Известно, что Софья не была красавицей, поэтому у нее уже в подростковом возрасте могли выработаться психологические комплексы и связанное с ними стремление лидерствовать, во что бы то ни стало добиваться поставленной цели. Впоследствии эти черты характера были присущи ей в полной мере. В мемуарах и литературе неоднократно отмечалось сходство характеров Софьи и Петра. Если оно действительно имелось, то у царевны уже с раннего возраста должна была проявляться харизматичность, присущая ее младшему брату.
Жизнь в царских теремах XVII века по скромности и уединению мало отличалась от монастырских порядков. Дочери царя Алексея Михайловича проводили дни в молитвах и посте, занятиях рукоделием и невинных забавах с сенными девушками. Послеобеденное время и долгие осенние и зимние вечера отдавались разного рода комнатным «утехам». Для этой цели во дворце существовала даже особая Потешная палата с целым штатом шутов, «дураков», карликов, акробатов, сказочников. Царевны слушали сказки мамок и приживалок, забавлялись кривлянием карлиц, шутих и «дур». Вряд ли следует полагать, что не по годам серьезная Софья отвергала подобное времяпрепровождение. В жизни царского терема было слишком мало впечатлений и слишком много скуки и однообразия, чтобы позволить себе пренебрегать незатейливыми развлечениями. К тому же грубый юмор и нелепые проделки шутов являлись неотъемлемой частью развлекательной культуры русского двора вплоть до середины XVIII века. Даже гениальный Петр I устраивал забавы с карликами и до последних лет жизни любил отдыхать в окружении «дураков» с их пошлыми выходками. Вряд ли можно ожидать большего благоразумия и от юной Софьи.
На Рождество устраивались святочные игры с гаданиями, переодеваниями, пением и плясками, на Масленицу во дворе возводились «скатные горы», с которых съезжали царевны с «верховыми»[1] боярышнями. К Святой неделе для царицы и царевен в комнатах вешали дощатые качели на веревках, обшитых бархатом или атласом, с «седалкою», также обтянутой бархатом. На Троицу водили хороводы. Для таких игр при хоромах царицы и царевен существовали обширные сени. В числе сенных девиц, согласно придворному штату, состояли «игрицы», которые представляли членам царской семьи народные забавы. «Домрачеи» — слепые музыканты и певцы — под звуки домры пели былины и народные песни.{23} В источниках есть несколько упоминаний о том, что на женской половине дворца играли в карты, но это развлечение, по-видимому, не было широко распространено в России того времени. Известно также, что популярной игрой являлись шахматы, которые очень любил царь Алексей Михайлович. Возможно, в них умела играть и царевна Софья.
Как все представительницы прекрасного пола во все времена, царевны радовались богатым нарядам и украшениям. В сохранившейся описи гардероба шестнадцатилетней Софьи Алексеевны значатся шапки, шубы и телогреи. Одежды были изготовлены из атласа и тафты, вышиты золотом и серебром; в золотые пуговицы вставлены маленькие драгоценные камни «яхонтики».{24}
Якоб Рейтенфельс отмечал, что царские дети воспитывались «заботливо и тщательно, но несколько своеобразно»: «…их не пускают ни на какие торжественные и многолюдные собрания, живут они во внутренних помещениях дворца, куда никто не смеет проникнуть, кроме лиц, на попечении коих они находятся. Способ воспитания у них почти тот же, что у всех азиатских народов. Наружу они выходят не иначе, как после того, как удалят всех, могущих попасть им навстречу, закрытые со всех сторон распущенными зонтами». Котошихин также сообщает, что по пути в церковь придворные служители загораживали царевен со всех сторон «суконными полами», а во время обедни они стояли за плотными занавесями из тафты, и «люди видети их не могут же, кроме церковников». Царица и царевны до такой степени оберегались от посторонних глаз, что даже медицинская помощь оказывалась им заочно. Рейтенфельс оставил курьезное, но правдоподобное свидетельство: «когда им (врачам. — В. Н.) приходится лечить царицу или кого-либо из царских дочерей, то им не дозволяют осматривать больную, но они обязаны на основании показания некоей старухи или приближенной какой-либо служанки определить болезнь и назначить лекарство».{25}
Вся жизнь царевен протекала в Кремле. Внутри его стен существовал особый мир с множеством чудесных вещей, которые, несомненно, пленяли воображение юных дочерей Алексея Михайловича. Вдоль Москвы-реки располагался царский Теремной дворец — огромное и живописное сооружение, состоявшее из нескольких разновеликих строений под разными крышами. В покои дворца вело Золотое крыльцо, оформленное каменными фигурами львов и необычайно красивой позолоченной медной решеткой. Поднявшись по лестнице и пройдя через сени, можно было попасть в домовую царскую церковь Спаса за золотой решеткой. Теремные покои состояли из Трапезной (столовой) и Соборной, или Думной, палат. В центре здания располагалась Престольная палата — кабинет царя Алексея Михайловича. В ее красном углу находилось «царское место», перед которым лежал роскошный ковер, вышитый, по преданию, царевнами Евдокией, Марфой и Софьей. Рядом были царская опочивальня и Крестовая палата (молельня).
Все комнаты были одинаковой величины — на три окна по фасаду. Их размеры соответствовали габаритам русской избы, в плане представлявшей собой квадрат со сторонами около шести метров. Слюдяные оконца в свинцовых переплетах пропускали не очень много света, поэтому в царских покоях было темновато. В каждой комнате была изразцовая печь. В помещениях рядом с сенями и царской опочивальней слуги держали наготове кушанья, приносимые из дворцовой поварни. Из спальни вниз вела винтовая лестница, по которой можно было спуститься в мыльню, то есть банное помещение, пол которого был выложен свинцовыми плитами, чтобы не пропускал воды.
Верхний, пятый этаж дворца занимал Терем — большая палата на 13 окон с открытыми площадками для прогулок. Жилые покои царицы — Золотая Царицына палата — находились на втором этаже. Источники не позволяют установить, где располагались комнаты царских детей. Можно лишь предположить, что младенцам отводились комнаты поближе к матери. Старшие царевичи жили, по-видимому, на третьем этаже, а царевны — на четвертом. По мнению английской исследовательницы Линдси Хьюз, «апартаменты царевен находились в отдельном деревянном здании».{26} Возможно, подобное отселение и практиковалось в отношении дочерей царя, когда они входили в девический возраст. Но отроковицы, как и младенцы, проживали, скорее всего, ближе к матери. Впрочем, возможно, такой порядок изменился после кончины царицы Марии Ильиничны в 1669 году и вторичной женитьбы Алексея Михайловича в 1671-м.
Апартаменты государя, Царицына палата и комнаты царских детей соединялись многочисленными открытыми и закрытыми переходами, лестницами и сенями. В покоях царицы на каменных сводах второго этажа был устроен бассейн размером 10x8 метров, окруженный резной балюстрадой.
Среди прочих зданий Кремля выделялась Грановитая палата — главный тронный и церемониальный зал для особо важных заседаний и торжественных приемов иностранных послов. Над сенями у западной стены палаты было устроено тайное помещение с большим оконным проемом, закрытым «смотрильной решеткой», обитой красной тафтой на хлопчатой бумаге, и задергивавшейся занавеской с кольцами на медной проволоке. Через это потайное окно царица, малолетние царевичи, «старшие» (сестры Алексея Михайловича) и «младшие» (его дочери) царевны смотрели на великолепные церемонии, происходившие в палате.{27}
На территории Кремля находились также двор патриарха, главные соборы Москвы — Успенский и Архангельский, несколько малых церквей и два монастыря: мужской Чудов и Вознесенский девичий. Здесь же располагался единый комплекс помещений, занимаемых центральными государственными учреждениями — приказами. В центре Кремля высился огромный белый столп Ивана Великого. Соборы, колокольни, Грановитая палата и патриарший двор окаймляли главную площадь Кремля — Ивановскую, которая была центром общественной жизни столичного града.
Украшением Кремля были прекрасные сады: верхний с большим прудом, расположенный на высоком берегу Москвы-реки, нижний — на уровне цокольного этажа Теремного дворца и маленькие «верховые» садики при всех жилых палатах. В кремлевских садах росли яблони, вишни, сливы, ореховые деревья, а вдоль дорожек и вокруг пруда — шиповник, цветы и пахучие травы. В жилых комнатах было много клеток с птицами — канарейками, соловьями, перепелами и даже попугаями. Всё это несколько скрашивало однообразную жизнь теремных затворниц.
Падчерица, но не Золушка
На двенадцатом году жизни Софья лишилась матери. 26 февраля 1669 года Мария Ильинична произвела на свет тринадцатого ребенка — дочь Евдокию, которая спустя два дня умерла. А еще через три дня от послеродовой горячки скончалась и царица, не дожив месяца до своего сорокапятилетия. Похороны состоялись 4 марта в соборе Вознесенского девичьего монастыря Московского Кремля. На траурной церемонии присутствовал царь Алексей Михайлович. Об участии в похоронах детей источники не сообщают; вероятно, царевичи и царевны скорбели в своих покоях.
Трагедии в царской семье на этом не закончились. 18 июня умер четырехлетний царевич Симеон, а 17 января следующего года неожиданно скончался шестнадцатилетний царевич Алексей. Алексей Михайлович, потерявший наследника, не мог быть уверен в судьбе престола, поскольку два оставшихся сына — восьмилетний Федор и трехлетний Иван — были физически слабыми и болезненными. Это побудило его к вступлению во второй брак. Государь избрал невестой девятнадцатилетнюю Наталью, дочь незнатного дворянина Кирилла Полуектовича Нарышкина. Девушка воспитывалась в доме ближнего боярина Артамона Сергеевича Матвеева, отличавшегося обширным умом и образованностью, открытого европейским веяниям и женатого на шотландке Марии Гамильтон. Во время посещения дома Матвеева царь и приметил свою избранницу. Алексею Михайловичу в то время шел всего сорок второй год, он был еще достаточно молод, чтобы сразу влюбиться в веселую бойкую красавицу, получившую хорошее воспитание на европейский манер. 22 января 1671 года состоялось венчание.
Не существует никаких достоверных сведений о взаимоотношениях дочерей Алексея Михайловича с мачехой. В исторической литературе господствует точка зрения С. М. Соловьева о неприязни четырнадцатилетней Софьи к Наталье Кирилловне: «Царевнам… особенно той, которая так выдавалась вперед, царевне Софье Алексеевне надобно было преклониться пред молодою царицею, войти в дочерние отношения к молодой женщине, матери только по имени, у которой все права матери без смягчающего эти права материнского чувства… Для раздражения и вражды довольно было одной нравственной помехи, появления лица, которое невольно становилось на дороге к влиянию на отца, к влиянию на всех окружающих, необходимо обращавшихся к новому солнцу… Новая царица со своею родней, своими ближними людьми; Матвеев хозяйничает во дворце. Столкновение интересов страшное и ненависть страшная».{28} Однако, по справедливому замечанию Л. Хьюз, несмотря на привлекательность такой точки зрения и даже на вероятность того, что Софья на самом деле могла ненавидеть новую жену отца, которая была старше ее всего на пять лет, нет ни одного документального подтверждения этого предположения.{29}
Возможно, ситуация в царском семействе была не такой уж напряженной. Наталья Кирилловна была достаточно умна, чтобы не провоцировать ненависть к себе падчериц. Кроме того, у нее не было никаких причин вредить или досаждать им. Положение царицы было прочным: рядом был любящий супруг, состояние здоровья которого не давало поводов для беспокойства. Наиболее влиятельной фигурой при дворе являлся покровитель Натальи Кирилловны Артамон Сергеевич Матвеев. Незыблемость позиций молодой царицы была обеспечена во всех отношениях, особенно после того, как она родила царю сына. К тому же добродушный нрав и легкий характер Натальи Кирилловны исключали возможность каких-либо интриг с ее стороны в отношении падчериц, которые при жизни отца ни в чем не могли ей мешать.
Можно даже утверждать, что после второй женитьбы Алексея Михайловича положение царевен заметно улучшилось. Они должны были почувствовать, что появление во дворце молодой образованной царицы значительно смягчило их прежнее унылое затворничество. Это было, по характеристике С. М. Соловьева, «время, когда проникли во дворец новые обычаи и взгляды, когда двери в терема царевен растворились и заключенницы увидали свет Божий, когда более сильным из них представилась возможность пройти дальше за порог, расправить силы, поглядеть, почитать и послушать прежде невиданное, нечитанное и неслыханное, набраться новых мыслей, познакомиться с новыми чувствами».
Эти веяния при русском дворе были сразу же замечены иностранными наблюдателями. «Нынешняя супруга царя, царица Наталья, — отметил Рейтенфельс, — хотя и не нарушает никогда отцовских обычаев, по-видимому, однако, склонна пойти иным путем, к более свободному образу жизни, так как, будучи сильного характера и живого нрава, она отважно пытается внести повсюду веселие. Это можно было уже предсказать по выражению лица ее, когда мы имели случайно счастье видеть ее еще в девицах два раза в Москве: это — женщина во цвете лет, роста выше среднего, с черными глазами навыкате, лицо у нее кругловатое и приятное, лоб большой и высокий, вся фигура красива, отдельные члены тела крайне соразмерны, голос, наконец, приятно звучащий, и все манеры крайне изящны».
Наталья Кирилловна попыталась даже следовать духу свободы за пределами дворца, однако подобная смелость была решительно пресечена Алексеем Михайловичем. По свидетельству того же иностранного современника, «когда нынешняя царица государыня, великодушная и приветливая, при первом своем выезде немного приоткрыла окно кареты, то не могли достаточно надивиться столь необычному делу. Ей это поставили на вид, и она с сожалением, но благоразумно уступила глубоко укоренившемуся в народе предрассудку».{30}
По отзыву князя Бориса Ивановича Куракина, Наталья Кирилловна была «доброго темпераменту, добродетельного», но «ума легкого». Эти свойства ее натуры должны были стать итогом миролюбивого отношения к детям ее мужа от первого брака. Возможно, царица даже постаралась подружиться со старшими дочерьми Алексея Михайловича, близкими ей по возрасту: Евдокия была старше мачехи на полтора года, а Марфа — ровно на год моложе. Обе царевны отличались тихим нравом и, по-видимому, не были склонны враждовать с молодой царицей. Но Наталья Кирилловна вряд ли была способна найти подход к гордой, независимой и резкой Софье, которая к тому же еще не вышла из подросткового возраста со свойственными ему упрямством и бунтарством. Некрасивая угрюмая царевна, глядя на обаятельную отцовскую супругу, несомненно, испытывала зависть; это тяжелое чувство, даже подавляемое ее недюжинным умом, должно было проявляться хотя бы подспудно — такова уж природа женского пола. В то же время ощущение своего интеллектуального превосходства заставляло юную девушку относиться к мачехе со скрытым презрением — недаром впоследствии, уже став правительницей, Софья говорила, что Наталью Кирилловну и ее братьев «Бог обидел». Царица и царевна во всех отношениях были диаметрально противоположны, между ними не могло возникнуть дружбы или хотя бы симпатии. Однако это вовсе не предполагает непременного наличия взаимной ненависти и вражды. Скорее всего, Наталья и Софья попросту по возможности избегали общения друг с другом. В целом же при жизни Алексея Михайловича в семье, по-видимому, царили мир и согласие.
С появлением в Кремле молодой государыни жизнь двора заметно активизировалась. Гораздо более частыми стали поездки царского семейства на богомолье в подмосковные монастыри и выезды на летний отдых в дворцовые села. К северу от Москвы по дороге в Троице-Сергиев монастырь государь с женой и детьми останавливался в Алексеевской и Воздвиженской обителях; на юго-западном направлении, по пути в звенигородский Саввино-Сторожевский монастырь, остановка делалась в селе Павловском. Любимыми резиденциями Алексея Михайловича являлись Преображенское и Измайлово, расположенные к северо-востоку от столицы, а также Воробьево и Коломенское — к югу.
Государь был большим любителем природы, деревенской жизни и соколиной охоты, поэтому в летние месяцы старался по возможности выезжать с семьей из Москвы. В год его женитьбы на Наталье Кирилловне в Коломенском на высоком берегу Москвы-реки был построен великолепный деревянный дворец-городок с двумя сотнями помещений, в том числе парадными покоями, расположенными анфиладой. Для всех членов царской семьи были построены отдельные терема, каждый под своей кровлей разнообразной формы: шлемовидной, бочкообразной, шатровой или луковичной. Терема соединялись в живописный асимметричный ансамбль лестницами, галереями, сенями и переходами. В летние месяцы царская семья проводила здесь значительную часть времени. К сожалению, нет никаких сведений о занятиях детей Алексея Михайловича на природе. Можно лишь предположить, что серьезная Софья больше любила чтение, чем бесцельные прогулки на свежем воздухе. Достаточно часто семья бывала и в Измайлове, где по приказу царя были разбиты огромные сады и огороды с лекарственными и душистыми травами. В великолепных измайловских прудах разводилась рыба. Особый интерес представлял находившийся в Измайлове зверинец, где можно было увидеть лосей, оленей, кабанов и бурых медведей. Более редкие животные — рыси, леопарды и даже белый медведь — стали его обитателями уже после кончины Алексея Михайловича, при его наследнике Федоре. По свидетельству нидерландского посла в России Кунраада ван Кленка, в Измайлове имелась «оранжерея с цветником и парком, величиною моргенов в двадцать (около половины гектара. — В. Н.); царь садит здесь и виноград, из которого потом, для курьеза, велит готовить вино».{31}
Тридцатого мая 1672 года царица Наталья произвела на свет первенца — Петра Алексеевича, которому впоследствии было суждено стать злым гением Софьи. В отличие от единокровных братьев мальчик родился совершенно здоровым. В то время вряд ли можно было предполагать, что он непременно займет российский престол — перед ним по старшинству стояли Федор и Иван, каждый из которых мог произвести на свет наследников. Поэтому нет никаких оснований считать, что рождение Петра стало поводом для беспокойства Софьи и ее сестер. Передача престола по линии отпрысков царицы Марин казалась тогда вполне обеспеченной.
Через пять дней после прибавления в царском семействе состоялось еще одно важное событие — рождение российского театра: 4 июня Алексей Михайлович дал распоряжение о подготовке первого в России спектакля. Несомненно, этим он хотел доставить удовольствие прежде всего жене, которая в период своей жизни в семье Матвеевых увлекалась домашним театром. Пьеса под названием «Артаксерксово действо» была поставлена в Преображенском 17 октября 1672 года. В качестве режиссера выступил лютеранский пастор Немецкой слободы Иоганн Готфрид Грегори, а актерами стали юноши из его прихода. Спектакль растянулся на десять часов, в течение которых государь не вставал с места. Наталья Кирилловна с пасынками и падчерицами смотрели представление «сквозь щели особого, досками отгороженного помещения». Несомненно, это развлечение должно было произвести неизгладимое впечатление на юную Софью. Рейтенфельс отмечает, что посредственное, на его искушенный взгляд, зрелище русским «казалось чем-то необыкновенно художественным, так как все — и новые невиданные одежды, незнакомый вид сцены, самое, наконец, слово „иноземное“, и стройные переливы музыки — без труда возбуждало удивление».
Впоследствии театральные представления регулярно устраивались вплоть до кончины Алексея Михайловича. В общей сложности за три с половиной года существования первого российского театра было поставлено девять пьес и один балет. Некоторые спектакли давались по несколько раз. Большинство сюжетов пьес было создано на библейские темы, что, впрочем, вовсе не предполагало строгости театрального зрелища. Актеры одевались в роскошные костюмы, музыка и танцы на сцене сочетались с комическими интерлюдиями. Неизвестно, на скольких представлениях присутствовала Софья. В дворцовых разрядах имеется лишь одно упоминание о том, что 11 ноября 1674 года царевны снова смотрели комедию о древнем персидском царе Артаксерксе. Театральные представления устраивались иногда и в самом Кремле, в Потешном дворце — бывшем доме деда царевны Софьи боярина И. Д. Милославского, расположенном к северу от царской резиденции.{32}
Якоб Рейтенфельс оставил уникальное свидетельство о развлечениях отпрысков Алексея Михайловича за пределами дворцовых помещений: «…дети ежедневно в определенные часы упражняются в разных играх, либо в езде верхом, конечно, по загороженному двору, либо в стрельбе из лука. Зимою им устраивают деревянные горы и посыпают их снегом; с них они быстро, но плавно скатываются на санях или в лубочных корытцах, палкою направляя их». Верховая езда и стрельба из лука, как правило, являлись упражнениями для мальчиков. Но Рейтенфельс определенно говорит о «детях» во множественном числе, а во время его пребывания в России (1671–1673) в царской семье был только один мальчик, достаточно взрослый и здоровый для подобных занятий, — двенадцатилетний Федор; умственно отсталый и почти слепой семилетний Иван едва мог передвигаться, а Петру в 1673 году исполнился всего год. Данные факты дают основания предполагать, что в описанных Рейтенфельсом занятиях на свежем воздухе участвовали и девочки. Софье в то время было от четырнадцати до шестнадцати лет, и она вполне могла забавляться играми во дворе с братом и сестрами.
Разумеется, жизнь царевичей и царевен не состояла из одних развлечений. С начала 1670-х годов Софья вместе с братом Федором обучалась под руководством Симеона Полоцкого. К сожалению, сведения источников об учебе царевны отрывочны и неполны. Достоверно известно лишь то, что она изучала польский язык и латынь, осваивала стихосложение.{33} Однако думается, что такой талантливый педагог и ученый, как Симеон Полоцкий, не мог ограничиться столь скудной программой. Он обязательно должен был заниматься с Софьей и Федором историей, географией, естествознанием и математикой. Таков был минимальный набор предметов для домашнего обучения детей польской знати, а Полоцкий склонен был руководствоваться именно этими образцами.
Царица Наталья Кирилловна не вмешивалась в процесс воспитания падчерицы — ей хватало своих забот. 25 августа 1673 года государыня родила дочь Наталью. Царская чета была вполне счастлива. Оправившись от родов, царица вместе с мужем, пасынками и падчерицами поехала на богомолье в Троице-Сергиев монастырь. В числе царевен была, конечно, и Софья, хотя в данном случае ее имя не упоминается на страницах придворной хроники.
Зимой того же года на глазах у Софьи старший брат стал жертвой несчастного случая, едва не стоившего ему жизни. Рассказ об этом событии, содержащий вполне правдоподобные детали, дошел до нас в изложении папского нунция в Варшаве Опизо Паллавичини: «…Феодор, будучи по тринадцатому году, однажды сбирался в пригороды прогуливаться со своими тетками и сестрами в санях. Им подведена была ретивая лошадь: Феодор сел на нее, хотя быть возницею у своих теть и сестер. На сани насело их так много, что лошадь не могла тронуться с места, но скакала в дыбы, сшибла с себя седока и сбила его под сани. Тут сани всею своею тяжестью проехали по спине лежавшего на земле Феодора и измяли у него грудь, от чего он и теперь чувствует беспрерывную боль в груди и спине; вероятно, он проживет недолго».{34} Может показаться невероятным, что царевич мог остаться в живых под полозьями тяжелых саней. Но, возможно, от перелома позвоночника или иной смертельной травмы его спас рыхлый и глубокий снег.
В течение нескольких месяцев здоровье старшего царевича несколько поправилось. 1 сентября 1674 года, в день празднования Новолетия (7183 года от Сотворения мира), Федор был объявлен наследником престола. Праздники в царской семье шли чередой весь месяц. 4 сентября отмечались именины царевны Марфы Алексеевны. В этот же день Наталья Кирилловна родила третьего ребенка — дочь Феодору. В четверг 17 сентября Софье Алексеевне исполнилось 17 лет. В день ее рождения, совпадающий с днем тезоименитства, Алексей Михайлович посетил службу в домовой церкви Святой Евдокии, а затем угощал дворян, духовенство и придворных именинными пирогами. Тем временем Софья в своих покоях потчевала боярынь, мамок и других приближенных женщин. В тот же день к ней явился «с столом и с кубки от великого государя» боярин и оружничий Богдан Матвеевич Хитрово. Это был первый официальный визит должностного лица к царевне с поздравлениями от коронованного родителя. Следовательно, в глазах отца Софья выглядела уже вполне взрослой.
В последние годы царствования Алексея Михайловича практически всеми государственными делами заправлял фаворит государя Артамон Сергеевич Матвеев — близкий друг его тестя Кирилла Полуектовича Нарышкина. В феврале 1671 года Матвеев возглавил Посольский приказ, в мае 1672-го был произведен в окольничие, а в октябре 1674 года — в бояре. Другим приближенным царя стал боярин и дворецкий Богдан Матвеевич Хитрово, сосредоточивший в своих руках управление всеми дворцовыми учреждениями. В политику он не вмешивался, так что они с Матвеевым не мешали друг другу. Артамон Сергеевич постарался сделать всё возможное, чтобы обеспечить себе полный контроль над государственным аппаратом. Представители княжеской аристократии Никита Иванович Одоевский, Иван Андреевич Хованский и другие были отстранены от руководства приказами. Во главе этих центральных учреждений в большинстве случаев были поставлены не бояре, а стольники и думные дворяне, зависимые от Матвеева. К концу царствования Алексея Михайловича Артамон Сергеевич контролировал более тридцати приказов. В руках княжеской аристократии остался лишь приказ Казанского дворца, управлявший землями Среднего и Нижнего Поволжья. В 1670 году он перешел от Юрия Алексеевича Долгорукого к Якову Никитичу Одоевскому, а спустя два года — к Михаилу Юрьевичу Долгорукому.
Чтобы освободить руководящие посты в государственном аппарате для своих сторонников, Матвеев удалил от двора родственников первой жены государя. Иван Михайлович Милославский в 1674 году был отправлен воеводой в Астрахань, а его двоюродный брат Иван Богданович годом позже поехал в Казань. Несомненно, семнадцатилетняя Софья со старшими сестрами в теремном мирке возмущалась удалением от двора родственников покойной матери и чрезмерным влиянием «безродного» Матвеева, поднявшегося на вершину власти из стрелецких полковников. Чувства царевен разделяли все представители аристократии. Незадолго до кончины Алексея Михайловича датский резидент в Москве Магнус Гэ отметил, что «все бояре были охвачены неизбывной ненавистью к канцлеру и ко всем его родственникам».{35}
Политическая сила Матвеева зиждилась только на милости к нему царя, поэтому его положение было крайне опасным. Впрочем, государь был еще не стар и, казалось, не имел особых причин жаловаться на здоровье. Однако беда пришла внезапно.
В субботу 22 января 1676 года Алексей Михайлович внезапно почувствовал себя плохо и после недельной болезни скончался в семь часов вечера 29 января в возрасте сорока семи лет. Кунраад ван Кленк скрупулезно воспроизвел собранные им сведения о недомоганиях государя и последних днях его жизни: «Что касается особенностей его болезни, доктора первоначальною причиною называли цингу (обыкновенную у московитов болезнь), к которой несколько лет тому назад присоединилась водянка; между тем, никаким образом не удавалось убедить его величество, человека очень тучного, принять какие-нибудь лекарства. Незадолго перед кончиною он немного простудился, а затем к простуде присоединилась лихорадка, с каждым днем всё усилившаяся, так что доктора наконец отчаялись в благополучном исходе болезни. Последнее — тем более, что вместо лекарств он при сильнейшем жаре всё время пил лишь квас, до того холодный, что в нем плавали кусочки льда, которые он глотал; кроме того, для умерения жара он велел класть на живот толченый лед, а также и в руки брал лед. Вследствие этого, при такой неумеренности, нездоровье его царского величества так усилилось, что потеряна была надежда на сохранение его жизни, и уже седьмого числа (28 января по юлианскому календарю. — В. Н.) вечером были в присутствии патриарха совершены над ним обыкновенные в греческой церкви обряды и церемонии. Приняв последнее напутствие, государь прожил еще сутки, часов до 7 вечера; в этот час он умер, незадолго перед кончиною успев еще передать скипетр, а с ним и все свои царства, владения и земли принцу, своему старшему сыну, и исполнив еще кое-какие дела, относившиеся к благосостоянию государства».{36}
Так к девятнадцати годам царевна Софья стала круглой сиротой. Теперь ей приходилось рассчитывать только на себя. Впрочем, у нее пока не было причин опасаться каких-либо жизненных невзгод: на троне оказался брат Федор, выделявший Софью из сестер и относившийся к ней с особой любовью и уважением. При дворе остался и их общий учитель Симеон Полоцкий, так что заметных изменений в жизни царевны не произошло. В ближайшие четыре года ей предстояло продолжать учебу, не беспокоясь о будущем.
Сестрица царя Федора
В момент кончины Алексея Михайловича наследнику престола Федору Алексеевичу шел всего пятнадцатый год. Царевич был болен, когда ему сообщили о смерти отца. Бояре на руках внесли Федора в большой дворцовый зал и посадили на трон. В похоронах Алексея Михайловича он участвовал, сидя на носилках. Федор, как и его единоутробные братья, унаследовал по отцовской линии «цинготную болезнь»[2], «скорбел ножками» и иногда неделями не мог выйти из своих покоев. Внимательные иностранные дипломаты сразу отметили в донесениях, что правление столь болезненного монарха не может продлиться долго.
Вскоре при московском дворе началась острая политическая борьба, ставшая прологом главного события в жизни Софьи Алексеевны — дворцового переворота 1682 года. Возвращенные в Москву Милославские составили сильную придворную группировку, противостоящую Артамону Матвееву, вдовствующей царице Наталье Кирилловне и ее родственникам Нарышкиным. Основным действующим лицом в придворной борьбе стал двоюродный дядя царя Иван Михайлович Милославский. Значительное влияние сохранил Богдан Матвеевич Хитрово, по-прежнему возглавлявший учреждения дворцового ведомства. Важнейшей фигурой нового царствования стал князь Юрий Алексеевич Долгорукий, назначенный 4 февраля 1676 года начальником Стрелецкого приказа, руководившего стрелецкими полками, составлявшими гарнизоны Москвы и других крупных городов, а также ведавшего политическим сыском. Долгорукий неожиданно для всех выступил в поддержку Матвеева, что отсрочило падение последнего. Исход дела решила позиция царской тетки Ирины Михайловны — ревнительницы московской старины, ненавидевшей матвеевские культурные нововведения западного образца, особенно придворный театр.
Проницательный и хорошо информированный Магнус Гэ выделил два взаимосвязанных, но отдельных конфликта: большинства боярства с Матвеевым и Милославских с Нарышкиными.{37} Начало царствования Федора Алексеевича отмечено временным усилением Боярской думы, вследствие чего произошло значительное увеличение ее численного состава. Первым, 4 мая 1676 года, получил назначение князь Василий Васильевич Голицын, пожалованный в бояре из стольников, минуя чин окольничего, и вскоре стал одним из главных государственных деятелей царствования Федора Алексеевича. 27 июня из окольничих в бояре был произведен Иван Михайлович Милославский — главное действующее лицо в дальнейших событиях придворной политической борьбы. Боярская книга 1676 года зафиксировала в составе Государева двора еще восьмерых представителей фамилии Милославских.{38} На основе этого клана образовалась самая мощная и влиятельная политическая группировка первой половины царствования Федора Алексеевича.
Вскоре произошло неизбежное падение Матвеева: 3 июля 1676 года он лишился поста начальника Посольского приказа и отправился на воеводство в уральский городок Верхотурье, что было равносильно ссылке. Однако Милославские не прекратили попыток окончательно погубить бывшего «канцлера». Вскоре против него было выдвинуто обвинение в колдовстве и «чернокнижии», что по понятиям XVII века считалось страшнейшим преступлением. По указу царя Федора началось тщательное расследование обстоятельств дела. На основании показаний слуг Матвеев был обвинен в изучении «черных книжек» и контактах с нечистой силой. На самом деле он всего лишь изучал медицинскую рукопись с частично зашифрованными фрагментами, однако для обвинения этого оказалось достаточно. 11 июня 1677 года Матвееву, задержанному в Казани до окончания следствия, был оглашен приговор: лишение боярского чина, конфискация имущества и вечная ссылка с семьей в Пустозерск.
Одновременно Милославские начали развернутую кампанию против Нарышкиных. В конце декабря 1676 года иностранные дипломаты зафиксировали в донесениях слухи, что Матвеев с помощью черной магии хотел отравить царя Федора и посадить на престол его четырехлетнего брата Петра, чтобы сосредоточить высшую власть в руках своих друзей и союзников. Отец и старший брат вдовствующей царицы Натальи Кирилловны были немедленно арестованы. В общей сложности к следствию было привлечено около семидесяти человек, в том числе слуги и дворовые люди Нарышкиных. Один из слуг под пытками дал путаные показания, будто бы Иван Кириллович подговаривал какого-то человека застрелить царя Федора Алексеевича. Даже такого нелепого утверждения оказалось достаточно для обвинительного приговора. 9 августа 1677 года юные братья Натальи Кирилловны Иван и Афанасий были сосланы в Ряжск (под Рязанью), где должны были содержаться под караулом. Милославские пытались также изгнать из Москвы саму царицу Наталью и ее отца, но Федор Алексеевич запретил их трогать.
В ходе этих драматических событий 23-летняя Наталья Кирилловна проявила мужество и силу характера, заявив в апреле 1677 года Ивану Милославскому в присутствии царевны Ирины Михайловны:
— Не думаешь ли ты, что можно безнаказанно преследовать вдов и сирот? Не стыдно ли тебе преследовать меня и моих родных? Неужели ты потерял всякое уважение к покойному государю царю Алексею Михайловичу, чьей супругой я была? Разве ты думаешь, что можно безнаказанно позорить Матвеева? Ведь Матвеев еще жив, и не исключено, что он вернется. Тогда он окажется счастливее тебя, а тебя же я заверяю, что ты перед своим концом станешь самым несчастным человеком на свете!
По словам датского посла в России Фридриха фон Табеля, который воспроизвел в донесении гневную тираду царицы Натальи, «Ирина Михайловна совсем не захотела во всё это вмешиваться, так что Милославский совершенно растерялся».{39} Слова Натальи Кирилловны во многом оказались пророческими и предвосхитили события политической борьбы начала 1680-х годов.
Пока же Иван Милославский встал у руля государства. 17 октября 1676 года он сменил Кирилла Полуектовича Нарышкина на посту руководителя важнейших финансовых учреждений — приказов Большой казны и Большого прихода. В марте 1677 года он получил под свое управление Иноземский и Рейтарский приказы, а затем отобрал у преемника Матвеева думного дьяка Лариона Иванова финансово-административные учреждения, прежде присоединенные к Посольскому приказу.
В источниках нет сведений о позиции девятнадцатилетней царевны Софьи в отношении вышеописанных событий. Принято считать, что она как представительница фамилии Милославских люто ненавидела Матвеева и Нарышкиных, включая Наталью Кирилловну. Но так ли это было в действительности? Софья никак не могла разделять взгляды ожесточенных ревнителей московской старины — тетки Ирины Михайловны и двоюродного дяди Ивана Милославского. По духу и воспитанию юная царевна являлась убежденной западницей с полонофильским уклоном. Она любила театр, ей нравились первые робкие проявления польской моды при русском дворе и другие культурные нововведения Матвеева и Натальи Кирилловны. С устранением их от власти ростки европейской культуры на российской почве были безжалостно выполоты, и это не могло не огорчать ученицу Симеона Полоцкого. Кроме того, теперь в роли главы женской половины царской семьи либеральную Наталью сменила суровая ретроградка и постница Ирина Михайловна. Это должно было неминуемо ужесточить порядки терема, лишить дочерей Алексея Михайловича той частицы свободы, которую они приобрели в годы второго брака отца.
Что же касается версии об изначальной ненависти Софьи Алексеевны к Наталье Кирилловне, укоренившейся в сознании историков под влиянием авторитетного мнения С. М. Соловьева, то, как отмечалось выше, для подобных чувств не имелось никаких причин, поскольку падчерице и мачехе до поры ничего было делить. Приход в царскую семью Натальи только улучшил положение Софьи и ее сестер, ощутивших первый ветерок свободы в затхлом теремном заточении. Теперь же прежние строгие порядки возвращались в царскую семью вопреки воле юного царя, и Софья не могла об этом не сожалеть. Кроме того, царевна вряд ли была готова поддерживать во всех делах Ивана Милославского, который, если судить по дальнейшим событиям, по-человечески был ей антипатичен. Однако всё это лишь предположения — об истинных мыслях и чувствах юной Софьи, к сожалению, никто не знает.
В последующие три года наиболее влиятельными фигурами при дворе являлись царевна Ирина Михайловна, Иван Милославский, Богдан Хитрово и князь Юрий Долгорукий, уравновешивающие друг друга на вершине власти. Вдовствующая царица Наталья Кирилловна оставалась в Кремлевском дворце с детьми Петром и Натальей (младшая дочь Феодора умерла 28 ноября 1677 года в трехлетнем возрасте). Ей был выделен маленький, но достаточный штат придворных, так что ни она, ни младшие дети покойного государя ни в чем не нуждались. Царь Федор не любил Наталью Кирилловну, но к братику и сестренке относился с нежностью и теплотой.
В летние месяцы вдовая царица с детьми спешила уехать из столицы в подмосковную резиденцию — Воробьево или Преображенское. Второе село со временем стало основным местом ее пребывания. Здесь на деревенских просторах рос будущий император Петр Великий, на всю жизнь сохранивший любовь к природе и ненависть к замкнутому и церемонному быту Кремля. Преображенскому вскоре суждено будет войти в русскую историю в качестве своеобразного символа борьбы Петра за власть и места рождения русской гвардии.
Важнейшим внешнеполитическим событием царствования Федора Алексеевича стала война (1677–1681), которая началась нападением объединенного войска турок и крымских татар на обороняемую русскими войсками крепость Чигирин на Правобережной Украине. В ходе кампании 1677 года крепость выдержала трехнедельную осаду шестидесятитысячной вражеской армии, а 28 августа войска под командованием боярина князя Григория Григорьевича Ромодановского и малороссийского гетмана Ивана Самойловича разгромили турецко-татарские силы. Однако в июле 1678 года 80 тысяч турок и 30 тысяч крымских татар вновь появились под Чигирином. После нескольких сражений с войсками Ромодановского и Самойловича они предприняли штурм крепости и сумели овладеть частью города. В ночь с 11 на 12 августа русские полки вынуждены были покинуть почти полностью разрушенный Чигирин. За сдачу крепости Ромодановский впоследствии незаслуженно подвергался обвинениям в предательстве, которые в конце концов и привели к его гибели во время майского мятежа 1682 года. Однако в действительности Чигирин был оставлен в соответствии с личным распоряжением царя Федора.{40}
Военные расходы вызвали увеличение налогового бремени. В августе 1677 года государство было вынуждено отменить церковные «тарханы» — освобождение от налогов вотчин духовных землевладельцев. С архиереев и монастырей начали брать «запросные деньги» на жалованье ратным людям. С Троице-Сергиева монастыря взяли десять тысяч рублей, с Валдайского Иверского монастыря — тысячу, с Успенского Тихвинского — 300 рублей и т. д.
Примечательно, что монахи Иверского монастыря при этом попытались прибегнуть к заступничеству царевен. В конце февраля — начале марта 1678 года они обратились с просьбой к игуменье Новодевичьего монастыря, «чтоб она побила челом благоверным царевнам». Та побывала в кремлевской резиденции, где просила царевен похлопотать за иверских монахов, «и благоверные де царевны Евдокия и София Алексеевны реклися брату своему великому государю о тех наших делах заступить во благополучное время, а ныне де не время, потому что готуются к Божественным Тайнам». Историк П. В. Седов, обнаруживший процитированный документ, отметил: «Этот новый факт является первым известием об участии царевны Софьи в политической жизни… Очевидно, монахи… были осведомлены о том, что царевна играет важную роль при дворе и способна повлиять на юного государя».{41}
Вскоре ситуация в Кремлевском дворце начала меняться. В начале 1679 года со смертью царевны Ирины Михайловны женская йоловина царской семьи освободилась от «старорежимной» тирании. Вздохнул с облегчением и царь Федор, которому не нужно было теперь следовать указаниям жесткой и волевой ревнительницы старины. Уже в следующем месяце государь поспешил организовать дворцовую типографию под руководством Симеона Полоцкого. Это был первый серьезный шаг к возвращению и продолжению культурных нововведений Артамона Матвеева. К несчастью, 25 августа 1680 года Симеон Полоцкий скончался; однако типография осталась в надежных руках продолжателя его дел Сильвестра Медведева. Смерть любимого учителя стала большим горем для Софьи. Теперь процесс ее десятилетнего обучения под руководством выдающегося педагога закончился, и дальше ей предстояло пополнять свои знания уже самостоятельно.
В том же году произошли новые изменения в составе правящей верхушки. Весной 1680 года умер Богдан Хитрово, из прежних лидеров остались только Иван Милославский и князь Юрий Долгорукий. Одновременно Федор Алексеевич по собственной инициативе возвысил князя Василия Голицына, ставшего его основным советником по военным и политическим делам.
Летом 1680 года здоровье царя Федора на время улучшилось, что было использовано им для обретения самостоятельности. Первым независимым шагом стала женитьба 18 июля 1680 года на дочери московского дворянина польского происхождения Агафье Семеновне Грушецкой. Против этого брака выступали и Иван Милославский, и все царевны, но государь никого не послушал. С момента царской женитьбы Милославский всё больше терял влияние. У Федора Алексеевича появились новые фавориты из числа незнатных дворян, выдвинувшихся на службе в дворцовом ведомстве. Главным из них стал Иван Максимович Языков, пожалованный в августе 1680 года и окольничие и получивший должность оружничего — руководителя Оружейного приказа. Тогда же возвысились братья Алексей и Михаил Тимофеевичи Лихачевы: первый получил место главного постельничего, а второй возглавил Цареву Мастеровую палату.
Между тем женитьба Федора Алексеевича повлекла за собой серьезные изменения в придворном быту. Сильная и волевая царица Агафья, воспитанная на польский манер, не побоялась бросить открытый вызов косным старомосковским традициям. Датский комиссар Генрих Бутенант в октябре 1680 года отметил в донесении в Копенгаген: «Во многих вещах видны большие изменения: императрица показывается из публике и часто сидит с его царским величеством в карете, в которую он ей помогает подниматься и выходить, чего никогда раньше не видано».{42} Молодая царица совершила переворот в женской придворной моде — стала носить маленькую шапочку по-польски, оставляя волосы частично открытыми. Появление замужней женщины в таком виде по московским понятиям считалось верхом неприличия.{43}
Вне всякого сомнения, Агафья Семеновна произвела настоящую революцию в женской половине царской семьи, главой которой теперь являлась. Именно с этого момента начинается новая жизнь Софьи и ее сестер. Под влиянием царицы они стали заходить в апартаменты государя, не стеснялись расхаживать по мужской половине дворца и даже открыто появляться на улице. Агафье Семеновне суждено было пробыть русской царицей всего год, но произведенная ею придворная «революция» закрепила свободу царевен и способствовала тому, что Софья Алексеевна два года спустя смогла открыто выйти на арену политической борьбы.
Семейное счастье царя Федора оказалось недолгим. 11 июля 1681 года царица родила сына Илью и спустя три дня скончалась от родовой горячки, а еще спустя неделю умер и новорожденный царевич. Федор Алексеевич был настолько убит горем, что даже не смог участвовать в похоронах супруги и сына.
Вероятно, к этому тяжелому времени относится рассказ Невилля о стремлении Софьи как можно больше находиться рядом с Федором, болезнь которого снова усилилась. «Она, — пишет французский дипломат, — выказала очень большую дружбу к этому брату и поразительную нежность, угождая его нраву и громко жалуясь на то, что она так несчастна оттого, что не видит его, тогда как она его так любит, и оттого, что она не может оказать ему все те маленькие услуги, которые можно оказать больному, в здоровье которого заинтересован. Она всё время посылала справиться об обстоятельствах его болезни, и даже потом она не упускала никакого случая, где она могла показать свою предупредительность, и смертельную печаль, которую она испытывала оттого, что она не могла, как ей хотелось бы, принять на себя все маленькие заботы, которые всегда есть для тех, кого любишь. Наконец, ловко устроив всё и подготовив умы к тому, что она хотела сделать, она вышла из своего монастыря (автор путает монастырь и терем. — В. Н.) под предлогом того, чтобы заботиться о нем и делать всё возможное, чтобы помочь ему, что она и делала в действительности, не допуская, чтобы кто-либо кроме нее приближался к нему или давал ему лекарства. Эта способная царевна решила, что чем больше она сделает, тем больше она привлечет дружбу и признательность этого принца и в то же время расположение и уважение каждого. Своей манерой действовать она снискала расположение знати, для которой у нее было много внимания и почестей, и завоевала народ своими ласками, приучая всех без печали смотреть на то, что они никогда не видели».{44}
Возможно, у Софьи уже в то время возникло стремление участвовать в государственных делах, однако никаких достоверных сведений на этот счет в источниках не сохранилось.
Последний год жизни царя Федора прошел в постоянных болезнях с краткосрочными улучшениями самочувствия. На этот период пришлась важнейшая реформа его царствования — отмена местничества. Порочная система занятия должностей в соответствии с происхождением и заслугами рода мешала нормальной работе государственного аппарата и отрицательно сказывалась на боеспособности армии. На основании решений 24 ноября 1681 года и 12 января 1682-го с «враждотворным местничеством» было покончено.
Двадцатилетний Федор Алексеевич, вероятно, еще надеялся победить болезнь. Во время очередного улучшения самочувствия он 15 февраля 1682 года женился на пятнадцатилетней Марфе Матвеевне Апраксиной. Однако дни государя были уже сочтены.
Весной 1682 года в Москве ходили слухи, что умирающий Федор может завещать престол младшему брату Петру в обход старшего, болезненного Ивана. Царица Марфа хлопотала перед мужем о прощении Нарышкиных и Матвеева. Иван и Афанасий Нарышкины уже появились в Москве, и никто больше не пытался их преследовать. Матвеева царь не только освободил из ссылки, но и вернул ему часть конфискованных вотчин, бывшему «канцлеру» предписано было до нового указа жить в Костромском уезде. Группировка Нарышкиных — Матвеева готова была возродиться в преддверии очередного витка борьбы за власть. Внезапная кончина Федора Алексеевича 27 апреля 1682 года открыла полосу упорного противостояния придворных политических «партий», ориентировавшихся на две противоборствующие ветви царской семьи.
Глава вторая ТРУДНАЯ ДОРОГА К ВЛАСТИ
Шестнадцать дней царицы Натальи
Регентство вдовствующей царицы Натальи Кирилловны при девятилетнем сыне Петре Алексеевиче стало самым коротким правлением в русской истории: оно продолжалось всего 16 дней (для сравнения: регентство герцога Курляндского Эрнста Иоганна Бирона при правнучатом племяннике царевны Софьи Алексеевны младенце-императоре Иоанне Антоновиче продлилось 23 дня). Началось оно с дворцового переворота — отстранения старшего царевича Ивана Алексеевича от престолонаследия в пользу младшего брата. Хорошо осведомленный о ситуации в правящих кругах Андрей Матвеев перечисляет сторонников Натальи Кирилловны и ее сына в момент кончины царя Федора. Это был весь цвет русской княжеской аристократии: Одоевские, Черкасские, Долгорукие, Ромодановские, Урусовы, а также братья Иван и Борис Алексеевичи Голицыны, Иван Борисович Репнин, Иван Григорьевич Куракин, Иван Борисович Троекуров, Михаил Иванович Лыков. На стороне Петра был и влиятельный клан Шереметевых. Примечательно, что наиболее деятельные представители петровской «партии» были готовы встретить вооруженное сопротивление сторонников царевича Ивана: кравчий князь Борис Голицын, его брат Иван и дружная четверка молодых князей Долгоруких: братья Яков, Лука, Борис и Григорий 27 апреля явились во дворец, надев под кафтаны панцири.{45}
Наталья Кирилловна, обычно равнодушная к государственным делам, при отстаивании интересов сына проявила несвойственную ей политическую активность. Австрийский дипломат Иоганн Корб считал, что вдовая царица «употребила всё свое искусство, чтобы склонить бояр и вельмож, устранив Ивана, возложить царский венец на главу ее сына, Петра Алексеевича». Корб передает ее слова: «Отрок… больше подает надежд, чем брат его Иван. Благородство души, быстрое понятие, трудолюбие в столь юном возрасте — всё это ясно показывает, что в нем кроется зародыш великих свойств и царских доблестей».{46}
В начале пятого часа пополудни 27 апреля 1682 года три удара большого соборного колокола возвестили жителям Москвы о кончине государя царя Федора Алексеевича. В присутствии патриарха Иоакима и архиереев члены Боярской думы и придворные чины начали прощаться с почившим царем. За ними к телу покойного в печальном молчании подходили представители столичного и городового (провинциального) дворянства, люди московского и иноземного чина: стольники, стряпчие, генералы, полковники, дворяне, жильцы, дети боярские и высший чин торговых людей — гости. После поклонения почившему государю присутствовавшие целовали руки у обоих царевичей — Ивана и Петра.
По окончании печального обряда патриарх, высшее духовенство и члены Боярской думы собрались в Передней палате дворца.
— Кто же из двух царевичей будет царем? — спросил патриарх.
— Сие надлежит решить общим согласием всех чинов людей Московского государства.
Земские соборы к тому времени уже превратились в анахронизм. Для формального соблюдения видимости общенародного представительства достаточно было обратиться к стоявшим на кремлевской Ивановской площади толпам разночинного народа, где преобладали стольники, стряпчие и дворяне московские, но были также и купцы, выборные от посадов, стрельцы, солдаты полков нового строя и представители других категорий столичного населения. Патриарх вышел на дворцовое крыльцо и громко задал вопрос:
— Кому из двоих царевичей на престоле Российского царствия великим государем царем быти?
В ближайших рядах раздались дружные возгласы:
— Петру Алексеевичу!
Только дворянин Михаил Сумбулов «продерзливо кричал»:
— По первенству надлежит быть на царстве государю царевичу Иоанну Алексеевичу всея России!
Как замечает Андрей Матвеев, этот одинокий голос «ни во что тогда не успевал», поскольку, по мнению подавляющего большинства представителей правящей верхушки, «многообразные скорби» царевича Ивана «до того царского возвышения весьма не допускали».{47} Впрочем, это версия лишь одного современника событий, да еще и пребывавшего в тот момент в ссылке вместе с отцом. В столицу он прибыл через две недели и узнал подробности царского избрания от очевидцев, которые наверняка были сторонниками Петра, поскольку лишь с ними мог иметь дело Матвеев. Так что его взгляд на описываемые события неизбежно должен страдать односторонностью. Князь же Борис Иванович Куракин во время избрания Петра находился в Москве, но вряд ли мог по свежим следам получить какую-либо информацию по интересующему нас вопросу — ему было тогда всего шесть лет. Однако впоследствии любознательный молодой человек, вследствие аристократического происхождения имевший широкие связи в правящей верхушке, мог получить от знакомых достаточно точные сведения. Его версия событий представляется более объективной: «И когда патриарх объявил всем о смерти и предложил о избрании на царство из двух братьев, царевичей Ивана и Петра Алексеевичей, и стало быть несогласие как в боярах, так и площадных: одни одного, а другие — другова. Однако ж большая часть, как из бояр, и из знатных, и других площадных, также и патриарх явились склонны избрать меньшого царевича Петра Алексеевича. И по многом несогласии того ж дня избрали царем царевича Петра Алексеевича».{48}
По окончании процедуры предстоятель с архиереями, бояре, окольничие, думные и ближние люди направились в хоромы покойного царя, где у тела брата сидел маленький Петр. «И, пришед, святейший патриарх со архиереи его, благоверного государя царевича и великого князя Петра Алексеевича… благословили». Так новый царь «на престоле брата своего государева… учинился».{49}
В тот же день состоялась присяга жителей Москвы царю Петру Алексеевичу и были разосланы гонцы по всей России с указами о приведении народа к присяге.
В первый день нового царствования от имени маленького Петра I был принят указ о возвращении из ссылки боярина Артамона Сергеевича Матвеева. Всем было ясно, что этот выдающийся политик и опытный царедворец сразу же по прибытии в Москву возьмет бразды правления в свои руки. Одновременно из ссылки были вызваны родной брат царицы Натальи Иван Кириллович и его двоюродные дядья Петр и Кондратий Фомичи. В тот же день пятеро младших представителей нарышкинского рода были пожалованы в спальники юного царя.{50} В последующие дни были назначены девять спальников и комнатных стольников из представителей древних и наиболее влиятельных княжеских родов — Долгоруких, Одоевских, Голицыных, Куракиных, Троекуровых, Трубецких. Было ясно, что аристократия поддерживает младшего сына Алексея Михайловича.
В течение ближайших дней подьячие Посольского приказа разослали всем иностранным государям грамоты о кончине Федора Алексеевича и «всенародном избрании» царем Петра. Любопытная деталь: внимательно следивший за событиями в России польский король Ян Собеский, отправив в Москву ответную грамоту с изъявлениями притворной радости, сделал для себя помету, что Петр «затер» брата Ивана «насильными способами».{51}
Так же считала и царевна Софья. Впоследствии Фуа де ла Невилль писал: «Честолюбие царевны не позволило ей долго скрывать свою досаду. Она высказала ее и публично воспротивилась венчанию Петра. И как патриарх и бояре ни представляли ей всю неспособность Ивана, болезненного, слепого и наполовину парализованного, она продолжала стоять на своем, воспользовавшись для этого стрельцами».{52}
Интересна версия Матвеева о планах Софьи, побуждавших ее бороться за провозглашение царем брата Ивана. По его мнению, царевна, во-первых, намеревалась побыстрее женить уже достаточно взрослого, но недееспособного государя, чтобы «по будущему от него мужеского пола наследию, яко по линии того первенства», утвердить себя на долгие годы в качестве регентши. Во-вторых, «по властолюбному снискательству великого царевнина любочестия» она якобы сама хотела возвыситься до царского достоинства — по примеру византийской принцессы Пульхерии, которая управляла империей от имени младшего брата Феодосия Юного, стремилась «под великим благополучием державного имени» царя Ивана Алексеевича «государствовать и скипетром Всероссийской империи самодержавно править».
Трудно сказать, действительно ли Софья вынашивала эти властолюбивые мечты уже в конце апреля 1682 года. Возможно, Матвеев приписывал ей более поздние намерения, сложившиеся к 1686–1687 годам. Во всяком случае, об официальном установлении регентства Софьи весной 1682 года речь идти не могла.
Матвеев назвал также третью, возможно, самую существенную причину вступления царевны в борьбу за власть. Она стремилась защитить себя и сестер от мести Натальи Кирилловны и ее братьев, подвергшихся гонениям в царствование Федора Алексеевича. Мемуарист был убежден, что Нарышкины и его собственный отец были обречены на ссылку «коварными сплетнями, наносными лжами и невинными клеветами» «злодейственных» временщиков Милославских. Теперь Софья с сестрами в качестве представительниц ненавистной Нарышкиным фамилии должны были получить «достойное воздаяние» от царя Петра и Натальи Кирилловны. Заботливая Софья стремилась не допустить такой беды, поскольку хотела «одноматерних сестер своих государынь царевен во всех произволах их и во всяком избытке нерушимо всегда соблюдать».{53}
Этот побудительный мотив представляется наиболее правдоподобным и безусловно важным. За годы царствования Федора Алексеевича Софья и ее сестры действительно успели привыкнуть к «произволам», то есть к свободной жизни и влиянию на государственные дела. При установлении прочной власти подрастающего Петра под эгидой Нарышкиных царственным девам могло угрожать возвращение к теремному затворничеству или даже заточение в монастырь с заменой «избытка» иноческим постничеством.
Двадцать восьмого апреля 1682 года было совершено погребение Федора Алексеевича. Под заунывный звон всех московских колоколов «понесли тело великого государя хоронить» в царскую усыпальницу — кремлевский Архангельский собор. За гробом шли, как полагалось, вдовы-царицы Марфа Матвеевна и Наталья Кирилловна, а также маленький царь Петр в «смирном», то есть траурном платье. И тут, к удивлению всей Москвы, вопреки обычаю, запрещавшему царевнам открыто показываться на публике, в составе похоронной процессии появилась Софья. Неизвестный современник, обладавший, впрочем, достаточно достоверной информацией, пишет: «…Софья настояла на том, чтобы идти непременно в церковь за телом своего брата; и как ни отговаривали ее от этого небывалого поступка, никакими мерами нельзя было убедить ее отказаться от своего намерения».{54}
Недовольная этой акцией падчерицы Наталья Кирилловна демонстративно увела маленького царя из собора, не дожидаясь окончания погребального обряда. Царевна Софья «оставалась слушать отпевание до конца с великим плачем. Остальные сестры ее в скорби лежали в это время больные в своих покоях». Старшие царевны Анна и Татьяна Михайловны, рассерженные поступком Натальи Кирилловны, послали к ней монахинь с выговором:
— Каков же государь царь Петр Алексеевич брат покойному государю царю Феодору Алексеевичу, что не пожелал проститься с ним и дождаться конца отпевания?
— Государь Петр Алексеевич дитя еще, — ответила Наталья царским теткам, — не мог он выстоять такой долгой службы не евши.
Спустя несколько дней вернувшийся из ссылки Иван Кириллович Нарышкин, узнав об этих трениях, не удержался от наглой реплики:
— Что толку было в присутствии царя Петра на похоронах брата? Кто умер, тот пусть себе и лежит, а его царское величество не умирал, но жив!
Неизвестный польский дипломат со слов очевидцев отметил в «Дневнике», что в день погребения Федора Алексеевича «царь Петр, покушавши, отправился навестить больных сестер, но они в гневе не допустили его к себе, горько плакали и искали удобной минуты, чтобы отомстить его сторонникам».
Тот же автор утверждает, что царевна Софья, возвращаясь во дворец с похорон, «громко кричала толпе»:
— Смотрите, люди, как внезапно брат наш Феодор лишен жизни отравой врагами-недоброжелателями! Умилосердитесь над нами, сиротами, не имеющими ни батюшки, ни матушки, ни братца-царя! Иван, наш старший брат, не избран на царство… Если мы провинились в чем-нибудь пред вами или боярами, отпустите нас живыми в чужую землю, к христианским царям!
Большинство историков склонны считать этот эпизод правдоподобным, приводя в своих работах речь Софьи в качестве некого боевого клича, своего рода заявления о начале борьбы за восстановление попранных прав Ивана Алексеевича. Такой точки зрения придерживались, например, М. П. Погодин, С. М. Соловьев, М. М. Богословский, Н. И. Павленко. Однако авторитетный специалист по истории России XVII века С. К. Богоявленский полностью отвергает достоверность известия об обращении царевны к народу всего лишь обычным для того времени литературным приемом — «вкладывать в уста действующих лиц вымышленные речи, которые соответствовали бы их образу мыслей и настроению». С этой точкой зрения согласен В. И. Буганов. Автор новейшего исследования о событиях весны 1682 года М. Ю. Зенченко полностью отказывает в доверии польскому дипломату и констатирует его некомпетентность в вопросах русской культуры и повседневности: «Человек, способный поверить в такое „известие“, совершенно не знаком ни с православным чином похорон, ни с российскими культурными традициями. Вероятней всего, за политическую демонстрацию он принял рассказ о вполне уместном на похоронах „плаче“, как правило, сопровождавшемся громкими и истеричными обращениями к покойному».{55}
Л. Хьюз пришла к неутешительному выводу: «Возможно, нам уже никогда не удастся установить, какую роль играла Софья на похоронах Федора Алексеевича и произносила ли она при этом какие-либо речи».{56} Доказать что-либо в данном случае действительно невозможно из-за отсутствия дополнительных источников и малой вероятности их обнаружения в будущем. Однако следует обратить внимание на содержание вышеприведенной речи и некоторые детали историографической дискуссии в связи с ней.
Прежде всего, отметим определенную слабость указаний на недостоверность факта обращения царевны к народу. Вопреки мнению Зенченко речь Софьи не имеет ничего общего с надгробным «плачем» и не содержит в себе «истеричных обращений» к усопшему. Ни при чем в данном случае и особенности православного чина похорон, поскольку эмоциональная тирада царевны была произнесена не во время погребения Федора, а уже по окончании траурного обряда, по пути во дворец. Не более убедительны и возражения Богоявленского. Польский аноним никак не мог вложить в уста героини своего рассказа «вымышленную речь», поскольку не имел достаточно определенных представлений об «образе мыслей» и «настроении» Софьи.
Между тем основной смысл выступления царевны полностью соответствует содержанию политического момента конца апреля 1682 года. Версия об отравлении Федора Алексеевича «изменниками-боярами» или подкупленными ими немецкими врачами возникла сразу же после кончины царя и впоследствии с успехом использовалась в политической борьбе. В конце мая 1682 года польский резидент в Москве Станислав Бентковский сообщал королю Яну Собескому: «Изменить царю и дать ему яду думные бояре подговорили Данилу Жида (Даниила фон Гадена. — В. Н.), придворного царского доктора…» Медик якобы отравил Федора Алексеевича с помощью яблока, которое разрезал ножом, смазанным ядом.{57} Прежде чем казнить фон Гадена, его зверски пытали и всё же вырвали признание, что он составлял «злое отравное зелие» на «царское пресветлое величество». В отравлении царя Федора бунтовщики попутно обвинили думного дьяка Лариона Иванова, в доме которого при обыске были обнаружены «гадины змеиным подобием»{58} — самый подходящий, по мнению безграмотных стрельцов, источник яда. В действительности же это была безобидная сушеная каракатица, которую любитель экзотики Иванов, один из самых образованных людей своего времени, очевидно, приобрел для пополнения своей коллекции диковинок.
Несмотря на явную сомнительность версии об отравлении царя Федора, она имеет сторонников даже среди современных историков. Например, ее поддерживает крупный специалист по истории России второй половины XVII века А. П. Богданов.{59}
Итак, первый фрагмент речи Софьи — «внезапно брат наш Феодор лишен жизни отравой врагами-недоброжелателями» — вполне соответствует тогдашнему умонастроению противников «изменнического» правительства царицы Натальи. Правдоподобна и последняя часть обращения царевны к народу: «…если мы провинились в чем-нибудь… отпустите нас живыми в чужую землю, к христианским царям!» При сравнении приводимых поляком слов Софьи с известными текстами ее более поздних выступлений обнаруживается явное сходство излюбленных полемических приемов. Во время религиозного диспута с раскольниками 5 июля 1682 года она заявляла: «Мы такой хулы не хотим слышать, что отец наш и брат еретики: мы пойдем все из царства вон!» Накануне августовского кризиса 1689 года правительница говорила стрельцам: «Годны ли мы вам? Буде годны, то вы за нас стойте, а буде не годны, мы оставим государство». Позже она повторила ту же сентенцию в несколько иной форме: «Мы пойдем себе с братом, где кельи искать».{60} Как видим, анонимный автор воспроизвел характерную особенность выступлений Софьи — повторяющуюся мнимую угрозу покинуть страну (или Москву) в случае неодобрения ее действий народом. Выдумать такую существенную деталь иностранец вряд ли был в состоянии. Констатировав правдоподобность первой и последней частей речи царевны, можно поверить и в реальность ее главного политического заявления: «Иван, наш старший брат, не избран на царство», — прозвучавшего как призыв к восстановлению справедливости.
Таким образом, можно утверждать, что уже в конце апреля — начале мая 1682 года четко обозначились позиции враждующих сил в предстоящей придворной борьбе. Наталья Кирилловна и ее братья не побоялись выразить неуважение к памяти покойного царя Федора по известному принципу: «Король умер — да здравствует король!» Судя по всему, они были уверены в поддержке со стороны большинства правящей верхушки. В противоположность им царевна Софья подчеркнуто проявила активную позицию в качестве представительницы правящего дома, продемонстрировав нежелание сковывать себя традициями, стремление удержать обретенную в годы царствования брата свободу и заявив во всеуслышание о незаконности новой власти.
Важную роль в короткое правление царицы Натальи играли Иван и Афанасий Нарышкины (младшие братья Лев, Мартемьян и Федор были еще малолетними). Заносчивые и неумные молодые люди быстро восстановили против себя боярскую верхушку, однако законным путем ничего поделать с родными дядьями царя было невозможно — приходилось терпеть. Старший, 23-летний Иван Кириллович, 7 мая был пожалован в бояре и получил престижную должность оружничего, отобранную у одного из лидеров предшествующего царствования Ивана Языкова. Нарышкины не пожелали делиться властью с фаворитами покойного царя Федора, хотя те в свое время их поддерживали. 1 мая от имени маленького царя Петра был принят указ об отлучении от двора боярина Ивана Максимовича Языкова, его сына чашника Семена Ивановича, постельничего Алексея Тимофеевича Лихачева, казначея Михаила Тимофеевича Лихачева и ближних стольников Ивана Андреевича Языкова и Ивана Васильевича Дашкова. Всем им было предписано, «чтоб они во время выходу великого государя не ходили и ево государевых очей не видели».{61}
Шестнадцатидневное правление матери царя Петра и ее братьев закончилось кровавым стрелецким бунтом 15–17 мая 1682 года. Это восстание, на полгода сделавшее стрельцов хозяевами в столице, сыграло решающую роль в судьбе царевны Софьи Алексеевны. Несомненно, решительные действия полков московского стрелецкого гарнизона провоцировались и отчасти направлялись представителями правящей верхушки, оттесненными от власти в результате придворной борьбы и стремящимися устранить противников самыми радикальными способами вплоть до физического уничтожения.
Восстание стрельцов выросло из нескольких на первый взгляд малозначительных инцидентов, которые поначалу не вызвали особой тревоги властей. В них выражалось общее недовольство рядового состава стрелецкого войска своим положением. В январе 1682 года стрельцы полка Богдана Пыжова дважды собирались на сходы, выражая возмущение длительной задержкой жалованья. 23 апреля полк Семена Грибоедова на общем сходе низших чинов решил подать Федору Алексеевичу челобитную с жалобами на своего полковника, наказывавшего стрельцов батогами, заставлявшего стрелецких жен обрабатывать огороды, устроенные на отобранных у них же землях, посылавшего стрельцов в свои вотчины рубить лес, косить сено, копать пруды и выполнять иные хозяйственные работы, за взятки освобождавшего подчиненных от караульной службы и участия в военных походах.
Жалобу вызвался передать в Стрелецкий приказ один из стрельцов, который перед тем изрядно выпил — очевидно, для храбрости. Спиртное оказало соответствующее действие: в присутственном месте парламентер начал буянить и говорить «непотребные речи» о начальнике Стрелецкого приказа князе Юрии Алексеевиче Долгоруком. Растерявшиеся приказные приняли челобитную и донесли о происшествии начальству. Долгорукий пришел в ярость и распорядился отыскать буяна. Но тому хватило наглости через пару дней самому явиться в приказ, чтобы узнать о решении по челобитной. Чрезмерно деятельного ходатая тут же схватили и потащили на площадь для наказания кнутом. Стрельцы, собравшиеся вооруженной толпой, отбили товарища у приказных караульных, а затем до вечера праздновали победу и рассуждали о дальнейших действиях по «приисканию правды». Эта первая открытая стычка с представителями властей показала стрельцам возможность успеха силового давления на «господ неправедных» и положила начало будущим кровавым событиям.
В ту же ночь умер царь Федор, что на время приостановило стрелецкое движение. Но уже через два дня стрельцы многолюдной толпой нахлынули в Кремль, выкрикивая требования арестовать и наказать восьмерых стрелецких полковников за чинимые ими «обиды и утеснения». Таким образом, бунт охватил уже почти половину находившегося в Москве стрелецкого войска, насчитывавшего 19 полков. В поддержку стрельцов выступил также один из двух московских выборных полков солдатского строя — первых регулярных воинских формирований в составе русской армии.
Испугавшись неуправляемого натиска столь мощной военной силы, Наталья Кирилловна безоговорочно согласилась выполнить все требования стрельцов, признав их справедливыми. По царскому указу девятерых полковников сняли с должностей; двое из них подверглись публичной порке кнутом на площади перед зданием Рейтарского приказа, четверых высекли батогами (палками или прутьями), еще троим удалось избежать телесного наказания. Восемь других полковников были публично биты батогами, но остались в должности. Затем приступили к взысканию с бывших командиров украденного за несколько лет жалованья. Некоторым полковникам стрельцы выставили огромные начеты до двух тысяч рублей; тех из них, которые не могли заплатить нужную сумму, ежедневно держали по два часа на правеже, то есть били палками по ногам.
Наказание стрелецких командиров, большинство которых принадлежали к видным дворянским семьям, стало слишком большой уступкой бунтовщикам; тем самым перепуганная царица Наталья продемонстрировала слабость новой власти. Всем было ясно, что не искушенная в политике женщина мало подходит на роль регентши. По отзыву князя Бориса Ивановича Куракина, «сия принцесса… не была ни прилежная и ни искусная в делах».
После такого успеха стрельцы обнаглели сверх меры. Они стали ежедневно собираться многолюдными толпами у съезжих изб, организовывали «круги» по образцу казачьей вольницы и обсуждали положение в столице, намереваясь навести порядок в соответствии со своими представлениями о справедливости. Управляющих Стрелецким приказом отца и сына Долгоруких смутьяны ни во что не ставили, смеялись над ними и угрожали. Офицеров, пытавшихся прекратить эти безобразия, бранили непристойными словами, бросали в них камни и палки. Наиболее строгих и принципиальных начальников затаскивали на сигнальные каланчи и сбрасывали на землю под одобрительные крики озверевшей толпы.
Быстрое и безоговорочное выполнение требований стрельцов создало у них впечатление собственного могущества; теперь им казалось, что они могут распоряжаться всеми делами в столице, вплоть до судьбы российского престола. Уже в начале мая комиссар датского короля Генрих Бутенант отметил, что стрельцы начинают выражать недовольство отстранением от престола царевича Ивана и захватом власти Нарышкиными. Несомненно, они при этом поддавались на агитацию кого-то из отодвинутых от власти представителей правящей верхушки. Кого же именно?
Стрелецкое буйство
В качестве основного подстрекателя к мятежу источники называют дядю царевны Софьи Ивана Михайловича Милославского. Ему активно помогали сын Александр и племянник Петр Андреевич Толстой, своими решительными действиями спровоцировавшие кровавые события.
Политические противники Нарышкиных особенно активизировались после 11 мая, когда в Москву вернулся Артамон Матвеев. Он сразу же был окружен многочисленными доброжелателями и друзьями, и стало ясно, что положение правительства вскоре стабилизируется, поскольку верхушка знати и большинство думных чинов по-прежнему поддерживали Петра. Однако, как часто бывает, социальное недовольство начинало выражаться в политических требованиях: среди стрельцов и значительной части посадского населения Москвы крепло намерение выступить в поддержку отстраненного от престола Ивана Алексеевича. Волнения среди стрельцов не утихали; более того, по словам Сильвестра Медведева, «наипаче нача огнь гневный в них на начальников, к тому же в прибавку и на иных времянников… горети».
Маховик кровавых событий разом раскрутился с невероятной силой. По Москве пошли слухи, что Иван Нарышкин в царской мантии уселся на трон, а вдовствующая царица Марфа Матвеевна и царевна Софья Алексеевна его ругали в присутствии царевича Ивана. Тогда Нарышкин будто бы в порыве ярости набросился на царевича, но женщины его остановили. Рассказывали также, что Марфа Матвеевна, выбежав на крыльцо, якобы жаловалась караульным стрельцам «со слезами и воплем», что братья Нарышкины «ее, государыню, били и косу оторвали», царевну Софью также «били и за власы драли», а царевича Ивана хотели задушить подушками.{62}
Утром 15 мая в стрелецкие слободы примчались Александр Милославский и Петр Толстой, которые, «на прытких серых и карих лошадях скачучи», кричали, что «Нарышкины царевича Иоанна Алексеевича задушили, и чтоб с великим поспешением они, стрельцы, шли в город Кремль на ту свою службу».{63} На колокольнях стрелецких слобод тут же стали бить в набат, у съезжих изб раздалась барабанная дробь; стрельцы поспешно собрались в полки и в девятом часу утра двинулись в Кремль со знаменами и пушками.
Правительство даже не подозревало о грозившей опасности. Лишь около полудня, когда боярин Матвеев после обычного утреннего доклада царице Наталье Кирилловне собирался ехать домой, на дворцовой Каретной лестнице к нему подбежал взволнованный князь Федор Семенович Урусов.
— Стрельцы уже вошли в Земляной город с своими полками и в Белый город входят!
Матвеев немедленно повернул назад и вместе с Урусовым положил царице тревожную обстановку. Караульный подполковник дежурившего в Кремле Стремянного полка Григорий Горюшкин тотчас получил приказ запереть все кремлевские ворота, но было уже поздно. Вбежавшие в апартаменты царицы перепуганные бояре сообщили:
— Оные стрельцы в Кремль уже со многолюдными полками вошли и стали с великим бесчинством кричать, что будто от бояр изменников, от Нарышкиных и от Матвеева, погублен царевич Иоанн Алексеевич и в животе уже его нет!
Можно представить, как эта весть должна была поразить Артамона Сергеевича и Наталью Кирилловну с братьями. Впрочем, отреагировали они по-разному: если Нарышкины до смерти перепугались, то видавший виды Матвеев приготовился к решительной борьбе за спасение себя и близких. Вероятно, именно он предложил выход из опасного положения: немедленно предъявить стрельцам живого и невредимого царевича. О том же сразу заговорили боярин Кирилл Полуектович Нарышкин и его сын Иван; вместе они «у ее величества государыни царицы слезно просили, чтобы тотчас объявить вышеименованного царевича государя, который нерушимо был всегда в прежнем состоянии».
Наталья Кирилловна вместе с Иваном и Петром вышла в окружении приближенных на Красное крыльцо, под которым бурлила вооруженная толпа разъяренных стрельцов. Их появление нисколько не смутило бунтовщиков. Самые деятельные, подтащив лестницы, взобрались по ним на крыльцо, выломали защищавшую его деревянную решетку и «дерзали говорить с самими их особами царскими с великою невежливостью». Обращаясь к Ивану, они, «как львы рыкая, нагло спрашивали»:
— Ты ли еси прямой царевич Иоанн Алексеевич? Кто тебя из бояр изменников изводит?
— Я ни от кого никакой себе злобы не имел, — смиренно отвечал царевич, — и никто меня не изводит, и жаловаться ни на кого не могу.
Стрельцы оказались в опасной ситуации: они подняли бунт против изменников, явились с оружием в царскую резиденцию для защиты государей. За такое дело можно было поплатиться головой. Зачинщики бунта решили не отступать и продолжали настаивать на измене Нарышкиных и Матвеева. Из толпы слышались обвинения, будто Иван Нарышкин «корону, диадиму и платье царское в Мастерской палате надевал на себя и приличным к достоинству царскому себя быть применял». Явная нелепость этих оговоров никого не останавливала, и толпа «непрестанно кричала о выдаче им бояр Ивана Нарышкина и братьев его и боярина Матвеева».
Артамон Сергеевич сам вышел за решетку крыльца, спустился вниз и встал перед разъяренной людской массой. При виде такой смелости стрельцы приумолкли и позволили пожилому сановнику обратиться к ним с речью. Матвеев «говорил им без всякого себе ужасного смертного часа страха, с прямонадежным о всенижайшем их стрелецком подданстве и о покорении пред своими природными и законными государем царем и государынею царицею, с разумным напоминанием прежних их служеб всех и верности». Стрельцы заколебались, некоторые даже начали просить Матвеева выхлопотать им прощение царицы. Но всё дело испортил самоуверенный и вздорный князь Михаил Юрьевич Долгорукий, управлявший Стрелецким приказом с начала 1682 года вместо больного престарелого отца. Заметив признаки раскаяния, он также спустился с крыльца и грубо, «жестокими словами» приказал бунтовщикам убираться из Кремля в свои слободы, угрожая в случае неповиновения расправой. Взбешенные стрельцы, ненавидевшие своего спесивого и злого начальника, набросились на него в едином порыве, швырнули на подставленные копья, а затем бердышами разрубили его тело на куски.
Первая кровь опьянила бунтовщиков, и теперь остановить зверскую расправу над мнимыми «изменниками» было уже невозможно. Стрельцы первым делом схватили Матвеева, вернувшегося на Красное крыльцо. Пытаясь его спасти, Наталья Кирилловна с царственными отроками вцепились в него изо всех сил, но «стрельцы, с свирепым стремлением и с тиранским нападением, бесстыдно оторвав его, Матвеева, от рук их царских величеств, похитили, и хотя милосердо ее величество государыня царица его не хотела отдать, но невозможно было». Боярин князь Михаил Алегукович Черкасский на мгновение вырвал Матвеева из рук стрельцов и от непомерного усилия упал вместе с ним на дощатый настил, прикрыв его своим большим телом от нападавших. Разумеется, силы были слишком неравны; обагренные кровью бунтовщики, «радостно и сладостно желательные его, боярина Матвеева, ни в чем им не повинного, из-под него, боярина князя Черкасского, вырвав, разодрали на нем, помянутом князе, платье». Несчастного Артамона Сергеевича «бросили с Красного крыльца на площадь против Благовещенского собора, и с таким своим тиранством варварскими бердышами всё его тело рассекли и разрубили так, что ни один член целым не нашелся».{64}
Однако расправа только началась. В озверевшей толпе раздавались призывы:
— Пришла уже самая пора, кто нам надобен, разбирать!
Дальнейшие действия не носили стихийного характера — стрельцы руководствовались заранее составленным списком «бояр-изменников», которых следовало предать смерти. Автор недавнего исследования о политических событиях 1682 года М. М. Галанов пришел к выводу, что этот список был составлен совместными усилиями Милославских и стрельцов при участии Хованских.{65} Однако думается, что роль в этом деле князя И. А. Хованского была столь же значительна, как и роль И. М. Милославского.
Очередной жертвой «стрелецкого буйства» стал стольник Василий Ларионович Иванов, убитый на Красном крыльце. Лично против этого молодого человека стрельцы, по-видимому, ничего не имели, зато ненавидели его отца — думного дьяка Лариона Ивановича (с ним разделались через несколько часов). Вслед за тем они растерзали своего подполковника Григория Горюшкина. Наталья Кирилловна поняла, что не в силах ничего изменить, взяла за руку маленького царя Петра и ушла с ним в Грановитую палату «с ужасом и с плачем горьким».
Бунтовщики ворвались в царские палаты и принялись разыскивать попрятавшихся Нарышкиных и других «бояр-изменников». Вооруженные люди «с озорнической наглостью» бегали не только по парадным палатам Кремлевского дворца, но и по комнатам царевен и дворцовым церквям, рылись в постелях, шарили под кроватями, тщательно обыскивали все уголки алтарей. В церкви Воскресения Христова стрельцы обнаружили карлика царицы Натальи, крошечного толстого человечка по прозвищу Хомяк.
— Где ты знаешь утаенных царицыных братьев Нарышкиных? — спросили они грозно.
У карлика не было ни мужества, ни сил для геройства. Он тут же показал на алтарь, под престолом которого прятался двадцатилетний Афанасий Кириллович Нарышкин, средний брат царицы. Стрельцы выволокли молодого человека «на паперть той же церкви и бесчеловечно рассекли и тело его оттуда на площадь соборной церкви с высоты ругательски скинули».
Бунтовщики не останавливались перед угрозами в адрес представителей царской власти. Ворвавшись в Грановитую палату, где «в великом страхе» сидели Наталья Кирилловна с Петром и Иваном, они «бесстыдно» говорили вдовствующей царице:
— Не укроешь брата и отца и неволею отдашь в наши руки!
«Изменников» искали не только в Кремле, но и по всей Москве. В тот же день в Замоскворечье стрельцы внезапно напали на дом комнатного стольника Ивана Фомича Нарышкина, двоюродного брата Натальи Кирилловны, который «лютомучительной смерти был предан». Впоследствии Андрей Матвеев ярко описал весь ужас того дня: «Из оного нечестивого своего зверства, многоплодовитого уже кровью, те крамольники стрельцы, еще не удовольствуясь, яростно и свирепо в великих своих собраниях по вельможеским домам, безобразно пьянствуя, бесчеловечно шатались». Уцелевшие на полях сражений, погибли в своих особняках от рук московских бунтарей талантливый полководец боярин князь Григорий Григорьевич Ромодановский и его сын Андрей, по вине которых якобы «они, стрельцы, будучи под городом Чигирином в полках, под командою его, князя Ромодановского, великое себе озлобление и тягостные несли обиды».
Также в своих домах были убиты думные дьяки Ларион Иванович Иванов и Аверкий Степанович Кириллов. Иванов в 1670–1672 годах возглавлял Стрелецкий приказ, а с 1676-го являлся руководителем внешней политики России. Злопамятные стрельцы утверждали, что он в прежней должности «напрасно их теснил», хотя с того времени прошло уже десять лет. Кириллов же как фактический глава Большого прихода будто бы по собственному измышлению «накладывал на соль и на всякие съестные харчи пошлины гораздо тяжелые». Как видим, скорые на расправу бунтовщики были подогреваемы как старыми личными обидами, так и общим для городских низов социальным недовольством.
Московские посадские люди принимали в вышеописанных трагических событиях пассивное участие — собирались толпами поглазеть на зверские убийства, а стрельцы во время казни очередной жертвы громко спрашивали их: «Братцы, любо ли?» Горожане должны были махать шапками и кричать: «Любо!» Тех же, кто «от жалости сердечной умалчивал или вздыхал», стрельцы нещадно избивали. Аналогичная ситуация имела место и в боярских усадьбах: служители должны были громко выражать одобрение казням господ, иначе могли убить их самих.
Страшный день завершился тем, что бунтовщики расставили «многолюдные караулы» в Кремле, Китай-городе и Белом городе, приказали никого «без воли их отнюдь не пропускать», а затем с чувством выполненного долга разошлись по домам. Вероятно, они действительно ощущали себя защитниками престола и отечества от «изменников» и «лихоборов». Дело в том, что перечисленные выше убийства вовсе не носили случайный, стихийный характер. Почти все казненные вельможи заранее были внесены в составленный кем-то список, и стрельцы методично следовали ему.
На следующее утро многолюдная вооруженная толпа стрельцов явилась в дом восьмидесятилетнего, разбитого параличом боярина князя Юрия Алексеевича Долгорукого. Убийцы его сына изображали раскаяние и просили у старика прощения. Хозяин дома принял их учтиво, и стрельцы вышли от него «с приятным довольствием» — видимо, не были оставлены без угощения. Когда дверь за ними закрылась, старик не удержался от слез и в сердцах сказал невестке:
— Хотя щуку они и съели, но зубы ее остались. Впредь, если Бог поможет учинить, то они, воры и бунтовщики, сами все по Белому и Земляному городам в Москве на зубцах перевешаны будут.
Слуга Долгорукого побежал за стрельцами и пересказал им горькие слова старого князя. Пришедшие в ярость мятежники вернулись, вытащили несчастного старика из постели, поволокли на улицу и зарубили бердышами, а затем бросили обезображенное тело на навозную кучу.
Тем же утром, в одиннадцатом часу, стрельцы с громкими криками и барабанным боем вновь явились к царскому дворцу. Их встретил «съезд всех бояр и прочих палатных людей», которые вынуждены были заночевать в Кремле, поскольку караульные никого не выпускали. Бунтовщики «свирепо просили о безотложной и скорой выдаче им боярина Ивана Кирилловича Нарышкина», грозя:
— Если его в будущий день нам в руки не выдадут, мы всех бояр побьем жестокою смертию!
В первом часу пополудни стрельцы на некоторое время ушли из Кремля, расставив повсюду свои караулы. Тем временем Иван Кириллович с двоюродными братьями, комнатными стольниками Василием Федоровичем, Кондратием Фомичом и Кириллом Алексеевичем Нарышкиными и Андреем Артамоновичем Матвеевым прятались «по разным тайным и неведомым местам при комнатах государыни царевны Натальи Алексеевны», восьмилетней сестры Петра I. Наталья Кирилловна договорилась со своей падчерицей Марфой, старшей сестрой Софьи, о переводе Нарышкиных и юного Матвеева в ее дальние деревянные апартаменты, обращенные глухой стеной к Патриаршему двору. При этом Иван Нарышкин собственноручно подстриг наголо себя и товарищей, чтобы их труднее было узнать.
Приближалось время возвращения мятежных стрельцов в Кремль после обеденного отдыха. Постельница Клушина, верная и деятельная помощница царицы Натальи, хотела запереть Нарышкиных и Матвеева в чулане приходных сеней, но семнадцатилетний Матвеев, самый молодой, однако при этом самый разумный из скрывавшихся, растолковал товарищам, что стрельцы первым делом будут взламывать запертые двери. Все согласились с его доводом и укрылись, тесно прижавшись друг к другу, в самом темном углу заваленного перинами и подушками чулана и оставив дверь приоткрытой. Появившиеся вскоре стрельцы многолюдной толпой пробежали по переходам с яростными криками; некоторые на секунду задерживались у незапертого чулана, тыкали копьями в наваленные у входа подушки, сквернословили и кричали:
— Уже наши там везде были, и изменников тут нет!
Нарышкины и Матвеев простояли в чулане, боясь шелохнуться, до вечера. Когда стрельцы разошлись из Кремля, «все те смерти обреченные особы» простились друг с другом «с горькослезною своею печалию» и разбрелись по разным убежищам.
На следующее утро, 17 мая, по-прежнему пьяные и еще более озверевшие стрельцы, по словам Матвеева, скорее «весьма отчаянные бестии, нежели люди», вновь наводнили Кремль, «с великим криком и невежеством запальчиво» требовали выдать Ивана Кирилловича и Кирилла Полуектовича Нарышкиных, а в противном случае угрожали всем боярам расправой. Наталья Кирилловна и другие члены царского семейства пытались образумить мятежников. Неизвестный автор летописной повести из Соловецкого собрания приводит речь одной из «царственных особ», обращенную к стрельцам:
— Кто вам внушил, что царевич Иоанн Алексеевич убиен был, и в какие времена Иоанн Нарышкин в царские одежды облачался или нас бесчестил, бил и за власы драл? Сие внушил вам ненавистник всех православных християн диавол. Пожалуйте, умилитеся над нами для образа пречистыя владычицы нашея Богородицы! Уже вы с теми управились, кто вам был досаден и надобен, а Иоанн Нарышкин чем вам досадил? Безвинного просите, ей-ей!
По содержанию речи нетрудно установить оратора. Как отмечалось выше, в канун восстания по Москве распространялись слухи, что Нарышкины били и драли за волосы царицу Марфу Матвеевну и царевну Софью Алексеевну. Следовательно, с опровержением этого нелепого обвинения могла выступить только одна из них. Совершенно очевидно, что эту роль взяла на себя не робкая пятнадцатилетняя Марфа, а отличавшаяся ораторскими способностями Софья. Переговоры со стрельцами привели к частичному успеху: они согласились пощадить Кирилла Полуектовича и троих его младших сыновей. Однако мятежники оставались непреклонны в требовании выдать им Ивана Кирилловича, по-прежнему угрожая в противном случае расправиться со всеми боярами.{66}
Делегация перепуганных вельмож явилась к царице Наталье и умоляла ее пожертвовать братом ради общего спасения. Решающим оказалось слово царевны Софьи, заявившей мачехе с жесткой прямотой:
— Никаким образом того избыть невозможно, чтоб твоего брата стрельцам в этот день не выдать; разве общему всех и себя бедствию им, стрельцам, допустить.
Андрей Матвеев видит в этих словах подтверждение причастности Софьи к организации стрелецкого мятежа: «…впервые публично царевна София Алексеевна на себя тогда оказала подозрение».{67} Но можно ли считать их достаточным доказательством для обвинения в участии в заговоре? Софья в данном случае кажется не коварной и жестокой интриганкой, а всего лишь твердой и решительной реалисткой, заявившей о необходимости предотвратить дальнейшее кровопролитие с помощью неизбежной жертвы.
Наталья Кирилловна вынуждена была принять страшное решение. Вместе с Софьей она пошла в церковь Спаса Нерукотворного Образа на Сенях, близ Золотой решетки Теремного дворца. В храме уже собралось множество стрельцов. Туда же вскоре был приведен Иван Нарышкин, державшийся с беспримерным мужеством. Царица Наталья, по-видимому, пребывала в шоковом состоянии; она не плакала, но и не имела сил произнести хотя бы слово утешения обреченному брату. Эту задачу взяла на себя Софья, которая, как пишет Матвеев, «под видом наружным зело в скорбном об нем, Нарышкине, сожалении, объявила ему необходимую причину той выдачи его им, стрельцам».
— Государыня царевна Софья Алексеевна! — ответил Иван Кириллович. — Воистину не бояся на смерть свою иду, токмо усердно желаю, чтоб моею невинною кровию все те бывшие кровопролития до конца прекратилися!
Священник совершил над ним обряды покаяния, причастия и елеопомазания, и страдалец «к смертному своему пути предуготовил себя». Софья сняла со стены храма и подала Наталье Кирилловне образ Пресвятой Божией Матери:
— Вручи сию икону брату своему. Они, стрельцы, объявления той святой иконы устрашатся и, от того запросу своего устыдяся, его, господина Нарышкина, отпустят.
Андрей Матвеев попытался объяснить мотивы поведения Софьи в тот страшный момент: «Царевна та под видом же внешним, пред народом, будто бы оправдывая себя, показывала, что она принуждена была необходимостью выдачу ту учинить… Но во всём том внутри глубокая происходила политика италианская; ибо они иное говорят, другое ж думают и самим делом исполняют». Здесь явно прослеживается намек на приверженность Софьи идеям Макиавелли. Естественно, что Матвеев, в первый день бунта потерявший отца, был озлоблен против Софьи, в которой ему, как и всем идеологам петровского царствования, априорно виделось главное действующее лицо заговора, повлекшего за собой «стрелецкое буйство». Однако для строгого приговора, вынесенного им, нет достаточных оснований. Обращение к другим источникам позволяет совершенно по-другому оценить позицию царевны в ходе описываемых событий. Выше уже отмечалось, что она с присущим ей красноречием уговаривала стрельцов пощадить Ивана Нарышкина, настаивая на его невиновности. В тот момент ей не было нужды кривить душой, поскольку толпы разъяренных бунтовщиков не способны были оценить «политику италианскую».
Наталья Кирилловна вручила икону брату, по-видимому, в самом деле надеясь, что святой лик остановит убийц. Надежда была напрасной: для осатаневших от злобы, водки и крови бунтарей не было уже ничего святого. Другого брата царицы, Афанасия, стрельцы не постыдились вытащить из-под алтаря и зарубить прямо на церковной паперти.
Царица с братом замерли, растягивая мгновения последнего прощания. Трагическую сцену прервал боярин князь Яков Никитич Одоевский — человек прямой и честный, но трусливый и суетливый:
— Сколько бы вам, государыня, ни жалеть, отдавать вам его нужно будет, а тебе, Ивану, отсюда скорее идти надобно, нежели нам всем за одного тебя здесь погубленным быть.
Иван Нарышкин в сопровождении Натальи и Софьи твердым шагом подошел к порогу Золотой решетки. Едва отворились двери, как «варвары и кровопийцы, не усрамяся их царских лиц», набросились на свою жертву, «как львы, готовые на лов». Они протащили Ивана Кирилловича через весь Кремль в Константиновский застенок[3], где подвергли самым изощренным пыткам, требуя признания в государственной измене. Нарышкин мужественно вынес все истязания и твердо отвел от себя ложные обвинения.
«И по тиранском оном мучении, — рассказывает Матвеев, — вывели его, господина Нарышкина, из Кремля за Спасские ворота, на Красную площадь. И тут, по своему обыклому жестокосердию, обступя вкруг со всех сторон вместе, на копья выше себя подняв кверху и вниз опустя, руки и ноги и голову ему отсекли, а тело его с криком многонародных голосов своих, по зверскому неистовству и по лютому человекоубийству, на мелкие части рассекли и с грязью смешали».{68}
Однако убийства на этом не прекратились: черный список содержал еще немало обреченных на «побиение» жертв. В тот же день в церкви Святителя Николая на Хлынове, между Тверскими и Никитскими воротами, был схвачен боярин Иван Максимович Языков, которого выдал слуга его приятеля, случайно встретившийся ему по пути к убежищу. Языков за молчание подарил слуге дорогой перстень, но тот сразу же побежал к стрельцам с доносом. Ивана Максимовича схватили и привели на Красную площадь, где подняли на копья и зарубили бердышами. Таков был конец выдающегося государственного деятеля.
Вскоре там же были казнены немецкие доктора Даниил фон Гаден и Иоганн Гутменш, обвиненные в отравлении царя Федора. Останки всех убитых 15–17 мая по-прежнему валялись в грязи — стрельцы не позволяли родственникам хоронить их. Лишь преданный слуга Артамона Матвеева арап Иван не побоялся гнева убийц — среди дня открыто пришел на площадь и собрал куски тела своего господина в простыню. Стрельцы при виде такой самоотверженности не стали ему препятствовать. Иван принес останки Матвеева домой и организовал их погребение на приходском кладбище церкви Святителя Николая на Покровке. После этого случая стрелецкие предводители разрешили похоронить тела других казненных. Сильвестр Медведев утверждает, что в данном случае они откликнулись на просьбу царевны Софьи.
Можно с уверенностью утверждать, что руководителем заговора, приведшего к кровавому стрелецкому бунту, являлся боярин Иван Михайлович Милославский, «муж прехитрого и зело коварного в обольщениях характера», «в злобах лютый супостат», привыкший делать «всякие человекам пакости». Однако по большей части он оставался в тени. Основную роль в деле агитации в стрелецких полках взял на себя боярин князь Иван Андреевич Хованский. По отзыву С. М. Соловьева, это был «человек энергический, смелый, но без рассудительности, природа порывистая, беспокойная, заносящаяся, верно очерченная в народном прозвище Тараруй»[4]. «Приверженец старины во всём», он ненавидел вошедших в правящую верхушку представителей незначительных дворянских родов Нарышкиных, Матвеевых, Апраксиных, Языковых и Лихачевых. Считая себя обделенным почестями и не имея никакой правительственной должности, Хованский охотно примкнул к заговору. В силу увлекающейся харизматичной натуры он сразу выдвинулся на первый план в переговорах со стрельцами и быстро завоевал у них популярность. Судя по всему, князь Иван Андреевич был хорошим оратором, что обеспечило успех его агитации в полках столичного гарнизона. Неизвестный польский дипломат приводит в дневнике обращенную к стрельцам речь князя, которая, судя по характерным деталям, воспроизведена с большой точностью:
— Вы сами видите, какое тяжелое ярмо наложено было на вас и до сих пор не облегчено, а между тем царем вам избрали стрелецкого сына по матери[5]. Увидите, что не только жалованья и корму не дадут вам, но и заставят отбывать тяжелые повинности, как это было раньше; сыновья же ваши будут вечными рабами у них. Но самое главное зло в том, что и вас, и нас отдадут в неволю к чужеземному ворогу, Москву погубят, а веру православную истребят. В особенности обратите внимание на то, что у нас не было долгое время царя, да и теперь иметь его не будем, если нагрянут те государи, которые имели этот титул[6]. Мы заключили вечный мир с королем польским под Вязьмой по Поляновский рубеж, с клятвой отказавшись навеки от Смоленска; а теперь Бог покровительствует нам, отдавая отчизну в наши руки, а потому необходимо защищаться не только саблями и ножами, но даже зубами кусаться, и, сколько сил Господь Бог даст, необходимо радеть о родной земле.{69}
Как видим, оратор старался играть на патриотических чувствах слушателей, призывая их не к бунту, а к выступлению во имя защиты отечества и восстановления справедливости.
Помощником Ивана Андреевича Хованского был его старший сын Андрей, столь же заносчивый и еще более неосторожный. По отзыву Матвеева, он «самомнительный был человек, токмо по фамилии своей княжеской всякого властолюбия суетного желал, но высокоумно безосновательную голову имел».
Рост популярности Ивана Хованского в стрелецкой среде вполне устраивал Милославского, предпочитавшего руководить заговором, оставаясь в тени. Матвеев сравнивает его с обезьяной из басни Эзопа, которая вытаскивала каштаны из раскаленной жаровни лапами пойманной ею кошки: «…так точно с тем же действием он, господин Милославский, людей тех, безрассудливых Хованских князей, равно как обезьяна, в свои лукавые руки яко кошек помкнул и сделал участниками гнусных своих дел».
Мемуарист перечисляет еще нескольких участников заговора: комнатного стольника Александра Милославского, «злодейственного и самого грубиана», а также племянников жены Ивана Милославского — стольников Ивана и Петра Толстых, «в уме зело острых и великого пронырства и мрачного зла в тайнах исполненных». Из стрелецких командиров к ним примыкали подполковники Иван Цыклер, «коварный, злокозненный человек», и Иван Озеров «из подлого новгородского дворянства».
Сложнее установить имена рядовых стрельцов, непосредственных агентов Милославского и Хованского в полках. Матвеев называет троих: Бориса Одинцова, Обросима Петрова и Кузьму Чермного. Однако, думается, в данном случае мемуарист допускает неточность. Если Одинцов в самом деле участвовал в организации стрелецкого бунта и впоследствии был казнен вместе с князьями Хованскими, то Петров и Чермный в майских событиях вряд ли были активными действующими лицами, о чем свидетельствует тот факт, что во время производившегося в декабре тщательного «перебора» стрелецких полков с высылкой неблагонадежных из Москвы в пограничные города эти двое были оставлены в составе столичного гарнизона, более того, вскоре вошли в круг доверенных людей нового начальника Стрелецкого приказа. Скорее всего, Матвеев путает с майским бунтом 1682 года участие Петрова и Чермного в событиях августа — сентября 1689 года. Подобные неточности неудивительны, поскольку Андрей Артамонович создавал свои мемуары спустя почти три десятка лет после описываемых событий.
Борис Одинцов и другие выборные стрельцы, оставшиеся неизвестными, приходили по ночам в дом Милославского «на тайные разговоры» и «рапортовали» ему о своей деятельности, сводившейся главным образом к агитации в стрелецких полках в пользу царевича Ивана:
— Бояре неправедно учинили, выбрав меньшего брата на царство, обошедши старшего!{70}
Если объединение Милославских, Хованских и Толстых в заговоре с целью провозглашения Ивана царем и физического устранения конкурентов в придворной борьбе не вызывает никаких сомнений, то роль царевны Софьи относится к числу дискуссионных проблем. Но прежде чем сопоставлять и оценивать различные мнения историков, рассмотрим имеющиеся в нашем распоряжении скудные источники, касающиеся этого запутанного вопроса.
Некоторые иностранные современники прямо говорят о Софье как об истинной руководительнице заговора. Неизвестный польский дипломат утверждает, что царевна «с преданными боярами» Милославским и Хованским «составила думу, как бы посадить на трон царевича Ивана». Однако это свидетельство обесценивается дальнейшим рассказом поляка о том, как Иван Нарышкин, «желая проникнуть в их тайные замыслы, стал напрашиваться» в эту тайную «думу» с категорическим заявлением:
— Я боярин да думный дворянин, мне пригоже быть там!
Старательное описание автором этой неправдоподобной ситуации совершенно подрывает доверие ко всему его сообщению. Не более убедительно и другое заявление польского анонима: «…царевна Софья распустила по городу слух, приказав своим прислужникам кричать по улицам, что Иван Нарышкин убил царевича Ивана, задушив его, а сама между тем скрыла его в своих покоях».{71} Другие источники подтверждают, что слух об «убиении» Ивана Алексеевича молниеносно распространился по Москве и послужил сигналом к началу стрелецкого восстания. Но был ли он пущен по приказу Софьи? В подобном утверждении можно усомниться из-за маменькой детали: не было никакого смысла прятать Ивана в покоях царевны, поскольку в пределах дворца скрыть истинное положение вещей было невозможно.
Современный исследователь М. М. Галанов недавно опубликовал несколько ранее неизвестных иностранных источников о событиях 1682 года. Наибольший интерес среди них представляет отправленное в конце мая донесение польского резидента в Москве Станислава Бентковского королю Яну Собескому с подробностями о ходе и итогах стрелецкого мятежа. Резидент со всей определенностью утверждает:
«Источником и первопричиной того бунта и страшной резни была царевна Софья, дочь старого царя и родная сестра Федора и Ивана». Он пишет, что Софья решила «погубить Петра и вдохновить его противников, а также отомстить за смерть брата Федора, так как уже было необходимо выявить суть дела, а именно: было ли отравление. Уговорить стрельцов на восстание послали одного стольника и налили яд в пивные кружки, и когда они собрались выпить, стольник сказал им:
— Наше боярство хотело сгубить много душ и может взять себе много воли, если оставить их без присмотра, и много наших может погибнуть, а бояре приказали сделать так, чтобы вас погубить, как царя с царицей (первой женой Федора Алексеевича Агафьей Грушецкой, которая якобы тоже была отравлена. — В. Н.) погубили. Предупреждаю вас, что в том вине есть яд.
Для пробы дали выпить одну кружку стрельцу, и он тут же умер. Тот же стольник указал им на доктора. Они тут же схватили двух мужчин, которые выдали бояр, входивших в совет. Сперва жестоко убили доктора, потом кинулись на бояр, которых посекли на куски, отрубив головы, руки и ноги, и побросали в болото…»{72}
Нелепость сообщения Бентковского и его слабая осведомленность о реальных событиях 15–17 мая видны невооруженным глазом. История с наполненными ядом пивными кружками настолько неправдоподобна, что можно только удивляться, как дипломат решился сообщить подобную глупость своему королю. Вне всякого сомнения, Бентковский стал жертвой дезинформации, поверив распространяемым врагами Софьи ложным слухам.
Примечательно, что спустя 17 лет австрийский дипломат Иоганн Корб озвучил ту же нелепую легенду в несколько ином виде в сочинении «Главные события из внутреннего быта московитян»: «В 1682 году междоусобицы, питаемые женским честолюбием, ожесточили народные стороны друг против друга, вследствие чего произошли жестокая резня, убийства, грабеж и разбой. Московитяне… приписывают коварным козням царевны Софьи столь великие несчастия». Корб утверждал, что при погребении царя Федора Софья не только заявила об отравлении его боярами, но и сама при этом подлила «сильнейшую отраву» в водку, которой угощались во время траурной церемонии стрельцы-телохранители, а затем предупредила:
— Не пейте водки, которую будут вам раздавать, так как в ней подмешаны смертоносные соки. Кто из вас дотронется до вина, тот умрет; ему угрожает та же самая судьба, жертвой которой сделался царь Федор Алексеевич. Все бояре суть отравители; я призываю вас на помощь против их козней, другого нет средства к спасению, как только решиться на более смелое, чем их, предприятие: отомстить за убийство государя и за покушение на вашу собственную жизнь.
Один из телохранителей будто бы не внял этому предупреждению и, «выпивши отравленное вино, весь распух и скончался», после чего стрельцы уверились в правоте Софьи. «Тогда они стали ругать бояр, делать воззвания к духу усопшего царя, проклинать отравителей, наводить ужас на всю чернь и поднимать ее на вельмож». Далее австрийский дипломат описывает ход стрелецкого восстания с множеством вопиющих ошибок и неточностей, доказывающих, что он имел весьма смутные представления о событиях семнадцатилетней давности и пользовался совершенно ненадежными источниками информации — по-видимому, главным образом рассказами сторонников Петра I, старавшихся как можно сильнее очернить Софью.
Из русских современников только Матвеев касается вопроса об участии царевны в заговоре, отводя ей руководящую роль в подготовке антинарышкинского переворота и утверждая, что она содержала «в кабинете своем» «самый великий и зело глубокий» секрет и «оное секретное действие чрез дивные и вельми хитрые от двора ее, царевнина, политические маневры и интриги или пронырства и чрез злокозненных ее фаворитов или временщиков тайнодействие происходило». Однако при этом мемуарист не приводит никаких конкретных фактов, пишет лишь о том, что постельница Софьи вдова Федора Семенова дочь Родимица ходила по стрелецким полкам «с многочисленною суммою денег» и с обещаниями прибавки жалованья и повышений в чинах. Однако можно поставить под сомнение даже факт такого малозначительного участия царевны в майских событиях, предшествовавших стрелецкому бунту. По свидетельству Сильвестра Медведева, Федора Семенова дочь являлась постельницей не Софьи, а ее сестры Марфы. 25 мая она была по непонятной причине арестована стрелецким караулом у Николаевских ворот Кремля. Из данного факта можно сделать вывод, что постельница не была известна в стрелецких полках, иначе ее как эмиссара царевны Софьи никто не осмелился бы тронуть.
Правда, Матвеев сообщает еще и о том, что Федора Родимица в награду за подкуп стрельцов и агитацию в полках была летом 1682 года выдана замуж за бесспорного участника заговора, подполковника Ивана Григорьевича Озерова «со многим богатством сверху». Однако и этот факт не позволяет утверждать ничего определенного о позиции Софьи в момент подготовки переворота. Можно лишь подчеркнуть, что даже самая активная деятельность одной постельницы (если таковая действительно имела место) не могла оказать существенного влияния на 19 стрелецких полков общей численностью свыше четырнадцати тысяч человек. Скорее всего, Федора была вознаграждена выгодным браком с новгородским дворянином и получила большое приданое от царевны Софьи за другой поступок, относящийся к 25 мая (об этом будет рассказано ниже).
Мнения историков о причастности Софьи Алексеевны к заговору и бунту мая 1682 года разделились. Подавляющее большинство авторов уверены в ее виновности. Достаточно назвать имена таких светил науки, как М. В. Ломоносов, Н. Г. Устрялов, М. П. Погодин, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, М. М. Богоявленский, наш современник Н. И. Павленко. Автор последней крупной работы о политических событиях 1682 года М. М. Галанов на основании новых источников высказал твердую убежденность в виновности Софьи по всем статьям сурового приговора, вынесенного ей большинством историков. Главный пункт обвинения заключается в том, что царевна добилась власти путем чудовищного по масштабам кровопролития. Не довольствуясь этим давно оглашенным вердиктом, исследователь добавил еще несколько более мелких обвинительных статей. Защитники же Софьи на этом «судебном процессе» не столь многочисленны: Н. Я. Аристов, И. И. Буганов и А. П. Богданов. В недавнее время солидарность с наиболее аргументированной точкой зрения В. И. Буганова выразил М. Ю. Зенченко.
Историки готовы спорить снова и снова; между тем истина, как часто бывает, находится посередине. При выяснении картины событий можно, как бы это ни казалось странным, совместить рациональные зерна обеих противоположных концепций.
Нет никаких сомнений, что Софья боролась за права устраненного от престола брата Ивана, поскольку от этого зависела ее собственная судьба. Ей не приходилось ждать ничего хорошего от царствования юного Петра под эгидой Нарышкиных. Судя по всему, она знала об организованной Милославским и Хованским агитации среди стрельцов в пользу царевича Ивана и одобряла ее, однако понятия не имела о составленном ими проскрипционном списке и планировавшихся массовых убийствах, на которые никогда не дала бы согласия. Во время мятежа Софья до конца пыталась спасти жизнь Ивана Нарышкина, несмотря на то, что он был ее политическим противником. Она сумела уберечь от смерти Кирилла Полуектовича Нарышкина, убедив стрельцов ограничиться его пострижением в монастырь. Наконец, по просьбе Софьи мятежники дали согласие на захоронение останков жертв. Что же касается итогов переворота, то Софья обрела не столько власть, которая еще в течение полугода оставалась почти эфемерной, сколько тяжелую обязанность спасать царскую семью, Москву и всю Россию.
Загадки установления регентства
Общеизвестно, что 29 мая 1682 года царевна Софья была провозглашена регентшей при несовершеннолетних братьях — царях Иване и Петре Алексеевичах. Этот факт признается неоспоримым такими крупными историками, как Н. Г. Устрялов, С. М. Соловьев, И. Е. Забелин, М. М. Богословский и С. К. Богоявленский.{73} Все указанные авторы ссылаются на акт «О совокупном восшествии на Всероссийский престол государей царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича и о вручении, за малолетством их, управления государственными делами сестре их, царевне Софии Алексеевне. — С присоединением краткого титула, каковый должно употреблять в государственных актах». Акт датируется 26 мая, а «краткий титул» (образец указа от имени Софьи и ее братьев) — 29 мая 1682 года. С последней датой и принято связывать официальное установление регентства. Впервые акт был опубликован в 1828 году в Собрании государственных грамот и договоров, хранящихся в архиве Коллегии иностранных дел, а двумя годами позже — в Полном собрании законов Российской империи.{74}
В первой части этого законодательного акта сообщается, что патриарх Иоаким и «весь Освященный Собор, и сибирские и касимовские царевичи, и бояре, и окольничие, и думные люди и стольники, и стряпчие, и дворяне московские, и жильцы, и дворяне из городов и всяких чинов служилые люди, и гости и гостиныя и суконныя сотен торговые люди и чернослободцы били челом государям царевичам» Ивану и Петру Алексеевичам, «чтоб они государи изволили… самодержавный скипетр и державу восприяти, кто из них государей изволит». Понятно, что обращение Земского собора к царевичам должно было состояться 27 апреля 1682 года, в день смерти их брата Федора; однако начальные абзацы документа с сообщением о его кончине отсутствуют.
Царевич Иван заявил о своем отказе от престола в пользу младшего брата Петра, «потому что у него государя здравствует мать его благоверная государыня царица и великая княгиня Наталия Кирилловна». Как видим, проблема преемственности самодержавной власти была напрямую связана с возможностью установления регентства матери младшего царевича. Таким образом, Петр был провозглашен царем. Но 26 мая тот же Земский собор обратился к царевичу Ивану Алексеевичу с просьбой утвердиться на российском престоле совместно с братом «для всенародного умирения», поскольку из-за устранения старшего царевича от престолонаследия «чинится Российского Царствия в народех ныне распря». «По тому челобитью» Иван и Петр «на… престоле учинилися и самодержавный скипетр и державу восприяли… обще».
«И советовав они великие государи с матерью своею, с великою государынею царицею и великою княгинею Наталиею Кирилловною, и с своими государскими тетками, и сестрами с благородными государынями царевнами, а также о Святем Дусе со отцем своим и богомольцем с великим господином, святейшим Иоакимом, патриархом Московским и всея Руссии, и со всем Освященным собором, и говоря со своими государскими бояры и с окольничим и с думными людьми, и по челобитью их и всего Московского государства всяких чинов всенародного множества людей, изволили великого своего и преславного Российского царствия всяких государственных дел правление вручить сестре своей, благородной государыне, царевне и великой княжне Софии Алексеевне, со многим прошением, для того что они, великие государи, в юных летех, а в великом их государствии долженствует ко всякому устроению многое правление».
Царевна «по многом отрицании», то есть после неоднократного отказа от предложенной чести, «к прошению братии своей, великих государей… склоняяся, и на челобитье бояр, и окольничих, и думных и всего Московского государства всяких чинов всенародного множества людей милостивно призирая, и желая Российское царствие в державе братии своей великих государей соблюдаемо быти во всяком богоугодном устроении, правление восприяти изволила».
Далее в акте сообщается, как Софья решила организовать свою регентскую власть:
«…Указала она, великая государыня благородная царевна, бояром и окольничим и думным людем видать всегда свои государские пресветлые очи, и о всяких государственных делех докладывать себе государыни, и за теми делами изволила она государыня сидеть з бояры в полате».
«Для совершенного в государственном правлении утверждения» Софья приняла тройную формулу царских указов, в которых ее имя значилось наряду с именами царствующих братьев:
«190 (7190, то есть 1682 от Рождества Христова. — В. Н.) майя в 29 день великие государи, цари и великие князи Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя Рос[с]ии самодержцы и сестра их великая государыня, благородная царевна и великая княжна София Алексеевна всея Великия и Малыя и Белыя Рос[с]ии указали и бояре приговорили».
Законодательный акт о регентстве завершался сообщением, что «бояре и окольничие и думные и ближние люди поздравляли» Софью, Ивана и Петра по случаю создания триумвирата.{75}
Достоверность содержащихся в акте сведений вызывает определенные сомнения. Проблематичен сам факт созыва Земского собора как при провозглашении царем Петра, так и при последующем установлении его совместного правления с Иваном под опекой Софьи. В решении вопроса о регентстве роль юных братьев явно преувеличена. Маловероятно, что отроки решили вручить сестре бразды правления после совета с Натальей Кирилловной, которая вряд ли была готова так легко расстаться с прежней властью. Наконец, обращает на себя внимание несколько странный вид образцового указа: в титуле Софьи Алексеевны после известной формулы «всея Великия и Малыя и Белыя России» не хватает обычного в таких случаях слова «самодержец». Но его и не могло быть, поскольку Софья в начале своего правления самодержавной властью не обладала. Неуклюжая форма указа отразила неопределенное положение правительницы. По верному замечанию Л. Хьюз, именно в таком виде «тройной царский титул, предположительно составленный 29 мая, никогда не употреблялся».{76}
Действительно, все варианты формуляра законодательных актов периода регентства отличаются от вышеприведенного образца. Первые известные указы от имени Софьи, датируемые октябрем — декабрем 1682 года, содержат титул в сокращенном виде. Самый полный его вариант: «Великие государи и сестра их великая государыня, благородная царевна и великая ж княжна София Алексеевна».{77} В июле 1683 года в законодательной практике окончательно утверждается следующая форма тройного титула: «Великие государи, цари и великие князи Иоанн Алексеевич и Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцы, и сестра их, великая государыня благородная царевна и великая княжна София Алексеевна».{78} В отличие от образца 29 мая 1682 года этот вариант вполне логичен.
С марта 1686 года формуляр указов меняется в соответствии с упрочением личной власти правительницы: «Великие государи, цари и великие князи Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич и великая государыня княжна София Алексеевна всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцы».{79} Тем самым за царевной, наряду с ее братьями-монархами, юридически закреплялась самодержавная власть.
Был ли законодательный акт об установлении регентства в самом деле официально утвержден и обнародован в мае 1682 года? Даже внешние особенности опубликованного текста позволяют в этом усомниться. Важнейший документ государственного значения не имеет начала и открывается отточием, после которого следует отрывок первого предложения. Вероятно, публикация акта выполнена по черновому, не до конца оформленному тексту.
Для лучшего понимания сути данного законодательного акта необходимо обратиться к его архивному подлиннику,{80} что было в свое время сделано только двумя историками — А. П. Богдановым и А. С. Лавровым. При сравнении подлинника XVII века с публикацией выясняется, что опубликованный текст смонтирован из черновиков двух различных документов. Как верно отметил А. С. Лавров, при издании оказались опущенными целые абзацы.{81}
Первый текст, повествующий о провозглашении царем Петра и последующем избрании на царство Ивана, заканчивается кратким сообщением об установлении регентства Софьи Алексеевны. Примечательно, что дата этого важного события опущена — остается неизвестным не только число, но и месяц вручения правления Софье:
«И […] в […] день великие государи цари и великие князи Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержцы, советовав во Святем Дусе с отцем своим и богомольцем с великим господином святейшим Иоакимом патриархом Московским и всеа Рос[с]ии вручили правление государством сестре своей государской благоверной государыне царевне и великой княжне Софии Алексеевне».{82}
Этот фрагмент не был включен в опубликованный текст акта. Его место занял второй документ, полностью посвященный обстоятельствам вручения правления царевне Софье. Два его первых предложения, зачеркнутые в архивном подлиннике, также не вошли в публикацию. Между тем они могут оказаться крайне важными, поскольку содержат ссылку на источник приводимых далее сведений — книгу Разрядного приказа:
«В Розряде в записной книге, в которой записаны великих государей избрание и царскими венцы венчание и законных браков сочетание, написано: РЧ ([7]190, то есть 1682. — В. Н.) апреля в КЗ (27. — В. Н.) день по воле Всемогущаго Бога великий государь царь и великий князь Федор Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Рос[с]ии самодержец, оставя Земное царствие, переселился в вечное блаженство Небесного царствия. А по отшествии его государеве от сего света к оному некончаемому блаженству при помощи того ж Всемогущаго Бога на прародительском Российского царствия престоле учинилися и державу обще восприяли братья его государевы великие государи цари и великие князи Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Рос[с]ии самодержцы».{83}
Последующий текст полностью соответствует приведенному выше опубликованному законодательному акту — от рассказа о вручении юными царями правления Софье Алексеевне после совещания с Натальей Кирилловной, царевнами, архиереями и членами Боярской думы до заключительных слов о поздравлении думными чинами монархов и регентши.
Необходимо отметить сомнительность делопроизводственного источника, на который ссылается составитель акта. Структура приведенного выше зачеркнутого фрагмента текста не соответствует практике скрупулезного подневного описания событий дьяками Разрядного приказа. В настоящей записной книге не мог быть пропущен тот факт, что после кончины Федора царем сначала был провозглашен Петр.
Мысль о фальсификации рассматриваемого акта впервые высказал А. П. Богданов, который отнес его возникновение ко времени не ранее конца 1687 года. Автором этого документа историк считает Федора Леонтьевича Шакловитого, стремившегося любыми способами упрочить власть Софьи.{84} Начиная с 1686 года в этом направлении были достигнуты такие заметные успехи, что сторонники царевны даже вынашивали планы ее коронования. Но прежде необходимо было создать прочную правовую основу регентства, представив вручение Софье правления результатом «всенародного» прошения. Этой задаче было посвящено уже упоминавшееся обширное сочинение Медведева «Созерцание краткое лет 7190, 91 и 92».{85}
Сильвестр подробно рассказывает об апрельских и майских событиях 1682 года: кончине Федора, воцарении Петра, стрелецком восстании, провозглашении царем Ивана. Ключевым моментом повествования является 26 мая 1682 года, когда стрельцы и солдаты «усоветоваше» вручить правление «благоверной премудрой государыне царевне и великой княжне Софии Алексеевне». «И по оному их благому совету и тщанию сотворися, — пишет Медведев, — а како то бысть и чесо ради, — и о том изъявляет писание в Розряде в записной того года книге сице (то есть так. — В. Н.)». Далее текст почти полностью соответствует второй части архивного подлинника акта от 26–29 мая 1682 года: он начинается с тех же двух предложений о кончине Федора и совместном воцарении Ивана и Петра и заканчивается образцом указа от имени царствующих братьев и Софьи.{86} В «Созерцании» отсутствуют только заключительные слова акта — о поздравлении триумвирата Боярской думой.
А. С. Лавров объясняет текстологическое совпадение акта и фрагмента сочинения Медведева тем, что авторы этих документов использовали один и тот же источник — несохранившуюся записную книгу Разрядного приказа.{87} Однако тщательное сопоставление текстов не позволяет согласиться с этой версией. Язык Медведева заметно более архаичен, что вполне естественно для священника; в акте вместо его слов «благородней», «склоняющися», «призирающи», «желающи» написано «благородной», «склонялся», «призирая», «желая». Священнослужителя особенно выдает церковнославянское «сице». В акте вместо этого видим: «…по сему образцовому письму»; затем эти слова исправлены на «нижеобъявленному написанию».{88}
Если бы разрядная запись действительно существовала, она лексически была бы ближе законодательному акту, чем документу из сочинения Медведева. Но представляется невероятным, чтобы автор «Созерцания краткого», заимствуя выписку из делопроизводственного источника, намеренно изменял слова и обороты в сторону большей архаичности. Процесс работы над текстом мог быть только обратным. Вывод очевиден: Медведев сам сочинил документ и постарался придать ему форму выписки из разрядной книги, но не вполне преуспел, оказавшись не в состоянии точно передать непривычный для него мирской язык приказного делопроизводства. А затем Шакловитый или кто-то из близких к нему приказных служителей отредактировал текст акта.
Несомненно, с этим связаны два основных расхождения в рассматриваемых источниках. В «Созерцании» после сообщения о том, что Иван и Петр «изволили… правление вручити сестре своей… Софии Алексеевне», следует дополнение в духе искусного панегириста Медведева: «А ея, великую государыню, благоволила Божия Премудрость упремудрити паче инех, и кроме ее правити Рос[с]ийское царствие никому невозможно». В тексте законодательного акта этот пассаж отсутствует, вероятно, по причине излишней льстивости.
Тщательная редакторская правка особенно заметна в другом фрагменте текста, который в сочинении Сильвестра выглядит как «София Алексеевна… желающи Рос[с]ийское царствие в державе братий своих, великих государей цело соблюдаемо быти во всяком богоугодном устроении и правлении, той превеликий труд восприяти изволила». В акте слова «братий своих» заменены на «братии своей», слово «цело» опущено как излишнее по смыслу, «желающи» заменено на «желая»; в обороте «во всяком богоугодном устроении и правлении» слова «и правлении» исключены, а вместо «той превеликий труд» написано «правление». Всё вышесказанное исключает возможность существования некоей разрядной записи как первоисточника обоих текстов и дает возможность утверждать, что документ из сочинения Медведева стал протографом акта об установлении правления Софьи.
Правовые основы регентства Софьи Алексеевны стали предметом специального изучения на государственном уровне весной 1766 года, когда управляющий Коллегией иностранных дел граф Н. И. Панин обратился с соответствующим запросом к начальнику Московской конторы коллегии М. Г. Собакину. Панина особенно интересовало наличие актов, объясняющих, «когда и как соправительство царевны Софии установлено было». Поиск документов надлежало провести в московском архиве Коллегии иностранных дел, который Собакин возглавлял с 1741 года до января 1766-го. Он прекрасно разбирался в составе архивных материалов и имел в своем подчинении таких высококвалифицированных архивистов, как новый директор архива Г. Ф. Миллер, Н. Н. Бантыш-Каменский и М. Н. Соколовский.
Под руководством Собакина служащие архива провели тщательное выявление документов в фондах Посольского приказа, Мастерской и Оружейной контор, на основании которых Собакин в ответном письме Панину сделал важный вывод: «…видно, что торжественного постановления о соцарствии царевны не было, и приступила она к тому, входя от времени до времени по малу».{89}
Таким образом, разыскания архивистов XVIII века подтвердили отсутствие официально утвержденного законодательного акта о регентстве Софьи Алексеевны. Однако остаются непроясненными два момента. Во-первых, непонятно, почему Собакин не обнаружил или не сообщил Панину о том самом черновом акте, который подробно рассматривался выше. Ведь этот документ, вошедший впоследствии в состав коллекции «Исторические и церемониальные дела», хранился именно в московском архиве Коллегии иностранных дел. Во-вторых, в письме Собакина содержится загадочное пояснение: «А когда и каким образом царевна София Алексеевна вступила в правительство Российского государства, о том упоминается в записной книге под № 18, которая послана из архива при репорте в Коллегию 25 марта 1762 г.»{90}
Значит, записная книга Разрядного приказа с рассказом об обстоятельствах установления регентства Софьи всё же существовала? А. С. Лавров уверен в этом. «К сожалению, — сетует он, — обнаружить саму записную разрядную книгу не удалось. Ее следы затерялись еще в 1760-х гг. …Судя по тому, что в фонде Разрядного приказа книгу с соответствующей записью обнаружить не удалось, на свое место она не вернулась».{91}
Между тем в фонде Разрядного приказа упоминаемой Собакиным книги быть и не могло. Она была отослана в вышестоящую инстанцию из московского архива Коллегии иностранных дел, а материалы Разрядного приказа хранились в другом ведомственном архивном учреждении — Разрядно-Сенатском архиве. Тогда о каком же документе могла идти речь в письме Собакина?
Если объединить первую и вторую загадки, ответ напрашивается сам собой: в марте 1762 года московский архив отправил в коллегию всё тот же черновик поддельного акта об установлении регентства Софьи. Документ был неточно назван в рапорте архива записной книгой (а не выпиской из записной книги) на основании приведенного выше заглавного абзаца сто второй части: «В Розряде в записной книге… написано». Собакин не имел возможности сообщить Панину о содержании этого документа, поскольку к весне 1766 года его не было на месте; он был возвращен из коллегии к 1770 году, когда его описал и скопировал переводчик архива Мартын Соколовский.{92}
Думается, приведенный выше анализ поддельного законодательного акта, составленного на основе сфабрикованной Сильвестром Медведевым разрядной записи, позволяет окончательно развеять историографический миф об официальном установлении регентства Софьи Алексеевны 29 мая 1682 года. А. П. Богданов прав, утверждая, что майское восстание не дало Софье формальных признаков власти. К аналогичному выводу пришла и Л. Хьюз, отметившая, что «в 1682 г. Софья, несомненно, сосредоточила власть в своих руках, но ее статус правительницы не был оформлен законодательно».{93}
Добавим еще два аргумента в поддержку этой версии. В царской грамоте на Дон от 27 июня 1682 года о приведении казаков к присяге на верность царям Ивану и Петру ничего не говорится о регентстве Софьи, а сама она упоминается при перечислении членов царской семьи только на седьмом месте — после вдовствующих цариц Натальи Кирилловны и Марфы Матвеевны, теток Анны Михайловны и Татьяны Михайловны и старших сестер Евдокии и Марфы.{94}
Примечательно также свидетельство Андрея Матвеева, что Софья при братьях вступила «к вспоможению государственного их обоих величеств правления». Очень важно дальнейшее замечание: «И в скором времени потом умалися прежнее самодержавие царицы государыни Наталии Кирилловны». Обратим внимание: власть матери царя Петра не исчезла совсем, как должно было случиться при официальном установлении регентства Софьи Алексеевны, а всего лишь «умалилась». Потребовалось еще несколько месяцев, чтобы положение правительницы Софьи окончательно закрепилось.
Столп для надворной пехоты
После убийств 17 мая «стрелецкое буйство» прекратилось, и дальнейшие действия восставших осуществлялись в мирной форме. На следующий день выборные от всех стрелецких полков явились во дворец уже без оружия, но выдвинули категорическое требование:
— Бьем челом великому государю царю Петру Алексеевичу и государыням царевнам, чтоб указал великий государь деда своего, боярина Кирилу Полуехтовича Нарышкина, постричь в монастырь.
К стрельцам на Постельное крыльцо вышла Софья. Неизвестный очевидец событий, описавший их позже в летописи, сообщаем: «И царевна стрельцам говорила многое время, что, не слышать издали»; а царский дед в это время «стоял на нижнем рундуке» в ожидании решения своей участи. Автор этого рассказа, несомненно, находился в толпе народа на площади перед дворцом, поэтому и не мог расслышать слов Софьи. Вероятно, некоторые выборные требовали казни Нарышкина, но царевна уговорила сохранить ему жизнь. Летописец сообщает: «…стрельцы пошли, и боярин Кирила Полуехтович трожди [бил] стрельцам в землю челом, а за что, не ведомо, не слышать, что говорили».{95} В тот же день Кирилл Полуектович был пострижен в Чудовом монастыре под именем Киприан, а на следующий день вместе с младшим сыном Федором под конвоем из пятидесяти стрельцов отправлен к месту ссылки — в Кирилло-Белозерский монастырь.
Приведенное выше свидетельство очевидца показывает, что Софья, как и во время трехдневного мятежа, продолжала выступать в роли главной представительницы царского семейства, удерживая восставших от дальнейших расправ. Как верно заметил С. М. Соловьев, «Софья выдвинулась сама собою на первый план, и никто ей не мешал: это было единственное лицо из царского дома, которое хотело управлять, и всё волею-неволею обращалось к ней, к ней обращались и стрельцы со своими просьбами или требованиями, и, разумеется, Софья спешила удовлетворить их».{96}
Вне всякого сомнения, царевна проявляла властные полномочия не только для удовлетворения стрелецких требований, но и для руководства государственным аппаратом, который после трехдневного перерыва начал работать бесперебойно. Уже 17 мая вместо погибших и опальных сановников были назначены новые руководители основных государственных учреждений. Во главе важнейшего в условиях восстания Стрелецкого приказа был поставлен князь Иван Андреевич Хованский — единственная в тот момент фигура, которая удовлетворяла требованиям мятежных стрельцов. Историк С. К. Богословский пишет, что Хованский вступил в управление Стрелецким приказом «неизвестно по чьему указу». Однако Андрей Матвеев утверждает, что еще в дни кровавых расправ 15–17 мая Иван Михайлович Милославский, «в сторону уклоняся тайно», представил «царевне Софии Алексеевне, чтоб тогда всё правление то стрелецкое поручить… боярам, князю Ивану Андреевичу и сыну его князю Андрею Ивановичу Хованским».{97} Сам Милославский возглавил Рейтарский, Пушкарский и Иноземный приказы. Таким образом, два организатора дворцового переворота взяли под контроль армию и стрелецкое войско. Князь Василий Васильевич Голицын был назначен начальником Посольского приказа и примыкавших к нему финансовых учреждений. Молодой князь Андрей Иванович Хованский встал во главе Судного приказа.
В то же время новые назначения коснулись и лиц, прежде поддерживавших разгромленную группировку Нарышкиных: боярин князь Иван Борисович Троекуров получил в свое управление Поместный приказ. Ямской приказ, прежде соединенный со Стрелецким, стал теперь самостоятельным учреждением, и во главе его был поставлен Иван Федорович Бутурлин-Сухорукий. Чуть позже крупные государственные посты получили два виднейших представителя Боярской думы, не участвовавшие в борьбе придворных группировок. Престарелый князь Никита Иванович Одоевский 20 мая был назначен руководителем Большой казны и Большого прихода, а в июне боярин Петр Васильевич Большой Шереметев возглавил Оружейную палату. Оценивая эти назначения, С. К. Богоявленский заметил: «Никогда еще высшая московская бюрократия не имела столь ярко выраженного аристократического характера, не включала в свой состав так много представителей знатнейшего боярства, как после восстания стрельцов, направленного против самовластия бояр».{98}
Между тем мятежное стрелецкое войско продолжало диктовать правительству свои требования, причем часто оказывалось, что они соответствуют интересам «партии» Милославских. 20 мая стрельцы подали челобитную, «чтоб великий государь указал сослать в ссылку» постельничего Алексея Лихачева, окольничего Павла Языкова, чашника Семена Языкова, всех Нарышкиных, Андрея Матвеева и других лиц, неугодных Милославским.
В то же время торжествующие мятежники не забывали и о собственных интересах. Днем раньше стрельцы, солдаты и пушкари били царю челом о выплате «заслуженных денег» с 1646 года. По подсчетам просителей, не стеснявшихся выдвигать непомерные требования, задолженность государства составила 240 тысяч рублей. Кроме того, Софья Алексеевна еще раньше распорядилась о пожаловании стрельцам по десять рублей на человека, что в целом составляло около 20 тысяч. Таких средств в казне не оказалось, поэтому было «велено сбирать со всего государства, брать и посуду серебряную и из нее делать деньги».
Подробное описание последующих майских событий, имевших исключительно важное значение для формирования новой высшей власти, привел в «Созерцании кратком» Сильвестр Медведев. По его словам, 23 мая выборные от стрелецких полков явились в Кремль и, «пришедше на Красное крыльцо, велели боярину князю Ивану Хованскому доложить государыням царевнам, что во всех их стрелецких полкех хотят, и иных чинов многия люди, чтобы на Московском царстве были два царя, яко братия единокровнии: царевич Иоанн Алексеевич, яко брат больший, и царь да будет первый; царь же Петр Алексеевич, брат меньший — и царь вторый». В случае отказа выполнить это требование стрельцы угрожали, что снова явятся «вооружася» в Кремль «и от того будет мятеж немалый».
Хованский поспешил довести стрелецкий ультиматум до сведения «государынь царевен», а те распорядились немедленно собрать «всех бояр, окольничих, думных и ближних людей», то есть Боярскую думу в полном составе. Обращает на себя внимание свидетельство Медведева, что в течение первой недели после прекращения вооруженного стрелецкого бунта Софья еще не выделилась в полной мере — все царевны вместе олицетворяли собой верховную власть. Примечательно, что обе вдовствующие царицы с этой властью уже не отождествлялись. Недолгое регентство Натальи Кирилловны закончилось с разгромом «партии» Нарышкиных в дни мятежа.
По зову царевен Боярская дума собралась в Грановитой палате. Туда же были приглашены «всяких чинов люди» — стольники, стряпчие, жильцы, московские и городовые дворяне, дети боярские, гости, выборные от посадов и от полков. Разумеется, призвали и патриарха Иоакима со всем Освященным собором.
Собравшиеся начали обсуждать вопрос о возможности установления власти двух монархов. Одни говорили, что двум царям «в едином государстве быти трудно». Другие возражали:
— Дело будет полезно государству, если два царя яко единокровные братья восцарствуют и отеческий свой и прародительный престол Московского государства удобно управят. При наступлении на Российское благочестивое государство всегда готовая будет оборона и правление чинное: если один царь противу неприятеля пойдет, другой останется в царстве своем на престоле царском и будет править государством.
Сторонники второй точки зрения подкрепляли ее примерами из всемирной истории, в которой случаи дуумвирата не были редкостью. После подробного обсуждения собравшиеся постановили провозгласить совместное царствование Ивана и Петра. Отроки были поставлены «в соборной церкви на царском месте равно», но прославляли сначала старшего, хотя младший был утвержден в качестве царя раньше. Освященный собор пропел «благодарственное Господу Богу молебное пение» и возгласил «многая лета благочестивым царям». После этого архиереи, царский «синклит» и «вси людие чинами своими особь» (то есть все чины по отдельности) поздравляли государей с восшествием на престол и объявляли свое усердное желание служить им обоим («купно»).
Всё это время стрелецкие выборные оставались на площади перед царским дворцом, ожидая решения собора. Вышедший к ним князь Иван Хованский оповестил о благополучном исходе дела и поинтересовался, «всё ли у них смирно». Выборные уверили начальника Стрелецкого приказа в своей лояльности и спросили его о самочувствии государей, на что получили ответ, что вся царская семья «милостию Божиею в добром здоровье».
Тут на авансцену политической жизни снова вышла Софья — на этот раз без сестер: «выборных изволила призвать и службу их похваляла; а впредь де за их службу им их государская милость будет». Таким образом, царевна недвусмысленно дала понять, что весьма одобряет инициативу стрельцов в деле провозглашения двоецарствия.
Спустя два дня стрелецкие выборные вновь явились «за переграду» царского дворца и «велели сказать князю Ивану Хованскому, чтобы он к ним вышел». Появившемуся вскоре боярину выборные сообщили довольно странное известие, в котором вновь всплыло имя постельницы Федоры Родимицы, названной Андреем Матвеевым доверенным лицом царевны Софьи.
— Государыни царевны Марфы Алексеевны постельница Федора Семенова дочь, — рассказывали стрельцы, — сидя за караулом у Николаевских ворот, говорила, что великий государь царь и великий князь Иоанн Алексеевич болезнует о своем государстве, да и государыни царевны о том сетуют.
Выборные потребовали, чтобы Хованский пересказал их разговор Софье Алексеевне, и попросили разрешения видеть «государские очи». Извещенная царевна приказала явиться в «государские палаты» по одному человеку от каждого полка. Стрелецких выборных приняли Иван Алексеевич и все царевны, которые «стрелецкую и солдатскую службу милостиво похваляли и о приходе выборных спрашивали». Стрельцы, повторив странные речи постельницы, спросили:
— По чьему научению она те слова говорила?
Царь и царевны решительно опровергли свою причастность к Федориным разговорам:
— Ту постельницу мы ни с какими словами не посылали никуды и никаких речей говорить ей не приказывали. Только она у нас просилась в Вознесенский монастырь и к Василью Блаженному помолиться.
Стрельцы в весьма дерзкой форме потребовали:
— Нужно, чтобы у вас, великих государей, в ваших государских палатах никакого смятения не было и чтобы великий государь Иоанн Алексеевич изволил быть на отеческом престоле первым царем, а брату его государю царю Петру Алексеевичу быть вторым царем. А мы, всех полков стрельцы и солдаты, великим государям служить хотим в равенстве.
Царевны «те слова слушали радостно», после чего заявили:
— Дай Боже смирения. А тому быть мочно, чтобы государю царю Иоанну Алексеевичу быть первым царем. А как будут из иных государств послы, и к тем послам выходить царю Петру Алексеевичу. И при наступлении из окрестных государств на Московское государство неприятелей — противу неприятелей войною идти мочно царю Петру Алексеевичу. А в Московском государстве в это время править царю Иоанну Алексеевичу.
Разумеется, царевны не произносили эти речи хором. Сильвестр Медведев в данном случае не выделяет Софью, поскольку аудиенцию стрельцам все сестры давали вместе. Но можно не сомневаться, что именно Софья Алексеевна, самая харизматичная из царевен, к тому же владевшая ораторским мастерством, взяла на себя задачу общения со стрельцами от имени монаршей семьи.
В данном эпизоде любопытна позиция Ивана Алексеевича. Восшествие на престол, да еще в роли первого царя, его отнюдь не радовало, но он подчинился требованию стрельцов, надумавших распоряжаться вопросами организации верховной власти по праву сильных. При этом Иван сказал:
— Желанием того, чтобы быть мне великим государем царем, не желаю. Но буди в том воля Божия, что Бог восхочет, то и сотворит.
Софья же от имени сестер заявила:
— В том воля Божия есть и впредь будет. А вы, выборные стрельцы, не сами собою всё то говорили, но было о том Божие изволение, и Богом вы в том были наставляемы.
Тем самым царевна со всей откровенностью выразила одобрение стрелецких требований, возвышавших Ивана над Петром. Ее радость понятна: как верно заметил С. М. Соловьев, «сочли за нужное… понизить Петра перед Иоанном, чтоб тем самым понизить царицу Наталью Кирилловну, отнять у нее возможность требовать себе правительства». На следующий день в Грановитой палате был опять созван собор, одобривший новую иерархию царской власти и подтвердивший готовность Боярской думы и «выборных всяких чинов людей» служить обоим царям.{99}
Как видим, Федора Родимица спровоцировала вмешательство стрельцов в дела верховной власти, причем принятое по их требованию решение очень обрадовало Софью с сестрами. Напрашивается мысль, что, вопреки уверению царевен, постельница была подослана ими к стрельцам с уже готовой установкой. Можно предположить, что в награду именно за такую помощь Софья устроила Родимице выгодный брак со стрелецким подполковником.
Рассказ Сильвестра Медведева об этих событиях представляется вполне правдоподобным. Выдумать странный эпизод с арестованной постельницей, сообщившей стрельцам о сетованиях царского семейства, что подвигло их к вмешательству в дела верховной власти, автор, вероятно, не мог, поскольку описанные им детали слишком парадоксальны.
Зато следующий фрагмент «Созерцания краткого», где речь идет об официальном провозглашении Софьи Алексеевны регентшей, — как говорилось выше, умелая фальсификация событий на основании сфабрикованной Сильвестром выписки из Разрядной книги.
С установлением двоецарствия сложилась новая политическая ситуация, потому что двор царя Ивана стал теперь конкурировать с двором царя Петра и его матери. Однако в реальности новый центр власти составили не Иван и его приближенные, а Софья со своими сторонниками.
В конце мая и июне 1682 года дворы Ивана и Петра пополнились новыми комнатными стольниками и спальниками. Иван взял к себе 26 человек, из которых десять прежде служили при дворе царя Федора. В числе первых к Ивану спальниками были назначены сыновья Ивана Михайловича Милославского Александр и Сергей, а также их двоюродный брат Алексей Матвеевич. Но сам Иван Михайлович в начале лета заметно утратил влияние в правительстве, что положило конец возвышению его родственников: они больше никогда не получали важные чины и должности.
В комнатных стольниках и спальниках царя Ивана состояли представители княжеских родов Прозоровских, Шаховских и Дуловых, а также Шереметевы, Собакины, Хитрово, Головины, один из Салтыковых и выходцы из более скромных дворянских семей. Двор царя Петра был более сановным: в число его комнатных стольников входили молодые князья Одоевские, Долгорукие, Ромодановские, Куракины и Троекуровы. Представители княжеских родов Урусовых, Черкасских и Голицыных, а также Матюшкины, Апраксины и Юшковы разделились между двумя дворами.{100}
Между тем стрельцы сочли нужным обезопасить себя от мести правительства за участие в бунте и избиение боярства. Им необходимо было представить свои действия как благое дело в защиту престола. В конце мая от имени стрельцов, солдат, гостей, посадских людей и ямщиков царям была подана челобитная, в которой утверждалось, что «побитье» бояр-изменников 15 мая было произведено «за вас, великих государей, и за всё ваше царское пресветлое величество», за «порабощение и неистовство к вам», а также «от великих к нам их налог и обид, и от неправды».
Челобитчики подробно объясняли причины расправы над каждым боярином. Князья Юрий и Михаил Долгорукие были убиты «за многие их неправды и за похвальные слова», а также за то, что без царских указов били стрельцов кнутом и отправляли в ссылку «в дальние городы». Кроме того, старший Долгорукий в должности начальника Стрелецкого приказа учинил стрельцам «денежную и хлебную недодачу». Ларион Иванов был виноват в том, что действовал в согласии с Долгорукими и грозил вешать стрельцов на зубцах стен Белого города. Кроме того, как мы помним, у него в доме при обыске были найдены «гадины змеиным подобием». Его сын Василий был убит за то, что, «ведая у отца своего на ваше государское пресветлое величество злоотравные гадины, в народе не объявил». Князю Григорию Ромодановскому припомнили «измены и нерадение» при сдаче туркам Чигирина. Преступления Ивана Языкова состояли в том, что он «стакався» со стрелецкими командирами, брал «взятки великие», учинял большие налоги стрельцам и «наговаривал» полковникам, чтобы они били стрельцов «кнутом и батогами до смерти». Артамона Матвеева и немецких докторов обвинили в составлении «злоотравного зелья» с целью покушения на жизнь «царского пресветлого величества». Иван и Афанасий Нарышкины поплатились жизнью за то, что якобы примеряли царскую порфиру и «мыслили всякое зло» на царевича Ивана Алексеевича. Полковники Андрей Дохтуров и Григорий Горюшкин обвинялись в истязаниях стрельцов. Аверкий Кириллов был убит за то, что «он, будучи у вашего государского дела, со всяких чинов людей великие взятки имал и налогу всякую и неправду чинил».
Челобитчики потребовали от государей поставить на Красной площади столб, на котором были бы обозначены имена злодеев с указанием, «хто за что побит». Кроме того, они захотели получить жалованные грамоты с одобрением своих действий 15–17 мая, чтобы «бунтовщиками и изменниками нас не называли бы». Наконец, были выдвинуты требования запрещения полковникам «для своих прихотей» бить стрельцов кнутом и батогами, а также использовать подчиненных на хозяйственных работах по своему произволу.{101}
Царевна Софья вынуждена была согласиться с этими требованиями. Уже в конце мая стрельцы под руководством полковника Цыклера и подполковника Озерова воздвигли на Красной площади монумент — четырехугольное сооружение из кирпича на каменном фундаменте, увенчанное шатром с черепичным покрытием. Одновременно были срочно изготовлены жалованные грамоты стрельцам, текст которых полностью соответствовал содержанию челобитной в части описания «преступлений» убитых «бояр-изменников». Такой же текст был отчеканен на «листах больших медных луженых», которые были помещены в отверстия монумента «наподобие окон». Тем самым правительство признавало факт политической реабилитации участников мятежа и официально снимало с них возможные обвинения в нарушении закона.{102} Свои жалованные грамоты, полученные в Стрелецком приказе, торжествующие стрельцы несли на головах.
В день водружения столба и выдачи грамот, 14 июня, стрельцы по своему произволу подвергли зверским пыткам и казнили полковника Степана Янова — «старого и заслуженного и гораздо знатного мужа, который их, стрельцов, тогда правильно и крепко в своей по артикулам воинским команде содержал». «И с того числа, — отмечено в записной книге Разрядного приказа, — немногие дни были без стрельбы, а во всех слободах стреляли из ружья».{103} Столица находилась во власти распоясавшихся мятежников.
Примерно тогда же, в середине июня, стрельцы выдвинули новое требование — захотели именоваться надворной пехотой, что подчеркивало бы их близость ко двору в качестве столичного гарнизона и охраны царской резиденции. Софья немедленно согласилась: 28 июня указом от имени царей Ивана и Петра Стрелецкий приказ был переименован в Приказ московских полков надворной пехоты.{104}
Надо отметить: царевна действовала в отношении мятежных стрельцов тонко и осторожно. Медведев сообщает, что Софья «удовольствовала» их большой прибавкой денежного жалованья и прибыльными доходами с торговых лавок, часто приглашала стрелецких выборных к себе и «великую честь над ними, выборными, превосходнее и вернее всего дворянства вела». Разумеется, это было лицемерие, но поступить иначе не представлялось возможным: страх правящих верхов перед вооруженными бунтовщиками был слишком велик.
Между тем государственные дела шли своим чередом. 25 июня состоялось венчание на царство Ивана и Петра. На коронации князь Василий Васильевич Голицын прислуживал царю Ивану, а его двоюродный брат Борис Алексеевич — Петру. В этот день в бояре были пожалованы стольники князь Андрей Иванович Хованский и Михаил Львович Плещеев, а также окольничий Матвей Богданович Милославский. Чин окольничего получили стольник Ларион Семенович Милославский и думный дворянин Венедикт Андреевич Змеев. В думные дворяне были произведены стольник Петр Савич Хитрово и полковник Василий Лаврентьевич Пушечников. Пожалование думными чинами сразу двоих Милославских отразило возросшее значение родственников царя Ивана и царевны Софьи. Обращает на себя внимание также возведение в боярское достоинство князя Андрея Хованского через чин, минуя окольничество, что, несомненно, являлось показателем возросшего влияния его отца. Впрочем, таким же образом боярство получил недруг старшего Хованского и верный сторонник Софьи Михаил Плещеев.
В последующие дни в бояре были пожалованы еще несколько представителей старых фамилий: Борис Петрович Шереметев, князь Михаил Иванович Лыков, князь Андрей Иванович Голицын, князь Василий Петрович Прозоровский (сын воспитателя царя Ивана) — двое последних — также через чин. В окольничие были произведены стольник Тихон Никитич Стрешнев и думный дворянин Василий Саввич Нарбеков; чин думного дворянина получили стольники Василий Семенович Змеев и Авраам Иванович Хитрово. Если Стрешнев был преданным сторонником царя Петра, то Нарбеков и двоюродные братья Змеевы входили в окружение князя Василия Голицына. Через четыре дня после коронации кравчим при дворе царя Ивана был назначен князь Алексей Петрович Прозоровский, а при царе Петре эту должность продолжал выполнять князь Борис Голицын.{105} Новые назначения в Боярскую думу и на придворные должности отразили рост значения сторонников царевны Софьи и князя В. В. Голицына, которым противостояли, с одной стороны, приверженцы царя Петра и Нарышкиных, а с другой — клан Хованских, преследовавших собственные, не до конца понятные политические цели.
Князь Иван Андреевич Хованский, впрочем, не играл крупной роли в Думе. Его влияние было связано с популярностью в среде стрельцов, которые до начала осени 1682 года оставались фактическими хозяевами в столице. По свидетельству А. А. Матвеева, «князья Хованские, со дня на день в славе и той их стрелецкой радости превосходить начали, и во всём им, стрельцам, больше от безумия своего любительно снисходили и слепо угождали». Стрельцы называли старого князя Хованского «батюшкой» и «завсегда за ним ходили и бегали в бесчисленном множестве, и куда он ни ехал, во все голоса перед ним и за ним кричали: „Большой, большой!“ И в такой великий кредит тем своим безумным поведением они, князья Хованские, к ним, стрельцам, вошли, что они, стрельцы всех бывших полков, в собственной их, князей Хованских, воле и власти были». В то время страх представителей правящей верхушки перед стрельцами был настолько велик, что «им, князьям Хованским, ничего вопреки никогда прямо говорить никто не смел».{106}
В конце мая по непонятной причине произошел резкий разрыв дружеских и союзнических отношений между Иваном Хованским и Иваном Милославским. Это стоило последнему потери государственных постов: уже 25 мая Пушкарский приказ был передан в ведение боярина князя Федора Семеновича Урусова, а в начале июня к нему же отошли Иноземский и Рейтарский приказы. Так главный организатор дворцового переворота вдруг оказался не у дел. Более того, его ссора с Хованским приняла настолько открытый и опасный характер, что стрельцы даже угрожали смертью обидчику своего «батюшки». Милославский, не на шутку перепуганный, сбежал из столицы в свои подмосковные вотчины, где, по образному выражению Матвеева, «всячески укрывался, как бы подземный крот, и паче меры тайно вкапывался внутрь земли».{107} В начале лета он вступил с Василием Голицыным в союз, направленный против отца и сына Хованских.{108} Для Ивана Михайловича это была надежная защита: с Голицыным никто не смог бы справиться даже при поддержке стрельцов. Уже в мае и июне всем стало ясно, что князь Василий Васильевич пользуется особым расположением Софьи Алексеевны и, по сути, действует от ее имени во всех делах. По мере упрочения власти царевны Голицын всё активнее стремился противостоять Ивану Хованскому.
Всплеск наибольшей политической активности князя Ивана Андреевича пришелся на июнь и первые дни июля 1682 года, когда он с целью упрочения своего влияния на стрельцов предпринял опасную попытку заигрывания с лидерами радикальной старообрядческой оппозиции.
Раскольничий бунт
В середине XVII века в России была проведена церковная реформа патриарха Никона. Различия старого и нового вероисповеданий касались церковных обрядов и текстов молитв и священных книг. Для далеких от православия людей эти расхождения могут показаться несущественными, но в те времена ради сохранения «древлего благочестия» люди готовы были идти на смерть.
В книгах «никоновской» печати было изменено написание имени Христа — Иисус вместо прежнего Исус, а также форма «Исусовой молитвы»: вместо слов «Господи, Исусе Христе, сыне Божии» реформаторы постановили читать: «Господи, Иисусе Христе, Боже наш». Наиболее болезненно воспринимались старообрядцами изменения (в основном редакционного плана) в освященной многовековой историей молитве, перечисляющей основные догматы христианства, — Символе веры.
Вместо двоеперстия было введено троеперстие. Молитвенный возглас «аллилуйя» стал произноситься трижды; а древняя «сугубая» (повторявшаяся дважды) аллилуйя была объявлена реформаторами «богомерзкою македониевой ересью». Тем самым нарушалась священная троичность, поскольку после третьего возгласа «аллилуйя» пелось равнозначное «Слава Тебе, боже». Во время крестных ходов, таинств крещения и венчания было указано ходить против часовой стрелки, тогда как по церковному преданию полагалось ходить в противоположном направлении — «посолонь», то есть по солнцу. При крещении младенцев никониане допускали и даже оправдывали обливание и окропление водой, в то время как староверы отстаивали необходимость крещения в три погружения. Литургию стали служить на пяти, а не на семи просфорах. Древний обычай избрания духовных лиц приходом был заменен постановлением сверху. Допускались браки с иноверцами и между лицами, состоящими в более близких, чем седьмая, степенях бокового родства.{109}
Неудивительно, что новые церковные порядки крайне болезненно воспринимались многими церковнослужителями, монахами и прихожанами.
Стрелецкий мятеж 1682 года и последующая ситуация, когда верховная власть неукоснительно выполняла всё новые и новые требования обнаглевших преторианцев, породили надежду на возможность возрождения старой веры. Среди стрельцов было очень много раскольников. На третий день после бунта, 20 мая, стрельцы полка Григория Титова на сходе рассуждали о том, чтобы «изыскать старую православную веру, подать челобитную, чтоб патриарх и власти дали ответ от Божественного писания, за что они старые книги возненавидели и возлюбили новую латино-римскую веру».
Челобитная по просьбе стрельцов была написана жившими в Гончарной слободе «ревнителями отеческих преданий» монахом Сергием и бывшим келейником Макарьевского Желтоводского монастыря Саввой Романовым. Последний вскоре оказался в самой гуще событий и некоторое время спустя подробно описал их в сочинении «История о вере и челобитная о стрельцах». Особенно интересны тщательно воспроизведенные речи, в том числе царевны Софьи, князя Хованского, патриарха Иоакима. Другим источником информации о событиях, связанных с прениями о вере, служит «Созерцание краткое» Сильвестра Медведева. В отличие от раскольника Романова, он выражает точку зрения официальной Церкви и сочувствует патриарху Иоакиму, несмотря на разногласия с ним. Медведев также неоднократно приводит речи Хованского и особенно Софьи, которая предстает на страницах «Созерцания» блестящим оратором.
Савва Романов свидетельствует, что движение в поддержку старообрядчества охватило почти половину — девять из девятнадцати — стрелецких полков, находившихся в Москве. Под воздействием расколоучителей служивые доходили до религиозной экзальтации. Когда стрельцы явились послушать чтение челобитной, сочиненной жителями Гончарной слободы, монах Сергий сказал им:
— Попекитесь, братья, о стольких душах, погибающих от новых книг; не дайте нас в поругание по-прежнему, как братию нашу, жечь да мучить, а мы готовы обличить их новую веру.
— Готовы, честной отче! — закричали стрельцы. — Готовы с вами заодно умереть за старое благочестие, коротко скажем: что будет вам, то и нам.
После чтения Саввой Романовым челобитной стрельцы пришли в изумление и восторг:
— Отроду не слыхали мы такого слога и такого описания ереси в новых книгах.
Многие плакали и кричали:
— Подобает, братия, постоять за старую веру и кровь свою пролить!
С известием о написании челобитной стрельцы отправились к своему начальнику Ивану Андреевичу Хованскому, когда-то бывшему приверженцем старой веры и вроде бы даже пострадавшему за нее. Хованский выразил радость по поводу стрелецкой инициативы, но счел своим долгом спросить:
— Есть ли, братия, кому ответ давать властям? Велико дело Божие сие, надобно, чтоб люди ученые были.
— Есть у нас инок, зело искусен Божественному писанию, и посадские многие люди на сие дело тщатся.
Хованский приказал стрельцам явиться в назначенный час к нему домой вместе с Сергием, Саввой и другими раскольниками из числа посадских. Когда они пришли, князь признался:
— Я и сам, грешный, вельми желаю, чтобы по старому было в святых церквах единогласно и не мятежно; хотя и грешен, но несумненно держу старое благочестие, чту по старым книгам и воображаю на лице своем крестное знамение двумя перстами.
Выслушав прочитанную Сергием челобитную, Хованский остался доволен ее содержанием, однако сам монах в качестве оратора не произвел на него впечатления:
— Вижу тебя, отче, инока смиренна и тиха и неродословна, не будет тебя с такое великое дело, надобно против них человеку многоглаголивому ответ держать.
Старообрядцы уверили князя, что за это дело возьмется расстриженный суздальский священник Никита Добрынин, сначала под нажимом церковных властей отрекшийся от раскола, но теперь вновь ставший горячим поборником старой веры. От ненавидевших его иерархов никонианской Церкви он получил прозвище Пустосвят. Его кандидатуру Хованский одобрил:
— Знаю я того священника гораздо. Противу того им, церковным властям, нечего говорить; тот уста им заградит.
Раскольники требовали, чтобы диспут о вере состоялся в пятницу 23 июня, поскольку по пятницам обычно проводились церковные соборы. Кроме того, 25 июня должно было состояться венчание царей Ивана и Петра. Старообрядцы рассчитывали одержать победу в споре и наивно полагали, что после этого обряд венчания должен будет проводиться в соответствии с их учением. Хованский сначала не соглашался, опасаясь, как бы накануне важнейшего государственного мероприятия не возникло «великого смятения в народе», но, устав спорить, согласился:
— Будь по-вашему, собор в пятницу.
Посетители ушли от князя очень довольные, тем более что он уверил:
— Рад вам, братия, помогать, а того и в уме не держите, что по-старому вас казнить, вешать и в срубах жечь. Я вам в том бога свидетеля представляю, за то рад стоять.
Историк В. И. Буганов весьма точно оценил политическую игру начальника Приказа надворной пехоты: «Хованский, как видим, выступает как „царский боярин“, обеспокоенный тем, чтобы в связи с предполагаемым диспутом о вере не произошло „великого смятения“ среди народа в канун царского венчания. Но желая использовать в своих целях движение раскольников, с помощью которых этот сановный и ничтожный человек хотел бы укрепить свое положение и ослабить влияние Софьи, патриарха и других своих противников в борьбе за власть, он всячески подчеркивает свою приверженность старой вере, раздает нереальные обещания о поддержке, клятвы, упоминает имя Божие всуе».{110} Это замечание верно, за исключением, пожалуй, излишне строгой характеристики Ивана Андреевича как «ничтожного человека».
В назначенный день стрелецкие выборные отправились к Хованскому:
— Когда, государь, изволишь отцам приходить на собор?
— Через два часа.
В положенный срок вожди старообрядцев явились в Кремль. Никита нес крест, Сергий — Евангелие, монах Савватий, незамедлительно прибывший в Москву из убежища в волоколамских лесах, держал в руках икону Страшного суда. Хованский велел провести раскольников в Ответную палату и сам вышел к ним в сопровождении дьяков, подьячих и «всех чинов людей».
— Коей ради вины пришли, отцы честные? — изобразил он неосведомленность.
— Пришли мы побить челом о старой православной вере, чтоб велено было патриарху и архиереям служить по-старому; а если патриарх не захочет служить по-старому, то пусть даст ответ, чем старые книги дурны. А мы всякие затеи и ереси в их новых книгах вконец обличим!
Хованский взял у раскольников челобитную и понес ее «в Верх к царям государям». В царских апартаментах было проведено короткое совещание с участием Софьи и патриарха, на котором принято решение отложить диспут до июля. Хованский сообщил расколоучителям:
— Будет против вашей челобитной дело недели на три, не токмо еще книги свидетельствовать; великое сие дело Божие. Патриарх у царей государей упросил отложить о сем деле до среды. В среду приходите после обедни.
Старообрядцев, естественно, беспокоил вопрос, каким образом будут венчать на царство Ивана и Петра. Хованский постарался успокоить Никиту Пустосвята и его сподвижников:
— Я вам говорил прежде сего, что царей государей станут венчать по-старому.
Разумеется, князь обманывал легковерных «отцов». Для него важно было, с одной стороны, поднять свой престиж в стрелецкой среде, а с другой — обеспечить сохранение порядка в столице.
Сразу же после совещания патриарх Иоаким, испугавшись, что «будет лишен славы и сана своего», начал подкупать выборных от стрелецких полков, «повелел поить их разными питьями» и посылал «дары великие, чтобы не поборники были православию». Эти действия принесли свои плоды; по свидетельству Саввы Романова, патриарх «тако иных слабоумных улести в свою волю».{111}
Тем временем в стрелецких полках происходил сбор подписей под раскольнической челобитной. Приверженцев новой веры и ревнителей старообрядчества набралось примерно поровну. Кроме того, многие стрельцы-раскольники тоже не желали подписывать опасный документ:
— Нам за что прикладывать? Мы отвечать против челобитной не умеем и как руки приложить, так и ответ давать против патриарха и властей. А всё то дело не наше, сие дело патриаршее; мы и без рук рады тут быть да стоять за православную веру и смотреть правду, а по-старому не дадим жечь да мучить.
Таким образом, значительная часть стрельцов изначально отказалась от активного участия в раскольническом движении. Впоследствии колебания в стрелецкой среде были умело использованы царевной Софьей.
Утром 3 июля стрелецкие представители отправились к Хованскому с вопросом: когда расколоучителям следует прийти на собор? До князя уже дошли слухи о спорах среди стрельцов, поэтому он решил уточнить позицию выборных:
— Приказали мне цари государи вас вопросить, все ли вы полки заедино хотите стоять за старую христианскую веру?
Ответ был единодушным:
— Мы, государь, царский боярин, все полки и чернослободцы заедино рады стоять за старую православную христианскую веру. Не только стоять, но и умереть готовы!
Хованский передал Софье ответ стрелецких выборных и получил приказ идти с ними к патриарху. К группе стрельцов присоединились несколько ревностных раскольников из московских черных (не освобождавшихся от налогов, то есть непривилегированных) слобод. Патриарх вышел к ним навстречу; выборные склонились к его руке для благословения, но чернослободцы их примеру не последовали.
— Зачем, братия, — спросил Иоаким, — пришли к нашему смирению и чего от нас требуете?
От имени стрельцов ответил Хованский:
— Пришли, государь святейший патриарх, к твоему благословению всяких чинов люди побить челом о исправлении православной веры христианской, чтоб служба была в соборной церкви по старым книгам.
Далее произошел диспут, который стал прологом соборных прений о вере. От имени раскольников говорили стрелец Алексей Юдин и чернослободцы Павел Даниловец и Савва Романов. Их оппонентами были патриарх и нижегородский митрополит.
— Что за ересь и хула двумя перстами креститься? — вопрошал Даниловец. — За что тут жечь и пытать?
Патриарх отвечал не очень убедительно, явно искажая факты:
— Мы за крест и молитву в срубах не жжем и не пытаем; мы за то жжем, что нас еретиками называете и не повинуетесь святой соборной и апостольской Церкви; а кто как хочет, так и крестится — двумя ли перстами, тремя ли или всею дланью, то всё едино, лишь бы знамение на себе вообразить, и мы о том не истязуем.
То же утверждал митрополит:
— Мы никогда за крест и молитву не жжем, но за их, раскольников, непокорство, что возмущают народ в храмы не ходить и не исповедуются у священников и тем множество народу от Церкви отлучили.
Савва Романов, служивший прежде в нижегородской митрополии, быстро уличил бывшего начальника во лжи, приведя факты, как в Нижнем Новгороде людей пытают, жгут и сажают в тюрьму «за двоеперстие и творение молитвы по-старому».
Потом начался спор патриарха с Даниловцем и Романовым по поводу никонианского искажения священных текстов, причем мнение официальной Церкви показалось присутствовавшим при диспуте стрельцам неубедительным:
— Вот, патриарх против двоих человек ответу не дал, лишь только нас вином да медом поить знает, а нам против правды стоять будет.
Диспут, окончившийся безрезультатно, продемонстрировал напористость старообрядцев и неуверенность церковных иерархов. Конечно, архиереев страшили поддерживавшие раскольников стрелецкие полки, остававшиеся фактическими хозяевами в столице.
После диспута Хованский, продолжая заискивать перед стрельцами и староверами, поцеловал Павла Даниловца в голову со словами:
— Не знал я, малый, тебя до сей поры.{112}
Соборные прения о вере были назначены на 5 июля. Раскольники требовали, чтобы собор состоялся на Красной площади в присутствии множества народа, однако Софья распорядилась провести его в Грановитой палате, тем самым ограничив число участвовавших в нем староверов и поддерживавших их стрельцов и посадских. Хованский пытался запугать Софью, предостерегая, «чтоб великие государи и они, царевны, в Грановитую палату с патриархом и со властьми не ходили», а то «им от народа не быти живым». Но Софья решительно ответила:
— Если и так, то будь воля Божия; однако не оставлю я святой Церкви и ее пастыря, пойду туда!
Хованский продолжал запугивать бояр, напоминая о кровавых событиях 15–17 мая:
— Прошу вас, пожалуйте, попросите вы у нее, государыни, милости, чтобы она, государыня, в Грановитую палату с патриархом идти не благоволила. А если она, государыня, и вас не послушает и в Грановитую с патриархом и со властьми пойдет — то вам буди известно, что при них и нам быти всем побитым так же, как и недавными часы вашу братию побили, а домы наши разграбят!
Перепуганные бояре стали умолять Софью, «дабы она, великая государыня… в Грановитую идти не изволила и себя бы и их от напрасныя смерти свободила». Но царевна от своего решения не отказалась. Впрочем, ее поступок вызван не только смелостью, но и политическим расчетом, основанным на знании ситуации. Сразу же после первой попытки Хованского припугнуть ее расправой Софья тайно призвала к себе выборных от стрелецких полков и, «государскою их милостию обнадежа, князь Ивановы страхи предложила», то есть сообщила об опасениях (или угрозах?) начальника Приказа надворной пехоты. Выборные дружно заверили царевну, что у стрельцов даже не возникала мысль о возможности причинения вреда членам царской семьи.{113}
Тем временем патриарх с архиепископом Холмогорским Афанасием и епископом Тамбовским Леонтием приготовили «множество книг святых древних письменных греческих и славенских», написанных на пергамене и печатных. С помощью этих текстов церковные иерархи собирались обличать учение раскольников. Когда патриарх и сопровождавшие его высшие церковнослужители с книгами пришли в Переднюю палату царского дворца, Софья провела с ними совещание «о укрощении возсвирепевшего народа». Между тем раскольники и поддерживавшие их толпы простонародья стали требовать скорейшего начала прений, о чем сообщил пришедший Хованский. Софья поднялась с места и в присутствии архиереев и членов царской семьи произнесла вдохновенную речь:
— Вижу за грехи наши от Бога попущенное конечное Церкви святой великое бедство, и пастырю нашему святейшему патриарху, и властям, и всему освященному чину от народа возмущенного близкую смерть, и нам, если патриарха и властей не оставим, оной же смерти, как князь Иван поведал, не избежать. Только надежду имеем на Бога, обещавшего призывающих его в помощь от той скорби избавлять, и нас, грешных, в таковой скорби сущих и помощи его святой нам просящих, не презрит! И если все просящие станем единодушно, друг за друга хотяще душу свою положить, от сей страшной смертной скорби по всесильному своему Божественному Промыслу Бог нас избавит. И того ради я, грешная, за святую православную Церковь, и за святейшего патриарха, нашего пастыря, и за весь Освященный собор готова душу свою ныне без всякого страха положить. Так творец мой Христос Спаситель говорил: «Больше той любви нет, когда кто положит душу свою за друга своего». Тем же с святейшим патриархом и со властьми иду к народу в Грановитую палату! И если кто со мною хочет идти — тот мне да последствует.
Желание сопровождать Софью выразили ее тетка Татьяна Михайловна, сестра Мария Алексеевна и царица Наталья Кирилловна. В Грановитой палате Софья заняла Царское место, посадив рядом с собой Татьяну Михайловну. Наталья Кирилловна в этот раз охотно уступила первенство падчерице, расположившись в креслах под двойным троном рядом с Марией Алексеевной и патриархом.{114} Ниже заняли места восемь митрополитов, пять архиепископов и два епископа в окружении архимандритов, игуменов; здесь же находился «весь царского величества сигклит» — бояре, окольничие, думные люди, стольники, стряпчие, жильцы и дворяне, а также выборные из пушкарского, солдатских и стрелецких полков.
Когда расколоучители с крестом, Евангелием, образами, аналоями и свечами в сопровождении толпы простого народа подошли к дверям Грановитой палаты, караульные стрельцы по указанию Софьи оттеснили рогатками посадских, а другие по приказу Хованского отогнали от дверей множество приходских священников, явившихся для участия в диспуте. Эти действия были вызваны необходимостью обеспечить порядок в Грановитой палате — никонианские священники были настроены едва ли не более агрессивно, чем раскольники, и даже затеяли с ними драку на лестнице перед Красным крыльцом.{115}
Сильвестр Медведев перечисляет имена шестерых предводителей старообрядческого движения, давая им, естественно, весьма нелестные характеристики: «Никита проклятый суждалец изверженный, да бродяги и розстриги чернецы, Сергий Нижегородского уезду, Савватий росстрига боярской холоп московитин (вероятно, имеется в виду Савва Романов. — В. Н.), другий Савватий костромитин, пострижен в Ярославле в мирском дому таким же волочагою (то есть бродягой. — В. Н.) чернецом; Дорофей поселянин, Гавриил поселянин же — вси по мирских домех волочащиися и по многих монастырех бродящие своевольно». Прочих раскольников, явившихся на диспут о вере, Сильвестр оценивает совершенно уничижительно: «…невежди миряне и неуки, самые худые люди и ярыжные (пьяные) с кобаков пропойцы».{116} Конечно, автор «Созерцания краткого» чрезмерно сгущает краски, выставляя противников официальной церкви в самом неприглядном виде.
Раскольники вошли в Грановитую палату «нагло с великим буйством, безчинием же и невежеством», поставили аналои и скамьи, положили на них иконы и книги, зажгли свечи — и всё это «с великим криком», «яко бесноватые». В пылу религиозной экзальтации поборники старообрядчества не отреагировали на необычность окружающей обстановки. Как подчеркнул С. М. Соловьев, «они пришли утверждать старую веру, уничтожать все новшества, а не замечали, какое небывалое новшество встретило их в Грановитой палате: на царском месте одни женщины! Царевны-девицы открыто пред всем народом, и одна царевна заправляет всем! Они не видели в этом явлении знамения времени».{117}
Начало диспута отражено в сочинениях Медведева и Романова по-разному. Автор «Созерцания краткого» полностью приписывает инициативу Софье — та якобы строго вопрошала раскольников:
— Чего ради так невежливо и необычно, с таким дерзновением и наглостью к царскому величеству и в их государские палаты пришли, словно к иноверным, и Бога не знающим, и не почитающим святых икон?! И как без царского величества повеления и без благословения святейшего патриарха так дерзновенно, ходя по улицам многие дни и ныне вшедши во град Кремль, прелести своей раскольничьей учить смели и простой народ возмутили, который с вами пришел неведомо ради чего?
Предводители старообрядцев отвечали:
— Пришли веру утвердить старую, ибо ныне у вас принята вера новая, и вы все в новой вере пребываете, в ней же невозможно спастись, и надобна старая!
— Что есть вера? — наступала на оппонентов Софья. — И какая старая и новая?
Раскольники будто бы растерялись и признали, «что они ничего не знают». Тогда вперед выдвинулся Никита Пустосвят, готовый начать рассуждения о вере, но «государыня царевна его, роспопа Никиту, яко явного проклятого человека и древнего раскольника отрече, да он тамо ничто же глаголет», то есть запретила выступать — и он послушно отошел в сторону.
Эта версия событий, изложенная Сильвестром Медведевым, представляется весьма неточной. Больше доверия вызывает рассказ Саввы Морозова, по словам которого диспут начался словопрениями между патриархом Иоакимом и Никитой Пустосвятом.
— Зачем пришли в царские палаты, чего требуете от нас? — спросил предстоятель.
От имени старообрядцев ответил Никита:
— Мы пришли к царям государям побить челом о исправлении православной веры, чтоб дали нам свое праведное рассмотрение с вами, новыми законодавцами, и чтоб церкви Божий были в мире и соединении.
— Не вам подобает исправлять церковные дела, — возразил патриарх, — вы должны повиноваться матери, святой Церкви, и всем архиереям, пекущимся о вашем спасении; книги исправлены с греческих и наших харатейных книг по грамматике, а вы грамматического разума не коснулись и не знаете, какую содержит в себе силу.
— Мы пришли не о грамматике с тобою говорить, а о церковных догматах! — закричал Никита. — Зачем архиереи при осенении берут крест в левую руку, а свечу в правую?
Патриарх несколько растерялся при этом неожиданном вопросе, и тогда вместо него начал отвечать холмогорский архиепископ Афанасий. Никита подскочил к нему с поднятыми кулаками, оттолкнул в сторону и закричал:
— Что ты, нога, выше головы ставишься? Я не с тобою говорю, а с патриархом!
По версии Медведева, Пустосвят бросился «бити и терзати» Афанасия, но один из стрельцов «отторже его от архиепископа прочь». Этот эпизод был впоследствии сходным образом описан в одном из законодательных документов: «Колмогорского Афанасия архиепископа, в хулительстве его Никитку обличивши, в той палате при великих государынях царицах и царевнах, ухватя, начал было бити и всяким дерзновением поступал».{118}
Тут Софья вскочила с трона и закричала:
— Видите ли, что Никита делает на наших глазах, архиерея бьет, а без нас и подавно убьет!
— Нет, государыня, — начали возражать раскольники, — он не бьет, лишь только рукою отвел да не велел ему прежде патриарха говорить.
Но Софья продолжала, обращаясь уже к Пустосвяту:
— Тебе ли, Никита, со святейшим патриархом говорить? Не довелось тебе у нас и на глазах быть, не токмо что говорить. Помнишь ли, как отцу нашему и патриарху и всему собору принес повинную, клялся великою клятвою вперед о вере не бить челом, а теперь опять за то же принялся?
— Не запираюсь, — признался Никита, — поднес я повинную за мечом да за срубом (то есть под угрозой смертной казни через отрубание головы или сожжение. — В. Н.), а на челобитную мою, которую я подал на соборе, никто мне ответа не дал из архиереев.
Царевна резко оборвала его:
— Нет тебе дела говорить с нами, и на очах наших тебе не подобает быть!{119}
Таким образом, Савва Романов подтвердил свидетельство Сильвестра Медведева, что Софья нейтрализовала Никиту Пустосвята как самого опасного оппонента церковных властей на прениях о вере.
Затем царевна приказала одному из думных дьяков прочесть раскольническую челобитную. Когда прозвучали слова, что «чернец Арсений-еретик[7] с Никоном поколебали душу царя Алексея», Софья вновь вскочила с места со слезами на глазах.
— Если Арсений и Никон патриарх еретики, — заговорила она, — то и отец наш и брат такие же еретики стали; выходит, что и нынешние цари не цари, патриархи не патриархи, архиереи не архиереи; мы такой хулы не хотим слышать, что отец наш и брат еретики; мы пойдем все из царства вон!
С этими словами царевна отошла от трона на расстояние «с сажень» и остановилась.
Бояре и стрелецкие выборные, прослезившись от волнения, загалдели:
— Зачем царям государям из царства вон идти? Мы рады за них, государей, головы свои положить!
Однако раздались и другие голоса, несомненно, принадлежавшие стрельцам-раскольникам:
— Пора, государыня, давно вам в монастырь, полно царством-то мутить, нам бы здоровы были цари государи, а и без вас пусто не будет.
«Можно себе представить, — пишет В. И. Буганов, — каким холодом повеяло на Софью от этих слов. Эти безымянные стрельцы, которых поддерживала значительная часть их собратьев и множество раскольников, прямо говорили, что царевне нужно отказаться от власти… Но не такова, как видно, была царевна, чтобы отступить без боя и даже не попытаться выиграть его. Она это и сделала».{120}
Софья произнесла короткую яркую речь, обращенную непосредственно к стрельцам:
— Всё это оттого, что вас все боятся, в надежде на вас эти раскольники-мужики так дерзко пришли сюда. Чего вы смотрите? Хорошо ли таким мужикам-невеждам к нам бунтом приходить, творить нам всем досады и кричать? Неужели вы, верные слуги нашего деда, отца и брата, в единомыслии с раскольниками? Вы и нашими верными слугами зоветесь; зачем же таким невеждам попускаете? Если мы должны быть в таком порабощении, то царям и нам здесь больше жить нельзя; пойдем в другие города и возвестим всему народу о таком непослушании и разорении.
Эта угроза, должно быть, не на шутку напугала стрельцов — они могли воздействовать на правительство только в том случае, если последнее находилось в Москве. А за пределами столицы власти получали возможность быстро собрать многотысячное дворянское ополчение, против которого стрелецкие полки не выстояли бы. Выборные поспешили заверить Софью в своей преданности:
— Мы великим государям и вам, государыням, верно служить рады, за православную веру, за Церковь и за ваше царское величество готовы головы свои положить и по указу вашему всё делать. Но сами вы, государыня, видите, что народ возмущенный и у палат ваших стоит множество людей; только бы как-нибудь этот день проводить, чтоб нам от них не пострадать, а что великим государям и вам, государыням, идти из царствующего града — сохрани Боже! Зачем это?
«По умолению» собравшихся Софья вернулась на свое место. Прерванное чтение раскольнической челобитной продолжалось, и царевна несколько раз вступала в спор со староверами по обрядовым вопросам, но они, если верить Савве Романову, всякий раз своими доводами принуждали ее «умолчать». Когда чтение закончилось, царица Наталья покинула собрание. Патриарх начал доказывать правоту новой формы вероучения на основании старых, в том числе греческих, книг, но, конечно, не сумел переубедить раскольников. Софья, по существу, одна продолжала спорить с ними, обвиняя в непочтении к царю Алексею Михайловичу. Староверы возражали, указывая на изображение Бога Саваофа в росписи потолка Грановитой палаты, благословляющего людей «по-старому двумя перстами».
— Мы, государыня царевна Софья Алексеевна, рады за старой крест помереть! — кричали они.
— Неведомо, что мне с вами стало делать, — проговорила Софья со слезами на глазах.
Она снова начала выставлять на вид неуважение раскольников к Алексею Михайловичу, Федору Алексеевичу и живым членам царской семьи, но Савва Романов доказал Софье необоснованность ее обвинений, заявив, что староверы считают еретиками только Арсения и Никона.{121} В конце концов царевна решила прекратить бессмысленный спор, в котором каждая сторона говорила на своем языке.
— Идите с миром! — обратилась она к староверам. — Указ вам будет государский во иной день.
Версия событий, изложенная Романовым, может показаться пристрастной. Однако Медведев подтверждает, что по раскольнической челобитной не было «от царского величества никоего слова, никаковаго указа». Правда, он объясняет нежелание верховной власти давать оценку старообрядческого прошения тем, что оно «писано неправильно, по глупости, воровски и досадительно».{122}
Может сложиться впечатление, что в церковном споре с раскольниками Софья и патриарх Иоаким потерпели поражение. Однако историк А. П. Богданов оценивает события, поставив во главу угла не религиозные вопросы, а политическую составляющую: «В ходе „прений“ царевна взяла на себя главную роль, доведя вождей староверов до неистовства и продемонстрировав выборным стрельцам, что их проповедники — враги государственного порядка и буяны. Хитроумнейшими маневрами она избежала вспышки бунта, затянула „прения“ до вечера, когда толпы москвичей стали расходиться по домам, привлекла на свою сторону часть стрельцов».{123}
Между тем раскольники, вышедшие из Грановитой палаты, оповестили остававшихся еще на площадях москвичей:
— Победили! Победили! Тако слагайте персты! Веруйте, поди, по-нашему! Тако веруйте! Мы всех архиереев переспорили и посрамили!
На Лобном месте расколоучители долго проповедовали среди народа, «уже якобы по повелению царского величества». Введенные в заблуждение москвичи с радостью сообщали друг другу:
— Нам цари государи приказали по-старому креститися!
За Яузой, где в стрелецких домах остановились вожди старообрядцев, три часа продолжался звон колоколов церкви Спаса, возвещая победу над никонианством.{124}
Тем временем Софья приказала привести к ней стрелецких выборных и обратилась к ним с призывом:
— Не променяйте вы нас и Всероссийское государство наше на шестерых чернецов и не дайте в поругание святейшего патриарха и всего Освященного собора!
За верность престолу и истинному православию царевна пообещала стрельцам «дать дары и чести великие». Двое стрелецких пятисотных были тут же пожалованы ею в дьяческие чины, а сын одного из них взят ко двору. Другие выборные получили по 50 или 100 рублей[8]; кроме того, Софья «велела поить на погребах, чего они хотят». Подкупленные стрельцы охотно заявили:
— Нам до старой веры дела нет, и не наше то дело, то дело святейшего патриарха и всего Освященного собора.
Но некоторые выборные на подкуп не поддались. Пятидесятник полка Титова Авдей Артемьев возразил Софье:
— Мы, государыня царевна, без братского совета повинной не смеем дать, прибьют нас каменьем рядовые стрельцы, как придем в полк.
Софья попыталась было воздействовать на непокорных угрозами, приказав отобрать у них оружие и жалованные грамоты, выданные в начале июня, а также запретить нести караульную службу при царском дворе, но быстро передумала:
— Ну, цари государи в непокорстве вашем прощают, живите по-прежнему, а оружия и пороховой казны у вас не отнимают и жалованных грамот.
Выборные вернулись в свои полки и начали уговаривать товарищей покаяться. Это удавалось не везде; некоторых выборных однополчане даже посадили до утра в тюрьму со словами: «Вы о правде посланы говорить, а неправду делаете, пропили вы нас на водках да на красных пойвах». На другой день в полках начались оживленные споры об отношении к старообрядчеству. Вечером стрелецкие выборные собрались на совет и вынесли решение не поддерживать расколоучителей и посадских: «Нам до того дела нет». Однако это вызвало бурю возмущения рядовых стрельцов. Выборные отправились к Софье и сообщили ей:
— Наша, государыня, немощь стала, и рядовые нас хотят каменьем прибить, а иных нашу братью в тюрьму пересажали. И не ведаем сами себе, что будет нам утром — живы ли будем или нет. И хотят рядовые с барабанами идти.
В намерении стрельцов двинуться с барабанами к Кремлю явно прозвучала угроза повторения событий 15–17 мая. Когда слухи об этом дошли до патриарха Иоакима, он в страхе прибежал к Софье «и начал плакать»:
— Теперь наша конечная погибель пришла, напрасно их раздразнили.
— Не кручинься, батюшка, об этом деле, я знаю, как их уговорить, — спокойно ответила Софья.
В тот же день во все стрелецкие полки были разосланы приказы отобрать по 100 солдат, которые должны были утром явиться на караульную службу к Троицкой церкви на Красной площади. Собравшиеся по этому указанию стрельцы составили внушительную толпу в две тысячи человек; основная их масса была настроена враждебно в отношении церковных властей и выражала готовность «к патриарху по-прежнему идти с барабанами». В этот момент посланный Софьей «неведомо какова чину человек» объявил:
— Надворная пехота великих государей! Цари государи жалуют вас погребом!
На каждых десятерых стрельцов было выдано по ушату пива и по мере (около 26 литров) меда. По горькому замечанию Саввы Романова, стрельцы «думать перестали… да и побежали всякой десяток с своим ушатом, да перепилися пьяны». Настроения сразу же переменились, и охмелевшие служивые даже начали бить попадавшихся на пути раскольников-посадских с криками: «Вы бунтовщики и возмутили всем царством!» Весть о царевниной милости быстро разнеслась по полкам. Сторонники Софьи горячо убеждали сослуживцев:
— Чего нам больше жалованья от великих государей? Чем нас великие государи не пожаловали?
В течение трех дней спокойствие в полках было полностью восстановлено. Стрельцы принесли требуемую Софьей «повинную», а затем арестовали предводителей старообрядчества.{125} Ранним утром 11 июля Никите Пустосвяту «как самому дерзкому заводчику смуты и нарушителю своего обещания» отрубили голову на Красной площади. Хованский спас от казни отца Сергия, которого сослали в Ярославль, в Спасский монастырь.{126}
В 1684 году церковные власти постановили в память о подавлении раскольничьего мятежа ежегодно 5 июля воздавать молебную хвалу «о умирении Церкви».{127} Это подчеркивает всю серьезность опасности, которой подвергалась спасенная Софьей церковная иерархия.
Хованщина, или Хроника двоевластия
После бурных событий 5 июля жизнь в Москве вернулась в привычное русло. С посадов и монастырей собирались деньги для выплаты жалованья полкам надворной пехоты, стрельцам по их челобитным отводились лавки и другие торговые помещения, бояре и дворяне получали новые земли. Софья подготавливала выезд царской семьи на богомолье в Троице-Сергиев монастырь. Для сопровождения и охраны было собрано большое число дворян; в кортеже участвовали виднейшие бояре, в том числе вернувшийся из деревни Иван Милославский. В Москве для управления государственными делами на время отсутствия двора была оставлена боярская комиссия во главе с князем Иваном Хованским.
Царский «поезд» выехал из Москвы 13 июля. В селе Тайнинском была сделана остановка на четыре дня. Перед возобновлением вояжа «на обиход великих государынь царевен» были выданы черное сукно, черные шнурки и 36 черных шелковых пуговиц (очевидно, Софья приказала сшить царевнам траурные платья). Тогда же было отдано распоряжение, чтобы участвовавшие в походе думные чины были «в ходильном платье смирных цветов». С. К. Богоявленский не без оснований предполагает, что траурные одежды нужны были «для большего воздействия на дворян», которым Софья хотела продемонстрировать печальное и униженное положение царской семьи в захваченной победившими бунтовщиками столице.
Вопреки традиции государевых богомольных походов царский «поезд» передвигался по Подмосковью с необычной быстротой. 17 июля двор еще находился в Тайнинском, а уже утром 19-го в Воздвиженском цари и правительница принимали посланцев украинского гетмана Ивана Самойловича. Из Воздвиженского двор переехал в Троицу, а оттуда — в Александровскую слободу. В отличие от предыдущих вояжей перемещения «поезда» казались беспорядочными, не совпадали ни с какими праздничными днями и создавали впечатление бегства из Москвы.{128}
Временный глава столичной администрации Хованский проявлял заметное беспокойство, поскольку его не известили ни о местопребывании царей, ни о намерениях двора. Среди москвичей распространялись тревожные слухи; вспоминалась угроза, высказанная Софьей 5 июля: «…пойдем в другие города и возвестим всему народу о таком непослушании и разорении». Хованский, стремясь избежать малейших нареканий в свой адрес, усердно исполнял царские указы и старательно вникал во все вопросы государственного управления. Оставшийся в Москве думный дьяк Емельян Игнатьевич Украинцев, второе лицо в Посольском приказе после князя Голицына, в секретной переписке сообщал своему шефу, участвовавшему в царском походе: «В приказе сижу безвыходно, а в Верх волочит князь Иван Андреевич беспрестанно, а с Верху прибреду, — и в приказе от челобитчиков докука».{129} «А мы, — жаловался Украинцев в другом письме, — по вся дни с утра и после обеда за челобитными сидим, и несть нам восклонения».{130}
Письма Украинцева содержат уникальные сведения о том, как решались дела в столице в отсутствие царского двора. Стольник князь П. Г. Львов, приехавший в Москву с Двины 25 июля, сообщил князю Хованскому о неспокойных настроениях среди архангельских посадских и стрельцов, побуждаемых «ко всякому дурну и несогласию» служилым человеком Максимом Окуловым. Хованский в присутствии Украинцева приказал князю Львову «про те речи записать и руку ему приложить. И докладывал о том благоверной государыне царевне и великой княжне Татьяне Михайловне». «И сказал мне, — докладывал Украинцев, — что указала государыня царевна послать на Двину великих государей грамоту к боярину и воеводе ко князь Никите Семеновичу Урусову, чтобы он двинских стрельцов и посадских людей призвал к съезжей избе и сказал им государской указ, чтоб они Максимковым лживым словам не верили, а были на государскую милость надежны; да чтоб иконы же обнадеживанные грамоты послать к стрельцам и к посадским людям. И я грамоты изготовил, и князь Иван Андреевич приказал их отпустить, только я не отпускаю тех грамот, известно, и тебе, государю, о том чиню; что мне о том изволишь приказать?» Как видим, Хованский в важных случаях обращался за указаниями к царевне Татьяне Михайловне. Но интересно, что Украинцев не выполнял указаний Хованского, не получив согласия своего патрона. Впрочем, в данном случае это вполне оправданно: дела управления Архангельском находились в ведении Новгородской чети, подчиненной начальнику Посольского приказа.
В одном из писем Голицына подчиненному содержится загадочное упоминание: «Да стереги, для Бога, пристава, которой послан в Ыверской монастырь, чтоб письмо, которое он привезет, не попалось иным мимо нас в руки, зело то нужно. А добро б по дороге для стереженья послать от Москвы верст за 9 пристава. И те б письма привез к тебе, а ты ко мне пришлешь». С. К. Богоявленский и В. И. Буганов высказывают небезосновательное предположение, что в условиях неспокойной обстановки в столице Софья Алексеевна вместе с царями и правительством на всякий случай готовила убежище в Иверском монастыре, расположенном на одном из островов Валдайского озера. Здесь царская семья могла бы надежно укрыться под защитой новгородских дворян, ненавидевших Хованского с 1665 года, когда он командовал Новгородским разрядом и бесчестил новгородцев кнутом и батогами.{131}
Между тем князь Иван Андреевич продолжал ревностно исполнять обязанности по управлению столичными учреждениями. Когда Украинцеву нужно было отправить из Москвы в Воздвиженское гетманских посланцев, дьяк Ямского приказа И. Ф. Бутурлин заявил, что нет свободных подвод. Хованский тут же распорядился поставить дьяка и ямских старост на правеж. На следующий день Украинцев получил полсотни подвод.
В переписке отразился примечательный момент, когда Хованский впервые выразил несогласие с непомерными требованиями обнаглевших стрельцов. 22 июля Украинцев сообщил Голицыну: «Вчерашняго дня били челом великим государям некоторые два полка надворной пехоты о дворовых деньгах, как им предь сего их братье давано по два рубли человеку. Да они же били челом за валовое дело (работу на возведении крепостных валов. — В. Н.), что делали по Белгородской черте в прошлом году. И боярин князь Иван Андреевич сказал им, что на дворовое строение великие государи ныне и впредь ничего им давать не указали… А за валовое дело стыдно им и бить челом; и естьли им за валовое дело дать жалованье, то и всего государства ратные всяких чинов люди учнут о том бить челом, потому что все ратные люди валовые дела и окопы делывали». Находившиеся при Хованском выборные других стрелецких полков также высказали порицание челобитчикам, и те «отошли с печалью».
Этот отказ выполнить стрелецкие требования вызвал возмущение надворной пехоты: стрельцы «ссылались по полкам письмами», негодуя на выборных, которых считали подкупленными правительством. «И сего дня, — пишет Украинцев, — с тою ведомостью выборные приходили, и князь Иван Андреевич объявил им, и как тое дело вчерашняго дня было. И они, выслушав у него о том и приложа ему в том свою опасность, разошлись по полкам». Вероятно, выборные действительно имели основания опасаться гнева рядовых стрельцов. Украинцев тоже выражал обеспокоенность: «А что, государь, из того впредь учинится, и то время окажет; добро б, государь, было, чтоб великие государи изволили притить к Москве, не помешкав».{132}
Опасения не оправдались: стрельцы смирились, что не смогли получить из истощенной казны необоснованно требуемые деньги. Им было проще выколачивать недоданное за прошлые годы жалованье из своих полковников. С большинством бывших столичных командиров они уже свели счеты, а теперь требовали к ответу гарнизонных полковников из других городов.
Как уже говорилось, первым из них стал начальник черниговских стрельцов Степан Янов, привезенный в Москву и казненный по требованию восставших 14 июня. Вероятно, тогда же правительство под нажимом надворной пехоты постановило отозвать в Москву переяславского полковника Афанасия Паросукова и батуринского полковника Максима Лупандина, однако по просьбе гетмана Самойловича распоряжение было отменено — соответствующий царский указ был прислан Хованскому 22 июля. Иван Андреевич в связи с этим совещался с другими членами боярской комиссии. Украинцев сообщил Голицыну, что Хованский «хочет писать к великим государям, прося милости», чтобы отставка Паросукова и Лупандина непременно состоялась, иначе можно опасаться «великого дурна» от стрельцов.
Поскольку Малороссийский приказ также находился в подчинении Голицына, решение вопроса о замене полковников украинских гарнизонов зависело непосредственно от него. Соответственно, на него и обратилось раздражение Хованского, дошедшее до прямых угроз. «И досадует на тебя, — извещал Украинцев своего начальника, — что ведаешь ты настоящее дело, да не остерегаешь того и не так поступаешь, не опасаясь здоровья своего». Со своей стороны думный дьяк не скрывал страха перед начальником Приказа надворной пехоты: «А я от него в том крепко опасен».
Голицын в ответном письме старался смягчить ситуацию: «…о Порасукове и о Белосельском (новом полковнике на его замену. — В. Н.) как хотят, так и делают, от нас посылки быть не для чего». Что же касается Лупандина, то гетманское прошение в его защиту прислал в Москву сын самого Хованского, курский воевода князь Петр Иванович. Но даже об этом руководитель Посольского приказа не хотел напрямую оповещать главу боярской комиссии. «И ты, — инструктировал он подчиненного, — к слову нарочно извести ему про сие слухом, а не от меня». Как видно, Голицын тоже всерьез опасался «батюшки» московских стрельцов.
Двадцать девятого июля двор возвратился из похода в Москву, а Голицын на несколько дней задержался в своей деревне Булатниково. Он наставлял Украинцева: «Какие дела прилучатся, докладывай государыне сам». Это самое раннее документальное упоминание о Софье как о правительнице.
На другой день Украинцев сообщил патрону, что царевна сразу же по приезде развернула активную деятельность. Прежде всего она решила затянувшийся вопрос об отправке команды стрельцов на Украину для сопровождения «кречатников» — дворцовых служителей, которые должны были отвезти гетману Самойловичу кречетов и ястребов в качестве царского подарка. Соответствующее указание Софья, минуя Хованского, дала его заместителю в Приказе надворной пехоты окольничему Венедикту Змееву. Тот пообещал откомандировать стрельцов в течение одного дня. Возражений со стороны Хованского не последовало. Затем правительница взяла для рассмотрения сообщения гонцов Малороссийского приказа о положении на Украине и переписку гетмана с севским воеводой Леонтием Неплюевым, выслушала краткий доклад Украинцева о возвратившемся из Англии и Франции посольстве Петра Потемкина. По последнему вопросу Софья распорядилась затребовать у Потемкина копии грамот королей Карла II и Людовика XIV на латинском языке и осведомилась, готов ли статейный список (отчет о результатах миссии). В случае готовности этого документа царевна собиралась поставить Потемкина к руке, то есть дать ему аудиенцию для доклада.
Далее произошел интересный эпизод. К Потемкину с устными распоряжениями Софьи был отправлен один из приказных служителей, однако возвратился ни с чем. Украинцев сообщил Голицыну: «И подьячий, которой посылан, сказывал мне, что Петр в том отказал и поехал к милости твоей». Таким образом, летом 1682 года авторитет Софьи Алексеевны как правительницы еще не был непререкаем. Известный своими заслугами на дипломатическом поприще Петр Иванович Потемкин мог позволить себе не выполнить ее указание, сочтя более правильным сделать первый доклад о результатах своей миссии не царевне, а руководителю внешнеполитического ведомства.
Любопытно также, что Голицын вполне одобрил это поведение, распорядившись в ответном письме Украинцеву: «Петра Потемкина к руке до моего приезду к Москве не ставь, хотя и укажут ставить; а зачем, о том я великих государей (то есть, конечно, Софью. — В. Н.) извещу… А Петр Иванович Потемкин был у меня, и о том учини, пожалуй, как писано к тебе выше сего».
В тот же день Хованский поспешил решить вопрос о Паросукове и Лупандине — привел на аудиенцию к царям и Софье стрелецких депутатов, приехавших из Киева, Переяслава и Батурина, и те просили, «чтоб указали великие государи Афонасья и Максима переменить», говоря при этом, что у полковников много заступников, а они, стрельцы, «беззаступны и беспомощны». Софья «изволила князь Ивану Андреевичу говорить, чтоб их не переменять». И князь Иван Андреевич сказал, что «невозможно учинить, чтоб не переменять, потому что уже они (стрельцы. — В. Н.) обнадежаны тем, что велено их переменить». Софья вынуждена была уступить и приказала подготовить царские грамоты о замене Паросукова князем Иваном Белосельским, а Лупандина — Семеном Воейковым и о присылке обоих отставных полковников в Москву. Украинцев снова счел нужным получить по данному вопросу согласие Голицына: «И ты о том, что ко мне изволишь приказать?» Князь поспешил ответить: «По указу государыни учини не помешкав, что она указала».{133}
Так Паросуков и Лупандин, несмотря на попытки защитить их, попали в руки московских стрельцов, которые принялись выбивать из них деньги на правеже. Лишь 5 сентября правительница, сумевшая к тому времени упрочить свою власть, распорядилась прекратить истязания.
Приведенные выше сообщения Украинцева отражают лишь малую часть государственной деятельности Софьи, поскольку касаются только вопросов, входивших в компетенцию Посольского и Малороссийского приказов. Разумеется, эти учреждения, несмотря на их важность, не могли привлечь в исключительное внимание правительницы — она должна была в равной мере заниматься делами других ведомств, выслушивать доклады приказных судей и дьяков и давать им указания от имени царей. К сожалению, документально подтвердить это невозможно, но логика вещей говорит сама за себя.
Переписка Голицына и Украинцева является единственным достоверным источником, позволяющим судить как о степени участия Софьи Алексеевны в государственных делах летом 1682 года, так и о тогдашнем характере ее власти. Нет никакого сомнения, что на царевну уже тогда смотрели как на регентшу при малолетних братьях. Вместе с тем ее слово еще не во всех случаях являлось законом. Отдельного внимания заслуживает вопрос об отношениях Софьи Алексеевны с царевной Татьяной Михайловной, считавшейся главой царской семьи. Американский историк Пол Бушкович на основании рассмотренной выше переписки делает вывод, что в конце июля «Софья сумела оттеснить тетку Татьяну от деятельности».{134}
В действительности же никакой борьбы между ними не было. Очевидно, что Татьяна Михайловна лишь по необходимости участвовала в делах, когда к ней обращались за инструкциями во время отсутствия в столице ее властолюбивой племянницы. Возможно даже, что эти обязанности были старшей царевне в тягость. Во всяком случае, руководителям Посольского приказа было абсолютно ясно, что по возвращении Софьи в Москву все дела будет решать именно она. Когда Голицын пишет Украинцеву: «Докладывай государыне сам», — у того не возникает вопроса, о какой из государынь идет речь.
После победы в деле Паросукова и Лупандина стрельцы продолжали подавать челобитные о взыскании денег с других полковников — Колупаева, Писарева, Жемчужникова. Все они были доставлены в Москву и заплатили крупные суммы по искам бывших подчиненных. Правительство почти ежедневно удовлетворяло требования стрельцов о предоставлении им лавок, кузниц, мест под лесные склады и другой городской недвижимости.
Князь Иван Хованский также решил позаботиться о собственном благополучии, принудив к вступлению с ним в брак вдову убитого стрельцами думного дьяка Лариона Иванова, одного из самых богатых приказных деятелей того времени. По свидетельству Андрея Матвеева, согласие князь получил от избранницы «за жестокими угрозами». О предстоящей свадьбе Украинцев сообщал Голицыну в письме от 20 июля: «О князь Иване Андреевиче сказывают, что будет жениться в пришлое воскресенье с тою, о которой тебе и самому известно, а подлинно ль так, и то время покажет». Легко вычислить, что свадьба Хованского состоялась 23 июля. А через неделю царевна Софья Алексеевна призвала новоиспеченную княгиню Хованскую ко двору, решив, по-видимому, удовлетворить свое женское любопытство.
Иван Андреевич поспешил предъявить претензии на вотчины и поместья покойного думного дьяка. 12 августа ему были отведены земли Лариона Иванова в восьми уездах, а вскоре еще в двух — в общей сложности примерно четыре тысячи четвертей (около восьми тысяч гектаров). Хованский позаботился также о своем среднем сыне Петре — добился передачи ему двора и каменного особняка на Никитской улице, ранее принадлежавших боярину Ивану Максимовичу Языкову, убитому стрельцами в первый день восстания.{135}
Хованский чувствовал себя хозяином в столице, контролируемой подчиненной ему надворной пехотой. Правительница до поры была склонна потакать непомерным амбициям стрелецкого «батюшки». При выездах царского двора из Москвы князь Иван Андреевич неизменно назначался главой думных комиссий, замещавших государей. Так произошло и 13 августа 1682 года при отъезде царской семьи в Коломенское.
В возглавленную Хованским комиссию вошли боярин Михаил Львович Плещеев, окольничие Иван Севастьянович Хитрово, Иван Федорович Пушкин и Кирилл Осипович Хлопов, думные дворяне Иван Иванович Сухотин и Викула Федорович Извольский, думные дьяки Афанасий Тихонович Зыков и Иван Саввич Горохов. Как уже говорилось, Плещеев был сторонником Софьи и отчасти мог ослабить влияние равного ему по чину Хованского. Иван Хитрово также не мог быть угоден главе комиссии, поскольку в 1674 году у него произошел крупный служебный конфликт с Петром Хованским. Отличавшийся злопамятностью князь Иван Андреевич, конечно, не забыл старую обиду, нанесенную его сыну. Позиция Ивана Пушкина была, скорее всего, двойственной. В июне 1682 года он вошел в Боярскую думу (возможно, даже по протекции царевны Софьи) как сторонник Милославских, но при этом был шурином Ивана Андреевича Хованского — тот в 1642 году женился на его старшей сестре Ирине.{136} Правда, последнее обстоятельство отчасти утратило значение, поскольку к описываемому моменту князь не только овдовел, но и вступил в новый брак. Но для сыновей Хованского Пушкин, разумеется, оставался дядей. С учетом огромного значения родственных связей в боярской среде его вряд ли можно считать явным противником Хованских, хотя в большей мере он, вероятно, ориентировался на Софью. Приверженцем правительницы, безусловно, являлся Викула Извольский, которому 17 сентября 1682 года был доверен арест Петра Хованского в Курске.{137} Бесспорным сторонником царевны можно считать также Ивана Сухотина. Вполне лоялен ей был Афанасий Зыков, в начале сентября повышенный в чине до думного дворянина, а 10 октября назначенный товарищем судьи Палаты расправных дел. Из всех вышеперечисленных лиц единственной креатурой Ивана Хованского являлся Кирилл Хлопов. Что же касается Ивана Горохова, то он не стал работать ни в этой комиссии, ни в следующей, назначенной в том же месяце.
Как видим, оставленные в Москве думцы в подавляющем большинстве являлись противниками Хованских. Несомненно, такой состав временной столичной администрации был призван по возможности контролировать действия чрезмерно возвысившегося покровителя мятежных стрельцов.
По возвращении двора в Москву Хованский возобновил попытки действовать в интересах полков надворной пехоты. 16 августа он подал на рассмотрение Боярской думы стрелецкую челобитную, «чтобы на тех стрельцов, которые взяты из дворцовых волостей, брать с этих волостей подможные деньги по 25 рублей на человека». В целом требуемая сумма составляла около 100 тысяч рублей. Бояре отклонили незаконное посягательство на царскую казну, которая и без того была истощена. По окончании заседания Хованский вышел к стрельцам:
— Дети! Знайте, что уже бояре грозят и мне за то, что хочу вам добра; мне стало делать нечего, как хотите, так и промышляйте!
По Москве опять поползли тревожные слухи, что стрельцы имеют злой умысел на бояр и даже на членов царского семейства. Софья заметно забеспокоилась. 19 августа отмечался праздник Донской иконы Божией Матери; по традиции в этот день состоялся крестный ход из Успенского собора в Донской монастырь. В торжественном шествии должны были участвовать государи, но распространилась молва, что стрельцы готовят покушение на их жизнь. Софья не разрешила братьям идти во главе процессии; они прибыли в монастырь позже, когда там уже собралось множество народа, в окружении которого можно было чувствовать себя в безопасности. На следующий день всё царское семейство поспешно выехало в Коломенское.{138}
В связи с отъездом двора в столице была оставлена очередная думная комиссия. А. С. Лавров отделяет ее от следующей комиссии, якобы назначенной десятью днями позже, о чем говорится в разрядной записи: «…августа в 30-м числе… Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич… изволили итить с Москвы в свое в[еликих] г[осударей] дворцовое село Коломенское… А на Москве на их государском дворе оставлены…» (далее перечисляется состав комиссии).{139} Однако здесь мы имеем дело с явной неточностью официального документа. Отъезда царей из Москвы 30 августа быть не могло, поскольку, выехав из столицы 20-го числа, двор оставался за ее пределами до 6 ноября.
Следовательно, никакая комиссия 30 августа не была назначена и в Москве продолжал действовать временный административный орган, сформированный десятью днями ранее, в который вошли бояре Иван Хованский, Михаил Плещеев, окольничие Кирилл Хлопов и Иван Пушкин, думные дворяне Иван Сухотин и Василий Тяпкин, думный дьяк Иван Горохов. Таким образом, мы видим здесь прежний состав комиссии, за исключением неназначенных Извольского и Зыкова и нового члена Василия Михайловича Тяпкина. Этот способный дипломат, выполнявший прежде ответственные поручения в Польше, в Крыму и на Украине, должен был по логике вещей ориентироваться на руководителя Посольского приказа Василия Голицына. В таком случае его назначение не могло быть приятно Хованскому. Кроме того, Голицын попытался убрать из Москвы единственного реального сторонника Хованских Кирилла Хлопова, добившись в том же месяце его назначения послом в Константинополь. Однако выполнение соответствующего царского указа затянулось до конца года, Хлопов остался в столице, но в последующих сентябрьских событиях поспешил склониться на сторону Софьи Алексеевны.
В целом нужно отметить весьма слабый состав временной высшей администрации, управлявшей столичными учреждениями в отсутствие Софьи, царей и виднейших сановников. А. С. Лавров справедливо утверждает: «…комиссии Хованских состояли в основном из незнатных или захудалых думцев, пожалованных в чины уже во время восстания, когда двери Думы широко распахнулись перед представителями дворянских родов». Но историк тут же противоречит себе, усматривая в этих комиссиях подобие старинной московской Семибоярщины, приобретавшее «особое влияние, потому что на престоле находились два несовершеннолетних самодержца», и даже позволяет себе весьма смелое суждение: «Князьям Хованским представилась заманчивая возможность воспользоваться возглавленным ими думным институтом, чтобы вернуть ему первоначальное значение регентского совета».{140}
В действительности ни о чем подобном не могло быть и речи. Оставляемые в Москве думные комиссии имели исключительно вспомогательное значение; это были временные исполнительные органы, руководствовавшиеся главным образом указами из подмосковных царских резиденций. Туда переместился реальный центр власти — Боярская дума, цари и действующая от их имени Софья. Последней противостоял не «думный институт» как прообраз некого регентского совета, а всего лишь непрочный союз бояр Хованских с полками надворной пехоты.
Однако историк продолжает последовательно развивать свою оригинальную концепцию. Реальную подоплеку драматических сентябрьских событий он видит в борьбе думных группировок, которая с конца августа якобы приобрела «особо острый характер, основанный на противостоянии боярской комиссии в Москве думным людям, сопровождавшим двор в „походе“».{141} Но никакая борьба группировок в данном случае не прослеживается. Да ее и не могло быть, поскольку, как показано выше, Боярская дума назначала в московские комиссии достаточно лояльных деятелей, которые в подавляющем большинстве не склонны были поддерживать Хованских, а тем более создавать оппозицию Софье и основному составу Думы. В событиях августа и сентября видны лишь слабые попытки Ивана Хованского возвысить свое значение в глазах правительства и лично Софьи Алексеевны.
Отъезд царской семьи вызвал серьезное беспокойство в стрелецкой среде. 23 августа в Коломенское из Москвы прибыли выборные от всех полков, до которых дошли слухи, что государи покинули столицу из страха перед волнениями стрельцов: «…будто у них, у надворной пехоты, учинилось смятение и на бояр и на ближних людей злой умысл… и хотят приитить в Кремль с ружьем по-прежнему». Выборные уверяли царей и Софью, что во всех стрелецких полках «такого умысла нет и впредь не будет», и просили, «чтоб великие государи пожаловали их, не велели таким ложным словам поверить и изволили бы приитить к Москве». Софья в ответ распорядилась зачитать стрелецким выборным срочно составленный указ от имени царей Ивана и Петра, провозглашавший, что ни про какой злой умысел надворной пехоты им неведомо, «а изволили они, великие государи, с Москвы итить по своему государскому изволению, да и наперед сего в то село их государские походы бывали же». Успокоенные стрелецкие депутаты были отпущены в Москву.
Вслед за стрельцами в Коломенское приехал Иван Хованский, попытавшийся напугать Софью, показать ей, насколько она нуждается в защите московских стрельцов. Он в присутствии бояр начал рассказывать правительнице:
— Приходили ко мне новгородские дворяне и говорили, что их братья хотят приходить нынешним летом в Москву, бить челом о заслуженном жалованье и на Москве сечь всех без выбора и без остатка.
Софья спокойно ответила:
— Так надобно сказать об этом в Москве на Постельном крыльце всяких чинов людям, а в Новгород для подлинного свидетельства послать великих государей грамоту.
Хованский, испугавшись, начал упрашивать царевну, «чтоб про то на Москве не сказывать и в Новгород не посылать», дабы на него «не навести беды».{142} Стало ясно, что тревожное сообщение он выдумал, чтобы произвести впечатление на правительницу и бояр. Но Софья легко разгадала довольно грубую уловку простодушного князя.
Во время недолгого пребывания Хованского в царской резиденции произошел еще один примечательный эпизод, заметным образом отразившийся на последующей трагической судьбе князя. Стрелецкий подполковник Федор Колзаков подал царям челобитную с просьбой пожаловать ему поместье или же по бедности «от подполковников отставить». Царским указом его отставка «из того чину» была утверждена, о чем начальник Приказа надворной пехоты получил уведомление. Самолюбивый и вспыльчивый Хованский, страшно раздосадованный тем, что дело решилось без его участия, начал «при многих людях» кричать «с великим невежеством»:
— Наперед сего при моей братье, которые сидели в Стрелецком приказе, так чинить без их ведома не смели! Еще копьям время не прошло!
Так в порыве раздражения князь намекнул на возможность повторения майских расправ, когда представителей правящей верхушки сбрасывали с Красного крыльца на стрелецкие копья. Разумеется, подобная выходка не могла остаться незамеченной. Впоследствии он обвинялся в том, что, «забыв свою голову», грозил копьями, «кому не сметь таких дел делать»,{143} то есть боярам и правительнице.
Двадцать девятого августа царский двор приехал из Коломенского в расположенное неподалеку дворцовое село Дьяково, где были отпразднованы именины государя Ивана Алексеевича — «праздник усекновения честные главы Крестителя Господня Иоанна». Члены царской семьи слушали литургию в дьяковской церкви Иоанна Предтечи, «а за ними, великими государями, бояре и окольничие, и думные, и ближние люди были в золотых кафтанах». По окончании литургии Софья и цари в сопровождении придворных вернулись в Коломенское, где Иван Алексеевич в своих апартаментах жаловал именинными пирогами бояр, окольничих, стольников, стряпчих и приказных дьяков.{144}
Ко дню тезоименитства царя Ивана Софья решила затребовать из Москвы Стремянной полк, который всегда отличался наибольшей верностью государям. Хованский получил соответствующее распоряжение, но вместо этого вознамерился командировать названный полк в Киев. Только после нескольких напоминаний стрельцы были отправлены из Москвы в «государев поход».
Вслед за тем князь Иван Андреевич снова проявил своеволие. 1 сентября в столице торжественно праздновался Новый год; цари и правительница воздержались от поездки в Москву и приказали быть «у действия Нового лета» Хованскому как главе временной столичной администрации. Но князь отказался участвовать в торжествах в отсутствие государей и послал вместо себя только одного окольничего Кирилла Хлопова. Тем самым князь дал повод для обвинения в том, что «своим непослушанием и гордостию высокою то действо опорочил и святейшему патриарху досаду учинил и от всех народов привел в зазор».{145}
На следующий день в Коломенском на воротах царского дворца обнаружилось «прилепленное» письмо с указанием адресата: «Вручить государыне царевне Софии Алексеевне не роспечатав». Нашедший его стрелецкий полковник Акинфий Данилов поспешил отнести подметное послание правительнице. Оказалось, что это «извет», то есть донос на Ивана Андреевича и его сына Андрея. Московский стрелец и двое посадских людей, пожелавшие остаться неизвестными, сообщали о страшном заговоре: Хованские якобы пригласили «на нынешних неделях» к себе в дом «девяти человек пехотного чина да пяти человек посацких людей» и призывали их подстрекать «свою братью» на новое восстание, чтобы «царский корень известь», объявить царей Ивана и Петра «еретическими детьми» и убить обоих вместе с царицей Натальей Кирилловной, царевной Софьей Алексеевной, патриархом Иоакимом и всеми церковными властями. На одной царевне якобы предполагалось женить князя Андрея, а остальных постричь в монахини и разослать в дальние обители. Кроме того, решено было «бояр побить Одоевских троих, Черкасских двоих, Голицыных троих, Ивана Михайловича Милославского, Шереметевых двоих и иных многих людей из бояр, из дворян и из гостей за то, что будто они старую веру не любят, а новую заводят». Хованским приписывались планы организации народного восстания в масштабах всей страны: их агенты будто бы должны были «смущать» население, «чтоб в городах посацкие люди побили воевод и приказных людей, а крестьян научать, чтоб побили бояр своих и холопий боярских». Когда «государство замутится», в Москве можно было бы избрать царем Ивана Хованского, «а патриарха и властей поставить, кого изберут народом, которые бы старые книги любили». Как видим, Хованские выставлялись в доносе вождями всероссийской старообрядческой революции. Так неосторожные заигрывания Ивана Андреевича с раскольниками были раздуты до размеров государственного заговора.
Поддельность «изветного письма» отмечалась уже современниками событий. Андрей Матвеев полагал, что донос «был сложен из природной политики… боярина Милославского и сообщников его».{146} Солдат Московского выборного полка Родиона Жданова Иван Алексеев не побоялся перед строем назвать извет на Хованских «воровскою и лживою грамотою».{147}
Историки также отмечали безусловную недостоверность этого документа. Н. Г. Устрялов писал: «Извет нелепый, вымышленный, как свидетельствует современник, боярином Милославским, в бессильной злобе к ненавистному сопернику; едва ли верила ему и Софья… Царевна притворилась, однакож, устрашенною открытием заговора ужасного…» М. П. Погодин отмечал, «что это подметное письмо (средство самое обыкновенное в то время) свидетельствует гораздо более против царевны Софьи, чем против Хованских». Правительница сохраняла донос в строжайшей тайне вплоть до самого дня их казни, она не приняла никаких мер к расследованию этого дела. «Если ж надо было выдумывать письмо, то, значит, никаких наличных доказательств не было, — справедливо утверждает историк. — Письмо нужно было, чтоб иметь после предлог лишний для обвинения и смертного приговора».{148}
В. И. Буганов, отвергая свидетельство Матвеева об инициативе Милославского, писал: «Скорее всего, это было делом рук самой Софьи и ее приближенных, Шакловитого и других». А. С. Лавров высказался по данному поводу более корректно: «Царевна Софья Алексеевна, стольник и полковник Акинфий Данилов и думный дьяк Федор Леонтьевич Шакловитый — вот три лица, которые в первую очередь дали ход „изветному письму“». А в самих изветчиках историк с полным основанием видит «скорее подставных лиц, нежели самодеятельных доброхотов».
Приведенные выше мнения относительно причастности Софьи, Милославского, Шакловитого и Данилова к составлению доноса на Хованских не вносят никакой ясности в эту почти детективную историю. Все предположения строятся главным образом на логическом умозаключении о заинтересованности правительницы в устранении Ивана и Андрея Хованских. Это единственный факт, не подлежащий сомнению. Но всё-таки думается, что не сама Софья инициировала появление извета. И она, и Шакловитый были способны организовать составление более правдоподобного документа. В этом деле можно скорее увидеть руку не очень умного интригана Милославского. В. И. Буганов справедливо утверждает, что летом и осенью 1682 года тот «уже не играл большой роли в борьбе за власть», однако это не мешало ему желать гибели Ивана Хованского, которого он боялся и ненавидел. Но в любом случае «изветное письмо», прилепленное к воротам царской резиденции, оказалось весьма кстати. С этого момента Софья начала целенаправленную подготовку к уничтожению Ивана и Андрея Хованских и подавлению стрелецкого восстания.
Интересно проследить связь содержания «изветного письма» с ходившими по Москве слухами о преступных замыслах князей Хованских. Андрей Матвеев приводит слова Ивана Милославского, якобы сказанные «во уши высочайшие», то есть Софье: «Первое: оный старый князь Хованский в такую крепкую силу у всех полков стрелецких пришел, что их вновь великим бунтом на всеконечное их царского дома искоренение приводит; второе: сын его князь же Хованский публично говорил, что по своей высокой породе из фамилии старых королей литовских Ягеллы, Наримунта и Карибута[9], похвалялся замуж царевну Екатерину Алексеевну за себя взять и по той наследственной линии быть царем московским». Сильвестр Медведев пишет о намерении стрельцов «благочестивых самодержцев и всякого чина, по их зломысльству, придати горькой смерти» и избрать вместо них другого царя — возможно, князя Ивана Хованского, «их во всём верного поборника», который говорил им, что «он есть королевского рода».
Фуа де ла Невилль утверждал, что Хованским «завладело желание венчаться на царство», «он решил предложить брак своего сына с царевной Екатериной, младшей сестрой царевны Софьи. Но дерзость его не имела того успеха, на который он рассчитывал. Этот смелый план прогневил двор, так как стало ясно, что этот брак может послужить только во вред безопасности юных царей». Примечательно, что далее Невилль говорит о казни Хованских в «День святой Екатерины, чье имя носила царевна, которую боярин Хованский предназначал в жены своему сыну». Таким образом, он путает Екатерину с Софьей, на именины которой в действительности пришлось это событие. Как видим, известие французского автора отражает неопределенность слухов о замыслах Хованских.
Неизвестный польский дипломат сообщал, что «спрятанными и уцелевшими от разграбления стрельцов деньгами Хованский набрал себе единомышленников и подкупил стрельцов, в надежде сделаться царем, а Софью выдать замуж за своего сына», но тут же приводит слова Ивана Андреевича, которые можно расценить как проявление патриотизма и лояльности в отношении царей Ивана и Петра:
— Тогда мы сможем совершенно обезопасить Московское государство от внешних врагов, а несовершеннолетние цари пусть тем временем подрастают.
Впрочем, нужно с большой осторожностью относиться к этому источнику, содержащему немало противоречивых и явно недостоверных сведений.
Среди донесений и записок иностранных дипломатов выделяется оригинальностью известие датчанина Гильдебранда фон Торна: «Его (Ивана Хованского. — В. Н.) преступление было, как здесь говорят, в том, что он с лучшими стрельцами учинил бунт, для того чтобы вырубить всех бояр, тайно казнить царей, женить своего сына на молодой вдовствующей царице (Марфе Матвеевне. — В. Н.) и посадить его на престол».{149}
Таким образом, в слухах о матримониальных планах Хованских фигурировали сразу три невесты из царствующего дома — Софья Алексеевна, Екатерина Алексеевна и Марфа Матвеевна. Впрочем, любые их намерения в этом отношении одинаково сомнительны, поскольку к тому времени князь Андрей уже был женат на княжне Анне Семеновне Щербатовой (по первому мужу княгине Прозоровской).{150}
Приведенные выше сообщения не могут служить подтверждением данных «изветного письма», поскольку все они содержатся в источниках, написанных после рассматриваемых событий, а следовательно, в них мог быть интерпретирован и сам извет, который правительство обнародовало 18 сентября. Единственная не подлежащая сомнению информация во всём многообразии сведений о преступных замыслах Хованских заключается в том, что они кичились своим происхождением от литовских великих князей.
Тем не менее Софья после получения «изветного письма», судя по всему, притворилась напуганной. В тот же день двор поспешно выехал из Коломенского в село Воробьево, а 4 сентября переместился в село Павловское. Здесь царское семейство провело два дня в небольшом дворце на берегу Истры. Затем двор переехал в Саввино-Сторожевский монастырь под Звенигородом, где пробыл до 10 сентября.
Под защитой монастырских стен Софья попыталась предпринять первый демарш против Хованских: была составлена царская грамота во Владимир, Суздаль, Юрьев-Польской и другие города, адресованная стольникам, стряпчим, московским и городовым дворянам, детям боярским, копейщикам, рейтарам, солдатам и боярским слугам. В этом документе впервые действия московских стрельцов весной 1682 года были охарактеризованы как бунт и государственная измена: «…московские стрельцы всех приказов и бутырские солдаты по тайному согласию с боярином нашим с князь Иваном Хованским нам, великим государям, изменили и весь народ Московского государства возмутили».
В грамоте подробно описывались преступления бунтовщиков: расправы над стрелецкими полковниками, «воровское бесчеловечное убийство» бояр и ближних людей 15–17 мая, разгром Судного приказа, разграбление казны, поддержка раскольников, ополчившихся «на святую соборную Церковь». «А после того те же воры и изменники по своему воровскому совету с боярином с князь Иваном Хованским и с сыном ево с князь Андреем мыслили на нас, великих государей, всякое зло и бояр наших, окольничих, думных и ближних людей хотели побить всех без остатку для того, чтобы им Московским государством завладети. И для того своего богоненавистного соединения назвали они, воры и изменники, его, князь Ивана, себе отцом». Бунтовщики, говорилось в указе, нагло грозят людям всякого чина «воровскими копьями» и разорением и «живут во всяком бесстрашном самовольстве», а князь Иван Хованский «их не унимает и чинит им всякую помощь, и во всём на всякое зло и кровопролитие он и сын его князь Андрей им, ворам и изменникам, потакают и нашим великих государей указам во всём чинятся противны».
Далее сообщалось, что государи, не вытерпев «таких многих досад и грубостей и невинного кроворазлития», покинули Москву, а между тем князь Иван Хованский с «ворами и изменниками» в Москве «чинят всё по злому своему намерению, многих людей наглыми нападками разоряют», бьют знатных и честных людей на правеже по несправедливым искам, присваивают себе их дворы, «и оттого наше государство разоряется», а внешние враги радуются и замышляют всякие хитрости и зло. Грамота заканчивалась призывом к служилым людям идти «с великим поспешением» к столице для защиты «государского здоровья» и «очищения от вышеписанных воров и изменников царствующего нашего града Москвы».{151}
Таким образом, в конце первой декады сентября правительство Софьи заявило о готовности начать войну против мятежных стрельцов и связанных с ними Хованских. Однако царская грамота из Саввино-Сторожевского монастыря не была разослана по уездам — об этом свидетельствует посылка 18 сентября в те же города — Владимир, Суздаль, Юрьев — грамоты о сборе дворянского ополчения.{152} Возможно, Софья, поначалу отважившаяся на этот шаг, вскоре передумала и решила до поры оставить свои замыслы в тайне. Ведь стань содержание грамоты известно Хованским, они предприняли бы все возможные меры для обороны Москвы от дворянского ополчения. А Иван Андреевич, что бы о нем ни говорили недоброжелательные современники и строгие историки, был опытным полководцем и умелым военным администратором. В случае открытых боевых действий московские стрельцы скорее всего не устояли бы под натиском превосходящих правительственных сил, но пролилось бы много крови. Осторожность Софьи помогла этого избежать, и Хованские до самого последнего дня не подозревали о нависшей над ними опасности.
Примерно тогда же государыня царевна распорядилась послать Ивану Хованскому царскую грамоту от 7 сентября о том, чтобы «давать заслуженные деньги московских полков надворной пехоте по тысяче рублев на неделю».{153} Как видим, правительство не забывало заботиться о стрельцах, чтобы не потерять влияния на эту серьезную военную силу. Слова грамоты о «заслуженном» жалованье вовсе не сочетаются с представлениями о стрельцах как о «ворах и изменниках». Здесь видна тонкая двойственная политика регентши.
Через два дня в столицу была послана еще одна царская грамота — распоряжение московским и городовым дворянам, а также московским стрельцам в связи с угрозой со стороны Польши быть в полках. Предписывалось объявить этот указ в Кремле на Постельном крыльце всем служилым людям, «которые ныне на Москве». В приложенной к грамоте росписи были перечислены московские стрелецкие полки, которые следовало послать в Киев, Новгород, Смоленск и другие города — в общей сложности 13 полков надворной пехоты и Московский выборный солдатский полк Родиона Жданова{154} — тот самый, который при прежнем командире Матвее Кровкове примкнул к мятежным стрельцам еще в самом начале восстания.
Если учесть, что в сентябре 1682 года в Москве находилось 19 стрелецких полков, получается, что правительство попыталось убрать из столицы две трети мятежного гарнизона. Хованский проигнорировал это распоряжение, не желая, разумеется, сокращать количество верных ему войск. Впрочем, он в любом случае не смог бы откомандировать в провинцию распоясавшихся стрельцов, которые чувствовали себя полными хозяевами в столице и к тому же не имели никакого желания отрываться от своих дворов, торговых лавок и прочей недвижимости. Отметим тонкий беспроигрышный ход Софьи: в случае выполнения данного указа из Москвы была бы удалена основная часть мятежников, а неподчинение Хованского этому требованию давало основание для обвинения его в государственной измене, что и было использовано впоследствии.
Тем временем жизнь двора в «государевом походе» шла своим чередом. 10 сентября в монастыре была отпразднована память чудотворца Саввы, а к вечеру царский «поезд» покинул стены обители и вернулся в Павловское. Здесь пробыли два дня, а затем перешли на Калязинскую дорогу и прибыли в село Хлябово на Икше. Оттуда по Троицкой дороге в ночь на 14 сентября прибыли в село Воздвиженское — как раз к храмовому празднику Воздвижения Креста Господня. Здесь тремя днями позже наступил ключевой момент в жизни Софьи Алексеевны, ознаменовавший упрочение ее власти.
Четырнадцатого сентября был принят царский указ о вызове в Воздвиженское всех бояр, окольничих, думных людей, стольников, стряпчих, дворян московских и жильцов, которые должны были собраться к первому часу дня (то есть с восходом солнца) 18 сентября для торжественной встречи Семена Самойловича, сына малороссийского гетмана. Грамоты с приказом явиться в Воздвиженское были посланы и Ивану и Андрею Хованским. 16 сентября они отправились в путь, не подозревая, что едут навстречу своей гибели.
Старик Хованский двигался не спеша в сопровождении свиты из семидесяти человек, в основном стрелецких солдат и офицеров. К вечеру он остановился в патриаршем селе Пушкине, приказав разбить лагерь на крестьянском гумне, а. Андрей тем временем «поехал в деревню свою, от села Пушкина версты с две».{155} Непонятно, почему Иван Андреевич не захотел преодолеть это небольшое расстояние до поместья сына. Видимо, пожилого человека одолела дорожная усталость.
Наступило 17 сентября — день рождения и тезоименитства Софьи Алексеевны, которой исполнилось 25 лет. Знать и придворные уже наполняли Воздвиженское, спеша поздравить государыню царевну с днем ангела. Юные цари и всё остальное семейство «изволили божественные литоргии слушать в церкви Воздвижения честнаго креста. А за ними, великими государями, были бояря и окольничие, и думные и ближние люди в объяринных[10] в цветных кафтанех». По окончании обедни Софья «изволила бояр, окольничих и думных людей жаловать водкою». Но настроение царевны вряд ли было праздничным: необходимо было поскорее завершить тяжелое и неприятное дело, от которого зависело спокойствие в столице и во всём государстве.
Сразу же после именинного угощения состоялось экстренное заседание Боярской думы с участием Софьи и царей. Думный дьяк Федор Шакловитый зачитал доклад:
— Великим государям ведомо учинилось, что боярин князь Иван Хованский, будучи в Приказе надворной пехоты, а сын его, боярин князь Андрей, в Судном приказе, всякие дела делали без великих государей указа, самовольством своим и противясь во всём великих государей указу; тою своею противностью и самовольством учинили великим государям многое бесчестие, а государству всему великие убытки, разоренье и тягость большую. Да сентября во второе число, во время бытности великих государей в Коломенском, объявилось на их дворе у передних ворот на них, князя Ивана и князя Андрея, подметное письмо.
Далее был оглашен уже известный нам донос на Хованских. Государи и сестра их царевна Софья Алексеевна, «слушав того письма», указали, и бояре приговорили: «По подлинному розыску и по явным свидетельствам и делам, которые они противностью своею чинили, и тому изветному письму согласно, казнить смертью».{156} Разумеется, никакого «подлинного розыска» и обнаружения «явных свидетельств» не было. К тому времени Шакловитый уже подготовил обстоятельно составленные смертные приговоры с перечислением всех действительных и мнимых провинностей князей Хованских. Решение об их казни было вынесено с нарушением всех норм судопроизводства — без допроса обвиняемых, показаний свидетелей и вообще без какого-либо предварительного следствия. Это была тщательно спланированная расправа над людьми, представлявшими опасность для государственного спокойствия, но не имевшими никаких реальных преступных замыслов.
Подчеркнем важную деталь: перед нами первое официальное упоминание о принятии Софьей царского указа наряду с братьями. Прежде все законодательные и распорядительные акты оформлялись только от имени царей Ивана и Петра.
Тотчас после вынесения решения о казни Хованских для их ареста был послан отряд боярина князя Михаила Ивановича Лыкова численностью около двухсот человек. Иван Андреевич со свитой был захвачен «на стану», то есть во временном лагере около Пушкина. Сопровождавших князя выборных стрельцов и боярских людей разоружили, связали и оставили в селе под присмотром тамошнего старосты. Вместе с Иваном Андреевичем на расправу повезли только «пущих заводчиков бунта» — рядовых надворной пехоты Алексея Юдина, Бориса Одинцова и еще троих стрельцов.
После ареста старшего Хованского отряд боярина Лыкова отправился на захват его сына в деревне на Клязьме, близ села Братовщино. Отряд Лыкова быстро окружил усадьбу Андрея Ивановича плотным кольцом, после чего сопротивление стало бессмысленным. Князь был схвачен вместе с находившимися при нем стрельцами. Связанных пленников присоединили к Ивану Хованскому с его подручными, посадили всех на лошадей и привезли в Воздвиженское. Здесь их уже ожидали члены Боярской думы, рассаженные на скамьях у передних ворот государева двора. Софья приказала не вводить Хованских в царский дворец и сама до конца дня не выходила из своих апартаментов. Видимо, царевне было слишком тяжело видеть людей, обреченных ею на смерть.
В присутствии бояр, окольничих и всех думных людей Федор Шакловитый зачитал смертные приговоры сначала отцу, потом сыну. Иван Андреевич обвинялся в раздаче стрельцам денежных сумм из государственной казны без царских указов, в допущении стрелецких расправ над «знатными людьми», в поддержке раскольников во время прений о вере 5 июля, в спасении от казни некоторых расколоучителей. Старому князю припомнили все его неосторожные слова — о том, что без него «никакая плоть не спасется и будут в Москве ходить в крови по колени», что угроза стрелецких копий еще не миновала, что никто из бояр не имеет таких заслуг перед государством, как он с сыном. Заносчивое поведение Хованских на заседаниях Боярской думы было описано с явными преувеличениями: они будто бы «в палате дела всякие оговаривали противно… государскому указу и Соборному уложенью с великим шумом, невежеством же и возношением», «бояр бесчестили и нагло поносили», никого не считали равными себе по значению и многим угрожали «смертию и копиями».
Ивану Хованскому были поставлены в вину все его служебные промахи: неявку на празднование Нового года, нежелание отправлять Стремянной полк в «государев поход», невыполнение царских указов о высылке из Москвы других полков. Особо была отмечена попытка князя напугать царевну Софью известием о мнимых планах нападения новгородских дворян на столицу. Затем было зачитано «изветное письмо», полученное в Коломенском 2 сентября, и сделан совершенно необоснованный вывод: «И вышеписанные твои, князь Ивановы, воровские дела и измена с тем письмом сходны, и злохитрый твой вымысл на державу их великих государей и на их государское здоровье обличился, и против того письма в тех делах ты означился, и во всём измена твоя и под государством Московским подъискание стало явно».{157}
Молодой князь Андрей Хованский удостоился отдельного приговора. Он обвинялся в том, что «умышлял и советовал» заодно с отцом во всех его преступных замыслах, осуществлял вместе с ним «многие злые дела» и тем самым учинил «Московскому государству великое разоренье и в народе многую смуту», говорил про царя Алексея Михайловича «многие непристойные и поносные слова», членов Боярской думы «всех лаял, поносил и переговаривал с великою наглостию», называя их ворами, а сам в то же время присваивал казенное имущество и деньги. Особого внимания заслуживает один пункт обвинения: «Да ты ж говорил про благоверных государынь царевен такие великие и страшные дела, что выше сего написано, многим бесстрашьем, чего не только говорить, и мыслить страшно».{158} Выражение «что выше сего написано» свидетельствует, что детали этих «великих и страшных дел» изложены в приведенном ранее документе, то есть всё в том же изветном письме. Следовательно, речь идет о мнимых намерениях князя Андрея убить царевну Софью и жениться на ее сестре.
Отец и сын Хованские оправдывались «с сильными очистками», то есть приводили убедительные доводы в свою защиту, слезно просили бояр провести расследование обстоятельств стрелецкого бунта, «от кого вымышлен и учинен был», устроить им очные ставки с действительными «заводчиками» мятежа и «безвинно их так скоро не казнить». По поводу мнимых матримониальных планов князя Андрея старик Хованский пообещал:
— Если сын мой всё так делал, как говорится в сказке, то я предам его проклятию.
Андрей Матвеев утверждает, что Иван Милославский сообщил о происходящем царевне Софье и та передала боярам указание, «чтоб невзирая отнюдь ни на какие их, князей Хованских, отговорки», приговор был немедленно приведен в исполнение. Хованских отвели на площадь у Большой Московской дороги, где, за отсутствием профессионального палача, стрелец Стремянного полка отрубил голову сначала отцу, а потом сыну. Вслед за ними были казнены Алексей Юдин, Борис Одинцов и еще несколько стрельцов из ближайшего окружения Ивана Хованского. Останки князей, положенные в заранее приготовленные гробы, были отвезены в соседнее село Городец и похоронены неподалеку от Троицкой церкви.{159}
Так закончился насыщенный событиями день рождения государыни Софьи Алексеевны. На 25-летие царевна сделала себе самый дорогой и желанный подарок — реальную власть. Для этого пришлось переступить через кровь. Можно было после вынесения поверженным Хованским смертного приговора объявить помилование, заключить их в тюрьму до окончательного завершения стрелецкой смуты, потом отправить в ссылку. Ведь основная часть выдвинутых против них обвинений была надуманна, а за свои реальные проступки они не заслуживали казни. Но милосердие в данном случае могло бы показаться проявлением слабости характера регентши, что в тот момент было недопустимо. Решительный и жестокий поступок Софьи был призван произвести на правящую верхушку неизгладимое впечатление. Обезглавленные тела потомков Гедимина должны были служить вельможам напоминанием об опасности своеволия и непослушания государыне.
«Умирение столичного града»
Сразу же после казни князей Хованских была образована новая боярская комиссия, призванная управлять Москвой в отсутствие государей. В нее вошли боярин Михаил Петрович Головин, окольничий Михаил Федорович Полибин, думный дворянин Иван Иванович Сухотин и думный дьяк Иван Саввич Горохов. Главой комиссии был назначен боярин князь Федор Федорович Куракин, близкий к Милославским, однако он задержался в своей вотчине в Дедиловском уезде, поэтому руководство было возложено на Михаила Головина.{160} Уже на следующее утро тот выехал из Воздвиженского в неспокойную Москву. Из представителей светской власти в столице оставался только Иван Сухотин, прежде входивший в комиссию Хованского, призванный обеспечить преемственность в деятельности московской администрации. Полибин и Горохов находились неизвестно где — по-видимому, прятались в своих загородных имениях, не испытывая никакого желания приступать к тяжелым обязанностям управления «мятежным градом».
Москва была вновь охвачена волнениями, спровоцированными на этот раз князем Иваном Хованским, младшим сыном Ивана Андреевича. О решении казнить его отца и брата он узнал от кого-то из бояр в Воздвиженском, в «государевом походе», и сразу же «ушел не дорогою, болотами и лесами, к Москве». Одновременно из Воздвиженского бежал его двоюродный брат князь Федор Семенович Хованский, но того по дороге «изловили».
Иван Хованский прибыл в Москву сразу после полуночи 18 сентября и тут же поспешил сообщить стрельцам страшную новость:
— Боярин князь Михайла Лыков, собрався с боярскими людьми, изрубили без указа великих государей отца моего и брата! Убили их без суда, без розыска, без ведома царского! Теперь хотят идти к Москве и рубить надворную пехоту всех!
Неточность сообщенных князем Иваном сведений объясняется тем, что он бежал из Воздвиженского еще до ареста старших Хованских. Но молодой человек не ошибся в главном: его родственники были мертвы. Известие о гибели «батюшки» Ивана Андреевича поразило стрельцов, поверивших, что готовится нападение боярских отрядов на Москву. Началось всеобщее смятение, весь город всполошился. Зазвонили набатные колокола, выбегавшие на улицу полусонные стрельцы говорили:
— Отец наш убит, бояре идут жечь наши слободы, хотят нас перебить, что нам делать без батюшки нашего?
Толпы стрельцов кинулись к патриарху Иоакиму, который еще не получил известий о последних событиях в «государевом походе». Стрельцы обступили его с требованиями:
— Почто государи Москву покинули, и ныне у нас правителя нет? Изволь государям отписать, чтоб пришли к Москве!
Патриарх старался успокоить мятежную толпу:
— Ведайте, братие, что государи Москвы не покинули. Их, государской, издревле есть таковый обычай: в сие время шествие свое в Троицкий Сергиев монастырь творити к памяти преподобного отца Сергия Чудотворца (25 сентября. — В. Н.). Вы и сами сие ведаете.
— Напиши государям, чтобы они воротились в Москву, — продолжали настаивать стрельцы. — Мы ведаем боярскую к нам вражду, бояре хотят без государского указа нас порубить, придя к Москве с войском. И того ради мы пойдем ныне, собравшись, за государями в поход и с боярами управимся сами!
— Идти вам туда незачем, походом вы наведете на себя гнев государей, — увещевал Иоаким.
Стрельцы не унимались, некоторые даже кричали:
— Возьмем патриарха и убьем, ибо и он с боярами на нас заодно стоит и советует!
— Ведай, — грозили они Иоакиму, — если ты с боярами мыслишь заодно, убьем и тебя. Никого не пощадим!
— Братие! — урезонивал их первосвятитель. — Молю вас, послушайте меня, не впадайте в смущение, поскольку ничего не известно. Господь свидетель, что великие государи вам зла не хотят, а боярам такое творить отнюдь невозможно. Тако же и я желаю вам спасения и мирного пребывания. И если я тут с вами, то как мне на вас замышлять какое-либо зло? Знаю, что и благочестивые наши самодержцы вскоре пришлют мне весть.
Патриарху стоило большого труда кое-как успокоить взволнованную толпу и уговорить стрельцов разойтись по домам, но некоторое время спустя явились представители других полков, и их пришлось также вразумлять. Так повторялось несколько раз в течение ночи. А с рассветом бунтовщики бросились на пушечный двор, захватили пушки и развезли их по своим полкам, разобрали из арсеналов копья, карабины и мушкеты, разделили между собой весь порох и свинец. Въезды в столицу были перекрыты усиленными заставами, у всех ворот и посреди главных улиц расставлены караулы, чтобы никто не был пропущен ни в город, ни из города. С раннего утра стрельцы собирались в «круги» (сходки по казачьему обычаю) и рассуждали, что нужно «в Троицкий монастырь с ружьями и с пушками идти», но над воинственными настроениями преобладали страх и всеобщая растерянность.{161}
«В другом часу дни», то есть около восьми утра, из Воздвиженского в Москву прискакал стольник Петр Зиновьев с царскими грамотами стрелецким и солдатским полкам. В них провозглашалось, что князь Иван Хованский в Приказе надворной пехоты «всякие дела делал по своим прихотям без нашего великих государей указу самовольством своим», «приносил многое лживые слова» на надворную пехоту, а стрельцам «говорил многие же слова на смуту», противился царским указам. Упоминалось и подброшенное в Коломенском «изветное письмо», из которого следовало, что «князь Иван с сыном своим князь Андреем умышляют на наше великих государей здоровье и на державу нашу злые хитрости, хотят нас, великих государей, извести и государством нашим завладеть и быть на Московском государстве государем» (для пущей убедительности к грамотам были приложены копии пресловутого письма). Поэтому, объявлялось в грамотах, Иван и Андрей Хованские «по нашему великих государей указу за те их великие вины и за многие воровства и измену кажнены смертью». Стрельцов и солдат призывали не верить никаким «лукавым словам и письмам» в защиту Хованских, не опасаться царской опалы и гнева и не сомневаться в милости государей.
Зиновьев вручил привезенные им документы Ивану Сухотину как единственному находящемуся в Москве представителю центральной администрации, а тот призвал к себе 19 стрелецких полковников и двух командиров солдатских полков, раздал грамоты под расписку и приказал читать их вслух перед полками. Тем временем Зиновьев отправился к патриарху Иоакиму, которому также привез царскую грамоту с приложенной копией извета. Содержание этих документов предписано было сообщить «для ведома архиереям и всем духовного чину людям». По дороге царский посланец был арестован стрельцами, которые сами привели его в Крестовую палату, где потребовали, чтобы патриарх прочел грамоту вслух. Их желание было исполнено. При этом множество стрельцов внимательно наблюдали, не станет ли Зиновьев говорить чего-нибудь «тайно святейшему патриарху». Сильвестр Медведев утверждал, что они, исполненные «великой ярости», в таком случае готовы были убить Иоакима. Возможно, в этих словах есть доля преувеличения, но страх беззащитных священнослужителей перед вооруженными толпами разъяренных мятежников вполне понятен. Стрельцы потребовали прочитать грамоту еще раз, потом еще. При словах о злом умысле Хованских «на царский дом и державу» некоторые кричали:
— Нет, это неправда! Пойдем на бояр и их побьем, они виноваты!
— Подождем еще, — возражали более благоразумные.
Тем не менее царское послание выполнило свое предназначение: стрельцы «впали в размышление» и растеряли воинственный пыл. А чтение в полках грамот с уверением в государевой милости заставило их окончательно отбросить мысль о наступательных действиях. Однако доверия к правительству у них не было. В тот же день Сухотин сообщил царям и Софье, что к нему приходили «ото всех полков надворные пехоты и били челом вам, великим государям», чтобы приказано было отправить в Москву двух или трех человек из числа находящихся в царском «походе» выборных стрельцов «для ведомости», то есть для подтверждения официальных известий.
Тем временем стольник Зиновьев, отпущенный стрельцами, поспешил обратно в Воздвиженское. Он не успел узнать об изменениях в настроении восставших, поэтому оповестил правительницу и членов Думы, что «стрельцы собираются идти в поход и грозят перебить всех бояр и всяких чиновных людей». Софья после короткого совещания с приближенными решила как можно скорее переехать в хорошо укрепленный Троице-Сергиев монастырь.
В тот же день дворовыми воеводами были назначены бояре князь Василий Васильевич Голицын и князь Михаил Иванович Лыков, «да с ними в товарищах» думный дворянин Алексей Иванович Ржевский и думный генерал Аггей Алексеевич Шепелев. Им поручено было командование ополчением, которое начало собираться для защиты государей согласно разосланным по городам царским грамотам. Первая из них, адресованная полковникам и офицерам «копейного и рейтарского и солдатского строев», иноземцам и «новокрещенам», была послана еще из Воздвиженского тогда же, 18 сентября. В ней говорилось, что «учинилось на Москве у надворной пехоты всех полков смятение, и хотят они итить с Москвы на нас, великих государей, с пушки и со всяким ружьем». Командирам полков иноземного строя предписано было «со всею службою наскоро с великим поспешением» прибыть в царский «поход». Тогда же боярин князь Петр Семенович Урусов был командирован для мобилизации дворян, солдат и «иных чинов ратных людей» из Владимира, Суздаля, Юрьева и Луха. Всем им было приказано для «великого и скорого дела» ехать к Троице-Сергиеву монастырю «с великим поспешением днем и ночью».{162} Это был первый из множества указов о сборе дворянского ополчения «для защиты государей».
Царский «поезд» быстро собрался в дорогу и «в третьем часу ночи» (около половины двенадцатого) 18 сентября отправился из Воздвиженского в Троицу — расстояние между ними составляло всего десять верст. Архимандрит Викентий и монахи встретили государей «с животворящим крестом и с святою водою у святых ворот». Юные цари и Софья, «пришед в монастырь, изволили быть в церкви Живоначальные Троицы и знаменовались у святых икон и у многоцелебных мощей преподобных отец Сергия и Никона, Радонежских чудотворцев». Тем временем монастырь спешно переводился на осадное положение: «великие сторожи и караулы стенные учинили, и по причинным (нужным. — В. Н.) местам пушки и всякое ружье ко опасению и на оборону уготовили, и всякий полковой строй устроили».{163}
Аналогичные работы в течение всего 18 сентября велись и в Москве: стрельцы и солдаты выборных полков, готовясь к предполагаемому нападению правительственных войск, возводили надолбы, укрепляли Земляной город, устанавливали караулы у ворот Кремля, Китай-города, Белого города и по основным улицам Земляного города, раздавали всем желающим мушкеты и карабины из казенных арсеналов, насильно привлекали к караульной службе посадских людей, а «жен своих и детей и пожитки» из стрелецких слобод «свезли в Белый город». Правительство и мятежники заняли оборонительные позиции, не собираясь нападать друг на друга. В таких условиях Софья имела все шансы добиться победы мирным путем — исключительно агитацией. Эта задача была ею выполнена более чем успешно.
В тот же день, еще из Воздвиженского, в стрелецкие полки был послан стольник Григорий Бахметев с царской грамотой, повторявшей все положения предыдущего послания о причинах казни Хованских и о милостивом отношении государей к надворной пехоте. Целью новой грамоты было опровержение провокационных слухов, распущенных среди стрельцов:
«Ныне ведомо нам, великим государям, учинилось, что по смутным словам изменничья князь Иванова сына Хованского, князь Ивана ж, который от нас, великих государей, из походу збежал, учинилось у вашей братьи на Москве смятение, и имеют опасение от наших, великих государей, ратных и от боярских людей. И то всё тот изменничей сын князь Иван Хованской затеял и вместил ложно, чево не бывало, хотя тем отца своего князя Ивана и брата своего князь Андрея воровство и измену покрыть.
И как к вам ся наша великих государей грамота придет, и вы б, пятидесятники и десятники и рядовые, о том наш великих государей указ и ево князь Иванову и сына ево князь Андрея явную измену и на наше великих государей здоровье злой умысл и под государством нашим подъисканье ведали, а никаким прежним ево князь Ивановым и свойственников ево, тако же и нынешним словам ево и родственников прелесным и лукавым словам и письмам не верили, на себя нашие великих государей опалы и никакова гневу не опасались и никакова сумнения в том не имели, потому что нашего великих государей гневу на вас нет, и вы б в том однолично на нашу великих государей милость были надежны безо всякого сумнительства и нам, великим государям, служили по своему обещанию безо всякого прекословия…»{164}
Правительственная агитация начала действовать: сразу же после прочтения в полках царской грамоты стрелецкие выборные обратились к патриарху с просьбой заступиться за них и послать к государям архимандрита или игумена.
— Дети мои, — ответил предстоятель, — я всегда желал и желаю вам добра. Сам бы пошел просить вам прощения, но не могу за немощью, вот вам архимандрит, а если хотите, и архиерея дам.
Девятнадцатого сентября к царскому двору в Троицу приехал посланный патриархом архимандрит кремлевского Чудова монастыря Адриан. От имени стрельцов и всех жителей Москвы он просил государей вернуться в столицу и избавить народ от всякого смущения и страха. В ответ 20 сентября в Москву был послан думный дворянин Лукьян Голосов с грамотами патриарху и всем полкам надворной пехоты. Стрельцам было приказано, чтобы они «от смятения престали и всполохов и страхованья не чинили». В грамоте сообщалось, что князья Иван и Андрей Хованские казнены по царскому указу за измену, которая «по розыску и по подлинному свидетельству… известна и всем людям явна», и провозглашалось, что право судить подданных вручено государям от Бога, а стрельцам по этому поводу не положено не только рассуждать, но даже мыслить; впрочем, они могут не опасаться «опалы и никакого гнева» и быть «надежны (то есть уверены. — В. Н.) безо всякого размышления» в милости великих государей.{165}
На следующий день московским купцам и посадским людям также была послана царская грамота, свидетельствующая об исчерпывающей осведомленности правительства о ситуации в Москве и военных приготовлениях стрельцов:
«Во всех полках учали быть сборы ратным обычаем, и стали они, надворная пехота, ходить в город и везде с копьями и со всяким ружьем, и с Пушечного двора пушки развезли по всем полкам, а иные в Кремль ввезли, и из нашей, великих государей, казны зелье (то есть порох. — В. Н.) разобрали по себе, и на Красной площади, и в Кремле, и в Китае, и в Белом городе, по воротам, и Земляному городу поставили на караулах многих людей со всяким ружьем, и всяких чинов людей, которые ездят от нас, великих государей, из похода к Москве, и с Москвы к нам, великим государям, в поход, имают и сажают за караулы, и никаких людей к Москве и из Москвы не пропущают неведомо для чего, и от того в царствующем нашем граде Москве чинится великое смятение и людям страхование».
Государи похвалили купцов и посадских за верность, повиновение и послушание верховной власти. Для пресечения разговоров о том, что Хованские «казнены напрасно без розыска», к грамоте опять же была приложена копия «изветного письма».{166} Похвала горожанам также имела пропагандистский характер. Правительству было известно, что часть посадских поддерживает мятежников, однако провозглашение милости за послушание снимало с них всякую вину и тем самым способствовало прекращению их участия в бунте.
Тем временем из Троице-Сергиева монастыря рассылались царские грамоты по городам Центральной России с приказами местному дворянству немедленно явиться для защиты государей. Бояре и дворяне со своими холопами начали собираться к царскому двору еще во время его пребывания в Коломенском и Саввино-Сторожевском монастыре. Теперь для защиты государей к Троице стягивались все служилые люди «московского чина», то есть верхушка российского дворянства: стольники, стряпчие, дворяне московские и жильцы. Отсутствовавшие в «государевом походе» бояре, окольничие, думные дворяне и думные дьяки должны были немедленно явиться в сопровождении многочисленной вооруженной челяди.
Городовые (уездные) дворяне и дети боярские, собиравшиеся вокруг Москвы, были объединены в четыре полка. Северный полк — дворяне из Дмитрова, Углича, Клина, Твери, Торжка и Старицы — должен был стоять в 30 верстах от Москвы в селе Черкизове. Владимирский полк, включавший в себя дворян из Владимира, Суздаля, Юрьева, Луха и Шуи, расположился на Владимирской дороге в 40 верстах от столицы. Рязанский полк, составленный из рязанских, коломенских, каширских и тульских дворян, занял позиции на Коломенской дороге у Боровского перевоза на Москве-реке, в 30 верстах от города. Заоцкий (Заокский) полк из дворян южных и западных подмосковных уездов (Звенигород, Борисов, Можайск, Руза, Верея, Боровск, Малый Ярославец, Калуга и др.) должен был стоять на Можайской дороге «на Вяземе» в 30 верстах от Москвы. Таким образом, предполагалось блокировать мятежную столицу со всех сторон. Позже было принято решение разместить полки провинциального дворянства не в 30–40 верстах от Москвы, а значительно дальше — в Переславле-Залесском, Коломне, Рязани и Серпухове.{167}
Известия о сборе дворянского ополчения под Троицей и вокруг Москвы напугали стрельцов. Они послали к государям двух человек, снабженных отпиской руководителя временной московской администрации боярина Головина, удостоверявшей верноподданнические чувства стрелецких делегатов. Стрелецкие депутаты были милостиво приняты Софьей и в тот же день вернулись в Москву с царской грамотой Головину, предписывающей, чтобы стрельцы и солдаты прислали в Троицкий монастырь по 20 выборных «лучших людей» из каждого полка. Надворная пехота пришла в замешательство:
— Лучших людей хотят взять у нас и казнить смертью! По дорогам стоят государские полки, они наших братьев перехватают и в поход к государям не допустят!
Царь Алексей Михайлович, царица Мария Ильинична, патриарх Никон. Фрагмент иконы «Кийский крест с предстоящими». И Салтанов. 1662 г.
В Грановитой палате Московского Кремля проходили самые важные государственные мероприятия
Мария Ильинична с сыновьями Алексеем и Федором. Фрагмент иконы С. Ушакова «Насаждение древа государства Российского». 1668 г.
Пир в Грановитой палате. Миниатюра 1672–1673 гг.
Согласно «черной иконе» святой мученицы Софьи, рост царевны Софьи при рождении составлял 45 сантиметров. 1657 г.
Алексей Михайлович перед второй женитьбой. Неизвестный западноевропейский художник. Не позднее 1679 г.
Мачеха Софьи Наталья Кирилловна. М. Чоглоков. Не ранее 1676 г.
Палаты царицы Натальи Кирилловны в Кремле. Реконструкция А. Векслера, И. Ильенко. Рисунок К. Лопяло
Теремной дворец Московского Кремля. Фото 1880-х гг.
Вход в домовую церковь Спаса Нерукотворного. Фото конца XIX в.
Царская молельня в Теремном дворце. Фото конца XIX в.
Одна из опочивален Теремного дворца. Фото конца XIX в.
Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском. Гравюра Ф. Гильфердинга. 1780 г.
Покои царевны Софьи. Реконструкция. Музей-заповедник «Коломенское»
Брат Софьи царь Федор Алексеевич. И. Салтанов (И. Безмин?). 1686 г.
Боярин Артамон Сергеевич Матвеев. И. Фолвейкс. Конец XVII в.
Князь Иван Андреевич Хованский. Гравюра 1659 г.
Стрелецкий бунт 1682 года. Немецкая гравюра
Бояре Михаил Долгорукий и Артамон Матвеев убеждают ворвавшихся в Кремль стрельцов разойтись. Справа в тереме — царевна Софья. Миниатюра из рукописи П. Крекшина «История Петра I». Середина XVIII в.
Расправа стрельцов над сторонниками Петра Алексеевича. Миниатюра из рукописи П. Крекшина
Стрельцы, получив от царевны Софьи жалованные грамоты и деньги, под звуки музыки и звон колоколов торжественно идут по Кремлю. Миниатюра из рукописи П. Крекшина
Двойной трон царей Ивана и Петра Алексеевичей. Софья руководила действиями братьев, давая наставления через задрапированное оконце в спинке
Аллегория Российского государства: София Премудрость Божья распростерла крылья над Христом, благословляющим царей Ивана и Петра. Гравюра И. Щирского из книги Л. Барановича «Благодать и истина». 1683 г.
Софья Алексеевна в европейском платье. Гравюра Боннара. 1685 г.
Тем не менее царское распоряжение нужно было выполнять. 24 сентября стрельцы обратились к патриарху Иоакиму с просьбой послать вместе с выборными архиерея, и тот приказал отправиться с ними суздальскому и юрьевскому митрополиту Иллариону.
— Идите с миром, — напутствовал стрельцов патриарх, — и не бойтесь, не слушайтесь наветов: государи вашему покорению желательны, а гнева на вас явити не изволят.
К вечеру 25 сентября стрелецкая делегация численностью около четырехсот человек во главе с полковником стольником Михаилом Ознобишиным и митрополитом Илларионом выехала из Москвы. Ее путешествие до Троицы ярко описано очевидцем Сильвестром Медведевым, вероятно, входившим в свиту митрополита. В пяти верстах от города выборные остановились на ночь возле моста через Яузу. Мало кто спал — все пребывали в страхе, что их «в том месте» посланные из похода «ратные люди порубят». Стрельцы даже выслали вперед разведывательный отряд, впрочем, не обнаруживший никаких государевых служилых людей; но несмотря на это, страх не проходил. С наступлением утра многие хотели вернуться в Москву, и митрополиту с полковником Ознобишиным стоило большого труда уговорить их продолжить поход к монастырю в надежде на царскую милость и заступничество патриарха.
Стрельцы отправились в дальнейший путь, но вскоре среди них распространился новый тревожный слух:
— В той дороге на Мытищах, от Москвы пятнадцать верст, стоит с войском боярин Шеин и тамо, похватав нас, казнит!
Но когда добрались до Мытищ, никакого войска там не оказалось. Тогда стрельцы начали говорить, «что, конечно, войско стоит в селе Пушкине», что также не подтвердилось. Тем не менее паника продолжала нарастать и достигла апогея по прибытии стрелецкой делегации в Воздвиженские. Стрельцы толпами бродили по селу, вздыхали, плакали, вспоминали казненного здесь «батюшку» князя Ивана Андреевича и пугали друг друга, что их самих непременно ожидает та же участь. Некоторые, не выдержав, сбежали из Воздвиженского в Москву, где начали рассказывать, что «их товарищев всех переказнили». Этот рассказ Сильвестра Медведева подтверждается царской грамотой из Троице-Сергиева монастыря московским властям, в которой говорится, что несколько стрелецких выборных «с дороги сбежали к Москве и на Москве надворные пехоты всеми полками возмутили и учинили всполохи большие, вместя воровские смутные слова, чего не бывало». Руководитель московской администрации боярин Головин получил указание уговаривать московских стрельцов, чтобы они «тех беглецов воровским смутным словам не верили»; самих сбежавших стрелецких делегатов предписано было «изымать», то есть ловить и арестовывать.{168}
Потребовались новые убеждения митрополита Иллариона, чтобы заставить выборных продолжить путь. Но прежде стрельцы послали к Троице двух человек с отпиской патриарха государям. Перед сельцом Рахмановом стрелецкую делегацию встретил высланный Софьей стольник Иван Иванович Нормацкий:
— Ничего не бойтесь и надейтесь на царскую милость. Я нарочно с таким словом к вам прислан.
Вслед за тем, уже с наступлением ночи, вернулись и два стрельца из Троицкого монастыря, которые уверили товарищей, что никакой засады на дороге нет «и без указа великих государей тому их напрасному побиению быти невозможно», а их повинную готовы принять радостно, «по притче блудного сына».
Ранним утром 27 сентября стрелецкая делегация добралась до Троицы. Прибывших встретила царевна Софья в окружении бояр и ближних людей. После молитв, прославляющих память преподобных Сергия Чудотворца и ученика его Никона, правительница обратилась к стрельцам с продуманной речью, полной справедливых упреков:
— Люди Божии! Как вы не убоялись Бога?! Как восстали на величайших благочестивых самодержцев и на весь царского нашего величества сигклит, на бояр, и на ближних людей, и на всех людей во всём Московском государстве вознеистовились?! Воистину забыли вашу нам веру и целование креста святаго, что будете верно во всём нам служить! Забыли вы милости к вам и жалованье деда нашего царя Михаила Федоровича, и отца нашего царя Алексея Михайловича, и брата нашего царя Федора Алексеевича. Забыли и милость, и государское жалованье ныне благочестивых царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцев! Почто приходили по своим волям зло творить? Чего ради, вознеистовившись, хотели за нами войною воровски на погубление идти? Чего ради без царского величества указов ружье всякое из казны, пороховое зелье, и свинец, и всякие военные припасы разобрали и людям иным раздавали, и пушки развозили на бой, и ходите всюду на Москве в царствующем нашем граде с ружьем и с копьями, и караулы поставили многие, и круги злосоветные ваши завели по-казацки, чего и в древние лета в царствующем граде не бывало?! Или вы нашим царством хотите завладеть?! Видите, до чего вы ныне своевольством своим дошли! Видите, какое множество воинства нашего собралось охранять нашу державу от вашего злодейства и непокорства! Как вы, в таком еще юном возрасте видя благочестивых царей, воздвигли смущение, и мятеж, и противление, и всему государству убыток, и обиду, и скорбь всему воинству соделали?! Вы не пропускаете в царствующий наш град всяких людей с челобитьями нам, за что недостойны были бы даже видеть царские величества, а не то что ждать милости к вам. Если вы называетесь слугами царского пресветлого величества, то где есть ныне служба ваша и послушание?
Стрельцы со слезами повторяли:
— Виноваты! Согрешили! Бога и ваше величество прогневили!
Выборные от стрелецких полков подали Софье датированную 25 сентября «сказку» от имени стрельцов, солдат, пушкарей, гранатчиков и других служивых людей: все они обещали государям «служить и работать» безо всяких «шатостей», утверждали, что у них на царей и бояр «никакого злоумышления нет и впредь не будет», что оружие и боеприпасы, самовольно взятые из казенных арсеналов, «ныне в полках в целости». В «сказке» особо подчеркивалась готовность стрелецких полков отправиться на службу в Киев, как было предписано царскими указами еще две недели назад.
После оглашения «сказки» — акта капитуляции московских повстанцев — Софья вновь обратилась к стрелецким выборным:
— Добро вы ныне сделали, что покорно пришли и спасли души ваши от гнева Божия и от меча лютого. Ведайте, что царские величества благочестивы и человеколюбивы, они не желают крови, не гневливы, хотят мира и готовы прощать виновных, которые вину приносят. Но есть у вас, как слышим, еще в полках ваших ныне на Москве злонравные люди, призывающие к мятежу. Вы теперь при виде милости к вам царских величеств будете надежны от таких подстрекательств. Возвратясь к Москве, утвердите в полках вашу братию от всякого зла, прекратите стрельбу из ружей, а взятое из царской казны оружие, пушки, порох и свинец верните на прежнее место. Затем, не допуская более никакого бесчинства, затейных слов и сумнительств, вы должны снова явиться сюда к царским величествам с повинной и с усердным покорением. И тогда примете оставление ваших вин и совершенное прощение. А если же этого вскоре не сделаете, плохо вам будет, ибо великие государи пойдут на вас силою многою неисчислимого воинства.
— Всё по воле вашей государской сотворим! — уверили правительницу стрелецкие выборные. — Только молим вас, пожалейте нас бедных и дождитесь, когда мы снова к вам, государям, возвратимся.
В грамотах от 29 сентября, отправленных патриарху Иоакиму и главе московской администрации М. П. Головину, Софья сообщила о переговорах с выборными и о своем требовании без промедления прислать в Троицу новую делегацию от всех полков с повинными челобитными. При этом выдвигалось условие, чтобы стрельцы «о всём, и от кого у них в полкех нынешняя смута учинилася, написали подлинно». В царских грамотах содержался приказ приводить людей, которые будут призывать к смуте или «говорить какие непристойные речи», к боярину Головину, и приносить обнаруженные где-либо письма с призывами к неповиновению к властям. Стрельцам и другим жителям Москвы было строго указано, чтобы у себя «никаких воровских людей не держали и их нигде не укрывали, и за них никогда не стояли никакими мерами». Далее шли требования сохранять «в целости» до государева указа взятые из казны оружие и военные припасы, снять расставленные мятежниками по всему городу караулы, чтобы «всяких чинов людей с Москвы и к Москве пропущали без задержанья». Кроме того, стрельцы должны были освободить арестованных, сидевших «за караулами» в полковых съезжих избах и в других местах. Правительница потребовала также схватить и немедленно прислать в Троицу князя Ивана Хованского и других лиц, распускавших ложные слухи и тем самым подстрекавших стрельцов и солдат «на смуту».{169}
Тридцатого сентября Иван Хованский был арестован стрелецким отрядом из двадцати человек под командованием полковника Игнатия Огибалова, дьяка Ивана Максимова и двух капитанов надворной пехоты. На следующий день князь подвергся допросу в московской боярской комиссии и сразу же был отправлен под конвоем в Троице-Сергиев монастырь. Днем позже ему был объявлен смертный приговор, который тут же заменен ссылкой в Сибирь, в Якутский острог «на вечное житье».
Тем временем выборные возвратились в Москву и своими рассказами о милостивом отношении к ним правительницы Софьи вызвали радость в стрелецких слободах. Во всех полках немедленно начали писать челобитные в соответствии с требованиями царевны. Все стрельцы беспрекословно ставили свои подписи, за неграмотных подписывались их духовные отцы. 1 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, патриарх Иоаким после литургии созвал стрелецких выборных в Крестовую палату и прочитал им царскую грамоту, в которой повторялись требования Софьи. Стрельцы благодарили первоиерарха за заступничество, показывали ему свои повинные челобитные и снова просили послать с ними в Троицкий монастырь представителя церковных властей «для заступления пред государями». Иоаким поручил эту миссию архимандриту Чудова монастыря Адриану. На другой день стрелецкая делегация отправилась из Москвы и к утру 3 октября прибыла в Гроицу.
Представ перед правительницей и царями, стрелецкие выборные «били челом словесно с великими слезами» и просили прощения. Софья после многословного увещевания объявила царскую милость «вместо чаемыя за их вину смерти и горьких мучений». Вслед за тем были объявлены условия прощения, состоявшие из одиннадцати статей.
В первом пункте говорилось, что стрельцы должны помнить «государьскую премногую милость», «никакое дурно не мыслить и ни с кем о том согласия и советов явно и тайно не держать, и смятения не затевать и никово к тому не наговаривать, и ни к каким мятежникам и к раскольщикам и к иным воровским людям не приставать, и для того по прежнему зборов не чинить, и с ружьем в город и никуды не приходить, и кругов по-казачью не заводить».
Вторая статья предписывала арестовывать и приводить в Приказ надворной пехоты людей, выказавших «злые умыслы» в отношении бояр и думных людей, подстрекающих к смуте и говорящих «непристойные речи», не «таить» письма с призывами к мятежу и «меж себя по полкам ни о чем писменых и словесных пересылок не держать, чтоб от того смуты и смятения отнюдь не было».
Третий пункт запрещал стрельцам являться к боярам, окольничим, думным людям, приказным судьям, полковникам и городовым воеводам «многолюдством и с невежеством и с шумом»; просители должны были «никакой наглости не чинить, а приходить для челобитья о всяких своих делах с учтивостью и бить челом вежливо и нешумко».
Согласно четвертому пункту стрельцы должны были никого «не побивать и не бесчестить», не чинить никакого своевольства и грабежа и «быть у полковников во всяких государьских делах в послушании и в подобострастии безо всякого прекословия».
Пятый пункт предписывал вернуть в казенные арсеналы захваченные стрельцами пушки, ружья, порох, свинец и фитили.
Шестая статья повелевала стрельцам при получении соответствующего приказа незамедлительно отправляться на службу «с Москвы в те места, кому где быть указано». Это был наиболее болезненный вопрос. Вспомним, что еще 9 сентября в Москву была послана царская грамота, предписывающая командировать в Киев, Смоленск и другие города основную часть находившихся в столице полков надворной пехоты. Тогда это распоряжение было проигнорировано князем И. А. Хованским и подчиненными ему стрельцами. В конце сентября или в начале октября в Разрядном приказе вновь был записан царский указ о распределении московских стрельцов (за исключением шести полков общей численностью 4750 человек) по пограничным с Польшей областям.{170} Выполнение этого распоряжения стрелецкие полки сумели оттянуть до конца 1682 года.
Согласно седьмому пункту условий капитуляции стрельцы должны были «на Москве и в городех ни у кого дворов себе не отымать и людей и крестьян в пехотной строй и на свободу не подговаривать».
Восьмая статья запрещала «приверстывать» новобранцев в стрелецкие и солдатские полки без государевых указов, а «боярских людей и крестьян, и гулящих людей, которые в нынешнее смутное время писаны в солдаты и в надворную пехоту, выкинуть из того строю всех». Крестьян и холопов надлежало вернуть «помещикам их и вотчинникам по крепостям», а «гулящих» — разослать по домам, «где кто живал наперед сего, а на Москве их не держать и жить им не велеть, чтоб от таких гулящих людей воровства не было».
Девятая статья опять напоминала о деле Хованских, которое к началу октября еще не утратило актуальности, и предписывала «по смутным словам князя Ивана Хованского и детей и родственников его и по письмам их никакого зла не затевать». Вновь подчеркивалось, что отец и сын Хованские казнены за измену, «суд о милости и казни вручен от Бога им, великим государям», а подданным «о том не токмо говорить, и мыслить не надобно».
Десятый пункт строго повелевал «по вышеписанным статьям великих государей указ и повеление во всём им исполнять со всяким усердием и от всякого дурна престать совершенно», служить верно без «измены и шатости» и «к смуте не приставать никакими вымыслы».
Наконец, одиннадцатая статья грозила смертной казнью тем, кто будет затевать смуту или хвалить «прежнее дело», то есть майское восстание 1682 года.{171}
Как видим, статьи об условиях капитуляции мятежных стрельцов, составленные при несомненном участии правительницы Софьи, содержали исчерпывающий перечень требований для преодоления последствий смуты и нормализации жизни в столице.
Третьего октября в Троице-Сергиевом монастыре статьи были прочитаны выборным, которые от имени стрельцов и солдат «обещалися с радостью» их исполнить. Заранее подготовленные копии статей, скрепленные подписями думных дьяков Василия Семенова, Ивана Горохова, Емельяна Украинцева и Федора Шакловитого, были тогда же отправлены патриарху с повелением в Успенском соборе Кремля перед образом Спаса раздать их по стрелецким полкам с соответствующими наставлениями. В воскресенье 8 октября в Успенском соборе после литургии состоялось торжественное оглашение «указанных статей» перед множеством стрельцов и солдат всех расквартированных в Москве полков. Условия капитуляции были приняты ими безропотно, после чего копии статей раздали представителям для чтения в полках. На следующий день стрелецкие выборные явились к патриарху в Крестовую палату и сообщили, что государевы требования были восприняты в полках «любезно вси без всякого прекословия». По этому случаю в Успенском соборе и во всех церквях в стрелецких слободах пелись молебны с колокольным звоном, а патриарх в конце того же дня вновь обратился к стрельцам и солдатам с проповедью о недопущении какого-либо «зломысльства».
Одиннадцатого октября в Троицу с известием о наступлении мира приехал игумен Воздвиженского монастыря Ефрем. Оно вызвало вполне понятную радость в правительственном лагере. Уже начались осенние холода и распутица, ощущался недостаток съестных припасов для собранных у Троицы ратных людей и фуража для их лошадей. 7 октября боярин и воевода князь Петр Семенович Урусов, руководивший сбором дворянского ополчения «для защиты государей», получил указание распустить провинциальных дворян, детей боярских, копейщиков, рейтар и солдат по домам, «чтоб им ныне прежде времени не изнужитца». В связи с предполагаемой военной угрозой со стороны Речи Посполитой нужно было иметь в резерве свежие войска, не изнуренные долгим стоянием в условиях осенней непогоды и бескормицы.
Правительница и бояре распорядились оставить под Троицей только «московских чинов людей»: стольников, стряпчих, московских дворян и жильцов, которых к ноябрю 1682 года собралось всего около трех тысяч человек. Кроме того, в распоряжении Софьи находилось до шестисот стрельцов Стремянного полка. Из этого видно, что в первой декаде октября правительница уже не сомневалась в своей бескровной победе над московскими повстанцами, — иначе она не отважилась бы распустить по домам огромное дворянское войско, насчитывающее, по свидетельству датского посла фон Горна, свыше 150 тысяч человек.{172}
Сам факт прибытия в лагерь под Троицей осторожного датского посла, выехавшего в Россию еще весной 1682 года, но решившего переждать опасные московские события сначала в Гамбурге, а затем в Смоленске, свидетельствует, что ситуация, по его мнению, уже стабилизировалась. 19 октября фон Горн «был удостоен своей первой аудиенции, в ходе которой были почти все обычные церемонии». В донесении королю Кристиану V от 23 октября (2 ноября) посол сообщает: «Оба их царских величества приняли мои документы в собственные руки и милостиво позволили мне сидеть в их присутствии». Софья не могла присутствовать на этой аудиенции, чтобы не нарушить правила дипломатического этикета. Зато ее участие в следующем мероприятии отражено в донесении фон Горна достаточно определенно.
В субботу 21 октября датский посол был приглашен «на конференцию» (переговоры) руководителем Посольского приказа князем Василием Васильевичем Голицыным. В конференции участвовали также думный дьяк Емельян Украинцев и «два подканцлера», то есть дьяки Посольского приказа. Датский дипломат сделал весьма важное замечание: «Со времени последней конференции старшая принцесса София Алексеевна в общем-то всем управляет, хоть и находится в тени» [буквально: «за черным занавесом»]. А. П. Богданов трактует его во вступительной статье к публикации этого документа следующим образом: «Софья, осуществлявшая уже в октябре 1682 г. функции правительницы, делала это втайне…»{173} Однако думается, что выполненный В. Е. Возгриным перевод документа не совсем точен: датский посол сообщает о «черном занавесе» не в переносном, а в прямом смысле. Таким образом, Софья, находясь за ширмой, участвовала в переговорах и каким-то способом по ходу дела давала указания руководителям Посольского приказа.
Что же касается функций правительницы, то Софья в это время уже никак не могла осуществлять их «втайне» и «находясь в тени». Первый известный документ приказного делопроизводства, неопровержимо свидетельствующий о признании властных полномочий царевны, датирован 24 октября. Это помета дьяка Е. И. Украинцева на деле о выдаче жалованья отправляемым в иностранные государства послам и гонцам: «191-го (7191, то есть 1682. — В. Н.) года октября 24 д[ня] великие государи и великая государыня царевна и великая княжна София Алексеевна, слушав сей выписки в своем государском Троецком походе комнате указали подьячему Кондрату Никитину для Свейской (шведской. — В. Н.) посылки дать своего великих государей жалованья 100 руб.».{174}
Тем не менее Софья по-прежнему была правительницей фактически, а не юридически. Мнение А. С. Лаврова, что «Акт» об установлении регентства Софьи Алексеевны мог быть утвержден в октябре — декабре 1682 года,{175} представляется малооправданным. Как было показано выше, более обоснованна версия А. П. Богданова о составлении «Акта» не ранее 1687 года. Однако отсутствие официально утвержденных властных полномочий не мешало Софье исполнять обязанности регентши по праву единственного члена царской семьи, обладающего достаточными знаниями и способностями для выполнения этой нелегкой задачи.
Окончательно уверившись в победе над мятежниками, 25 октября правительница приняла указ о пожаловании служилых людей, участвовавших в «государевом походе». Боярин и дворовый воевода князь В. В. Голицын получил самую большую прибавку к окладу — 150 рублей и 300 четвертей земли из поместий в вотчину. Прочим боярам дано было по 100 рублей и 250 четвертей, окольничим — по 70 рублей и 150 четвертей, думному генералу Аггею Шепелеву — 65 рублей и 140 четвертей, думным дворянам — по 60 рублей и 125 четвертей, думным дьякам — по 50 рублей и 115 четвертей, комнатным стольникам — по 7 рублей и 70 четвертей в поместье. Стольникам, полковникам, стряпчим, дворянам московским, дьякам, жильцам, городовым дворянам, детям боярским, копейщикам и рейтарам, которые прибыли к Троицкому монастырю по 26 октября, полагалось прибавить по пять рублей денежного жалованья и по 50 четвертей поместного. В тот же день был принят указ, запрещавший стрельцам ходить по Москве с оружием помимо караульной службы. Они не могли иметь при себе даже сабель, тогда как «приказным и дворовым, и конюшенного чину людям, и гостям, и дохтурам», наряду с московскими и провинциальными дворянами, разрешено было постоянно носить сабли и шпаги.{176}
Двадцать седьмого октября двор выехал из Троице-Сергиева монастыря в Москву. На следующий день стрельцы полка Леонтия Ермолова подали Софье челобитную об уничтожении «столпа» на Красной площади, а днем позже такие же просьбы поступили от расквартированных в Москве «надворные пехоты пятидесятников и десятников и рядовых всех полков». Стрельцы утверждали, что обелиск был возведен «по умыслу вора и раскольщика Алешки Юдина с товарыщи», которым потакали «ко всякому дурну» бояре князья Иван и Андрей Хованские. Челобитчики признавали: «…той столп на Красной площади учинен в вашем великих государей царствующем граде не к лицу». Особенно неуместен был помещенный там текст жалованной грамоты, прославлявший грех «побиения» бояр и думных людей как подвиг в защиту государей: «…чтут многих государств иноземцы всяких чинов люди, и в иных де государствах о том поносно». Стрельцы просили у Софьи и царей «милости, чтоб они, великие государи, пожаловали их, велели в царствующем граде Москве в Китае на Красной площади каменной столп с подписью искоренить, и тому столпу не быть, чтоб в том от ыных многих государств поношения и бесчестья не было, и их бы государские неприятели о том не порадовались». 2 ноября по приказу боярина М. П. Головина команда стрельцов под руководством полковника Ермолова сломала монумент «до подошвы»; куски бутового камня и кирпичи были сложены грудой у здания Земского приказа, а жестяные листы с текстом жалованной грамоты в тот же день сожжены.{177}
Второго ноября царский двор находился уже на подступах к Москве, в дворцовом селе Алексеевском. Оттуда Софья распорядилась послать московским властям грамоту об организации торжественной встречи при въезде в столицу. С рассветом следующего дня стольники, стряпчие, дворяне московские, жильцы, приказные люди, гости и купцы из всех слобод должны были явиться под Алексеевское и выстроиться вдоль Московской дороги.
На следующий день государи въехали в столицу. Шествие открывали конные стрельцы Стремянного полка под предводительством стольника и полковника Никиты Даниловича Глебова. За ними следовали священнослужители с крестами и дворцовые чины — постельничие и конюшенные. Потом ехали боярин князь Михаил Лыков и дьяк Разрядного приказа Еремей Полянский, «а за ними стряпчие и жильцы». В центре торжественной процессии находились цари Иван и Петр. Сразу же после них ехали князь Василий Голицын, думный дворянин Алексей Ржевский, думные дьяки Емельян Украинцев и Федор Шакловитый, а вслед за ними стольники. Далее следовали «великие государыни царицы и благородные великие государыни царевны». Шествие замыкали думный генерал Аггей Шепелев, дьяк Любим Домнин и отряд московских дворян. Как видим, в этой разрядной записи имя Софьи не упоминается; она, казалось бы, ничем не выделяется из числа «благородных великих государынь царевен». Вероятно, правительница еще не решилась подчеркнуть в официальном документе свою значимость в системе государственной власти.
Зато в записках современников мы видим иные акценты. Окольничий Иван Желябужский сообщает, что «великие государи, и благоверная царица Наталия Кирилловна, и сестра их, великих государей, великая государыня, благоверная царица и великая княжна София Алексеевна изволили пойтить из Троицы из Сергиева монастыря к Москве со всеми палатными людьми, также и со всеми ратными людьми».{178} Желябужский именует Софью не царевной, а царицей, и эта оговорка, скорее всего, не случайна — она отражает реальное положение правительницы. Вместе с тем вдовствующая царица Наталья как мать царя Петра упоминается в тексте перед падчерицей. Это не только соответствует порядку перечисления членов царской семьи по старшинству, но и отчасти отражает тогдашнюю своеобразную ситуацию в правящих верхах: Наталья Кирилловна официально имела больше прав на регентство, чем Софья, всего лишь четвертая по старшинству сестра царя Ивана. Только ее энергия и способности позволили ей оказаться на вершине власти, но это положение никогда не было достаточно устойчивым.
Глава третья «В ПРЕДЕЛАХ БОГОХРАНИМОЙ ДЕРЖАВЫ»
«Смуту забвению предать!»
После подавления восстания репрессии в отношении стрельцов носили ограниченный характер. 14 октября 1682 года по указу великих государей на Красной площади были казнены стрельцы Клим Бархат и Абросим Савельев, первый — «за ево воровство и за смертное убивство», второй — «за многие непристойные слова и за смуту».{179}
В ноябре полкам надворной пехоты были выданы новые жалованные грамоты, в которых подробно излагалась официальная версия событий майского восстания. Возникновение стрелецкого бунта объяснялось «злохитростным умышлением» Хованских и их «единомышленников, воров и раскольников святыя Церкви ругателей Алешки Юдина с товарыщи», которые были казнены 17 сентября «за то их многое воровство и за измену, и за возмущение в народе, и на наше, великих государей, здоровье и на державу нашу злой умысл, и за подъисканье над Московским государством». На основании повинных челобитных стрельцов и солдат правительство снова объявляло о прощении их преступлений, запрещало называть их «изменниками и бунтовщиками и грабителями» и обещало, что их не будут казнить и ссылать без царского указа и наказывать «без подлинного розыску». Особо подчеркивалось, что стрельцы будут получать жалованье «сполна без вычета и безволокитно и от приказных людей без всяких взятков и корысти». Стрелецким полковникам было запрещено по своему произволу привлекать стрельцов к каким-либо работам и взимать с них деньги. Взамен от стрельцов и солдат требовалось быть в «государском повелении и во всяком обыклом повиновении и послушании» и не затевать впредь никакого «дурна».{180}
В ноябре, декабре и в начале следующего года стрельцы и солдаты приносили в Стрелецкий приказ листы с июньскими жалованными грамотами. В некоторых полках офицеры по указанию властей сами производили изъятие отмененных жалованных грамот у нижних чинов. По именному указу с боярским приговором от 17 декабря 1682 года повелевалось переименовать Приказ надворной пехоты обратно в Стрелецкий приказ.{181}
В декабре произошли волнения в стрелецком полку Павла Бохина, расквартированном в Замоскворечье. В нарушение «указных статей от 3 октября» толпа стрельцов Бохинского полка под предводительством рядовых Ивана Перепелки и Федора Ворона явилась 26 декабря в Стрелецкий приказ «с великим невежеством и шумом». Они подали начальнику приказа Федору Шакловитому челобитную с требованием исключить из полка пятисотного Ивана Трифонова и его «товарищей» — неугодных младших офицеров. Шакловитый ответил:
— Этих стрельцов и без вашего челобития велено перевести в иной полк, и бити челом о том не о чем.
Челобитчики вроде бы успокоились и «пошедши было» из приказа, но вскоре вернулись и начали требовать выдать им для расправы двух других стрелецких офицеров.
— Без розыску отдать их вам не довелося, — дипломатично, но твердо ответил Шакловитый, — указ о том будет по сыскному делу.
Стрельцы не переставали кричать, что их прислали от всего полка и без выполнения своего требования они не отступят. Шакловитый приказал приставам и охране схватить некоторых буянов и посадить под замок. Прочие челобитчики поспешили ретироваться и сообщили однополчанам об отказе властей выполнить их требования. Это вызвало взрыв возмущения. Взбудораженные стрельцы бегали по слободе с криками:
— Пора опять заводить по-старому, итить в город!
Таким образом, совершенно определенно прозвучала угроза повторения майских событий. У бохинских стрельцов нашелся весьма активный предводитель — рядовой Иван Жареный. Полковник Бохин принял срочные меры для прекращения волнений: сначала послал для ареста зачинщиков сотенного с командой денщиков, а потом и сам явился в стрелецкую слободу наводить порядок. Однако стрельцы наотрез отказались выдавать Жареного:
— Хотя нас велят и перевешать, мы того Ивашка не отдадим!
Двадцать седьмого декабря власти вынуждены были направить на подавление восстания два стрелецких полка под командованием стольников Акинфия Данилова и Ивана Цыклера. Жареный, Перепелка и другие «заводчики», всего пять или шесть человек, были арестованы, приведены в Стрелецкий приказ и в тот же день обезглавлены на Красной площади.
Стрельцы полка Бохина были разоружены, у них отняли ноябрьскую жалованную грамоту и запретили исполнять караульную службу. На другой день бохинцы тремя группами по 200 человек явились к Красному крыльцу в Кремле, принеся с собой плахи и топоры. Некоторые положили головы на плахи, другие распростерлись вокруг них на земле. Все они кричали:
— Не достойны мы царского величества милости и за вину свою помилования! Достойны смерти повешением или глав отсечением!
Правительница Софья распорядилась выслать к стрельцам боярина Петра Салтыкова, окольничего Кирилла Хлопова и думного дьяка Федора Шакловитого. Последний в качестве начальника Стрелецкого приказа взял на себя переговоры с представителями мятежного полка:
— Что вы пришли и с какою виною?
— Сказывают великим государям, что мы бунт заводим. А от нас бунту и заводу никакого нет. И пусть бы о том великие государи указали разыскать: будет какой от нас бунт или завод объявится, велите нас казнить всех.
Шакловитый отправился с докладом Софье, «и долго его не было». В это время к стрельцам вышел их полковник и велел перенести топоры и плахи под окна Грановитой палаты, где, видимо, происходило совещание Софьи с боярами в связи со стрелецким челобитьем о помиловании. Поспешив выполнить это предписание, стрельцы смиренно «полегли» на землю. Наконец к челобитчикам спустились Шакловитый и окольничий Венедикт Змеев и объявили:
— Великие государи цари Иоанн Алексеевич и Петр Алексеевич для своего государского многолетного здоровья и слыша ваше слезное покаяние и напоминая прежние ваши службы, пожаловали вас, велели вам вины ваши отдать совершенно и предати забвению.
В начале января 1683 года стрельцам полка Бохина был объявлен царский указ с подтверждением помилования. Им была возвращена отобранная жалованная грамота, разрешалась выдача очередного денежного жалованья. Снимался запрет на несение ими караульной службы: «…и на своем государевом дворе на караулех ставитися вам с своею братьею по очереди по-прежнему». За такую «премногую и высокую милость» прощенные обязаны были исполнять повеления государей «с радостию, без всякого размышления». Особо подчеркивалось, что стрельцы должны арестовывать и приводить в Стрелецкий приказ «воровских людей», призывающих к смуте или затевающих какое-либо зло.{182}
Царский указ от 27 декабря 1683 года предписывал оставить в Москве только семь из девятнадцати находившихся в ней стрелецких полков «по выбору, надежнейших», а остальные послать на украинскую, польскую и шведскую границы. В полках, оставленных в столице, насчитывалось в общей сложности 6056 стрельцов, а вместо выведенных прибыли три стрелецких полка из Киева и по одному из Батурина и Переяслава — в общей сложности около трех с половиной тысяч человек.
По замечанию П. К. Щебальского, вывод из столицы должен был «жестоко поразить» стрельцов: «…они были люди семейные, имели хозяйства, дела, связи торговые и промышленные; оставить Москву было для них большою расстройкою, не говоря уже о множестве различных преимуществ жизни в столице. Но многочисленная рать царская стояла еще в виду Кремля, сопротивление было невозможно, и, с горьким чувством бессилия, в назначенный день, угрюмыми, молчаливыми толпами выступили они из застав московских и направились в разные концы обширного Русского царства: кто на север, кто на юг, кто на запад, среди глубоких снегов и рождественских морозов».{183} Перед отправкой из столицы стрельцам было предписано продать свои московские дворы «повольною ценою». Вслед за стрельцами на ямских подводах были отправлены их жены и дети. Они должны были ехать Тульской дорогой, чтобы не встретиться с идущими в Москву по Калужской дороге полками из малороссийских городов.
Стрельцы, следовавшие из Москвы или в Москву, останавливались в Севске. Тамошний воевода окольничий Леонтий Неплюев должен был опросить командиров и на основании их показаний исключить из полков смутьянов «за прежние шалости и от кого впредь чает дурна», оставив их в Севске в сборном полку. Из полков, отправляемых в Москву, изъяли пьяниц, игроков в кости и «всякому злому делу пущих заводчиков и раскольщиков», а также тех, которые в «смутное время были убийцы и грабители», общим числом 530 человек. Часть этих неблагонадежных стрельцов позже была отправлена в Курск, где служило много дворян, которые в случае какого-либо «замешательства» могли бы подавить стрелецкие выступления.
Когда бывшие московские стрельцы прибыли в Севск и Курск, им объявили царский указ:
«…на Москве им за многую их мимошедшую шалость быть не мочно потому: хотя они вины свои… и принесли и впредь того не чинить обещались, однако ж и после того по многом своем обещании многие из них объявились во многих шатостях и противностях, и во всяком дурне, и в непостоянстве».
За всеми высланными московскими стрельцами Софья приказала следить, чтобы не бражничали и «с воровскими и ни с какими причинными людьми не водились и к ним не приставали, и никакой бы шатости и своевольства у них отнюдь не было, и никаких бы непристойных, к мимошедшему смутному времени приличных слов не говорили». В то же время правительница распорядилась надзирать и за полковниками, «чтоб однолично от них к стрельцам для взятков приметок и теснот, и обид не было никакими делы».
На сооружение дворов в Севске и Курске стрельцам было выдано по пять рублей сверх обычного жалованья. В Севске под руководством воеводы Неплюева для них были построены особые слободы со съезжими избами и амбарами «на полковой ратный строй». Чтобы сократить время досуга и воспрепятствовать возникающим от безделья «воровским» замыслам, предписано было стрельцов «ратному строю учить почасту». Меры Софьи и Шакловитого по «перебору» московских стрельцов очистили столицу от основной массы бунтовщиков, что укрепило порядок в городе. Движение стрелецких полков к южным и западным границам создавало впечатление мер по укреплению обороноспособности страны, что было важно в связи с предстоявшими переговорами с Польшей и Швецией. Кроме того, увеличение гарнизонов в Севске и Курске за счет прибывших из Москвы стрельцов могло удержать крымских татар от набегов на южные русские земли.
Особое внимание, согласно распоряжению Софьи, следовало уделить стрельцам, дислоцированным в столице:
«Которые полки ныне на Москве и которые к Москве придут с службы, и их обнадежить великих государей милостию. С служебных полков стрельцов накормить, и напоить, и сказать им, чтоб они, видя к себе такую их, великих государей, милость, простирались на всякое добро и на верную службу, и остерегали б их, великих государей, здоровья, и ото всякого дурна имели осторожность от всея души, потому что и из них в смутное время были многие в шатости, и то им совершенно отдано, и от таких людей (бунтовщиков. — В. Н.) учинены они отменны, и от них, великих государей, положена на них во всём надежная верность».{184}
Правительство принимало меры для искоренения в народе памяти о «смутном времени» — майском восстании. В предписаниях Стрелецкого и Разрядного приказов отмечалось:
«…в разных месяцах и числех [1683 года] по их великих государей указу посланы в ссылку в розные городы московские стрельцы и иных чинов люди за смутные и за иные непристойные и московского смутного времени за их похвальные слова, а в статьях, каковы даны в стрелецкие полки за приписьми думных дьяков, написано, чтоб им того дела никаким образом не вчинать, и не мыслить, и не похвалятца. А в тех городах людей тамошним жителям будет кто из них учнет то дело хвалить или каким образом всчинать, и за то тем людем чинить указ по указным статьям, не описаваясь к великим государем, чтоб того дела отнють нихто не всчинали и не мыслили никоторыми делы, и о том в городы из Розряду посланы грамоты».{185}
Отзвуки московского стрелецкого восстания имели место в Астрахани, Казани, Белгороде, Киеве, Переяславе, Нежине, Чернигове и Батурине — во всех этих городах находились стрелецкие полки. Стрелецкие волнения на Украине были значительными и вызывали серьезную обеспокоенность гетмана Ивана Самойловича, жаловавшегося Софье и царям: «Непрестанная печаль так меня преодолела, что уже и силы во мне мало осталось. Переяславские стрельцы поступками своими сильно вредят тамошним нашим людям, между которыми немало своевольников».
В Киеве волнения стрельцов произошли 9 октября 1682 года, когда прибывший из Москвы подьячий Малороссийского приказа Василий Баутин привез царскую грамоту об измене и казни князей Хованских. Во время чтения документа стрельцы кричали:
— Сколько Хованский служил, а ныне стал изменник?
Киевский воевода князь Петр Семенович Прозоровский и другие приказные, пытавшиеся урезонить стрельцов, слышали в ответ:
— Вы, господа, боярина Хованского извели и измену на него вымыслили. А он сколько великим государям служил, и Польшу всю прошел, и изменником никогда не бывал, а ныне его поставили изменником. А когда он изменник, инде и мы такие же изменники, потому что вместе с ним служили!
Возмущенные стрельцы учинили расправу над подьячим Баутиным: «ухватили за волосы и учали бить смертным боем, а назади де почали кричать и шапками махали, чтоб убить и боярина и начальных и приказных людей» и только после уговоров «от того крику и шуму унялися и подьячего до смерти не убили», но самовольно посадили в киевскую тюрьму. Туда же заточили десять неугодных стрелецких командиров — им были предъявлены денежные начеты «рублев по двести и по триста». На следующий день в тюрьму к Баутину явились по двое выборных от каждого стрелецкого полка, которые решили выяснить ситуацию с казнью Хованских:
— Где Хованского казнили, и великие государи в то время где были, и у казни бояр кто был?
— Во время казни, — ответил Баутин, — все бояре были по указу великих государей. И сами великие государи в селе Воздвиженском, где казнь была, присутствовали высочайшими своими особами.
Ответ, по-видимому, не устроил стрелецких выборных, поскольку подьячий оставался в тюрьме еще два дня. Когда его, наконец, выпустили, он поспешил в Переяслав, чтобы оповестить тамошних стрельцов о казни Хованских. Ситуация повторилась: стрельцы «многие говорили такие же слова, что и в Киеве учинили, с криком же». Баутина на этот раз бить не стали, но в тюрьму посадили. Заодно стрельцы «приняли было за бороду» переяславского воеводу, но стрелецкие офицеры сумели спасти его от расправы.
Стрельцы группами по пять-десять человек приходили в тюрьму к Баутину и вели весьма опасные разговоры о восстании в Москве:
— Худо то, что учинили начало, а конца не учинили. В то время всем надо было учинить боярам и приказным людям. А как мы, пять полков, соберемся ныне и придем к Москве, а наши братья будут в целости, то полно той медведице при великих государях быть, также и пестрой ризе. Так же их пора послать в дальние монастыри, как иных напрасно в заточение ссылают.
Под «медведицей» стрельцы разумели царевну Софью, а под «пестрой ризой» — патриарха Иоакима. Как видим, переяславские бунтовщики были настроены весьма решительно. Впрочем, это были пустые разговоры: пять полков, расквартированных на Украине, даже дойди они до Москвы, конечно, ничего не смогли бы сделать. Баутин провел в тюрьме три дня, после чего был отпущен по «уговору» воеводы. Подьячий поспешил в Москву, где немедленно сообщил об опасных настроениях стрельцов в Киеве и Переяславе.
Тринадцатого ноября в Киев прибыл новый гонец из Москвы и огласил царскую грамоту с выговором стрельцам за «негораздое» поведение. Стрельцы принесли повинную и выдали четверых «всякого злого дела начинателей», которые были повешены в Киеве 23 декабря.{186} В Переяславе волнения улеглись сами собой и репрессий не было.
В январе 1683 года правительство Софьи выразило обеспокоенность в связи с поступившими из украинских городов сообщениями, что московские стрельцы в Киеве, Переяславе, Нежине, Чернигове и Батурине «носят с собою по слободам и чтут» копии жалованных грамот, выданных полкам в июне 1682 года. Местные власти получили приказ немедленно изъять эти документы и прислать в Москву, в Стрелецкий приказ. Предписание было выполнено. Трем стрелецким полкам, переведенным из Москвы в Киев по указу от 27 декабря 1682 года, приказано было местные стрелецкие полки «ото всякие шатости унимать».{187}
В конце декабря 1682 года были раскрыты «тайные помыслы» стрельцов полка Семена Рязанова, переведенных из Киева в Белгород. 25-го числа белгородские пушкари «пили в стрелецкой слободе у стрельцов». Служивые рассказывали:
— Стрельцы в Киеве оскудали без жалованья великих государей. И как они придут все в Белгород, и у них бунт будет и на всполох в колокола бить станут.
В городе велись разговоры, что «великих государей на Москве ныне не стало»; стрельцы подговаривали посадских подей по набату вооружаться и присоединяться к стрелецкому полку.
Белгородский воевода стольник Иван Скуратов немедленно начал расследование с применением пыток. В ходе розыска выяснилось, что у стрельцов был уговор «на бояр и на воевод и на полковников никакие работы не работать». Бунтовщики собирались по приходе всего полка из Киева в Белгород созвать «раду» по примеру малороссийских казаков и объявить копию июньской жалованной грамоты, в которой содержался пункт о запрещении стрелецким полковникам использовать стрельцов на хозяйственных работах. Следствие, проводившееся до начала февраля 1683 года, не выявило никаких реальных мятежных замыслов, кроме разговоров об «оскудении» и несправедливости начальства. Арестованные по этому делу были отправлены в Курск, где девять из них 5 марта были подвергнуты наказанию кнутом с особой жестокостью — они получили по 50 или 100 ударов. После этого они с семьями были сосланы в Усмань и Царев-Борисов, где их записали в солдаты и пушкари с запрещением появляться в Москве.{188}
В Смоленске, где располагались четыре стрелецких полка, переформированные из солдатских, в июле 1682 года стрельцы написали и послали через воеводу в Москву челобитную с жалобами на притеснения и убытки, претерпеваемые ими от командиров. Смоленские стрельцы самовольно сместили полковников и пятидесятников и избрали другое начальство из своей среды. Чтобы наблюдать за ходом дела, в Москву выехала депутация из нескольких стрельцов. Рассмотрение челобитной затянулось до сентября. 5-го числа, когда делами Стрелецкого приказа еще распоряжался князь Хованский, в Смоленск была отправлена грамота о вызове полковников в Москву. Однако уже 13 сентября Софья продемонстрировала нежелание считаться с требованиями стрельцов: полковник Никифор Мельгунов, имя которого фигурировало в челобитной в качестве главного обидчика подчиненных, был произведен в стольники. В ноябре смоленские стрельцы получили грамоту с известием, что их снова переформируют в солдатские полки с понижением денежных окладов. В декабре инициаторы подачи челобитной были отправлены в ссылку в Полатов.{189}
Стрелецкие волнения имели место также в Астрахани и Казани. Астраханские стрельцы послали в Москву челобитчиков, однако по дороге они были арестованы и отправлены в ссылку. В Казани дело ограничилось шумом; воевода сообщил государям, что стрельцы «хотели учинить бунт», однако не было ни восстания, ни разбирательства по поводу «опасных замыслов». К концу января 1683 года все отголоски московского стрелецкого мятежа и последовавшей за ним «смуты» были ликвидированы.
Поместья, вотчины, крепостные
В правление Софьи Алексеевны продолжалась давняя практика пожалований за службу поместий и передачи их в вотчину. Особенно большое количество земельных раздач было произведено после Крымских походов.
Важным моментом происходившего в течение всего XVII века процесса сближения правового положения поместий и вотчин стал указ от 21 марта 1684 года «О наследовании после умерших всех поместных земель их детьми, внуками и правнуками, верстанными и неверстанными». Согласно этому указу за наследниками закреплялись все поместья, независимо от размеров их собственных поместных окладов, то есть практиковавшееся ранее отчуждение излишков земельных владений было отменено.{190} Однако полного уравнения поместий с вотчинами еще не произошло.
Правительство Софьи Алексеевны продолжало решать неотложный вопрос о размежевании поместных земель и заселении неосвоенных территорий в южных уездах России. 2 июня 1682 года был принят именной указ об отправке из Поместного приказа межевщиков. Прежняя попытка провести всеобщее описание земель и составить новые писцовые книги была предпринята в 1676 году. Тремя годами позже было «велено послать в Московской уезд и во все городы писцов и межевщиков, поместные и вотчинные земли писать и мерить и межевать по писцовым книгам и по старым межам и граням». Неописанные земли предписано было «межевать вновь по Уложенью», а спорные участки «размеривать» в соответствии с величиной земельного надела каждого помещика. В правление царя Федора решение этого вопроса затянулось до сентября 1681 года, когда первая группа писцов выехала, наконец, из Москвы в близлежащие города. В апреле 1682 года от имени умирающего Федора вновь был издан указ об отправке писцов и межевщиков, однако последующая майская смута не позволила приступить к его выполнению. К началу июня некоторая стабилизация положения в Москве позволила правительству Софьи вернуться к решению неотложного вопроса, затрагивавшего самые существенные интересы землевладельцев.
В июле 1682 года Поместный приказ разослал межевщиков во все города, причем был издан указ о наказаниях за порчу межей. В мае 1683-го был издан указ из сорока пяти статей о межевании спорных земель, предписывавший бить кнутом и сажать в тюрьму тех, кто мешал работе межевщиков или давал взятки за подделку писцовых книг. В апреле 1684-го писцовый наказ определил процедуру переписи земель. В мае 1686 года вновь предписывалось бить кнутом помещиков, мешавших обмеру земель и отнимавших у межевщиков «верви».{191} 25 мая 1688 года по причине нехватки межевщиков воеводам было приказано самим межевать земли помещиков. Царский указ от 30 марта 1688 года гласил: «…в Московский уезд и в городы валовых писцов… не посылать, для того, что многие ныне на службе, и без них межеваться некому».
Восемнадцатого ноября 1682 года стольники, стряпчие, московские и городовые дворяне и дети боярские били государям челом о сыске беглых людей и крестьян. Из пометы на челобитной думного дьяка Василия Семенова видно, что цари (то есть Софья) велели сыск беглых крестьян и холопов поручить писцам, отправляемым из Поместного приказа для валового описания земель. Однако такое решение не удовлетворило землевладельцев; 1 декабря они подали новую челобитную — просили не поручать сыск писцам, а послать по городам специальных сыщиков из отставных дворян. В тот же день думный дьяк Емельян Украинцев сделал на документе помету: «…государи пожаловали, велели во все городы послать для сыска тех крестьян сыщиков, а писцом того крестьянского сыску ведать не велели. Указ о том учинить боярину князю Ивану Борисовичу Троекурову с товарищи». На основании этого решения начальник Поместного приказа Троекуров доложил правительнице Софье, царям и Боярской думе «указные статьи о беглых людех и крестьянех, каковы были даны прежним сыщикам». Это были 11-я (о крестьянах) и 20-я (о холопах) главы Соборного уложения 1649 года, а также указы 1658, 1661, 1663, 1665, 1666/67 и 1667 годов.
В феврале 1683 года холопы, взявшие отпускные грамоты во время стрелецкого восстания, были биты кнутом и возвращены помещикам, поскольку «они свободу себе учинили воровством».{192}
Второго марта 1683 года Софья и бояре на основе доклада Троекурова постановили: «…в тех статьях пополнить и из иных статей убавить. А что в тех статьях пополнено и отставлено, и то писано в сих статьях ниже сего». Был принят Наказ сыщикам — обширный свод законов и правил, имевших отношение не только к сфере сыска беглых, но и к нормам крепостного права в целом.{193} Первые три статьи составил приведенный дословно текст указа 1658 года, закреплявший результаты приписки крестьян к городским посадам и предписывавший возвращение назад беглецов из городов, поселившихся по засечной черте[11] до 1653 года.
Статьи с 4-й по 11-ю, опиравшиеся на указ от 13 сентября 1661 года, предусматривали наказание приказчиков дворцовых и черносошных земель. 5-я статья устанавливала штраф в десять рублей в год за каждого беглого, принятого до сентября 1661 года, а после этой даты — 20 рублей «за всякого человека с женою и с детьми… а буде не женат, по дватцати ж рублев». Интересно, что отменялось наказание кнутом приказчиков, а вся ответственность за прием беглых возлагалась на самих помещиков и вотчинников, с которых предписано было «имать пожилые деньги» за весь срок удержания беглых крестьян в своих владениях.
Абсолютно новая 6-я статья Наказа определяла размер денежных штрафов с сыщиков в случае нарушения ими законов, а также предусматривала денежное взыскание «за бесчестие» с лиц, подавших ложное челобитье о неправомерных действиях сыщика. 7-я статья, также разработанная на заседании 2 марта 1683 года, предоставляла рассрочку в уплате пожилых денег (100 рублей в месяц) тем укрывателям беглых, у которых «пожилых денег взять нечего». В случае неуплаты с рассрочкой виновного следовало подвергнуть «жестокому наказанию» кнутом. Тем самым 7-я статья фактически сводила на нет 4-ю и 5-ю.
Последующие статьи Наказа регламентировали мелкие вопросы, связанные с порядком возвращения беглых законным владельцам. Так, 15-я статья включала в себя указ 7175 (1666/67) года о розыске беглых крестьян, поселившихся на пустых землях. Интересный пример самостоятельного законотворчества Софьи и ее советников представляет собой 18-я статья — о беглых крестьянах и холопах, которые «своруют, напишут себе отпускные воровские и имена себе переменят, и прямых своих помещиков и вотчинников утаят». Составители значительно дополнили и развили норму закона о подложных отпускных: «…кто тое воровскую отпускную составит, и тем по розыску чинить наказанье, бить кнутом, а у кого они с теми отпускными жили, и на тех людей пожилых денег не имать для того, что они тех людей принимали к себе с отпускными. А будет по розыску объявится, что тое отпускную составили те люди, которые тех беглых людей принимали, и тем людем за то их воровство чинить наказанье, бить кнутом же, да на них же имать зажилые деньги».
Важному вопросу в развитии крепостного права — юридической силе документов-крепостей посвящена 28-я статья Наказа сыщикам. Повторив норму указа 1665 года о действительности крепостей на крестьян и холопов, которые зарегистрированы в приказах, Софья и бояре дополнили ее новым решением: старые крепости на беглых крестьян и холопов, не записанные в приказах, должны тем не менее служить основанием возврата беглых прежним владельцам, если не оспорены крепостями, записанными в приказах; в случае же возникновения спора о юридическом преимуществе одних крепостей над другими следовало «давать суд, а с суда указ чинить по судному делу и по Уложенью». 29-я статья подчеркивала значение старинных крепостей; при отсутствии такой «крепости по старине» принадлежность крестьян владельцам определялась по писцовым и переписным книгам. 30-я статья, также составленная на основе указа от 10 мая 1665 года, требовала возвращать беглых крестьян, принятых на жительство в дворцовые села, предварительно сверившись с данными писцовых и переписных книг.
Как установил исследователь Наказа сыщикам А. Г. Маньков, все последующие статьи — с 31-й по 52-ю — составлены на основании указа царя Алексея Михайловича от 1 марта 1667 года, однако этот законодательный акт был существенно переработан, например, отвергнуты все положения о пытках беглых крестьян на допросах у сыщиков. 32-я статья предписывала сыщикам «роспрашивать накрепко» беглых крестьян и холопов, но главным образом для получения данных о других беглых крестьянах.
Особенности следствия о беглых с наибольшей полнотой отражены в 33-й статье: «Да будет беглые люди и крестьяне в расспросе про иных беглецов на кого именем учнут сказывать, что такие ж беглые люди и крестьяне живут за кем в иных местех, и в те места по тех беглых людей и крестьян посылать и велеть их приводить и роспрашивать потому ж, и по распросным их речам сыскивать всякими сыски накрепко». При этом были отменены положения о пытке беглых при допросе и об очной ставке беглых с доносчиками. В целом сыщики при определении принадлежности беглых крестьян теперь должны были опираться главным образом на крепостные акты, а не на материалы собственного розыска.
Следующее важное отступление от указа 1667 года состояло в отмене нормы о наказании кнутом за побег каждого пятого беглого крестьянина. Но это не означало полного упразднения наказания за побег. О наказании упоминается в статье 34-й, однако вид его не определяется; тем самым правительство Софьи Алексеевны предоставляло сыщикам возможность действовать по собственному усмотрению, но вместе с тем обязывало их наказывать за побеги не выборочно, а каждого беглеца.
Важное место в Наказе сыщикам 1683 года, как и в указе 1667 года, занимали нормы расследования дел в отношении крестьян, которые при побеге совершили убийство помещиков или поджог имений. В таких случаях сохранялась пытка как элемент следствия, а наказанием была смертная казнь через повешение. Был предусмотрен еще один случай, при котором пытка могла применяться как мера дознания, когда «сыскать будет нечем»: подозрение о перемене беглыми крестьянами имен.
А. Г. Маньков справедливо заметил: «Наказ сыщикам 1683 г. выступает перед нами преимущественно как свод законов о беглых крестьянах предшествующего времени. Именно в кодификационной стороне дела состоит одна из важных сторон Наказа. Это значение тем более возрастает, если учесть, что Наказ включал в себя важнейшие законодательные акты 1658–1683 гг., определившие основное содержание процесса развития крепостного права в период после Уложения и до 1683 г. В целом Наказ 1683 г. выступает перед нами как обширный кодекс сыска беглых крестьян и холопов и урегулирования взаимных претензий феодалов в вопросе их прав на беглых, выработанный в итоге многолетней практики сыщиков, деятельности приказов и законодательного производства».{194}
В Наказ сыщикам не была включена норма боярского приговора от 25 июня 1682 года, по которой куплю-продажу крестьян следовало регистрировать не в Поместном приказе, а в Приказе холопьего суда: «…а в которых сделочных записях написано будет, тех крестьян поступились им прежние помещики и вотчинники в бегах, а налицо тех крестьян к записке не поставят, и им тех крестьян по тем сделочным записям искать судом, где кто судим».{195} Позже, 30 марта 1688 года, был принят указ великих государей (то есть Софьи Алексеевны): «…которые люди кому продадут вотчинных крестьян, также кто кому поступится вместо беглых поместных и вотчинных крестьян по сделочным записям и по всяким крепостям, и тех крестьян по Уложенью записывать в Поместном приказе; а с купчих и записей, в которых написана будет поступка за деньги, имать Великих Государей пошлины с рубля по алтыну».{196}
Весной 1683 года сыщики были отправлены в ряд городов, однако уже летом правительство начало отзывать их, поручая сыск беглых местным воеводам. К октябрю все они вернулись в Москву, а незавершенные сыскные дела переданы воеводам. Эту меру следует признать вполне разумной. Местные власти лучше знали специфику своих уездов, были лично знакомы с большинством помещиков и вотчинников и могли более мягко регулировать спорные вопросы, связанные с обнаружением и выдачей беглых. Правда, правительство отчасти оставило функцию сыска в руках межевщиков, направленных в уезды по указу от 11 апреля 1683 года — они получили из Поместного приказа копии Наказа сыщикам.{197}
Сосредоточение сыска беглых в руках воевод и земельных писцов вызвало возражения стольников, стряпчих, дворян московских и городовых дворян центральных уездов. Они жаловались, что приказчики, земские старосты и посадские люди давали воеводам ложные сведения о беглых, межевщики при описании земель «крепили» беглых по новому месту жительства, в соответствии со «сказками» их новых хозяев, а законные владельцы не могли дать таких «сказок», поскольку не располагали сведениями о местонахождении скрывшихся крестьян и холопов. В связи с этим челобитчики вновь просили направить в города сыщиков для выявления беглых.{198}
Правительство всё же предпочло оставить сыск беглых крестьян в руках воевод, поскольку это позволяло избежать трений при выявлении и выдаче беглых, взимании штрафов и прочих репрессиях в отношении незаконных «держателей». Обеспечение спокойствия было особенно важно в южных уездах и городах по пограничной черте. Приходилось жертвовать интересами помещиков, поскольку беглые крестьяне в южных уездах составляли достаточно большую массу свободных людей, необходимых для укрепления гарнизонов крепостей по границе и осуществления военных походов. Сыщики в период правления Софьи действовали лишь в немногих городах, преимущественно центральных уездов.
В декабре 1685 года был издан указ о невозвращении помещикам крестьян, которые поселились в городских слободах, платили налоги вместе с посадским населением «и службы служили, и всякими промыслы промышляли».{199}
В марте следующего года воеводам городов Белгородского уезда и смежных с ним земель Белгородского полка были посланы предписания выслеживать беглых около застав по лесам и займищам. От застав в дальние места было приказано посылать для сыска вооруженные отряды, задерживать беглых крестьян и холопов, а при сопротивлении «идти на них боем». Главная задача в этом случае заключалась в том, чтобы не пропустить беглых за Белгородскую засечную черту, на Дон, где они могли моментально раствориться в массе казачьего населения. Пойманных предписывалось допрашивать и пытать, а их показания присылать в Разрядный приказ. Царский указ от 25 июня 1686 года, присланный в город Коротояк и другие области по засечной черте, обязывал заставных голов и служилых людей не давать беглым крестьянам уходить за черту. Задержанных следовало допрашивать на месте, а «пущих воров пытать». Пойманных беглых «жен и девок» приказано было бить батогами, «сняв рубахи, нещадно», а затем «отсылать в те городы, откуда бежали».{200}
Восьмого февраля 1683 года был принят указ о сыске беглых в городах Белгородского и Севского полков. Он предписывал сверить списки полковой, городовой, копейной, рейтарской и солдатской службы и выявить беглых дворцовых и частновладельческих крестьян, поступивших на военную службу «после разбора служилых людей 1675 года». Их следовало отдавать прежним хозяевам по суду, крепостям, писцовым и переписным книгам. Беглых крестьян, записавшихся в государеву полковую и городовую службы, в копейщики, рейтары или солдаты до и во время разбора 1675 года, было решено оставить на военной службе, «потому что служили они многие годы и были в полку и иные ранены». Кроме того, провозглашалось: поскольку от помещиков и вотчинников, от которых они бежали, «челобитья на них не было многие годы», бывшие владельцы сами виноваты в «небрежении».
В то же время беглых крестьян, живущих в посадах или у новых помещиков, предписано было возвращать прежним владельцам «бессрочно по Уложенью». Воеводы и приказные люди должны были «учинить заказ крепкой под жестоким страхом», чтобы впредь в городах Белгородского и Севского полков беглых холопов и крестьян не принимать, в службу и тягло не писать. Холопам и крестьянам при возвращении их законным владельцам предписывалось чинить за побег «жестокое наказанье — бить кнутом нещадно, чтоб впредь и иным неповадно было воровать и от помещиков и от вотчинников бегать».
Особенно важен заключительный пункт указа, согласно которому вопрос о возвращении прежним владельцам беглых крестьян, поселившихся в городах по засечной черте, брался под контроль центральной властью:
«Впредь боярам и воеводам Севского и Белгородского полку городов… без его великого государя грамот из Разряду челобитчиком никому тех городов на служилых и на всяких чинов людех в холопстве и во крестьянстве суда не давать и отдачи не чинить, чтоб от того тех городов людем никому напрасные волокиты и продажи не было».{201}
«Веру православную блюсти крепко!»
Важнейшим направлением религиозной политики периода регентства стало продолжение борьбы с расколом. В восьмидесятые годы XVII века церковное инакомыслие всё больше передавалось от священников-старообрядцев мирскому населению. В этом процессе можно заметить как протест против авторитарности церковной иерархии, так и страх перед грядущим «царствием Антихриста» и приближающимся «концом света». Для спасения своих душ раскольники добровольно приносили себя в жертву, совершая единичные и массовые самосожжения. Старообрядцы были уверены, что светская и церковная власть «впала в ересь». Как справедливо отметила Л. Хьюз, для правительницы Софьи и патриарха Иоакима «подобный взгляд оборачивался не просто расколом, но бунтом против государства».{202}
Период регентства отмечен наиболее жесткими мерами против старообрядчества за всю трехвековую историю борьбы между двумя течениями православия. В 1683 году в Новгородской земле воевода Иван Васильевич Бутурлин вместе с новгородским митрополитом Корнилием развернул крупномасштабные сыскные мероприятия по выявлению раскольников. В результате удалось обнаружить ряд старообрядческих общин, объединявших представителей различных слоев населения. Руководители этих «раскольничьих гнезд» были схвачены и отправлены в кандалах в Москву, где под личным наблюдением руководителя правительства князя Василия Васильевича Голицына (что лишний раз свидетельствует о крайне важном значении, придаваемом Софьей делу борьбы со старообрядчеством) было проведено тщательное расследование. В результате в сентябре — октябре 1683 года более двадцати расколоучителей были приговорены к смертной казни. 19 октября Софья лично слушала в Боярской думе дело новгородского старца Варлаама. Старец был приговорен к сожжению заживо, которое состоялось через три дня.{203}
В последующие годы раскольников, как правило, не сжигали, а обезглавливали. Немецкий путешественник Георг Адам Шлейссинг отметил, что в период его пребывания в Москве (1684–1686) «не проходило ни единого утра, чтобы кого-то не казнили на Лобном месте»: «Так, я видел среди прочих одного старичка, который положил на плаху свою седую голову столь охотно, будто иначе и быть не может. Царевна Софья дала указание руководившим казнью царедворцам: „Передайте этому человеку, что стоит ему лишь публично отречься от заблуждений, и он будет помилован“. На это требование старик твердо ответил: „Не нуждаюсь в царевниной милости, а нужна мне только милость Бога всемогущего“».
В январе 1685 года от имени царей Ивана и Петра был принят указ «О наказании рассеивающих и принимающих ереси и расколы». Приверженность к старообрядчеству была объявлена государственным преступлением:
«Буде кто явится, еретик и раскольник в каком развратном учении и в противности и в раскольстве и во всяком плевосеянии на святую Церковь, и в церковь Божию не приходит, и в домы свои ни с какою потребою священников не пускают, и на исповедь к священником не приходят, и Святых Таин не причащаются, и меж христиан чинят соблазн и мятеж, и таких людей на Москве и в городех розспрашивать, и пытать накрепко, у кого они учились и кто с ними единомышленники и товарищи».
Названных людей предписано было арестовывать, допрашивать и устраивать им очные ставки с другими подследственными. С помощью пыток нужно было добиваться отказа старообрядцев от «раскольнической ереси». Тех, «которые с пыток учнут в том стоять упорно ж, а покорения святей Церкви не принесут, и таких за такие вины, по трикратному у казни вопросу, будет не покорится, сжечь». Раскаявшихся же следовало «отсылать для исправления истинного покаяния» под присмотр церковных властей.
Указ предусматривал суровые кары даже за укрывательство раскольников. Людей, которые принимали в своих домах старообрядцев, но «их учения не держались», полагалось «за утайку тех воров чинить жестокое наказание, бить кнутом, а иных, смотря по делу, и ссылать». У всех богохульников, еретиков, «раскольщиков» и их укрывателей следовало конфисковать недвижимое имущество: «…их дворы и поместья и вотчины и лавки и промыслы и заводы отписывать на Великого Государя и продавать по оценке…».{204}
В указе 1685 года предусматривались также меры против самосожжения: «…которые роскольники прелестию (то есть соблазном. — В. Н.) своею простолюдимов и их жен и детей приводят к тому, чтоб они сами себя жгли, и таких воров по розыску за то их воровство, что от их прелести люди сжглись, жечь самих». Однако массовые самоубийства староверов не только не прекратились, но приняли невиданные прежде масштабы. В 1687 году соловецкий дьякон Игнатий с толпами жаждущих «огненного крещения» взял приступом Палеостровский Рождественский монастырь и устроил в нем грандиозное самосожжение, при котором погибло около двух с половиной тысяч староверов. Спустя полтора года такие же фанатики вновь овладели штурмом этой обителью и повторили «огневой подвиг» Игнатия — на этот раз в подожженных деревянных постройках монастыря добровольно сгорели полторы тысячи раскольников. В эти же годы под Каргополем сожгли себя около пятисот ревнителей «древлего благочестия», близ Тюмени предались огню 100 человек. «Много, очень много было больших гарей, — пишет известный историк русской культуры А. М. Панченко, — но еще больше одиночных, семейных, соседских, деревенских. За все семь веков, протекших со времени христианизации, Русь не знала столько пострадавших за веру, включая признанных Церковью и святыми, и еретиками, сколько их появилось за первые десятилетия раскола… Легче всего списать это на мрачный фанатизм, тем более что консервативное старообрядчество осуждало своих радикальных единоверцев. Пусть дело касалось меньшинства — не только в рамках нации, но и в рамках не принявшего никонианства населения (оно составляло от четверти до трети великороссов). Но каково было Петру, которому предстояло управлять самоистребляющейся страной?»{205}
На самом деле ко времени прихода к власти Петра I массовые самосожжения почти прекратились, и в этом была заслуга Софьи, проявившей феноменальную для женщины твердость в борьбе с расколом. Среди староверов было немало ложных фанатиков, которые подговаривали к самосожжению других, а сами избегали этой страшной участи. По указу 1685 года их разыскивали и казнили, сжигая, по русскому обычаю, в срубах. Упорно проводимые правительством Софьи сыскные мероприятия способствовали тому, что волна фанатизма к концу регентства почти спала.
Другой формой протеста против официальной Церкви и государства был уход раскольников в глухие места Урала, Сибири или Крайнего Севера. Многие бежали на Дон, где по его притокам Чиру, Медведице и Хопру выросли раскольничьи скиты. В мае 1686 года донской атаман Фрол Минаев получил предписание разогнать «воров и раскольников», а их городки и села «пожечь и разорить».
Часть старообрядцев бежала за рубеж — на Кубань и Северный Кавказ, «под руку» крымского хана и кабардинских князей. Особенно большой отток шел в белорусские владения Речи Посполитой — в окрестности Невеля и Гомеля. Правительница распорядилась учредить на Тульской и Калужской дорогах специальные заставы, которые «перенимали многих людей», в частности беглых стрельцов, надевавших «для тайного проходу кафтаны сермяжные и иное такое платье, чтобы их не познали».{206}
В Москве следственные мероприятия по делам арестованных старообрядцев находились под личным наблюдением правительницы и ближайших к ней сановников. Князь Василий Голицын лично наблюдал за пытками раскольников, которых сыскные команды приводили в подчиненные ему приказы, а записи расспросных речей старообрядцев передавал на рассмотрение Софьи Алексеевны.{207} У Софьи не было иного выхода, кроме как уделять пристальное внимание борьбе с расколом: страна, по существу, балансировала на грани гражданской войны, волна социального протеста грозила подорвать устои российской государственности. Облеченная властью женщина благодаря своей твердости и мужеству выполнила задачу по спасению России, непосильную для многих коронованных мужчин. Петр I получил по наследству от Софьи уже более или менее успокоенную в религиозном отношении страну, что позволило ему отказаться от крайних репрессивных мер в отношении раскольников и ограничиться введением для них удвоенных налогов и штрафов.
Важной составной частью религиозной политики Софьи являлась христианизация нерусского населения страны. Правительница отказалась от методов предшественников, преследовавших «иноверцев» за нежелание принимать православие. Тобольский митрополит Павел, проявлявший в этом деле исключительнее усердие, получил 7 февраля 1686 года указ крестить татар и бухарцев только по их желанию: «…буде впредь в Тобольску которые иноземцы похотят быть в православной христианской вере, и тем велеть приносить челобитные в Тобольску в приказную избу, а как они челобитные подадут, и их роспрашивать, добровольно ль они быть хотят в православной христианской вере…»{208}
В целом переход инородцев в православие приобрел в период правления Софьи значительные масштабы. В Москве такие случаи находились под наблюдением начальника Посольского приказа князя Василия Голицына. В делопроизводстве этого учреждения сохранилось достаточно много дел о крещении магометан и язычников. «Новокрещены» получали из казны денежные подарки; кроме того, им предоставлялись временные льготы в налогообложении.
Существенное значение имела политика Софьи в отношении других христианских конфессий — католичества и протестантизма. Противники власти правительницы упрекали ее в симпатиях к католической Польше. Полонофильство проявлялось уже в царствование Алексея Михайловича, претендовавшего на королевский престол Речи Посполитой и приблизившего ко двору известного просветителя Симеона Полоцкого. Еще более заметной стала ориентация на польскую культуру при Федоре Алексеевиче, находившемся под заметным влиянием своей первой супруги Агафьи Грушецкой. Воспитанница Симеона Полоцкого Софья Алексеевна следовала примеру брата. В мае 1684 года прибывшие в Москву австрийские послы Жировский и Блюмберг сумели добиться признания права католиков на отправление своих религиозных обрядов на территории России. Это удалось им тем более легко, что еще годом раньше Софья и Голицын выражали желание пойти на уступки католикам, когда шотландец Патрик Гордон выразил озабоченность отсутствием у маленькой католической общины в Немецкой слободе не только храма, но даже священников.
Окончательное решение об уступках католикам было принято во время переговоров Голицына с имперским секретарем Маврикием Воттой, прибывшим в Москву в июне 1684 года. По его просьбе правительница Софья разрешила постоянно проживать в Москве двум иезуитам под протекцией венского двора. В том же году в Россию приехал первый католический священник — пруссак Иоганн Шмидт. Он начал проводить богослужения в специально отведенном для этого доме. В 1686 году его сменил богемец Иржи Давид.
Появление в Москве иезуитов вызвало крайне негативную реакцию патриарха Иоакима. Давид пишет, что после приезда второго иезуита Тобиаша Тихавского «патриарх перестал разговаривать с князем Голицыным, поскольку был уверен, что мы были допущены в Москву для того, чтобы внедрять союз церквей». Иоаким даже сказал «со вздохом и слезами»:
— После моей смерти вся Москва станет иезуитской!{209}
Патриарх был уверен, что правительница и ее фаворит поощряют «латинскую ересь». Об учителе Софьи Симеоне Полоцком он говорил:
— Хотя бы он был ученым и образованным человеком, он воспитывался у иезуитов и был ими испорчен, поэтому читал он только латинские книги.
Своим главным врагом патриарх считал Сильвестра Медведева — советника царевны в духовных делах. Между Иоакимом и Сильвестром развернулась острая дискуссия по вопросу о моменте пресуществления Святых Даров (превращении хлеба и вина в тело и кровь Христову) в момент причастия. Представители православия считали, что оно происходит после троекратного призывания Святого Духа на словах «И сотвори убо хлеб сей…». «Латинствующие», в соответствии с католическим богословием, утверждали, что евхаристия совершается на возглашении слов Спасителя «Примите, ядите…». Сильвестр Медведев придерживался второй точки зрения, тогда как Иоаким объявил ее «хлебопоклоннической ересью». Патриарха активно поддерживали братья Иоанникий и Софроний Лихуды — греческие монахи, приехавшие в Россию в 1685 году по рекомендации вселенских патриархов, чтобы основать в Москве православную школу. Обе стороны написали по несколько объемных теологических трудов с обоснованием своей точки зрения. В этом споре Софья проявила деликатность — несмотря на симпатию к Сильвестру, уклонилась от выражения своего мнения. Несомненно, ей не хотелось окончательно испортить отношения с патриархом, и без того являвшимся ее политическим противником, поддерживавшим «партию» сторонников царя Петра.
Приближенные правительницы в конфликте с Иоакимом были настроены более решительно. «Патриаршей дурости подивляюсь», — писал Голицын Шакловитому из Крымского похода. Ближайший соратник и друг князя севский воевода Леонтий Романович Неплюев говорил приехавшему в Россию архимандриту афонского Павловского монастыря Исайе:
— Мы от сего нашего патриарха ни благословения, ни клятвы не ищем, плюнь на него.
Но дальше всех пошел Федор Шакловитый, друживший с Сильвестром Медведевым и неоднократно защищавший его от преследований со стороны патриарха.
— Не бойся, — говорил он приятелю, — великая государыня благоверная царевна и великая княжна София Алексеевна тебя не выдаст.{210}
В начале 1689 года в Москве были обнаружены тетради, «приличные к расколу». Подьячий Стрелецкого приказа Петр Исаков, производивший следствие, подвергся давлению со стороны патриаршего служителя Иоакинфа, который потребовал арестовать и допросить близкого к Сильвестру Медведеву дьякона Афанасия, причем распорядился провести дознание без ведома Шакловитого. Исаков не решился противоречить патриарху и добился от арестованного Афанасия признания, что тот получил раскольничьи тетради в Заиконоспасском монастыре у старца Сильвестра.
Шакловитый отреагировал молниеносно: «приехав в Стрелецкий приказ ввечеру пьян», повторно допросил Афанасия и, по всей видимости, отбил у него охоту упоминать имя Сильвестра Медведева, а затем кричал на Исакова и «говорил про святейшего патриарха непристойные слова»:
— Ты с патриархову сторону, а не с государеву! Поди ж скажи посконной той бл… бороде, да Иоакинфу и всем своим тамошним друзьям, что они люторы и кальвины, а я не лютор и не кальвин! Каков Афанасий дьякон? И я каков ж!{211}
По просьбе Сильвестра Шакловитый добился царского указа о ссылке Афанасия в Сибирь без дальнейшего розыска.
Между тем к концу регентства симпатий Софьи к католическому вероисповеданию заметно поубавилось. В январе 1689 года она отказала французскому иезуиту Филиппу Аврилю и его компаньону Антуану де Боволье в просьбе проехать через земли Московского государства в Индию и Китай. Причиной отказа стало плохое обращение Людовика XIV с русскими посланниками в 1687 году.
Первая российская академия
В царствование Алексея Михайловича Симеон Полоцкий основал школу, в которой учились приказные дьяки. После его кончины роль издателя, поэта и настоятеля Заиконоспасского монастыря перешла к Сильвестру Медведеву. В 1681 году он открыл в этом монастыре Славяно-латинское училище, в котором преподавались латынь, древнегреческий язык, грамматика и риторика.
В том же году «грекофилы» открыли школу на Печатном дворе; финансировал ее патриарх, а возглавлял иеромонах Тимофей. «Греческая» ориентация школы противопоставлялась «латинским» веяниям, характерным для училища Медведева.
В январе 1685 года Сильвестр в надежде улучшить положение своей школы написал объемистое (более двух сотен строк) стихотворное обращение к царевне Софье — «Вручение Привилегии на Академию» с призывом осуществить намерение царя Федора Алексеевича учредить в России академию, чтобы «в Москве невежества темность прогоняти». Академия замышлялась им как всесословное учебное заведение, призванное дать стране специалистов в различных областях науки и кадры для государственных учреждений.{212}
Инициатива Сильвестра вызвала резкое осуждение со стороны патриарха Иоакима, опасавшегося, что пропагандируемая тем латинская культура приведет к «зломысленному мудрованию» — насаждению католического вероучения. Иоаким и окружавшие его архиереи отстаивали предпочтительность «греческого» образования, что на деле означало стремление к узкобогословскому обучению в противовес более широкому светскому образованию, которое надеялся внедрить в России их оппонент.{213}
Софья всегда покровительствовала Сильвестру, однако в вопросе о создании первого в России высшего учебного заведения ей пришлось поддержать Иоакима. Это было обусловлено сложностью политического момента в 1685–1686 годах, когда решался вопрос о подчинении Киевской митрополии Московскому патриарху. Правительница опасалась, что создание академии на основе «латинских» веяний вызовет раздражение иерусалимского и константинопольского патриархов, от которых зависело решение о передаче Киевской митрополии от Константинополя Москве. Сторонник Иоакима иерусалимский патриарх Досифей со всей определенностью высказывался против внедрения в России «латинской» культуры и связанных с ней католических тенденций. «Храни, храни, храни стадо Христово, — молил он Бога в публицистических произведениях, — чисто от латинского писма и книг, яко же в них есть учение антихристово…»{214}
Присланные весной 1685 года для организации в Москве высшего учебного заведения надлежащего, по их мнению, образца греческие монахи-братья Лихуды немедленно основали в Богоявленском монастыре в Китай-городе Эллино-греческую академию. Первоначально там обучалось около сорока учеников. Вскоре Лихуды и их подопечные били челом правительнице что предоставленное им помещение слишком мало и неудобно, С разрешения Софьи в октябре 1687 года академия переехала в новые каменные палаты Заиконоспасского монастыря. С этого времени новое учебное заведение получило название Славяно-греко-латинская академия, что произошло под влиянием Софьи, настоявшей на включении в учебную программу латинского языка. Его преподавание было необходимо, поскольку академия должна была готовить, в частности, образованных подьячих для центральных правительственных учреждений, в том числе Посольского приказа, а латынь в то время являлась языком международного общения.
В Славяно-греко-латинской академии учащиеся из Богоявленского монастыря были объединены с учениками с Московского печатного двора. О судьбе учеников Сильвестра Медведева ничего не известно. Обучение в академии являлось трехступенчатым. Первая ступень предполагала изучение церковнославянского и древнегреческого языков, вторая — латыни и грамматики, а третья, высшая — риторики, диалектики, логики и физики. К концу регентства Софьи в академии было 182 слушателя.
Планы реформ
Преобразовательные замыслы времени правления царевны Софьи целиком связаны с именем князя Василия Васильевича Голицына. Яркий политический портрет сторонника государственных реформ прозападного образца создал В. О. Ключевский: «Голицын был горячий поклонник Запада, для которого им отрешился от многих заветных преданий русской старины… Он бегло говорил по-латыни и по-польски. В его обширном московском доме, который иноземцы считали одним из великолепнейших в Европе, всё было устроено на европейский лад: в больших залах простенки между окнами были заставлены большими зеркалами, по стенам висели картины, портреты русских и иноземных государей и немецкие географические карты в золоченых рамах; на потолках нарисована была планетная система; множество часов и термометр художественной работы довершали убранство комнат. У Голицына была значительная и разнообразная библиотека из рукописных и печатных книг на русском, польском и немецком языках… Дом Голицына был местом встречи для образованных иностранцев, попадавших в Москву, и в гостеприимстве к ним хозяин шел дальше других московских любителей иноземного, принимал даже иезуитов… Разумеется, такой человек мог стоять только на стороне преобразовательного движения — и именно в латинском, западноевропейском… направлении».{215}
С именем Голицына связаны основные реформы царствования Федора Алексеевича, в первую очередь отмена местничества 12 января 1682 года. Получив огромную власть в качестве главы правительства Софьи Алексеевны, Голицын, конечно, не мог отказаться от преобразовательной деятельности.
К сожалению, сведения о планах голицынских реформ отрывочны и неполны. Единственным источником, упоминавшим о них, являются «Записки о Московии» Фуа де ла Невилля. Польско-французский дипломат бывал в гостях у Голицына и вел с ним беседы на латыни о политических событиях в Европе, в том числе об английской Славной революции 1688 года. Вне всякого сомнения, Василий Васильевич изложил гостю свои замыслы. Кроме того, Невилль тщательно собирал по другим источникам сведения о деятельности и планах руководителя российского правительства. Важную информацию ему предоставил Николай Спафарий — греческий ученый и сотрудник Посольского приказа, очень близкий к Голицыну.
Невилль отзывается о Василии Васильевиче с восторгом: «Если бы я захотел письменно изложить здесь всё, что я узнал об этом князе, то я никогда бы не смог сделать этого; достаточно сказать, что он хотел заселить пустыни, обогатить нищих, дикарей превратить в людей, трусов — в храбрецов, а пастушеские хижины — в каменные дворцы». Разумеется, в этих словах очарованного Голицыным иностранца заметна значительная доля преувеличения, но тем не менее факт наличия у него обширной программы реформ не вызывает сомнений.
Конкретизируя преобразовательные планы Голицына, Невилль пишет: «…Он убеждал дворян отдавать детей своих учиться и разрешил им посылать одних в латинские училища в Польшу, а для других советовал приглашать польских гувернеров, и предоставил иностранцам свободный въезд и выезд из страны, чего до него никогда не было. Он хотел также, чтобы местное дворянство путешествовало, чтобы оно научилось воевать за границей, поскольку его целью было превратить в бравых солдат толпы крестьян, чьи земли остаются необработанными, когда их призывают на войну. Вместо этой бесполезной для государства службы он предлагал возложить на каждого умеренный налог, а также содержать резидентов при основных дворах Европы и дать свободу совести».{216}
Как видим, замыслы князя описаны Невиллем весьма невнятно, в одну кучу смешаны планы военно-организационной реформы, намерения установить постоянные и прочные дипломатические отношения с европейскими государствами и проект смягчения религиозной политики.
Если первое сообщение французского дипломата базируется на личных беседах с Голицыным, то информация, изложенная во втором фрагменте «Записок о Московии», получена от Спафария, несомненно, рассказавшего любознательному иностранцу о планах преобразований с ведома их автора и своего шефа: «Так как целью этого князя было поставить это государство на ту же ступень, что и прочие, он приказал собрать записки о всех государствах Европы и их управлении; он хотел начать с того, чтобы освободить крестьян и предоставить им те земли, которые они обрабатывали в пользу царя, при условии уплаты ежегодного налога, который, согласно сделанному им подсчету, увеличил бы доход этих монархов более чем наполовину». Впрочем, изменения должны были коснуться не только крестьян: «Он хотел сделать то же с кабаками и другими продуктами и предметами торговли, считая, что этой мерой можно сделать эти народы трудолюбивыми и предприимчивыми, предоставив им надежду на обогащение».{217}
Сообщаемые Невиллем сведения, что Голицын хотел дать свободу крестьянам и наделить их землей, вызвали наибольший интерес историков, которые дали обширные комментарии по данному вопросу. М. П. Погодин считал освобождение крепостных крестьян основой преобразовательного плана Голицына, отмечая, что лидер правительства Софьи в мыслях обогнал свое время почти на два столетия. Уверенный в безусловной достоверности свидетельства Невилля, историк подчеркивал, что выдумать данный факт было невозможно: ни в одном из европейских государств того времени «не было тогда даже понятия об освобождении крестьян и наделении их землею».{218}
Большое внимание реформаторским замыслам Голицына уделил В. О. Ключевский, в книге «Боярская дума Древней Руси» отметивший, что его план «построен был на тогдашнем положении служилого землевладения, вотчинного и поместного… Издавна установилось в поместьях и вотчинах хозяйственное и частью податное разделение земли на барскую пашню и крестьянские участки. Поземельное прикрепление узаконило это расселение; по смыслу его, впрочем, выраженному нерешительно в законодательстве XVII века, запрещалось брать крестьянина с участка, к которому он приписан, и, следовательно, брать из-под крестьянина участок, который за ним записан… Как средство материального обеспечения служилого класса вотчинное и поместное землевладение служило заменой денежного жалованья. Опираясь на указанное разделение земель, план Голицына восстановлял это жалованье, точнее говоря, увеличивал существовавшие уже оклады, черпая нужные для того средства из казенного оброка, которым облагались крестьяне взамен платежей и повинностей в пользу владельцев».{219}
В более поздней работе «Русская история» Ключевский дал более широкую характеристику планов князя: «Голицына сильно занимал вопрос о московском войске, недостатки которого он хорошо изведал, не раз командуя полками. Он, по словам Невилля, хотел, чтобы дворянство ездило за границу и обучалось там военному искусству, ибо он думал заменить хорошими солдатами взятых в даточные и непригодных к делу крестьян, земли которых оставались без обработки на время войны, а взамен их бесполезной службы обложить крестьянство умеренной поголовной податью (это слишком вольная трактовка — у Невилля сказано, что целью Голицына было не отменить призыв крестьян на службу, а „превратить в бравых солдат толпы крестьян“. — В. Н.)… Военно-техническая реформа в мыслях Голицына соединялась с переворотом социально-экономическим. Преобразование государства Голицын думал начать освобождением крестьян, предоставив им обрабатываемые ими земли с выгодой для царя, т. е. казны, посредством ежегодной подати, что, по его расчету, увеличивало доход казны более чем наполовину».
Ключевский вынужден был дополнить неясные свидетельства Невилля собственными предположениями: «Иноземец кое-чего недослышал и не объяснил условий этой поземельной операции. Так как на дворянах оставалась обязательная и наследственная военная служба, то, по всей вероятности, насчет поземельного государственного оброка с крестьян предполагалось увеличить дворянские оклады денежного жалованья, которые должны были служить вознаграждением за потерянные помещиками доходы с крестьян и за отошедшие к ним земли».
Обобщая скупые сведения иностранного современника, Ключевский замечает: «Читая рассказы Невилля в его донесениях о Московии, можно подивиться смелости преобразовательных замыслов „великого Голицына“, как величает его автор. Эти замыслы, переданные иностранцем отрывочно без внутренней связи, показывают, однако, что в основании их лежал широкий и, по-видимому, довольно обдуманный план реформ, касавшихся не только административного и экономического порядка, но и сословного устройства государства и даже народного просвещения».{220}
В. И. Семевский высказал мнение, что голицынский план освобождения крестьян, «если сопоставить его с планами об учреждении регулярных армий, представляет собой довольно стройную систему». Историк совершенно правильно утверждает, что для создания регулярной армии необходимо было установить «общий поголовный налог», в чем и состояла идея Голицына.{221} Впоследствии этот замысел лидера правительства Софьи был осуществлен Петром Великим.
Г. В. Плеханов в «Истории русской общественной мысли» оценил свидетельство Невилля об освободительных намерениях Голицына более трезво, подчеркнув, что князь собирался освободить не всех крестьян, а лишь тех, кто обрабатывал земно «в пользу царя». «На основании точного смысла слов, — пишет Плеханов, — можно предположить, что кн. В. В. Голицын собирался освободить или, если угодно, определить или перенести на деньги повинности крестьян дворцовых волостей». В целом же он охарактеризовал изложенные Невиллем голицынские идеи как «широковещательные, но неопределенные».{222}
М. Я. Волков также рассматривал эти планы в комплексе: «Голицын думал создать регулярную армию на основе включения в нее дворян и других категорий и других служилых людей. Все эти люди за свою постоянную службу должны были получать денежное жалованье и лишиться прежнего натурального жалованья, в том числе дворяне — земель и крестьян, полученных за службу. Последняя мера и введение подушного обложения, по мысли Голицына, позволили бы государству удвоить свои доходы, обеспечить содержание новой армии и проведение других необходимых реформ». Любопытна мысль автора о том, что идея преобразовательного проекта была заимствована Голицыным из государственной практики Швеции, где в 1680 и 1682–1683 годах появились законы о проведении редукции, то есть изъятия у феодальной аристократии государственных земель.{223}
В. И. Буганов отметил: «…в делах внутренней политики… заметны некоторые шаги правительства Софьи и Голицына навстречу будущим преобразованиям… Как свидетельствует Невилль, Голицын для упорядочения дел в государстве, в частности в целях лучшего устройства войска и финансов, планировал освобождение крестьян и предоставление им земель, которые они обрабатывали. Крестьяне, по словам Голицына, представлявшие в русской армии бесполезные „полчища“, возвратились бы к своим полям, оставшимся необработанными, когда землепашцев призывали на войну. Освобожденные крестьяне вносили бы умеренную подушную подать, увеличив тем самым доходы государства более чем вдвое. Это дало бы средства для содержания постоянного войска из дворян». Автор признавал, что Невилль не говорит прямо об отбирании у дворян крестьян и земли, но считал, что это подразумевалось, поскольку француз писал, что они должны получать жалованье.
«Эти предложения, — пишет Буганов, — одни из которых получили частичное или в другой форме осуществления при Петре I (образования регулярной армии, введение подушной подати), другие — спустя почти два столетия (освобождение крестьян), представляют собой наиболее смелый и прогрессивный проект реформ, если, конечно, он существовал в действительности. Такой проект мог бы сделать честь государственному деятелю не только следующего, XVIII, но и XIX столетия».{224}
Если все вышеперечисленные историки лишь упоминали о преобразовательных проектах Голицына, то А. С. Лавров посвятил им специальное исследование. Историк поставил целью «конкретизировать наши представления о той традиции политической мысли, на которую опирался Голицын, уточнить источники, которые он использовал». Он изучил опись библиотеки Голицына, сделанную в 1689 году. Среди книг была «Политика» выдающегося славянского мыслителя Юрия Крижанича, одной из основных идей которого является мысль о необходимости ликвидации обременительной для народа торговой монополии государства. Голицын, по словам Невилля, также хотел уничтожить государственную монополию «на кабаки и разные продукты торговли».
В библиотеке Голицына имелся русский перевод книги польского писателя Анджея Моджевского «О государстве», в которой провозглашалась идея распространить право земельной собственности на мещан, вопреки королевскому закону о землевладении как исключительной привилегии дворянства. Вопрос о взаимоотношениях крестьянства и шляхетства в сочинении Моджевского тесно связан с военными задачами. Другая мысль польского писателя — о целесообразности создания единого военного фонда, складывавшегося из налогов с шляхетства, духовенства и мещанства, — очень напоминает идею Голицына об «умеренном подушном налоге», средства от которого должны были идти на содержание и обучение армии, что позволило бы заменить регулярными армейскими частями «бесполезную государству» службу «даточных» крестьян. Примечательны также слова Моджевского, что учреждение единого военного фонда позволило бы освободить польских крестьян «от вечной неволи».{225}
Предположение об использовании Голицыным идей Крижанича и Моджевского представляется вполне убедительным. Нет сомнений, что Василий Васильевич тщательно изучил эти книги. В XVII веке сочинений по широкой государственно-политической тематике было еще слишком мало, и Голицын никак не мог пренебречь столь полезными для государственного деятеля знаниями. Возможно, рукописный перевод на русский язык книги Моджевского относился к числу тех самых записок «о всех государствах Европы и их управлении», которые, как пишет Невилль, были собраны по поручению руководителя правительства Софьи.
Обобщая свидетельства французского дипломата и комментарии историков, можно сделать несколько выводов. Прежде всего следует отметить, что восторги по поводу голицынских планов в отношении крестьян абсолютно беспочвенны — ни о каком их освобождении в России того времени речи быть не могло; более того, в условиях начавшегося процесса консолидации дворянства и формирования единого правящего сословия крепостное право усиливалось. Дворянство являлось единственной социальной и политической опорой русского абсолютизма, поэтому любые попытки верховной власти посягнуть на главный источник его доходов — населенные имения — неминуемо привели бы к дворцовому перевороту. Возможно, сведения о планах Голицына, сообщенные Спафарием Невиллю, в самом деле касались только дворцовых крестьян. Но и в этом случае намерения освободить крепостных с землей кажутся весьма сомнительными. Изменить что-либо в организации поземельной собственности нельзя было даже в самых смелых мечтах. А Голицын, вопреки мнению Ключевского, отнюдь не являлся мечтателем. Это был трезвый, прагматичный и жесткий политический реалист, чуждый несбыточного прекраснодушия. Скорее всего, в данном случае произошла какая-то ошибка в передаче информации, поступившей к автору «Записок о Московии» из третьих рук: либо Спафарий не понял Голицына, либо Невилль не понял Спафария.
Следует особо остановиться на словах французского дипломата о намерении Василия Васильевича «дать свободу совести» населению России. Иностранец, как часто бывает, путает это понятие с веротерпимостью. Ни о какой свободе совести и России в XVII–XVIII веках речи быть не могло: любые попытки православных поменять вероисповедание влекли за собой неминуемые репрессии со стороны церковных и светских властей. Плохо обстояло дело в допетровской России и с веротерпимостью: если протестантам была предоставлена возможность отправлять богослужение, то католики были ее лишены, и только Софья и Голицын сделали первый шаг в этом направлении, разрешив приехавшему в Москву иезуиту вести службу по католическому обряду. Несомненно, Василий Васильевич планировал дальнейшие мероприятия в этом направлении.
Итак, отбросив за явной недостоверностью свидетельство француза о намерении лидера правительства Софьи освободить крестьян, можно выделить реальные составляющие плана преобразований:
1) создание регулярной армии по европейскому образцу;
2) введение подушного налога вместо подворного обложения;
3) ликвидация некоторых государственных монополий в целях развития частного предпринимательства;
4) широкое привлечение на русскую службу иностранных специалистов;
5) обучение молодых дворян за границей;
6) развитие образования в России;
7) расширение дипломатических контактов с европейскими странами;
8) обеспечение большей веротерпимости при сохранении незыблемых позиций официальной Русской православной церкви.
Все пункты этой программы полностью соответствовали направлениям последующих преобразований Петра I. Голицын и Софья, поддерживавшая своего фаворита во всех делах, мыслили совершенно в том же направлении, что и великий преобразователь. Жаль, что им не хватило времени для осуществления реформ.
Глава четвертая ДИПЛОМАТИЯ И ВОЙНА
«Да будет на Севере тишь!»
Решение внешнеполитических дел правительница Софья Алексеевна и «великих посольских дел оберегатель» князь Василий Голицын начали с упрочения отношений с северными державами — Швецией и Данией. Эти страны традиционно враждовали между собой. В 1397–1523 годах они вместе с Норвегией составляли единое государство, объединенное под властью датских королей. Затем Швеция вышла из этого союза и начала резко набирать силу, претендуя на роль гегемона в Северной Европе. С этого времени Дания, в состав которой по-прежнему входила Норвегия, выступала в качестве главного врага Швеции.
Отношения России с Данией всегда были дружественными, поскольку страны не имели поводов для территориальных споров. А вот со Швецией были серьезные проблемы. В период Смуты северный сосед захватил Новгородчину от Валдая до побережья Финского залива. По условиям Столбовского мирного договора (1617) шведы вернули России основную часть Новгородского уезда, но удержали за собой Ингерманландию и Карелию. С этого времени борьба за возвращение выхода к балтийскому морю стала насущной внешнеполитической задачей России.
В октябре 1682 года в Россию прибыл датский полномочный посол Гильдебранд фон Горн. Опытный дипломат был хорошо подготовлен, поскольку уже работал в Москве в 1676–1678 годах в качестве секретаря посольства Фридриха фон Габеля, а в 1681-м присылался с самостоятельной миссией. Он даже выучил русский язык. Во второй приезд датчанин сумел произвести на царя Федора Алексеевича весьма благоприятное впечатление. На прощальной аудиенции в декабре 1681 года Горну от имени государя было подарено 12 прекрасно переплетенных русских книг «в память о царе и для практики в русском языке».{226}
Целью миссии Горна в 1682 году являлась попытка склонить Россию к участию в альянсе Дании, Франции и Бранденбурга, направленном против Швеции, Англии и Голландии. Во время первой встречи с руководителями российской внешней политики Горн передал на словах, что датский король Кристиан V прислал его с поздравлениями русским государям по случаю вступления их на престол, а также для заключения соглашения о посольском церемониале. Князь Василий Голицын стал выспрашивать, не имеет ли он других поручений от короля. Датчанин ответил отрицательно, не желая преждевременно раскрывать основную цель своей миссии. Тогда Голицын рассмеялся, покачал головой, а затем отвел собеседника в сторону и спросил:
— Каковы отношения его величества короля Кристиана V к Швеции?
Горн дипломатично ответил:
— Отношения эти, насколько они мне известны, вполне хороши.{227}
Руководитель российской внешней политики решил шокировать Горна неожиданной откровенностью. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что никто из бояр, дьяков и подьячих его не слышит, он тихо спросил:
— Когда пойдем сообща на шведов?
Однако посол промолчал, сделав вид, что не понял вопроса. Свое поведение он объяснил в донесении королю: «Интриги этого двора темны и скрытны, и глаз открыть некому».{228}
В конце 1682 года Горн побывал в гостях у Голицына во вновь отстроенном особняке в Охотном Ряду и подарил хозяину на новоселье прекрасное распятие из янтаря. В приватных беседах датский дипломат убеждал руководителя российской внешней политики:
— Цари напрасно собираются отправить великих послов в Швецию. Настроение этой державы всегда было и останется враждебным по отношению к России.{229}
Примерно в те же дни Горн посетил думного дьяка Емельяна Украинцева и выслушал от него «лучшие комплименты по адресу датских дипломатов». Когда речь зашла о тяжелом положении, переживаемом Россией после стрелецкого восстания, Горн посоветовал:
— Лучшим средством выйти из такого состояния была бы внешняя война; все враждующие внутри государства элементы бросились бы в борьбу с внешним врагом.
Датский дипломат явно намекал, что России следует объявить войну Швеции. Однако Украинцев не поддался на эту уловку:
— Война теперь была бы решительно невозможной, ибо казна пуста, нет ни денег, ни хлеба; свирепствуют в довершение всего болезни.{230}
Думный дьяк несколько сгустил краски, чтобы датчанин понял, что надежды вовлечь Россию в наступательный союз против Швеции тщетны.
В январе 1683 года Горн побывал на банкете в доме датского торгового агента Генриха Бутенанта, где тогда же находились многие русские бояре. Князь Василий Голицын выказывал дипломату дружеское расположение, но воздерживался от разговоров о политике. Зато начальник дворцового ведомства князь Василий Федорович Одоевский доверительно сообщил датскому посланнику, что русские готовы поддержать Данию в войне против Швеции.
Общество русских вельмож в доме Бутенанта было весьма многочисленно и включало в себя представителей обеих враждебных придворных группировок — сторонников Софьи и приверженцев Петра. Двое виднейших членов второй «партии» — князья Борис Алексеевич Голицын и Михаил Иванович Лыков — со слезами на глазах говорили Горну об опасности, якобы угрожающей юному царю.
Через несколько дней Борис Голицын вновь начал заискивать перед Горном и опять «проливал слезы над участью Петра». В последующие недели Лыков, Борис Голицын и другие сторонники Петра неоднократно посещали Горна и Бутенанта, несомненно, рассчитывая на поддержку датчан в борьбе придворных группировок.{231}
Примечательно, что сторонники царя Петра не стеснялись проявлять враждебное отношение к Швеции. Наиболее оригинальное высказывание на этот счет принадлежало князю Михаилу Алегуковичу Черкасскому — тот, посетив Горна в начале мая 1683 года, произнес:
— Шведы — это те же татары в смысле плутовства, но крещеные. И те и другие обогащались грабежом своих соседей.
Царь Петр также выказывал Горну постоянное расположение. К празднику Святой Троицы оба государя готовились покинуть Москву и совершить по обычаю богомольный «поход» в Троице-Сергиев монастырь. Младший царь выразил желание, чтобы его сопровождал Горн. Однако царевна Софья Алексеевна «решительно восстала против этого», и датский дипломат счел за благо остаться в Москве.{232}
Помимо всех этих перипетий придворной борьбы положение Горна осложнялось интригами дипломатов враждебных держав. Шведский резидент Христофор фон Кохен не имел возможности заметно вредить датчанину, поскольку его собственное положение при русском дворе было весьма непрочным. Руководители российской внешней политики несколько раз указывали ему на дверь, но резидент под разными предлогами сумел задержаться в Москве. Однако Горн имел при царском дворе очень опасного противника в лице голландского посла Иоганна ван Келлера, который горячо отстаивал интересы Швеции и предостерегал русских дипломатов «слишком доверяться Дании».
— Поведение Швеции относительно Москвы безупречно, — утверждал он, — намерения ее вполне мирны и дружественны.
Это утверждение соответствовало действительности: шведский король всеми силами стремился сохранить мир с Россией, поскольку это позволяло ему удерживать захваченные в начале XVII века российские земли — Ингерманландию и Карелию.
Восемнадцатого июня 1683 года из Москвы в Стокгольм отправилось посольство Ивана Афанасьевича Прончищева, перед которым была поставлена задача добиться восстановления Кардисского мира (1661) с некоторыми изменениями. Серьезные переговоры с участием канцлера Бенгта Оксеншерны и других шведских дипломатов начались лишь в октябре. Было достигнуто принципиальное соглашение возобновить Кардисский трактат, «предав забвению последовавшие после него разногласия». Официальный договор был заключен 30 октября, и шведы обещали в скором времени прислать в Москву посольство для его окончательного подтверждения.
Между тем придворные интриги в российской столице продолжались. В июле 1683 года Борис Голицын пришел к Горну умолять его о помощи против Софьи, якобы строившей козни Петру. Он даже лично продиктовал датчанину письмо на латыни, адресованное королю Дании и содержавшее просьбу уговорить Францию, Англию и Бранденбург поддержать Петра в борьбе против Софьи, как можно скорее отправив послов в Россию.
В середине июля 1683 года Горн сообщил своему двору о секретных переговорах, которые провел с ним думный дьяк Емельян Украинцев, второе лицо в Посольском приказе, — тот якобы предложил заключить союз России с Данией, Бранденбургом и Францией против Швеции, у которой русские намеревались отобрать Ингерманландию и Карелию.{233} Похоже, Горн выдавал желаемое за действительное.
Двадцать первого июля Горн посетил князя Василия Голицына, который в то время был болен и не выходил из дома. Он принял гостя в своей спальне, оставаясь в постели, поприветствовав его оригинальным заявлением:
— Я настолько же добрый и верный датчанин, насколько вы, господин фон Горн, честный московит.
Затем хозяин дома попросил датского посла отправить к королю курьера с письмом, в котором следовало подчеркнуть, как важно прибытие в Москву французского и бранденбургского дипломатических представителей:
— С ними в Москве пошли бы переговоры о заключении лиги, которая оказалась бы полезной не только Дании и России, но и Франции, и Бранденбургу. В наших общих врагах такая лига вызвала бы страх.
После этого Голицын перешел к конкретике:
— Как только мы в Москве узнаем, что план такой четверной лиги принят, мы потребуем от Швеции Ингерманландию и Карелию. Дания сможет предъявить от себя требования на Сконен и другие провинции. А если добровольной уступки со стороны Швеции не последует, надо будет подумать о более решительных средствах, так как дольше терпеть владычество Швеции в землях, принадлежащих царям и королю, нельзя.{234}
Зачем руководитель российской внешней политики морочил голову датскому послу, если не собирался присоединяться к антишведскому союзу и не планировал никаких наступательных действий против Швеции, а наоборот, стремился к возобновлению русско-шведского мирного трактата? Ответ на этот вопрос очень прост: русские дипломаты рассчитывали, что разговоры о возможном присоединении России к франко-датско-бранденбургской лиге напугают шведов и сделают их более уступчивыми при обсуждении условий нового русско-шведского трактата. Так и вышло. Как справедливо заметил А. П. Богданов, «вместо того чтобы устрашить Россию, Швеция обеспокоилась сама. Не понадобились даже военные демонстрации с московской стороны. Кардисский мир был продлен на условиях Голицына, не наносивших урона Швеции, но и не признававших уступки России».{235} (Имеется в виду, что в новом договоре не было закреплено право шведов на захваченные ими Ингерманландию и Карелию.)
В январе 1684 года в Москву было отправлено новое шведское посольство Конрада Гильденстерна, Ионаса Клингстеда и Отто Стакельберга. В инструкции Карла XI, врученной послам 7 января, указывалось, что они «должны добиться восстановления прежних дружественных отношений, так, чтобы все несогласия и недоразумения последних лет преданы были полному забвению и уничтожению».
Двадцать восьмого апреля послы прибыли в Москву, где были встречены весьма торжественно. 2 мая состоялась аудиенция у царей. Участниками переговоров со шведами были назначены князь Василий Голицын, Иван Бутурлин, Семен Толочанов, Емельян Украинцев, Василий Бобынин, Прокофий Возницын и Иван Волков. В первый день переговоров решались в основном протокольные вопросы, связанные с дипломатическим этикетом и титулами государей обеих стран. На втором заседании 10 мая послы объявили желание своего короля, «чтобы цари клятвенно перед Евангелием обещали подтвердить договоры Кардисский и Плюсский». Они были представлены правительнице Софье Алексеевне, которую охарактеризовали в своих донесениях королю как «умную и рассудительную женщину».{236}
В депеше от 2 (12) июня шведские послы сообщили королю подробности присяги, состоявшейся 28 мая: «…перед царями поставили налой, на котором лежало Евангелие с крестом, под Евангелием лежала конфирмационная грамота Вашего Величества и только что составленная грамота царей. Сначала присягу произнес Иоанн, потом прочитал ее по листу бумаги Петр; затем оба царя приложились к кресту».
Через несколько дней после этой церемонии шведские послы со свитой вновь были приглашены на аудиенцию к правительнице Софье. Дипломаты в сопровождении стрельцов проследовали в Золотую плату, где дьяк Посольского приказа Тимофей Литвинов зачитал им приветственную речь от имени правительницы. Затем послы прошли через сени, по обе стороны которых стояли по пять стрелецких полковников с большими палашами и золочеными топорами и протазанами. «А великая государыня, благородная царевна сидела в своем государском месте в креслах оправных з запоны алмазными, а на ней государыне было одеяние: венец низан жемчюгом и з запаны, шуба оксамитная золотная соболья, опушена собольми, а подле соболей обложено кружевом большим».
Позади кресла правительницы стояли четыре боярыни-вдовы «в убрусах и в телогреях» и четыре карлицы, «на них перевяски низаные, шубы золотные на соболях». «Да в той же Полате при государыне сидели комнатные ближние немногие бояре да по сторонам стояли бояре ж князь Василий Васильевич Голицын да Иван Михайлович Милославский».
При появлении шведских послов думный дьяк Емельян Украинцев поклонился им до земли и произнес приветствие от имени великой государыни царевны Софьи Алексеевны. Затем правительница, привстав с кресла, поинтересовалась:
— Велеможнейший государь Каролус, король Свейский, и его королевского величества мать государыня Эдвих Элеонора и супруга его государыня Урлих Элеонора поздорову ль?
После рассказа послов «про здоровье королевское и королев» Украинцев объявил:
— Королевского величества великие и полномочные послы! Великая государыня, благородная царевна жалует вас к своей государской руке.
Шведские дипломаты приложились к руке правительницы, и Украинцев продолжил:
— Великая государыня, благородная царевна жалует вас, велела спросить о вашем здоровье.
В ответ на такие милостивые слова послы низко поклонились Софье Алексеевне. Затем государыня велела им сесть на стоявшую перед ее креслом скамейку, покрытую ковром. Тем временем она пожаловала к руке королевских дворян из посольской свиты и приказала Украинцеву «потом спросить их здоровье». По окончании этой процедуры правительница произнесла «поздравление» семье шведского короля:
— Великие послы Кондратей Гилденстерн с товарыщи! Как будете у велеможнейшего государя Каролуса Свейского и у матери его государыни Эдвих Элеоноры и у супруги его Урлих Элеоноры, и вы им от нас поздравьте.
Конрад Гильденстерн от имени всех членов посольства обратился с речью к Софье Алексеевне, поблагодарив ее «за государскую превысокую милость». После обмена официальными любезностями правительница велела Украинцеву «сказать» послам «от своего государского стола еству и питье». Затем шведы были отпущены «на подворье», где их угощали лучшими блюдами царской кухни и вином из государевых погребов.{237}
В связи с пребыванием в России шведского посольства датчанин Горн сообщил в одном из своих донесений уникальные подробности открытого столкновения группировок в Боярской думе по вопросу о роли Софьи в русско-шведских переговорах: «На первой аудиенции, данной шведским послам… царевна Софья, разумеется, присутствовала и в качестве правительницы хотела вести переговоры вместо своих братьев по причине их малолетства. Но так как это не только могло повлечь за собой чрезвычайно серьезные последствия, но и не имело примеров, то возникла необходимость созвать заседание Думы в полном составе, на котором это намерение было не только не одобрено, но обнаружилось крайнее изумление тем, что подобная мысль вообще могла обсуждаться. Князь Василий, внушивший царевне это желание, сказал, что в прошлом многое было не принято, а теперь не только может, но должно быть введено в употребление. Он сослался на пример королев Елизаветы Английской и Христины Шведской, которые не только давали публичные аудиенции всем иноземным посланникам, но также в течение некоторого времени правили своими королевствами добрым и достохвальным образом. На это ответили, что тут следует проводить большое различие, так как вышеупомянутые королевы находились у власти, не имея братьев, как законные наследницы».{238}
В результате переговоры со шведскими послами формально велись без участия Софьи Алексеевны, однако в их ходе правительница пристально следила за ситуацией, неоднократно проводила совещания с Голицыным и выслушивала его доклады.
Горн понял, что не сумел выполнить основную задачу своей миссии — натравить Россию на Швецию: русско-шведский трактат был подписан и утвержден государями. С этого времени он вел с руководителями российской внешней политики переговоры по поводу заключения русско-датского договора, касавшегося протокольных вопросов. Договор этот был подписан 10 августа. Согласно ему датские послы, посланники и курьеры должны были являться на аудиенции у царей и на конференции с российскими «министрами» без головных уборов и шпаг. Был также установлен размер денежного содержания датских дипломатов в России и определен набор ежедневно отпускаемых им продуктов питания: «белой хлеб пшеничной» — два хлеба и две булки, «ценою в любский шиллинг», живого гуся, утку, поросенка, тетерева и двух рябчиков. Дворянам и офицерам из посольской свиты полагались «каждому на день» один пшеничный и два ситных хлеба, а «всем обще» — три битых гуся, тетерев, заяц и две утки. Кроме того, «послам и дворянам обще» отпускались два барана, десять барашков, 25 кур, четыре больших куска ветчины, 30 фунтов мяса, десять фунтов соли, лук, чеснок, свечи и пр.
Послам ежедневно причиталось по восемь чарок «двойного вина», по бутыли «шпанского» вина, рейнского вина, смородинного или малинового меда, а также ведро «доброго меду» и два ведра «доброго ячменного пива», а свите — по четыре чарки двойного вина, бутыль вареного меда, четверть ведра сладкого меда и полведра «доброго» меда. Послам также следовало выдавать определенное количество сахара, перца, имбиря, корицы, гвоздики, мускатных орехов, кардамона, шафрана, изюма, чернослива, миндальных орехов, лимонов и винных ягод.{239}
Вскоре после подписания этого договора Горн покинул Россию.
«Вечный мир»
Первоочередной внешнеполитической задачей правительства Софьи Алексеевны стало упорядочение русско-польских отношений, остававшихся неопределенными со времени заключения Андрусовского перемирия (1667), завершившего войну, которую Россия вела с 1654 года против Речи Посполитой за возвращение смоленских и черниговских земель, части Белоруссии, а также за обеспечение воссоединения Украины с Россией. Русскому государству были возвращены Смоленск, Дорогобуж, Велиж, Северская земля с Черниговом и Стародубом; Польша, не признав в полной мере воссоединение Левобережной Украины с Россией, согласилась временно оставить украинские земли на левом берегу Днепра и Киев под властью российской короны.{240} Перемирие было установлено первоначально до июня 1680 года; в царствование Федора Алексеевича русская дипломатия добилась продления его еще на три года. Таким образом, к лету 1683 года заключение «Вечного мира» с Речью Посполитой стало насущной проблемой российской политики.
Внешнеполитическая ориентация после окончательного подавления московского восстания оставалась неопределенной. Решить украинский вопрос можно было как дипломатическим, так и военным путем. Возможность дипломатического решения представлялась Софье и Голицыну вполне реальной в условиях, когда Речь Посполитая была особенно заинтересована в союзе с Россией против Турции. В 1683 году русские послы в Варшаве Иван Чаадаев и Лукьян Голосов в соответствии с полученным ими наказом заявляли, что «без вечного мира и без уступки… городов и всее Украины и Запорожья чинить ныне союз невозможно».{241} Однако польская сторона упорно настаивала на возвращении ей Киева.
Среди русского боярства имелось немало сторонников продолжения войны с Речью Посполитой до отвоевания у нее Правобережной Украины и Белоруссии. Возглавляли воинственную группировку приближенные царя Ивана Алексеевича князь Петр Иванович Прозоровский и боярин Федор Петрович Салтыков. Поборники силового решения особенно настаивали на необходимости освобождения православных на польских землях от религиозного гнета.{242} Польша сама подавала немало поводов к продолжению войны. Эмиссары короля Яна Собеского вели на Украине антироссийскую пропаганду, что было запрещено условиями Андрусовского перемирия.
Четвертого сентября 1683 года царям была доставлена отписка киевского воеводы князя П. С. Прозоровского о военных приготовлениях в Польше. В тот же день царская грамота была послана князю Ивану Хованскому «с товарыщи» с сообщением, что командование русскими войсками на южной границе возложено на его сына Петра, курского воеводу.{243}
Между тем ситуация в Европе заставила Польшу добиваться союза с Россией. В начале 1680-х годов началась мощная экспансия Османской империи против Австрии и Речи Посполитой. В 1681 году, после того как император Леопольд нарушил привилегии венгров-протестантов, предводитель венгерских повстанцев граф Имре Тёкёли обратился за помощью к турецкому султану. Мехмед IV признал его королем Западной Венгрии под османским суверенитетом. Война между Австрией и Турцией стала неизбежной. Перед лицом османской угрозы император Леопольд обратился к единственному возможному союзнику — королю Речи Посполитой Яну Собескому. 31 марта 1683 года Австрия и Польша заключили договор о военной помощи в случае нападения турецкой армии. К этому соглашению было решено привлечь других христианских монархов, в том числе русских царей.
Весной 1683 года огромная турецкая армия выступила из Адрианополя по направлению к Вене. Командование войсками было поручено главному визирю Кара Мустафе. Этот фанатичный противник христиан хвастливо заявлял:
— Однажды я поставлю своих лошадей в соборе Святого Петра в Риме, а после захвата Вены пойду маршем к Рейну, чтобы сразиться с Людовиком XIV!
В походе участвовал большой отряд крымских татар во главе с ханом Селим-Гиреем. Форсировав реку Рааб, двухсоттысячная армия двинулась к Вене и 14 июля осадила ее. Император Леопольд со своим двором бежал из столицы, поручив ее защиту графу Эрнсту фон Штарембергу. Фельдмаршал с гарнизоном всего в 12 тысяч человек сумел отбить все атаки турок и продержался шесть недель до подхода помощи. В начале сентября к Вене подошла объединенная армия австрийцев, саксонцев, баварцев и поляков под командованием Яна Собеского. На рассвете 12 сентября он повел объединенные силы христиан в наступление и одержал над турками блистательную победу. Полный разгром армии Кара Мустафы навсегда подорвал в глазах Европы престиж турок в качестве нации-завоевательницы.{244}
Ян Собеский поспешил сообщить русским государям, что «креста святого неприятель» потерял бы всё свое войско, если бы остатки его армии не сумели спастись под покровом ночи, «однако ж идем за ним, гоняясь, и уже наши передовые поезды на шеях их подлинно сидят». Эта победа, по мысли польского короля, должна была положить начало полному разгрому Османской империи: «Надежда в крепком Боге, что тот народ бусурмадский, когда ни есть рукою християнскою, при благословении Высочайшего укротится и преломится, токмо б все християнские государи восхотели». Собеский прямо призвал русских царей «соединить свои силы с силами победителей» для уничтожения общего врага христиан: «…пришло время изгнать из Европы врагов христианства… все христианские государи обещают выставить войско на весну, а царским величествам можно было бы начать войну и зимою».{245}
Император Леопольд также известил царей о разгроме турок и убеждал их, «совокупив сердца, руки и оружие», принять участие в войне против Османской империи. Иностранные наблюдатели, в том числе голландский резидент Иоганн ван Келлер, действительно допускали возможность немедленного похода русских войск на Крым в такой благоприятный момент, когда основные силы крымских татар находились еще в Венгрии, отступая в составе войск султана после разгрома под Веной. Однако так могли полагать лишь люди, плохо представляющие себе трудности похода через безлюдные южные степи к Крымскому полуострову. Без весенней травы попросту невозможно было бы прокормить лошадей большой армии.
Получив известия о победе над турками, русские государи, как сообщает нидерландский резидент, «приказали не только служить благодарственные службы во всех церквях, но также послать гонца в Польшу, чтобы поздравить короля по случаю этой победы и доблести, которую проявили войска».{246}
В октябре Ян Собеский прислал в Москву своего представителя Яна Окрасу. В переговорах с ним участвовали боярин князь Василий Голицын, боярин Борис Бутурлин, окольничий Семен Толочанов и думный дьяк Емельян Украинцев. Польский дипломат в своей речи особенно подчеркивал, что польский король выступил в качестве защитника всего христианского мира от турок:
— Его королевское величество войну с тем неприятелем начал не ради своих земель, но за всё христианство, видя, что враг Креста Святого многие земли и города у христиан силою своею бусурманскою завладел и, не удоволившись тем, далее свои владения распространить похотел.
Поляк настоятельно просил русских государей как можно скорее оказать военную помощь его королю — поскольку «в нынешнее… зимнее время их царского величества ратям идти невозможно», послать войска «хотя весною». Он подчеркивал, что его поручение носит особо срочный характер, поскольку в настоящий момент решается вопрос о возможности дальнейшего ведения войны Речи Посполитой против Турции. Однако польские предложения были решительно отвергнуты русскими дипломатами, которые не допускали возможности заключения русско-польского военного союза без закрепления итогов Андрусовского перемирия. Для обсуждения территориальных споров между Россией и Польшей должна была быть создана особая комиссия. Подводя итоги безрезультатных переговоров, Голицын заявил Окрасе:
— А с тобой, посланником, о таком великом деле мимо той комиссии нам, царского величества ближним боярам, не токмо в договор, но и в разговор вступать не для чего.{247}
Переговоры о мире между Россией и Польшей в селе Андрусове под Смоленском начались в январе 1684 года. С русской стороны в них участвовали князь Яков Никитич Одоевский и Иван Васильевич Бутурлин, а с польской — Кшиштоф Гжимультовский и князь Марциан Александр Огиньский. Русские настаивали на закреплении условий мирного договора 1667 года, а поляки считали, что территориальные споры следует решать только после вхождения России в антитурецкую Священную лигу. Переговоры увязли в традиционных словопрениях о царском титуле и других мелких претензиях. Вопрос о статусе Киева оставался открытым. Уполномоченные от обеих сторон съезжались 39 раз, но так и не смогли ни о чем договориться: поляки не желали отказываться от Киева, а русские без этой уступки не соглашались помогать Польше в войне против турок и крымских татар. В феврале русские и польские послы покинули Андрусово, не достигнув никакого соглашения.
Между тем разгром турок под Веной разбудил надежды христианского мира на новый «крестовый поход» и полное изгнание османов из Европы. В марте 1684 года Австрия, Польша и Венеция образовали Священную лигу под патронатом римского папы Иннокентия XI. В договор с Венецией был внесен пункт о том, что три державы приглашают вступить в союз всех христианских государей и «преимущественно царей московских».{248}
Ян Собеский уже разработал обширный план совместных действий против Турции: австрийцы должны были наступать в районе Дуная, поляки — в Подолии, а русским следовало предпринять поход на Крым. К этому союзу польский король рассчитывал привлечь персидского шаха, который мог бы напасть на турецкие владения в Малой Азии.
На Левобережной Украине существовала сильная антипольская группировка, возглавляемая гетманом Иваном Самойловичем. В мае 1683 года Посольский приказ обратился к нему с просьбой высказать мнение по поводу русско-польского союза. Самойлович ответил: «Союз с христианскими государями — дело хорошее, но прежде надобно заключить с Польшею вечный мир, по которому Польша должна отказаться от Киева и от всей Малороссии, от Войска запорожского, городового и низового». Гетман утверждал, что союз между Россией и Польшей не может быть надежным, так как «поляки принадлежат к римскому костелу», а русские исповедуют православие. «Поляки, — писал он, — не только ищут всякого зла державе царей, но рады бы обрушить небеса на христианство русское; можно ли верить их союзу?» Искушенный в дипломатических делах Самойлович предупреждал руководителя Посольского приказа Голицына о возможности сепаратного мира Австрии или Польши с Турцией: «Если великие государи вследствие союза с королем и цесарем разорвут перемирие с турками и татарами, то король и цесарь дадут об этом знать бусурманам; те испугаются и предложат мир, король и император помирятся, и тогда вся тяжесть войны обрушится на Российское царствие; да если б они и не помирились с турками, но если султан обратится со всеми своими силами на нас, то не только цесарь за дальним расстоянием не придет на помощь, не поможет и король польский».{249}
В январе 1684 года Василий Голицын обратился за советом по поводу вхождения России в Священную лигу к опытному военачальнику Патрику Гордону. Генерал видел опасность разрыва перемирия с Турцией. Как и Самойлович, он допускал, что Австрия и Польша могут заключить сепаратный мир с общим врагом, после чего вся тяжесть войны ляжет на Россию. Другими доводами против начала войны с Крымом и Турцией были юный возраст царей, недостаток денежных средств, слабая дисциплина в войсках, «отсутствие единодушия, зависть, раздоры среди дворянства, которые ведут к неразберихе и нерешительности на военных советах». Тем не менее Гордон в конечном счете пришел к выводу о целесообразности завоевания Крыма:
— Вы заслужите величайшую честь, какую только может заслужить любая страна с давних времен, тем, что освободите не только себя, но и христианский мир от этой ужасной и проклятой чумовой нации, а также освободите себя от дани, которую вы платите им ежегодно, и тем самым отплатите за все прошлые оскорбления и несправедливости.{250}
Кроме того, заметил Гордон, уничтожение «гнезда неверных» в Крыму позволило бы России укрепить свое положение на Украине и обеспечить гарантию лояльности казацкого войска.
Правительство Софьи и без этих советов имело основания для недовольства политикой крымского хана. В 1682 году русский посланник стольник Никита Тараканов сообщил из Крыма, что нурадин (наследник ханского престола) «для получения подарков велел схватить его, привести к себе в конюшню, бить обухом, приводить к огню и стращать всякими муками». Тараканов в ответ отважно заявил, что не даст ничего сверх «прежних дач», то есть обычных подарков хану от русских царей. В конце концов татары отпустили посланника в русский лагерь на реке Альме, предварительно дочиста ограбив. Извещенная Таракановым об этом инциденте, Софья приказала объявить хану, что он больше не увидит в Крыму московских посланников, поскольку отныне дипломатические переговоры и вручение даров будут производиться на границе.{251}
В мае 1683 года Иоганн ван Келлер сообщил своему правительству из Москвы: «…послы их Царских Величеств, посланные к крымскому хану, вернулись сюда и принесли жалобы на несправедливости, обиды и палочные удары, которыми их наградили татары при всём народе, под тем предлогом, что золото, которое было послано для выкупа пленников, не имело ни нужного веса, ни стоимости, если верить тому, что говорили татары. О подобных поступках, сколь же жестоких, сколь же бессмысленных и противоречащих правам человека, здесь узнали с негодованием; они живо возмутили все сердца и, возможно, породят благородное желание предпринять грозную месть».{252}
Двадцать шестого декабря 1684 года в Москву «приехал в гонцах» королевский секретарь Томаш Адам Вильковский с жалобой на северских украинских казаков, напавших на польские земли по реке Сожь. В Посольском приказе уклонились от высказывания мнения на этот счет, и 4 января 1685 года Вильковский был «отпущен с ответом, что споры сии решить должно пограничными комиссарами». Между тем северские малороссияне с одобрения гетмана Самойловича продолжили вторжение в посожские земли, не без основания утверждая, что они испокон веков относились к Украине.
Двадцать девятого июня 1685 года польский посланник Ян Зембоцкий приехал в Москву с новой жалобой на северских украинцев, ворвавшихся в польские селения, причинивших жителям «разные обиды, бои и грабежи» и захвативших более двух тысяч деревень в Посожье. На приеме посланника в Посольском приказе 13 августа «учинена с ним запись, дабы назначенные в Андрусово межевые судьи, съехався 1 октября на спорные оные посожие места, учинили на месте обиженным всякое удовольствие». На основании этого решения 12 сентября в Андрусово отправились «межевые судьи»: стольники Андрей Самарин, Федор Бредихин и дьяк Струков. 9 октября «разменялись они верющими грамотами с польским комисаром Иосифом Ляцинским». Однако переговоры ни к чему не привели, поскольку российские представители не имели полномочий решить вопрос о возвращении Польше посожских земель. В связи с этим комиссар Ляцинский «прекратил съезды», и 27 ноября Софья Алексеевна повелела российским представителям вернуться в Москву.
Пятнадцатого декабря 1685 года королевский секретарь вновь приехал в Россию — на этот раз «с извещением о будущем вскоре в Москву полномочном великом посольстве, коему от сейма поручено все доселе спорные между обоими государствами дела решить и вечный заключить мир». Князь Василий Голицын, принявший Вильковского в Посольском приказе 28 декабря, уверил его, что «с удовольствием ожидать будут государи оных к себе послов».{253}
Софья и Голицын склонялись к миру и союзу с Речью Посполитой. Полонофильство правительницы неоднократно отмечалось иностранными наблюдателями. Князь Василий Голицын в проведении внешней политики России учитывал идеи Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина, руководившего Посольским приказом в 1667–1671 годах. Тот в свое время доказывал царю Алексею Михайловичу, что заключение союзного договора с Польшей положит конец антирусским интригам Швеции и Крыма, укрепит позиции России на Балканах и приведет к освобождению от турецкого владычества Молдавии и Валахии, которые впоследствии смогут перейти в российское подданство.{254}
Австрия также пыталась оказать давление на Россию. Уже в сентябре 1683 года император Леопольд письмом сообщил царям об изгнании турок из-под Вены и призывал не упустить столь благоприятный момент для отмщения за древние и «ныне учиненные» обиды. В начале следующего года в Москву приехал имперский секретарь Иоганн Хёвель. В привезенном им послании императора от 18 ноября говорилось о скором прибытии полномочной делегации.{255}
Хёвель оставил несколько интересных наблюдений как о московском дипломатическом протоколе, так и о некоторых личностях. По приезде он был принят царем Иваном, «который сидел один на троне… В нескольких шагах от него на скамьях сидели 12 бояр. Почти в центре стоял первый министр, начальник над всеми делами князь Голицын, чрезвычайно сдержанный и красивый мужчина средних лет». Хёвель несколько раз встречался с Василием Васильевичем, обсуждал с ним турецкую войну, осаду Вены и другие темы, представлявшие обоюдный интерес.
Во время прощальной аудиенция у царя Ивана 4 февраля произошел неприятный инцидент: Хёвель выражал желание получить царскую грамоту, адресованную императору Леопольду, непосредственно от царя, что умаляло значение власти русских государей; Голицын же пытался вручить австрийцу грамоту из своих рук. В конце концов Хёвель сумел хитростью получить царское послание непосредственно от Ивана.{256}
В мае 1684 года в Москву приехали австрийские послы Себастьян фон Блюмберг и Иоганн Христофор Жировский. На переговорах с Голицыным они заявляли, что у России при вступлении в Священную лигу будет только одна задача — сковать действия крымского хана и помешать его участию в военных действиях против Австрии и Польши.
— Желание цесарского величества, — убеждали австрийцы, — состоит в том, чтоб великие государи помогли против турецкого султана, отняли у него правую руку — Крым. Много войска на Крым посылать не для чего; можно послать одних черкас (малороссийских казаков. — В. Н.), которые под владением гетмана Ивана Самойловича, присоединив к ним несколько пеших полков. Цесарское величество другой помощи не требует, желает только, чтоб правую руку у султана удержать.
Ответ Голицына был тверд и вполне логичен:
— У великих государей с королем польским осталось только девять перемирных лет, и если великие государи, вступив за цесаря и короля польского в войну с турским салтаном, рати свои утрудят, а польский король по истечении перемирных лет наступит войною на их государство, то великим государям какая будет прибыль? Поэтому, не заключив вечного мира с Польшею, великим государям отнюдь в союз вступить нельзя.
Австрийцы понимали, что камнем преткновения в предстоящих русско-польских переговорах о мире будет вопрос о статусе Киева, поэтому вынуждены были затронуть эту животрепещущую тему:
— Какое последнее намерение со стороны царского величества насчет отдачи Киева польскому королю?
Голицын решительно ответил:
— Киева в польскую сторону никак отдать нельзя, и отдан не будет, потому что у малороссийского народа с поляками за утеснение веры и за другие обиды великие ссоры, и никогда между ними эти ссоры успокоены быть не могут; малороссийский народ и имени польского слышать не хочет. Да и потому Киева отдать нельзя, что польский король Журавинскими договорами уступил всю Украйну турскому салтану, а салтан турский уступил Киев с принадлежащими к нему городами и местами и Запорожье в сторону царского величества.
Подводя итог переговорам с австрийскими послами, Голицын категорично заявил:
— Если король польский уступит царскому величеству город Киев, то царское величество, в союзе с королем, будет вести войну против крымского хана.
В июне Блюмберг и Жировский покинули Москву, не достигнув никакого соглашения с Россией.{257} Странам-участницам Священной лиги стало понятно, что российская дипломатия будет по-прежнему непреклонно отстаивать интересы своей страны.
Воинственный Ян Собеский первоначально, возможно, надеялся, что союзники одержат победу над Турцией без помощи России. В 1684 году польские войска попытались отвоевать у турок Каменец-Подольский, однако осажденная крепость выстояла. Более удачными были действия австрийской армии, которая в том же году отвоевала у турок большую часть Хорватии, ставшей вскоре австрийской провинцией. Республика Венеция впервые в своей истории объявила султану открытую войну. При содействии Мальты и Тосканы венецианцы снарядили флот, высадили десант в Далмации, а затем развернули наземные силы в Албании и Боснии. В 1685 году Ян Собеский решил действовать в Молдавии и Трансильвании, но не смог возглавить поход из-за тяжелой болезни. Польской армией стал командовать коронный гетман Станислав Яблоновский, которому предписано было занять Молдавию, отрезать Подолию от турецких владений и принудить гарнизон Каменецкой крепости к капитуляции. Войска Яблоновского перешли Днестр и вторглись в Молдавию, но вскоре вынуждены были отступить со значительными потерями. Между тем молдавский поход привел к обострению отношений Собеского с императором Леопольдом, стремившимся утвердить австрийскую власть в Молдавии, Валахии и Трансильвании. В том же году Венеция завоевала центральную часть Греции и удерживала ее в течение полутора лет.
Как видим, польскому королю в войне с Турцией везло меньше, чем его союзникам. Ему пришлось лишний раз убедиться в коварстве австрийцев, которые во все времена стремились загребать жар чужими руками. Поляки просили помощи у Франции и даже пытались заключить перемирие с крымским ханом, но в обоих случаях не смогли добиться результата. Тогда польская дипломатия вновь сосредоточила усилия на вовлечении России в Священную лигу. В августе 1685 года в Москву из Варшавы прибыл посланник Ян Жембоцкий с грамотой Яна Собеского, вновь призывавшего русских государей присоединиться к борьбе христианского мира против Османской империи.
Вскоре король отправил в Москву великих полномочных послов: познанского воеводу Кшиштофа Гжимультовского, канцлера Великого княжества Литовского князя Марциана Александра Огиньского, коронного подстолия Александра Пшиемского и каменецкого каштеляна полковника Александра Яна Потоцкого. 11 февраля 1686 года послы торжественно въехали в Москву в сопровождении огромной свиты общей численностью около тысячи человек. При въезде в столицу поляков встретили стрелецкие полки под предводительством Федора Шакловитого, красовавшегося на коне с булавой в руках. Его молодцеватая фигура привлекла внимание поляков, которые спросили у сопровождавших их приставов Посольского приказа:
— Кто он и какой чин имеет, что объезжает пехотные полки с булавою?
— Это царского величества думный человек, и те пехотные полки, со всеми начальными людьми, ведает он.
При переезде посольства через речку Пресню Шакловитому захотелось еще больше привлечь к себе внимание; он подскакал к каретам Гжимультовского и Огиньского и изысканно поклонился им. Послы ответили ему вежливыми поклонами.
У двора князя Василия Голицына в Охотном Ряду их приветствовал большой караул под предводительством полковника-иноземца. На их расспросы приставы ответили:
— Полковник служит их царскому величеству, человек ученый и ратный. В роте у него знатные люди, дворяне честные; а служат при дворе боярина и сберегателя князя Василия Васильевича Голицына.
Так внимание послов было исподволь обращено на двух фаворитов Софьи, которые постарались подчеркнуть свое значение в качестве особо видных сановников. Впрочем, обо всём этом стало известно из доклада посольских приставов правительнице, которой они, возможно, постарались польстить, подчеркивая интерес иностранных дипломатов к ее близкому окружению.
Посольство продвигалось от западной окраины Москвы до Кремля почти полдня, с частыми остановками. Приставы Посольского приказа по указанию Софьи и Голицына стремились, чтобы польские послы успели рассмотреть столицу России во всём великолепии.
В Грановитой палате состоялась приемная аудиенция в присутствии государей Ивана и Петра, восседавших в царских венцах со скипетрами в руках. Правительница Софья в этом мероприятии не участвовала. Гжимультовский произнес пышную речь о военных доблестях своего короля и в заключение заявил:
— Его королевское величество, не довольствуясь своими победами над турками, желает склонить всех государей к общему делу. И как великий царь Иоанн Васильевич покорил Сибирь, Астрахань, калмыков и Казань, так и их царские величества привели бы под свое владение Крым, черкасы и ногаи.
Затем послы от имени короля передали русским государям многочисленные дары — впрочем, не особенно ценные, в основном из серебра. Гжимультовский, Огиньский, Потоцкий и дворяне из их свиты от себя подарили царям серебряную посуду, шкатулки и нескольких прекрасных коней, а Пшиемский — роскошную карету с шестеркой лошадей. По окончании аудиенции ближний стольник князь Яков Федорович Долгорукий по приказу правительницы Софьи отправился на Посольский двор, где разместились польские послы, «с царским жалованьем и со столом».
Переговоры с поляками поручено было вести ближним боярам Василию Васильевичу Голицыну, Борису Петровичу Шереметеву, Ивану Васильевичу Бутурлину, ближним окольничим Петру Дмитриевичу Скуратову и Ивану Ивановичу Чаадаеву, а также думному дьяку Емельяну Игнатьевичу Украинцеву. Руководители русской дипломатии заранее подготовили огромный наказ под названием «Способ о вечном мире», в котором были предусмотрены все возможные притязания и доводы польских уполномоченных и доказывалась их несостоятельность.{258}
На переговорах, начавшихся 12 февраля, самым острым являлся вопрос о Киеве. Польские послы напоминали, что по условиям Андрусовского трактата он должен быть возвращен Польше через два года, однако это обязательство Россией не исполнено. Голицын возразил:
— Киев задержан правдою. Если бы Киев уступлен был королю польскому, то гетман Дорошенко отдал бы его султану, и тогда как Польше, так и России вред был бы немалый. Король же польский не только не в силах был защищать тот край, но и всю Украйну уступил султану.
На настойчивые требования польской стороны начать кампанию против Крыма Голицын отвечал, что «это дело весьма опасно», ясно давая понять, что без территориальных уступок со стороны Речи Посполитой невозможны ни заключение мира, ни поход русских войск на Крым. Сначала казалось, что поляки не уступят. Гжимультовский написал королю: «Я прежде соглашусь, чтобы мое сердце иссохло и онемел язык, нежели подпишу договор, столь пагубный для государства».{259}
После семи недель споров Голицын и его товарищи сумели склонить представителей Речи Посполитой к уступке Киева, пообещав взамен «поднять оружие на татар и турок». Таким образом, согласие по основным проблемам было достигнуто. Но затем возникли упорные прения по вопросу о выплате Россией денежной компенсации за Киев. Поляки требовали миллион злотых, что соответствовало 200 тысячам рублей. Русская сторона сначала вообще отказывалась от выплаты, потом согласилась на стотысячную компенсацию, к которым в конце концов решила прибавить еще 40 тысяч. Но поляки отказывались уменьшить назначенную ими сумму даже на рубль. Они даже попытались прибегнуть к шантажу — 27 марта объявили, что считают бесполезным продолжать переговоры и просят царей об отпускной аудиенции. Однако это не испугало Софью и Голицына. На другой день послы были приглашены во дворец, где юные государи приняли их с обычными обрядами, допустили к руке и разрешили уехать, велев «кланяться брату своему королю Польскому».
Убедившись в бесполезности давления на русское правительство, поляки пошли на попятную. Через несколько часов после отпускной аудиенции дворяне посольской свиты явились к Голицыну, Шереметеву и Бутурлину и сообщили:
— Ясновельможные послы его королевского величества, не желая покинуть столь великого и полезного всему христианству дела, из запроса своего денежной казны в удовлетворении Речи Посполитой уступают 50 тысяч рублей и предлагают ближним боярам съехаться в Ответную палату, для постановления вечного покоя.
Бояре немедля доложили об этом правительнице, которая указала от имени царей:
— Ближним ответным боярам возобновить переговоры о мире и союзе чрез обсылки; а доколе то дело не совершится и запись вечного мира не напишется, самим боярам с послами в ответе не быть и не видеться. На каких же условиях хотят послы заключить мир и союз, о том пусть они прежде напишут образцовую запись, по получении которой дать им из Посольского приказа свое образцовое письмо, и потом уже договариваться через обсылки, посредством назначенных с обеих сторон лиц.
На другой день стороны обменялись проектами договора. Разумеется, тексты сильно различались. Согласно русскому варианту к России помимо Киева должны были отойти Чигирин, Канев и Черкассы. Польский вариант не допускал даже уступки местечек вокруг Киева, расположенных дальше пяти верст от него. Еще одним камнем преткновения являлся вопрос о статусе Запорожья: русская сторона требовала безусловного присоединения его к своим владениям, в то время как польская настаивала на совместном протекторате над этой территорией. Когда дворяне посольской свиты явились к Голицыну и начали доказывать, что послы ни за что не согласятся на невыгодный мир, руководитель российской дипломатии резко ответил:
— Записи вечного мира мы не изменим; быть ей так, как она в Посольском приказе написана, и мимо ее уступки в городах и землях не будет. Если же послы не согласны тех городов написать в крепость их царских величеств, то великие государи в договор с ними вступать не указали, и они бы ехали с Москвы не мешкая и времени не продолживая.
Послы продолжали спорить, несколько раз присылали к боярам своих дворян, а сами пытались объяснять свою позицию являвшимся к ним дьякам Посольского приказа. 3 апреля переговоры вновь зашли в тупик, и Софья от имени царей приказала полякам, чтобы они «ехали с Москвы тотчас». Послы ответили: «Мы готовы». В тот же день на Посольский двор ныли доставлены ямские подводы, слуги начали укладывать вещи.
Однако польские послы из Москвы всё же не уехали. 7 апреля они прислали к Голицыну дворянина, сообщившего:
— Полномочные послы, не желая столь великого, славного, прибыльного дела оставить и своих трудов туне потерять, объявляют свое последнее намерение: для союза с врагами Креста Господня уступают к Киеву на вечные времена сверх прежних пяти верст, определенных перемирными трактатами, вверх по Днепру до устья реки Ирпени 15 верст, а рекою Ирпенем вверх до местечка Васильково 20 верст. Василькову быть за Киевом; земли же к нему по реке Стугну, на которой он стоит. Также быть за Киевом городкам Треполью и Стайком. Но чтобы от Стаек раздвинуть рубеж вниз по Днепру до Тясмы, а вверх в поле на 20 верст, на то великие послы королевского указа не имеют и позволить не смеют, а могут донести королю. Согласны, чтобы за рекою Тясьмою Запорожью и Кадаку быть во владении их царских величеств. То последнее намерение великих послов, иначе они из Москвы ехать тотчас готовы.
В ответ царевна Софья приказала: «Возобновить прерванные переговоры по прежнему чрез обсылки, для чего определить дьяков Прокофья Возницына, Ивана Волкова, переводчика Семена Лаврецкого и подьячего Козьму Нефимонова, с тем, чтобы они, согласно с посольским предложением, написали вновь образцовую запись; о спорных же пунктах докладывали бы князю Голицыну и товарищам его. А самим боярам и ближним людям с послами не видеться, пока чрез обсылки запись на мере не станет». Тем самым правительница оказывала прямое давление на поляков, унижая их необходимостью вести переговоры с дьяками Посольского приказа, а не с равными по рангу ближними боярами. Вельможным панам дали понять, что после отпускной аудиенции они остаются в Москве только из милости русских государей и не должны особенно упрямиться, иначе им могут опять указать на дверь. Русское правительство в данном случае чувствовало себя вполне уверенно, прекрасно осознавая степень заинтересованности Речи Посполитой в мире и союзе с Россией.
С 8 по 21 апреля Возницын с товарищами посещали польских послов ежедневно, а иногда дважды или даже трижды в день. Переговоры проходили в доме, отведенном для первого посла Гжимультовского, куда съезжались остальные польские представители. Проект мирного договора дьяки зачитывали по пунктам, затем шло подробное обсуждение каждой статьи, а иногда и каждого слова. Титул русских государей поляки упорно оспаривали, не желая называть их пресветлейшими и державнейшими, поскольку в предыдущих русско-польских договорах «таких титл им не бывало». Требование России о передаче ей разоренных городов вниз по Днепру от Стаек до реки Тясмы (Чигирин, Канев, Бужин, Люшны, Черкассы, Крылов и др.) было решительно отвергнуто польской стороной. По-прежнему продолжались споры о размере денежной компенсации за Киев: поляки упорно настаивали на 150 тысячах рублей, а русская сторона соглашалась заплатить только на десять тысяч меньше. На статью о свободе православного вероисповедания во всех подвластных Польше областях и о прекращении насилия со стороны униатов польские послы дали согласие, но выдвинули встречное условие:
— Только бы великие государи изволили предоставить такую же свободу и римскому вероисповеданию в России и дать место на посадах в Москве, Смоленске и Киеве для строения костелов.
Русский вариант статьи о заключении союза против Турции и Крыма поляки полностью оспорили:
— В ней написаны только церемонии, а не прямое дело. Нужно сказать, что великие государи для вечного мира с Речью Посполитой ныне же повелели мир с турским султаном и ханом Крымским разорвать, войну с ними начать, войска на Крым послать и крымских татар от нападения на Польшу удерживать. Пусть бояре крепят нас вечным миром — то их дело; а союзные статьи напишем мы сами — то наше дело; вам дорог мир, нам — союз.
Статья с требованием немедленно известить русский двор о возможном намерении польского короля заключить сепаратный мир с Турцией или Крымом была отвергнута послами с негодованием:
— Никогда король мира просить не станет, а добудет его оружием и самих мусульман заставит молить о пощаде!
Прочие статьи договора не вызвали серьезных возражений польской стороны. Когда результаты переговоров были доложены правительнице Софье, она разрешила уступить в некоторых статьях и поручила Возницыну согласовать с послами окончательный текст трактата. Наконец 21 апреля после взаимных уступок стороны достигли соглашения по всем спорным вопросам и постановили переписать договор набело.{260}
Окончательный текст трактата о «Вечном мире» из тридцати трех статей предусматривал передачу России Киева и его ближайших окрестностей — Триполья, Стаек и Василькова, к которым было прибавлено по пять верст земли. Денежная компенсация за Киев была установлена в 146 тысяч рублей. За Россией были закреплены вся Левобережная Украина, Смоленск, Дорогобуж, Рославль, Запорожье и прилегающие земли. Чигирин и другие разоренные города вниз по Днепру должны были оставаться «пусты, так как ныне», то есть не принадлежать ни Польше, ни России. 5-я статья договора декларировала невозможность возвращения Смоленска, Киева, Левобережной Украины и Запорожья Речи Посполитой даже в случае мятежа местных жителей против русских царей: Польша обязывалась «тех своевольных в подданство и под оборону не принимать», «тайно и явно их не подговаривать и никого к ним не подсылать, и войны не вчинать, и сего вечного миру никакими мерами не нарушить». В свою очередь русские государи должны были не принимать в подданство жителей закрепленных за Речью Посполитой Витебска, Полоцка, Белой Церкви, Немирова и других городов по правую сторону от Днепра.
О титулах монархов было постановлено: именовать польского короля «наияснейшим и державнейшим», а русских царей — «пресветлейшими и державнейшими». Свободное отправление православного вероисповедания в польских областях было полностью подтверждено, никакие притеснения со стороны католиков и униатов не допускались. Но в России католическое богослужение разрешено было только в частных домах, а о строительстве костелов не говорилось ни слова.
Статья о союзе против Турции и Крыма была изложена в договоре в соответствии с желанием польских послов: Россия обязывалась «за многие бусурманские неправды для имени Христианского и для избавления многих христиан, стенящих в бусурманской неволе» как можно скорее послать войска в Запорожскую Сечь и на днепровские переправы, чтобы перекрыть крымским татарам дорогу на Польшу. Русские государи должны повелеть донским казакам «на того ж неприятеля наступить, и промысл воинской чинить на Черном море». В будущем 1687 году Россия обязывалась послать войска «на самой Крым», а Польша — вести военные действия против турок и белгородских татар, не допуская их нападения на союзницу.
Вызвавшая негодование послов статья о недопустимости попыток польского короля заключить сепаратный мир с Турцией или Крымом в окончательном варианте договора была полностью переделана — теперь она содержала указания, что обе державы объявят султану о заключенном между ними союзе и потребуют возвратить Польше Каменец и другие завоеванные города. Если же султан или крымский хан будут предлагать сепаратный мир, то ни одна из союзных держав не должна вести переговоры без участия другой. Одна из статей договора предусматривала старания русской и польской дипломатии по привлечению к союзу против Турции и Крыма Франции, Англии, Дании и Голландии.
Особый пункт договора предусматривал развитие торговли между Россией и Речью Посполитой. За торговыми людьми закреплялось право свободно «ездить на обе стороны со всякими товары» как в «стольные городы Краков, в Варшаву и Вильну», так и «в царствующий великий град Москву» с уплатой торговых пошлин по уставу обоих государств. Особо оговаривалась свобода торговли по реке Двине между Ригой и Смоленском.{261}
Двадцать четвертого апреля цари и правительница слушали проект мирного трактата вместе с патриархом, ближними боярами и думными людьми. Все его статьи были одобрены. Постановлено было написать его на пергамене, переплести в доски и «облочь золотою объярью», а потом призвать польских послов в Ответную палату «для размена записей вечного мира с ближними боярами». Подписание трактата уполномоченными с обеих сторон состоялось 26 апреля (6 мая). В тот же день цари в присутствии всего двора подтвердили договор торжественной присягой в Грановитой палате. В церемонии участвовали польские послы, которым государи «объявили отпуск».
Тогда же был издан манифест от имени великих государей царей Ивана и Петра Алексеевичей и «великой государыни, благоверной царевны и великой княжны Софии Алексеевны, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцев» о заключении «Вечного мира» с Польшей. «Никогда еще при наших предках Россия не заключала столь прибыльного и славного мира, как ныне, — возвещала Софья русскому народу. — Отец и брат наш владели Смоленском, Черниговом и Малороссийским краем только временно, до окончания перемирия, а богоспасаемый град Киев трижды клялись пред Святым Евангелием возвратить Польше. Отныне всё наше, и навеки. Мы же не уступили Польше ни одного города, ни места, ни местечка. Кроме того, имени царского величества учинено повышение: государи наши будут писаться пресветлейшими и державнейшими; а благочестивой и православной вере нашей в Польской стране обеспечена полная свобода богослужения и дарована защита от католиков и униатов. Преименитая держава Российского царства гремит славою во все концы мира».
Излишне строгий к Софье историк Н. Г. Устрялов замечает по этому поводу: «Так, не щадя ни отца, ни брата, тщеславная царевна превозносила свои заслуги пред народом и смело присвоила себе титул самодержицы, который с сего времени приказала писать во всех актах внутри государства наряду с именем державных братьев». Историк упрекает Софью: «Вечный мир с Польшею куплен войною с Турциею… Тягость войны с народом могущественным, страшным всей Европе, едва ли не перевешивала выгоды мира с державою слабою и расстроенною, которая, при всех усилиях, не могла отнять у нас того, чем гордилась царевна».
Эти упреки вряд ли справедливы. Во-первых, по условиям «Вечного мира» Россия не обязывалась вести полномасштабную войну с Турцией, а всего лишь должна была направить войска против Крыма, что вполне соответствовало российским интересам. Во-вторых, Речь Посполитая при воинственном короле Яне Собеском не была такой уж «слабою и расстроенною»; русско-польская война, неизбежная без заключения «Вечного мира», принесла бы России гораздо больше тягот и потерь, чем не очень обременительные Крымские походы. Софья и Голицын одержали выдающуюся дипломатическую победу, навеки закрепив за Россией спорные территории, которые вовсе не так легко было бы удержать силой оружия.
Манифест Софьи объявлял награды боярам, окольничим, царедворцам и служилым людям по случаю заключения мира. Щедрее всех был пожалован князь Василий Голицын, получивший золотую чашу весом более фунта, «кафтан атласный золотной на соболях в четыреста рублей», 250-рублевую прибавку к денежному окладу и вотчину — богатую Белгородскую волость Нижегородского уезда, ранее принадлежавшую умершему в 1685 году боярину Ивану Михайловичу Милославскому. Бояре, кравчие, окольничие, думные дворяне, думные дьяки и думный генерал Аггей Шепелев были награждены переводом из поместий в вотчины от 230 до 500 четвертей земли и прибавкой к денежным окладам от 50 до 100 рублей. Стольники, генералы, полковники, стряпчие, дворяне московские, дьяки и жильцы получили из поместий в вотчины от 20 до 100 четвертей земли и от 20 до 25 рублей. Меньшие награды достались городовым дворянам, детям боярским, казакам, стремянным конюхам и прочим служилым. Торговым и посадским людям были несколько облегчены подати и повинности.{262} В целом масштаб награждений значительно превосходил схожие прецеденты других царствований. Софья постаралась обеспечить всеобщую радость по случаю «Вечного мира».
На другой день польские послы были царским указом приглашены во дворец «в комнату», чтобы проститься с русскими государями «приватным обычаем без чинов». В Крестовой палате их встретили сын главы русской дипломатии ближний стольник князь Алексей Васильевич Голицын и думный дьяк Федор Леонтьевич Шакловитый, а у комнатных дверей — сам ближний боярин и великих посольских дел сберегатель. Цари Иван и Петр сидели в «государских местах» в золотых кафтанах и шапках. Василий Голицын представил им послов «короткими словами, без речи». Государи «жаловали их, послов, к своей государской руке и потчевали… из своих рук кубками с питьем», а потом «изволили приказывать к королю поздравление». Вслед за тем цари удалились, «а в ту комнату изволила придти великая государыня благоверная царевна и великая княжна София Алексеевна и сесть в креслах в шубе собольей осиновой да в треухе». Она пожаловала послов к руке, приказала думному дьяку Емельяну Украинцеву осведомиться о их здоровье, а потом произнесла краткую речь:
— Великие государи постановленной вечной мир изволят содержать крепко без нарушения, также бы и государь ваш, его королевское величество, держал по тому ж без нарушения и при их царского величества послах тот вечной мир подтвердил.
Затем Софья «изволила послов жаловать питьем», собственноручно подавая им кубки. После угощения поляки вторично поцеловали руку правительницы и были отпущены.{263}
На следующий день Огиньский подарил Софье Алексеевне карету с шестеркой лошадей, «та корета с лица резная, золоченая, по золоту писаны травы разными красками… цена той корете 550 рублев».{264}
К польскому королю для ратификации «Вечного мира» были отправлены великие и полномочные послы боярин Борис Петрович Шереметев и окольничий Иван Иванович Чаадаев. Тем, временем Ян Собеский в походе в Молдавию потерпел неудачу и едва не погиб со всем войском на берегах Прута. Спустя два месяца русские послы дождались в Львове короля, опечаленного своим фиаско. Собеский принял их с большими почестями и 12 декабря подтвердил трактат о «Вечном мире» торжественной присягой на Евангелии. Очевидцы отметили, что при этом на глаза короля навернулись слезы. Впоследствии он выражал сожаления об утрате «столь многих городов и земель» и обвинял Гжимультовского и Огиньского в дипломатическом поражении.{265}
«Вечный мир» действительно явился «славным и прибыльным» для России, поскольку закрепил за ней Левобережную Украину и Киев — «мать городов русских». Однако, несмотря на все усилия Голицына и его товарищей, Московскому государству не удалось распространить свою власть на Чигирин и другие правобережные города, то есть ликвидировать раздробление малороссийских земель на две части. Условие мирного договора о превращении Приднепровщины от Стаек до Чигирина в нейтральную зону впоследствии было нарушено Речью Посполитой.
Могла ли Россия предотвратить расчленение Украины в 1686 году? Думается, такая возможность была, но для этого русским государям пришлось бы вступить в союз с турецким султаном и крымским ханом против польского короля. Именно такой вариант предлагал правительнице Софье в ноябре 1684 года ярый ненавистник поляков малороссийский гетман Самойлович.{266} Военное взаимодействие малороссийского казачества с Крымом являлось делом обычным: украинские гетманы начиная с Богдана Хмельницкого нередко вступали в союз с крымскими ханами и, в зависимости от своей политической ориентации, с успехом использовали превосходную татарскую конницу то против Польши, то против России. Иногда и Речь Посполитая объединялась с Крымом в борьбе против Московского государства. По понятиям европейской политики подобный шаг был вполне возможен: «христианнейший» король Людовик XIV в борьбе против католической монархии Габсбургов не стеснялся вступать в союз с Османской империей, тогда как Россию и Польшу по крайней мере разделяло различие конфессий. Однако для православной государыни Софьи Алексеевны объединение с «бусурманами» против прославленного защитника христиан Яна Собеского было абсолютно немыслимо.
Дела малороссийские
В период напряженной борьбы между Россией и Речью Посполитой за обладание Украиной крайне важное значение имела позиция малороссийского гетмана. С 1672 года эту должность занимал Иван Самойлович, которого по степени верности русскому престолу можно сравнить с Богданом Хмельницким. В отличие от предшественников Самойлович ни на минуту не допускал возможности возвращения Малороссии под власть Польши или перехода под протекторат Турции.
Самойлович не только проявлял себя как надежный вассал русских царей, но и выступал с инициативой вытеснения поляков с украинских земель. Тем временем гетман вступил в открытый конфликт с Польшей. В феврале 1684 года после смерти настоятеля Киево-Печерской лавры Иннокентия Гизеля польский король назначил на этот пост львовского епископа Иосифа Шумлянского, подчеркнув тем самым свои права на Киев. В ответ малороссийские казаки по приказу Самойловича летом того же года захватили земли по реке Сожь, составлявшие значительную часть Мстиславского воеводства Литвы. Местная православная шляхта с радостью примкнула к казачеству. Гетман решительно заявлял, что от посожских сел не откажется, даже если от российского правительства поступит предписание вернуть их Речи Посполитой. Софья и Голицын поступили в этом вопросе весьма осмотрительно: в царской грамоте Самойловичу содержалось требование найти документы, доказывающие, что Посожье принадлежало украинскому гетманству с давних пор, а в отношениях с польской стороной решено было по возможности тянуть время, ссылаясь на нерешенные пограничные споры.{267}
В ноябре 1684 года в гетманскую столицу Батурин прибыл думный дьяк Емельян Украинцев, которому поручено было убедить Самойловича в необходимости союза с польским королем против турок и татар. Однако гетман был непоколебим:
— Я полякам не верю, они люди лживые и непостоянные и вечные народу московскому и нашему козацкому неприятели.
Дьяк потребовал объявить, в чем особенно польский король выказал недоброжелательство.
— Удивительно, что ты меня об этом спрашиваешь, — отвечал Самойлович. — Когда в Москве между ратными людьми была смута, он этому радовался и, желая большего зла, разослал к нам лазутчиков с письмами, возмущая народы. Султана и хана уговаривал к войне против государей. Теперь недавно без государева ведома донских казаков и калмыков к себе на помощь призывал и многих подговорил, которые и теперь при нем. А меня беспрестанно хлопочет, как бы отравить, зарезать или застрелить.
Украинцев пытался убедить его, обрисовав общую европейскую ситуацию, не допускающую нейтралитета России в войне против Турции:
— Великие государи хотят в это дело вступить не для того только, чтоб помочь цесарю римскому или королю польскому; если вечные неприятели Церкви Божией, турки и татары, теперь осилят цесаря и короля польского и приневолят их к миру, то потом встанут войною и на нас. На мир надеяться нечего: они привыкли мир разрывать.
Как угодно великим государям, — отвечал гетман, — а мне кажется, нет причины с султаном и ханом мир нарушать. Буде в том их государское и сестры их великой государыни цесаревны святое и премудрое рассуждение и пресветлой их палаты здравые советы; но и начать войну, мира искать же, только не скоро его тогда сыщешь. Тот же король польский начнет тогда ссорить, чтоб царская казна истощалась, а ратные люди гинули на боях. И в мысли нельзя держать не только нам, но и детям нашим, что поляки когда-нибудь перестанут к нам враждовать. Мне кажется, что лучше держать мир, а на поляков оглядываться, с турками и татарами поступать разумно. А войну из-за чего начинать? Прибыли и государствам расширения никакого не будет, до Дуная владеть нечем — всё пусто, а за Дунай далеко. А Крыма никакими мерами не завоюешь и не удержишь. Воевать за Церковь Божию святое и великое намерение, только не без трудности. Церковь греческая в утеснении под турками пребывает, и до святой воли Божией быть тому так. Но тут вблизи великих государей Церковь Божию король польский гонит, всё православие в Польше и Литве разорил, несмотря на договоры с великими государями.
— Турки и татары — вечные христианские неприятели, — продолжал настаивать Украинцев, — теперь они с нами мир сохраняют поневоле, потому что ведут войну с поляками и немцами; теперь-то над ними и время промышлять. Теперь все государи против них вооружаются, а если мы в этом союзе не будем, то будет стыд и ненависть от всех христиан, все будут думать, что мы ближе к бусурманам, чем к христианам.
Самойлович отверг демагогический довод царского посланца:
— Зазору и стыда в этом ни от кого не будет, всякому своей целости и прибыли вольно остерегать. Больше зазору и стыда — иметь мир да потерять его даром, без причины. Поляки лгут, будто им все христианские государи хотят помогать.
Переговоры завершились безрезультатно: Украинцеву не удалось убедить гетмана в целесообразности союза с Польшей. Самойлович даже заявил, что предпочтительнее поступить противоположным образом — заключить союз с крымскими татарами против поляков. В ответ на возражение дьяка, что «не пожелают великие государи бусурман нанимать и наговаривать их на разлитие крови христианской», гетман напомнил, что польские короли неоднократно призывали крымских татар «на войну против Московского государства».{268}
Украинцеву предстояло заняться в Батурине решением еще одного неотложного вопроса. Здесь в Крупицком монастыре жил луцкий епископ Гедеон (в миру князь Григорий Захарович Святополк-Четвертинский), вынужденный покинуть свою епархию из-за гонений со стороны католических властей. Царский посланник встретился с ним для обсуждения вопроса о выводе Киевской митрополии из подчинения константинопольскому патриарху и передаче под власть патриарха Московского. Впервые эта идея возникла еще в 1654 году сразу после решения Переяславской рады о присоединении Украины к России. Тогда высшее украинское духовенство выступило категорически против, и московские власти не стали настаивать. В 1659 году царь Алексей Михайлович попытался решить этот вопрос путем давления на гетмана Ивана Выговского, но тот в ответ разорвал договор с Россией и вернул Украину под власть Польши, что повлекло за собой длительную междоусобицу на украинских землях. В 1665 году гетман Иван Брюховецкий выступил с инициативой переподчинения Киевской митрополии Москве, но столкнулся с резким неприятием этой идеи украинским духовенством.
Еще в 1675 году умер киевский митрополит Иосиф, и митрополичья кафедра пустовала почти десять лет. Софья и Голицын решили воспользоваться моментом для подчинения украинской Церкви Москве. Этот вопрос имел крайне важное политическое значение. Во-первых, в случае его положительного решения Польше было бы труднее настаивать на возвращении Киева. Во-вторых, обеспечивалась бы более тесная связь Украины с Россией. Часть малороссийского духовенства продолжала сопротивляться этим намерениям, вполне обоснованно опасаясь как потери самостоятельности в церковных делах, так и дальнейшей утраты украинской государственности. Однако верный слуга царского престола Самойлович выступил в поддержку планов Софьи и Голицына, тем более что выдвигаемый руководством российской дипломатии на пост киевского митрополита Гедеон был его родственником.
На встрече с Украинцевым в батуринском Свято-Николаевском Крупицком монастыре епископ Гедеон жаловался на притеснения со стороны католической Польши и говорил о намерениях поляков разорвать перемирие с Россией для возвращения всей Украины под свою власть:
— У короля и сенаторов слыхал я много раз, что они, улучив время, хотят войну начать с великими государями. Приехал я сюда из своей Луцкой епархии потому, что от гонения королевского мне житья не было, всё неволил меня принять римскую веру или сделаться униатом. Я испугался и прибежал сюда, желая здесь кончить жизнь в благочестии. При мне еще держались благочестивые люди многие, а теперь без меня, конечно, король всех приневолит в римскую веру.
Услышав от Украинцева предложение занять пост киевского митрополита, Гедеон был очень доволен и заранее согласился принять благословение от московского, а не от константинопольского патриарха.
После встречи с Гедеоном дьяк получил у Самойловича подтверждение безусловной поддержки в вопросе переподчинения Киевской митрополии.
— Я всегда этого желал, — заявил гетман, — и хлопотал, чтоб в Малой России на киевском престоле был пастырь. Теперь Дух Святой влиял в сердца великих государей и сестры их, что прислали они тебя с указом об этом деле. Я стану около этого дела радеть и промышлять, с духовными и мирскими людьми советовать, а думаю, что иным малороссийским духовным будет это не любо. Прошу у великих государей милости, чтоб изволили послать к святейшему цареградскому патриарху — да подаст благословение свое и уступит малороссийское духовенство под благословение московских патриархов. Только чтобы пожаловали великие государи меня и весь малороссийский народ, велели нам и вперед выбирать у себя и митрополиты вольными голосами по нашим правам. Знаю и подлинно, что это дело не любо будет архиепископу Черниговскому Лазарю Барановичу. А епископ Гедеон — человек добрый и смирный, никакой власти не желает.
Перед отъездом Украинцева из Батурина Самойлович поручил ему передать Софье и царям предложение:
— Указали бы великие государи в Киев, Переяслав и Чернигов перевести на вечное житье русских людей, великороссиян с женами и детьми, тысяч пять или шесть, и этим малороссийский народ обнадежился бы, что государи никому Малороссии не уступят, а поляки бы пришли в отчаяние.
Как видим, гетман в своем желании утвердить Украину «под высокую рукою» русских царей готов был даже согласиться на колонизацию украинских городов. Однако его далекоидущее предложение было отвергнуто Софьей и Голицыным, не желавшими обострять отношения с Речью Посполитой накануне русско-польских мирных переговоров.
Кроме того, Самойлович послал с Украинцевым письмо Софье с братьями, в котором снова подчеркнул опасность союза с Польшей и Австрией: «Если бы чрез вступление царских величеств в союз цесарю римскому и королю польскому посчастливилось овладеть турецкими областями и принудить тамошние народы к унии, в самом Иерусалиме возвысить римский костел и понизить православие, то от этого все православные народы получили бы неутолимую жалость. Следовательно, надобно пред вступлением в союз выговорить безопасность православия, ибо великим государям союз этот может быть нужен только для сохранения и умножения православия да для того, чтоб здесь расширить границу нашу по Днестр и по Случь, а без корысти для чего вступать в союз? Да если бы поляки и обязались уступить эти рубежи и не трогать православие, то никогда не сдержат обещания, ибо папа разрешит от присяги… Из всего видеть можно, что поляки преславному Российскому царству враги; за одну веру нашу греко-российскую, которую они уничтожают и искореняют, надобно бы с ними всем православным христианам побороться».{269}
В январе 1685 года Самойлович отправил в Москву генерального писаря Василия Кочубея с предложением «удержать реку Сожь» и получить Запорожье в исключительное владение русских государей. Гетман также предлагал постепенно распространять влияние России на Правобережной Украине: «А так как вся тамошняя сторона Днепра, Подолия, Волынь, Подгорье, Подляшье и вся Красная Русь всегда к монархии русской с начала бытия здешних народов принадлежали, то безгрешно было свое искони вечное, хотя бы и потихоньку, отыскивать, усматривая способное время». Гетман сообщал об интригах поляков по «отвращению» Украины от России и усилении католического гнета в малороссийских землях.
Это предложение Самойловича было встречено в Москве с осторожностью. Софья приказала ответить от имени царей:
— Перемирия с Польшею нарушить нельзя, и сколько остается лет этому перемирию, гетману и всему войску известно. Следовательно, когда придет время, поляки примут месть от Бога за гонение на православную веру, чего великие государи усердно желают и впредь желать будут.
Зато вторая инициатива гетмана — по подготовке избрания киевского митрополита — вызвала безусловное одобрение правительницы. Самойлович сообщил, что разослал письма малороссийскому духовенству и уже получил ответы от черниговского архиепископа Лазаря Барановича, печерского архимандрита Варлаама Ясинского и других игуменов киевских монастырей. Все они благословляли стремление российских государей «дать пастыря первейшей русской митрополии». Эти письма Самойлович переслал в Москву и просил у царей дальнейших указаний. Софья распорядилась передать ему, что «за труды по избранию митрополита великие государи гетмана милостиво и премилостиво похваляют, пусть старается окончить это дело немедленно».
В апреле к гетману был послан окольничий Леонтий Неплюев с подробными инструкциями по организации избрания Киевского митрополита и передаче малороссийской Церкви и подчинение Московской патриархии. Самойловичу предписывалось: «Советовав с духовными всех малороссийских городов, с старшиною генеральною и со всеми полковниками, выбирать мужа, в божественном писании искусного, тихого и разумного, из тамошних природных обывателей, а не из приезжих». О кандидатуре дипломатично умалчивалось, но Самойловичу и украинской старшине и без того было ясно, кого именно московские государи хотят видеть на митрополичьей кафедре. Современная исследовательница Т. Г. Таирова-Яковлева утверждает, что «Москве кандидатура Гедеона явно не нравилась»,{270} — что вряд ли соответствует действительности. Не зря же несколькими месяцами ранее с ним вел переговоры Украинцев — правая рука Голицына в дипломатических делах. Гедеон, заранее готовый подчиниться любому волеизъявлению московских государей, был, безусловно, предпочтительнее неизвестного кандидата.
В царском наказе определенно говорилось, что вновь избранный киевский митрополит должен будет «послушание оказывать святейшему кир Иоакиму, патриарху Московскому и всея Руси, и его преемникам… и о всяких церковных делах писать к святейшему патриарху Московскому, а к святейшему Константинопольскому патриарху ни о чем не писать и не посылать, причитания никакого к нему не иметь, под послушанием у него не быть и из-под его паствы за расстоянием дальнего пути совершенно отстать». Наказ осуждал деятельность ставленника польского короля «богоотступника униата епископа Львовского Иосифа Шумлянского и других подобных ему, на развращение Церкви Божией, отчего выросли многие расколы и падения Церкви в Руси Красной и на Волыни и в других местах».
Наказ определял высокий статус украинской церкви: «Киевскому митрополиту иметь у себя в области духовных всех малороссийских городов; по степени Киевской митрополии быть первою между российскими митрополиями». Царская инструкция Самойловичу заканчивалась конкретными указаниями по оформлению процедуры избрания митрополита: «Обо всём этом написать статьи со всякою крепостию и осторожностию, подписать их митрополиту и всему Освященному собору, также гетману, старшине, всем полковникам, есаулам и сотникам, и печатями укрепить, и новоизбранного митрополита для архипастырского рукоположения отпустить в Москву».{271}
Самойлович сообщил Неплюеву, что отправил в Киев для наблюдения за избранием митрополита генерального есаула Ивана Мазепу, генерального обозного Василия Дунина-Борковского и двух полковников. Гетман уверил царского посланника, что малороссийское духовенство не будет возражать против подчинения киевского митрополита московскому патриарху. Но при этом он просил великих государей поскорее послать соответствующую грамоту константинопольскому предстоятелю, опасаясь, что иначе тот может предать проклятию митрополита, гетмана и всех присутствовавших на избрании:
— Известно, что греческие духовные власти по малой вине склонны бывают к недаче благословения. Да и потому нужно поскорее послать царскую грамоту, что священники из польских областей будут побуждать константинопольского патриарха благословения не давать.
Выборы митрополита в Киеве прошли спокойно, хотя многие духовные лица, по словам Самойловича, «обретались, аки в растерзании ума». Кандидатура Гедеона не вызвала серьезных возражений, тем более что его основной соперник Лазарь Баранович, зная нерасположение гетмана, демонстративно не поехал в Киев на выборы и даже не прислал никого из знатного духовенства своей Черниговской епархии. 8 июля 1685 года Гедеон был единогласно избран киевским митрополитом. Осенью новый митрополит приехал в Москву и 8 ноября был возведен в сан патриархом Иоакимом. В награду «за радетельную службу в приведении Киевской митрополии под благословение московского патриарха» правительница Софья распорядилась послать Самойловичу царское «жалованье» — золотую цепь и два алмазных «клейнота»[12] с коронами.{272}
В конце 1685 года в Турцию был послан подьячий Посольского приказа Никита Алексеев с поручением встретиться с константинопольским и иерусалимским патриархами и добиться от них благословения на передачу Киевской митрополии под власть московского патриарха. Русский посланник приехал в Адрианополь, где находилась резиденция иерусалимского патриарха Досифея и куда как раз в то время прибыл константинопольский патриарх Дионисий. Досифей вначале резко возражал против инициативы Москвы:
— Это разделение восточной Церкви. Я не буду советоваться об этом с константинопольским патриархом и отпустительного благословения не дам.
Тогда русский посланник отправился к великому визирю Сулейману и встретил с его стороны полную готовность выполнить все пожелания московских государей. Турция, находившаяся в состоянии тяжелой войны с тремя европейскими державами, всеми силами стремилась предотвратить вступление России в антиосманский союз.
— Знаю подлинно, — заявил Сулейман Алексееву, — что польские послы просили у царского величества помощи на нас и уступали большую землю, но великие государи ваши отвечали, что с султановым величеством перемирные лета не вышли. Объяви, когда будешь в Москве, чтоб великие государи теперь султанову величеству какой-нибудь препоны не сделали, а впредь у них любовь и дружба еще более будут множиться. Знаем мы, что московские великие государи славные и сильные, нет подобного им царя из христианских царей.
Великий визирь призвал к себе иерусалимского первоиерарха и объявил ему, что султану угодно исполнить желание русских монархов; такое же наставление получил от него и константинопольский предстоятель. После этого Алексеев встретил безусловную лояльность обоих восточных патриархов. Досифей пообещал:
— Я буду уговаривать патриарха Дионисия, чтоб он исполнил волю царскую, и сам буду писать к великим государям и к патриарху Иоакиму и благословение от себя подам особо, а не вместе с Дионисием.
Дионисий в свою очередь уверил Алексеева, что обязательно исполнит желание русских царей, как только по возвращении в Константинополь соберет митрополитов. Обещание было вскоре исполнено, и все греческие духовные власти без возражений подписали грамоту об уступке Киевской митрополии московскому патриарху.{273} Так было решено важнейшее дело, способствовавшее упрочению русского влияния на Украине.
Если в вопросе о Киевской митрополии российское правительство нашло в гетмане Самойловиче верного сторонника, то заключение мира с Польшей и начало войны против Крыма он категорически не одобрял. Серьезным ударом для гетмана стала достигнутая 25 марта 1686 года договоренность польских послов Гжимультовского и Огиньского с ближними боярами князем Голицыным и Шереметевым о возвращении Речи Посполитой селений по реке Сожь.{274} 2 апреля гетману была направлена царская грамота с предписанием вывести военные отряды малороссийских казаков из посожских сел.
Получив известие о подписании «Вечного мира», Самойлович был в ярости и даже запретил служить в церквях благодарственные молебны. Пользуясь своим правом осуществлять самостоятельные внешние сношения, предусмотренным договором об автономии Малороссии в составе России, гетман развил бурную дипломатическую деятельность. В июне 1686 года он отправил к польскому королю весть о своей готовности участвовать в походе на Крым, однако при этом выдвигал собственные территориальные требования, напоминая о давней принадлежности Правобережья (до рек Рось, Соба, Каменка и Южный Буг) малороссийскому гетманству и прося короля передать эти земли под его власть. Формально он действительно мог претендовать на правобережные земли, поскольку в свое время был избран гетманом как Левобережной, так и Правобережной Украины. В августе Самойлович в обширных посланиях коменданту Белой Церкви и польскому коронному гетману Станиславу Яблоновскому доказывал принадлежность Правобережья малороссийским казакам и выступал против выделения части этих земель польскому ставленнику, самозваному гетману Андрею Могиле, справедливо считая это расколом украинского казачества.{275}
Позиция Самойловича вызвала серьезную обеспокоенность в Москве. Софья поспешила направить к нему окольничего и севского воеводу Леонтия Неплюева, чтобы тот подробно растолковал ему условия «Вечного мира» и убедил его, что интересы украинской старшины по возможности были учтены. Царской грамотой правительница предписывала Самойловичу разослать во все малороссийские города и Запорожье универсалы с известием о мире, а также принять меры по усилению контроля над своевольными запорожскими казаками, которые теперь переходили в российское подданство. Неплюев должен был объявить гетману о готовящемся в следующем году походе на Крым, представив его не столько исполнением союзнического долга по отношению к Священной лиге, сколько мерами по защите Малороссии от татарских набегов, и попросить у него совета.
На переговорах с Неплюевым Самойлович по-прежнему пытался возражать против начала войны с крымским ханом, поэтому Софья приказала сделать гетману выговор «за его противенство». Испугавшийся Самойлович просил у государей милостивого прощения, «чтоб не быть ему в нечаемой печали и приготовлении на войну с бусурманами чинить не печальным, но веселым сердцем». В октябре 1686 года Софья не преминула сообщить ему, что великие государи «прегрешения его милостиво отпускают и предают вечному забвению». Голицын также послал письмо гетману, в котором уверял «любезнейшего брата и приятеля», что «великие государи содержат его в своей милости всегда неотменно и никогда их милость уменьшена не будет».{276}
Самойлович вынужден был скрепя сердце начать подготовку к походу на Крым. Однако его гордый и независимый нрав неоднократно проявлялся в пренебрежительных высказываниях о результатах «Вечного мира». Например, он говорил старшине, намекая на выплату денежной компенсации Польше за Киев:
— Купили москали теперь себе лихо за свои гроши, ляхам данные. Крыма никакими мерами не завоюешь и не удержишь. Русские не хотели малые деньги татарам платить, так потом большую казну им будут давать.
Разумеется, в окружении Самойловича нашлись люди, поспешившие донести эти неосторожные заявления до сведения Голицына и Софьи. Если правительница отнеслась к ним достаточно спокойно, понимая, что недовольство гетмана обусловлено потерей Правобережья и посожских сел, то честолюбивый Голицын затаил злобу. Это обстоятельство предопределило трагическую участь Самойловича — в июле следующего года он был лишен власти.
«Пошли на тех неприятелей бусурманов»
В сентябре и ноябре 1686 года были обнародованы указы от имени царей и правительницы Софьи Алексеевны, предписывающие генералам, полковникам, стольникам, дворянам московским и городовым, жильцам и прочим ратным людям готовиться к походу на Крым. Ноябрьский указ обосновывал справедливость войны России против неспокойного и вероломного южного соседа, обвинявшегося в нападении на русские и украинские земли, разорении и разграблении православных церквей, захвате пленных, которых «будто скот, во иные страны из Крыму на вечную злую бусурманскую работу продавали». Особо подчеркивалось, что царским посланникам в Крыму нередко чинилось «всякое злодейство и ругательство». «За миру с их стороны разрушение и за многие их вышеупомянутые грубости» русские государи объявили войну Крымскому ханству. Ратным людям всех чинов была дана команда: «И вы б о том их великих государей указ ведали и к службе строились, лошади кормили и запасы готовили и совсем были наготове».{277}
После объявления войны Разрядный приказ разослал распоряжения о сборе ратных людей. Вотчинники и помещики, имевшие значительный земельный оклад, должны были явиться с большим числом боевых холопов; самые бедные дворяне и дети боярские приходили к местам военных сборов без слуг, пешком и с самым простым снаряжением. Сбор рати должен был закончиться 25 февраля 1687 года. Затем состоялось распределение ратных людей по шести полкам. Большим полком командовал главный воевода князь Василий Васильевич Голицын, в помощники ему были определены ближний боярин князь Константин Осипович Щербатов, окольничий Венедикт Андреевич Змеев, думный генерал Аггей Алексеевич Шепелев и думный дьяк Емельян Игнатьевич Украинцев. Передовой полк, или Новгородский разряд, состоял под командованием боярина Алексея Семеновича Шеина и окольничего князя Данилы Афанасьевича Барятинского. Сторожевой полк, или Рязанский разряд, возглавили боярин князь Владимир Дмитриевич Долгорукий и окольничий Петр Дмитриевич Скуратов. Полк Правой руки, или Севский разряд, находился под командованием окольничего Леонтия Романовича Неплюева. Полк Левой руки, или Низовский (Астраханский) разряд, возглавляли думные дворяне Иван Юрьевич Леонтьев и Василий Михайлович Дмитриев-Мамонов. Еще один полк, называемый ертаул (авангард), состоял из малороссийских казаков во главе с гетманом Иваном Самойловичем.
Назначение князя Василия Голицына на пост главнокомандующего было вполне оправданным. Прежде он уже участвовал в военных действиях на Украине и был знаком с особенностями местности, по которой должна была двигаться русская армия. Как главное действующее лицо на переговорах с представителями Речи Посполитой он был особенно заинтересован в выполнении Россией союзнических обязательств. Однако Голицын, если верить свидетельству хорошо осведомленного Фуа де ла Невилля, вовсе не стремился возглавить поход на Крым, не желая покидать Москву, опасаясь вражеских интриг. «Вопрос об избрании главнокомандующего, — писал французский дипломат, — оставался некоторое время нерешенным. Голицын предлагал несколько вельмож, способных занять этот пост, но ему было единодушно сказано, что если он заключил мир с Польшей, то должен сам взять на себя труд и посмотреть, так ли легко завоевание Перекопа, как он утверждал. Вельможи, предложившие ему это, были недовольны соглашением с Польшей. Они к тому же знали, какую трудность представит поход в Крым, а также были очень рады принудить Голицына покинуть Москву и за время его отсутствия ослабить его слишком большую власть».
В другом фрагменте своих записок Невилль утверждает: Голицын «сделал всё возможное, чтобы отказаться от этого назначения, будучи умным человеком и здраво рассуждая о том, что там возможно встретить большие трудности, за которые он будет ответственен, и что, несмотря на все меры предосторожности, которые он может принять, ему трудно будет спасти свою репутацию, если он потерпит неудачу, и что, даже если ему и доверили огромную по численности армию, то это было не более чем множество крестьян, грубых необстрелянных солдат, с которыми он никогда не смог бы предпринять смелое дело и выйти из него с честью. Будучи скорее великим политиком, нежели полководцем, он предвидел, что отсутствие может обойтись ему дороже, чем та честь и слава, которые принесло бы завоевание Крыма, тем более что он вовсе не надеялся ни возвыситься таким образом, ни заставить более считаться с собой из-за командования войсками и хорошо видел, что те, кто больше всех настаивал, чтобы он принял это назначение, делали это только из зависти к нему и из желания повредить, под видом того, чтобы почтить его достоинством главнокомандующего».{278}
Голицын пользовался безусловным доверием правительницы Софьи, поэтому весь груз ответственности ложился на него. Впрочем, участники Крымского похода первоначально были склонны верить в успех этого широкомасштабного военного предприятия. Например, генерал Патрик Гордон писал 7 января 1687 года: «Я уверен, что наш главнокомандующий, который является чуть ли не единственным вдохновителем этой войны и который крайне самонадеян, приведет нас к победе».{279}
Полковые воеводы выступили из Москвы 22 февраля. Перед этим в Успенском соборе патриарх Иоаким со всем высшим духовенством отслужил торжественный молебен в присутствии правительницы Софьи и царей. Патриарх окропил святой водой полковые знамена и вручил князю Голицыну крест и иконы Спаса и Богородицы Курской. Софья молилась перед Царскими вратами и большую часть службы простояла на том месте, которое обычно предназначалось царице. Затем правительница и цари проводили воевод со святыми образами и полковыми знаменами до Никольских ворот.
Воеводы отправились к местам сбора их полков: Голицын, Щербатов и Змеев — в Ахтырку, Шеин и Барятинский — в Сумы, Долгорукий и Скуратов — в Хотмыжск, Неплюев — в Красный Кут. Во всех сборных пунктах обнаружилось, что многие назначенные в поход ратные люди в срок не явились. Голицын прождал «нетчиков» до середины марта, а потом отправил царям и правительнице письмо с сообщением о недопустимости такого положения. Софья незамедлительно приняла решительные меры: по всем городам были разосланы указы, предписывающие городовым воеводам лично разыскивать отлынивающих от службы дворян в их вотчинах и поместьях, наказывать их батогами и отсылать под конвоем приставов к местам сбора войск. В случае «понаровки нетчикам» правительница грозила местным властям неминуемым царским гневом. Эти меры подействовали: в течение последующего месяца основная масса дворян-«уклонистов» была доставлена в сборные пункты. Впрочем, некоторых разыскать всё же не удалось — при окончательной проверке списков ратных людей обнаружилось отсутствие 1300 дворян и детей боярских.{280}
Кроме недочета ратных людей главнокомандующий был обеспокоен непослушанием служилых людей московских чинов — стольников, стряпчих, дворян московских и жильцов, которых в Большом полку насчитывалось около трех с половиной тысяч человек. Прежде они расписывались на сотни и состояли под командованием голов. Однако Голицын в соответствии с указом покойного государя Федора Алексеевича от 24 ноября 1681 года решил разделить ратных людей московского чина не на сотни, а на роты, что соответствовало вводившемуся военными реформами 1678–1681 годов «новому ратному строю». 29 марта 1687 года решение главнокомандующего было одобрено правительницей Софьей.{281} Первоначально планировалось образовать 19 стольничих, 11 стряпческих, 12 дворянских и столько же жилецких рот, каждую под руководством трех офицеров: ротмистра, поручика и хорунжего. Однако на деле почти все роты оказались смешанного состава: в сорока были представлены все московские чины от стольников до жильцов, и только две жилецкие роты полностью соответствовали своему названию.
Стремясь избежать местнических споров о старшинстве между ротмистрами, поручиками и хорунжими, Голицын часто назначал всех троих офицеров роты из представителей одного рода. Например, 12-й стольничей ротой командовали ротмистр Иван Андреевич Дашков, поручик Иван Васильевич Дашков и хорунжий Поликарп Иванович Дашков. Аналогичное положение наблюдалось в половине рот. Все три офицерских поста могли занимать как представители титулованной знати (князья Волконские, князья Козловские, Волынские), так и выходцы из незнатных родов.{282}
Тем не менее среди московских чинов обнаружилась группа недовольных, расценивших голицынское нововведение как принижение своего сословного статуса. Недовольство вылилось в открытую демонстрацию. Ротмистры-стольники князь Борис Долгорукий, князь Юрий Щербатов, князь Дмитрий Кольцов-Масальский и Илья Дмитриев-Мамонов явились па смотр со своими боевыми холопами в черных одеждах и на лошадях, покрытых черными попонами, своим траурным видом как бы заранее предрекая неудачу похода. Главнокомандующий пришел в ярость и в письме Федору Шакловитому попросил немедленно сообщить правительнице Софье об этой мятежной выходке аристократической молодежи: «Умилосердися, донеси добром: этим бунтовщиком учинить указ доброй. Это пророчество и противность к государеву лицу… что они так ехали, то было не тайно, всеми видимо; а если не будет указу, то делать нам с ними нечего». Голицын требовал учинить «такой образец, чтоб все задрожали», «разорить» бунтовщиков, заключить их навечно в монастырь и раздать их деревни неимущим. Шакловитый в ответ сообщил главнокомандующему, что его распоряжением о делении московских чинов на роты недовольны и некоторые члены Боярской думы. Однако это не смутило решительно настроенного Голицына: «У дураков нечего хотеть, кроме дурости. Слишком много дано им воли. Поговорят да перестанут. Поступай только покрепче, как я тебя просил».
Правительница Софья в этой ситуации повела себя весьма дипломатично — распорядилась подготовить указ о репрессиях в отношении молодых аристократов, однако задержала его отправку в Большой полк и в то же время постаралась, чтобы содержание документа стало известно в столичных верхах. Разумеется, московские родственники «бунтовщиков» поспешили уведомить провинившихся о предстоящей каре. Все четверо тут же с слезами просили у Голицына прощения. Главнокомандующий «на слезы их то им уступил» и страшный указ «сказывать не велел».{283} Так Софья и Голицын сумели приструнить младших отпрысков боярских родов, не вступая в конфликт с их родственниками, заседавшими в Боярской думе.
Одно из писем Голицына Шакловитому позволяет отчасти понять тогдашний механизм осуществления власти правительницы Софьи: «О всём выразумеешь из записки моей; чтоб тое отписку изволила великая государыня слушать не со всеми бояры, но с самыми верхними, и указ бы по ней был прислан чрез нарочного гонца с подьячим или стрельцом, а из иного б чину никого не посылать».{284} Как видим, царевна не могла принимать указы без обсуждения с Боярской думой, однако при этом имела право ограничивать число участвовавших в заседании думцев ближними боярами, которые в подавляющем большинстве относились к числу ее приверженцев.
Формирование полков и рот, ожидание «нетчиков» и передвижение войск из Сум, Хотмыжска и Красного Кута к общему сборному пункту на обширной равнине у реки Мерлы заняло два месяца. Лишь в начале мая удалось собрать всю армию численностью около ста тысяч человек, которая 2-го числа наконец-то смогла выступить в направлении Крыма. Начало похода слишком затянулось — выступать следовало ранней весной, когда в степи есть сочная трава и достаточное количество воды; с мая яркое солнце высушивало всю зелень, уничтожало подножный корм для лошадей и изнуряло русские полки.
Армия продвигалась медленно, хотя главнокомандующий сообщал государям, что «идет на Крым с великим поспешением». За семь недель после переправы через Мерлу было пройдено только 300 верст; таким образом, скорость движения армии не превышала шести верст в день. Такая медлительность объяснялась в основном перегруженностью снаряжением и припасами. Войска двигались огромным четырехугольником длиной в две версты и шириной больше версты. В центре находились пехотные полки, по обеим сторонам тянулся обоз из 20 тысяч повозок. За обозами шла артиллерия, а фланги закрывала конница. Авангард состоял из пяти стрелецких полков и двух выборных солдатских полков под командованием генералов Патрика Гордона и Аггея Шепелева.
Тридцатого мая на реке Самаре к основным силам Голицына присоединился пятидесятитысячный отряд малороссийских казаков во главе с гетманом Самойловичем. В начале июня, соорудив 12 мостов, войска переправились через Самару и вышли в степь. В пыли, без воды, при страшной жаре дальнейшее продвижение армии было сопряжено с неимоверными трудностями. 12 июня армия достигла речки Конки (татары называли ее Илкысу — Конские Воды) и разбила лагерь у урочища Большой Луг, на небольшом расстоянии от Днепра. На следующий день обнаружились первые признаки страшной опасности: степной ветер стал приносить запах гари, над горизонтом с южной стороны появились облака черного дыма, а ночью весь небосклон осветился заревом. Стало очевидно, что в степи свирепствует пожар, охвативший уже обширное пространство.
Голицын собрал военный совет; воеводы рассуждали несколько часов, выбирая между опасностью погубить армию в выжженной степи и стыдом бесславного отступления. Наконец решено было продолжить поход. 14 июня армия двинулась дальше по дымящейся во многих местах земле. На следующий день Гордон записал в своем дневнике: «Наш поход продолжался по выжженной степи по направлению к речке Акчекрак, находившейся на расстоянии шести верст. Вокруг была только трава и никаких деревьев, однако были слышны вопли кабанов. Лошади начали ослабевать, солдат косили болезни. Все, кто видел их страдания, могли себе представить, что нас ждет, если мы будем продолжать идти по выжженной степи еще несколько дней».{285}
Шестнадцатого июня, к концу третьего дня утомительного пути, войска подошли к притоку Конки — полупересохшей речке Янчекрак. Внезапно собрались тучи и начался мощный ливень, продолжавшийся несколько часов. Последние очаги пожара были потушены струями дождя; гарь, дым и пыль прибиты к земле. Янчекрак наполнился водой, вышел из берегов и широко разлился, образовав на пути русской армии топкие болота. Воеводы приказали положить гати и перевели по ним войско. Еще сохранялась надежда, что пересохшая степь оживится после сильного дождя и хотя бы частично восстановит травяной покров. Но вся растительность была выжжена до корней и землю покрывал густой слой золы. Струи дождя смыли большое количество гари в реки, сделав воду непригодной для питья.
Участник похода подполковник Франц Лефорт в ярких красках обрисовал бедственное положение русской армии: «…Добрались мы до реки Конская Вода, скрывавшей в себе сильный яд, что обнаружилось тотчас же, как из нее стали пить. Эта вода для многих была пагубна, смерть произвела большие опустошения. Ничего не могло быть ужаснее мною здесь виденного. Целые толпы несчастных ратников, истомленные маршем при палящем жаре, не могли удержаться, чтобы не глотать этого яда, ибо смерть была для них только утешением. Некоторые пили из вонючих луж или болот; другие снимали наполненные сухарями шапки и прощались с товарищами; они оставались там, где лежали, не имея сил идти от чрезмерного волнения крови. К довершению несчастия, наш великодушный князь, боярин В. В. Голицын, не позволял сворачивать с дороги, хотя мы уже не имели травы, потому что все степи были выжжены. Мы достигли реки Ольбы, но и ее вода оказалась ядовитой, а всё кругом было уничтожено; мы видели только черную землю да пыль и едва могли рассмотреть друг друга. К тому же вихри свирепствовали постоянно. Все лошади были изнурены и падали во множестве. Мы потеряли голову».
Тем не менее боевой дух армии сохранялся. «Искали повсюду неприятеля или самого хана, чтобы дать ему сражение, — вспоминал Лефорт. — Захвачены были несколько татар и сто двадцать из них и более были истреблены. Пленные показали, что хан идет на нас с 80 000 татарами. Однако и его полчище жестоко пострадало, потому что до Перекопа всё было выжжено».{286}
Лефорту вторит генерал Гордон: «Мы находились в ужасном положении, ибо на нашу долю выпало слишком много страданий, и очень трудно было найти траву, чтобы не дать умереть лошадям. Все считали, что если бы татары напали на нас, было бы невозможно использовать даже те силы, что еще остались. Лошади падали и были неспособны тащить орудия, не говоря уже о повозках с провиантом… Нельзя было и вообразить, как можно достичь главной цели похода — завоевания Крыма, ибо мы едва ли могли избежать очевидной опасности и неизбежной гибели, если бы стали двигаться дальше».{287}
«Армия расстроилась вконец, — продолжал Лефорт, — все роптали, потому что болезни свирепствовали страшно; артиллерию везли те же солдаты, которые еще не совсем изнурились. Наш князь был в отчаянии оттого, что не мог достигнуть Перекопа, что оказывалось действительно невозможным, да, правду сказать, не было и нужды в том: и без сражений смерть довольно потрепала нас… Мы напрягли последние силы, чтобы добраться до речки Янчакрака (в действительности — Карачекрака. — В. Н.). Здесь армия очутилась в бедственнейшем положении. Вода повсюду была черная, в малом количестве и нездоровая; жара стояла невыносимая; дождя не выпало ни капли; во весь поход ни следа травы; и солдаты, и лошади едва тащили ноги. Наш генералиссимус был вне себя и, могу вас уверить, горько плакал».{288}
К Карачекраку русская армия подошла 17 июня. До Перекопа оставалось еще две сотни верст пути, и на преодоление этого расстояния потребовалось бы не менее шести недель невыносимо трудного марша по выжженной степи. Продолжение похода грозило гибелью большей части армии от изнурения и болезней. А перед Перекопом ее остатки были бы неминуемо уничтожены или взяты в плен многотысячной крымской конницей.
Вечером Голицын созвал военный совет, на котором было принято единодушное решение: «Возвратить армию в пределы России и ожидать там царского указа». Поскольку при отступлении можно было подвергнуться неожиданному нападению татар, воеводы постановили послать к низовьям Днепра двадцатитысячный отряд и столько же малороссийских казаков, чтобы отвлечь силы неприятеля. Командование операцией было поручено окольничему Леонтию Неплюеву, который повел в сторону Запорожской Сечи свой Севский полк и три полка иноземного строя. В помощь Неплюеву был послан отряд во главе с опытным генералом Григорием Косаговым. Украинскую часть этого сводного корпуса возглавил сын малороссийского гетмана полковник Григорий Самойлович, имевший под своей командой пять полков.
На другой день основные силы русской армии двинулись в обратный путь. Голицын в донесении государям сообщил о результатах похода и о решении возвратить войска в пределы России: «Когда перешли мы Конские Воды и двинулись к реке Янчекраку, хан Крымский, сведав о многолюдном и стройном приходе царских войск и о ратном на него наступлении, пришел в ужас и боязнь, и не только сам, отложив свою обыклую дерзость, нигде в поле не явился, но и татары юртов его в крайнем отчаянии все скрылись в самые дальние поселения за Перекопом; а степи запалили, чтобы затруднить нам поход. Разные люди несколько дней шли выжженными степями, с великою нуждою от зноя, пыли, степных пожаров, недостатка конских кормов, переправились через речку Карачекрак и доходили до днепровских заливов, в самые ближние места к крымским юртам, не далее 90 верст от Перекопа». Как видим, Голицын приукрасил — в действительности его армия не продвинулась на юг далее Карачекрака.
«Тщетно, — продолжал главнокомандующий, — ждали мы неприятеля не малое время на реке Карачекраке, для воинского над ним поиску: он нигде не показывался; между тем скудость в конских кормах сделалась всеконечною; стоять долее в выжженной степи было невозможно, и мы возвратились к Конским Водам; а для промысла над крымскими юртами отправили к днепровским городкам окольничего Неплюева с великороссийскими и малороссийским войсками, чтобы удержать татар от впадений в Украйну и Польшу и тем исполнить договор вечного мира».{289}
Двадцатого июня армия подошла к Конке, по берегам которой уже отросло немалое количество свежей травы. Здесь разбили лагерь и простояли около двух недель, пытаясь восстановить силы. Однако это не особенно удалось, поскольку, по свидетельству Гордона, «померло от нездоровой воды много людей и лошадей». Главнокомандующий принял единственно правильное решение — проделать дальнейший путь ближе к Днепру. «Мы вдруг повернули назад, — вспоминал Лефорт, — и двинулись берегом Днепра, где также всё было выжжено. Переходили вброд болота, чтобы набрать здесь кое-какой травы. Болезни усиливались; умирало множество, гораздо более, чем при наступательном движении… Наш главнокомандующий находился в большой печали на возвратном пути. Вся Московия была в необыкновенно возбужденном состоянии, желая знать, чем кончился поход. Беспрестанно прибывали и уезжали гонцы. Армия отступила, мало-помалу, до реки Орель».{290}
В процитированном выше донесении Голицына от 18 июня сообщалось, что степь была подожжена крымскими татарами. Однако уже в лагере у Конки между русскими офицерами начались разговоры, что диверсия осуществлена украинцами. «Распространился слух, — записал 20 июня Гордон в дневнике, — что казаки по приказанию или по крайней мере с допущения гетманского сами зажгли степи с целью помешать вторжению русских в Крым, вследствие чего между русскими и казаками открылось взаимное недоверие». Генерал достаточно подробно воспроизвел разговоры, порочащие гетмана Самойловича: «Говорили, что казаки, опасаясь за свои права от властолюбия московского, смотрели на татар как на своих естественных союзников, к которым в случае надобности могли прибегнуть; а гетман всегда оказывал к ним явное расположение, радовался успехам опустошительных набегов их на Волынь, досадовал на победы христиан и при размене пленных вел с ханом крымским переговоры о взаимной обороне».
Историки Н. Г. Устрялов и С. М. Соловьев предположили, что эти слухи были пущены ловким интриганом Иваном Мазепой.{291} Этот человек, облагодетельствованный Самойловичем и пользовавшийся его большим доверием, вполне мог сделать достоянием гласности неосторожные высказывания гетмана и придать им опасную и явно утрированную политическую окраску. Цель Мазепы понятна: он знал о неприязни Голицына к Самойловичу и старался завоевать симпатию самого влиятельного человека в русском правительстве. Дальнейшие события показали, что в этом он вполне преуспел.
Слухи в русской армии продолжали распространяться и вскоре вместе с многочисленными царскими курьерами достигли Москвы. К чести Голицына надо сказать, что сам он не сообщал о подозрениях в адрес гетмана и малороссийских казаков ни в донесениях государям, ни в письмах Шакловитому. Однако эта информация дошла до правительницы, которая приказала расследовать обстоятельства поджога степи.
Тем временем Мазепа решился действовать открыто. 7 июля он вручил Голйцыну донос на Самойловича, подписанный, кроме него, представителями малороссийской старшины: генеральным обозным Василием Дуниным-Борковским, генеральным писарем Василием Кочубеем, писарем Саввой Прокоповым, судьей Михайло Воехеевичем и четырьмя полковниками. Гетман обвинялся в том, что «самовластно владеет и хочет владети Малою Россиею», называет украинские города не государскими, а своими, «всё сам решает, никого для совета не приглашая», «должности по своему гневу отнимает» и карает «кого хочет без суда и следствия напрасно», берет большие взятки за назначение на должности полковников, чем нарушает казацкие вольности. Самойловичу припомнили все его неосторожные слова, произнесенные в раздражении. Так, во время похода, когда солнечный свет вредил его больным глазам, гетман говорил:
— Нерассудная война Московская! Лишила меня последнего здоровья! Не лучше ль было дома сидеть и свои рубежи беречь, нежели с Крымом войну сию непотребную заводить?
После неудачи похода Самойлович не без злорадства заявлял:
— Разве я не говорил, что Москва ничего Крыму не докажет? Вот так теперь и есть.
Гетману ставились в вину попытки препятствовать заключению «Вечного мира» и гнев, когда оно состоялось. В доносе подчеркивалось, что Самойлович был виновником степных пожаров, будто бы запрещал малороссийским казакам гасить пылающие поля, а затем, не проведя предварительной разведки, двинул украинские полки за Конку, где всё было уничтожено огнем, и тем самым увлек за собой великорусские войска «на явную пагубу». Донос завершался просьбой малороссийских старшин и полковников «исходатайствовать царское соизволение на избрание другого гетмана».{292}
Несмотря на очевидную необоснованность большей части обвинений, Голицын не произвел никакого следствия по поводу мнимых преступлений Самойловича и 8 июля переправил донос в Москву. Примечательно, что сам он не считал возможным обвинять гетмана в степных пожарах. В письме патриарху Иоакиму от 16 июля главнокомандующий повторил, что «крымский хан, уведав приход царской рати и познав свое бессилие, все степи крымских юртов выжег, а сам скрылся».
Тем временем правительница Софья отправила к Голицыну Федора Шакловитого. Он прибыл в расположение русской армии за Орелью 12 июля и привез царский указ:
«Если возможно как ни есть, наготовя конских кормов и озапасясь своими запасами, идти на Крым в промысл, а к донским казакам, которые на море, послать, чтоб они с моря Крым тревожили и по возможности промышляли. Если того ныне учинить вскоре невозможно, велеть наготовить судов и сверху, откуда пристойно, препроводить и Казикерменские городки взять и из них велеть окольничему Неплюеву и гетманскому сыну со всеми их полками идти плавною ратью на Крым, а в то время от себя послать товарищей с обозами, а с ними конницы по рассмотрению стройных людей, да пехоты и пушек и гранат побольше, и промышлять, а запасы и пушки и на конницу конский корм везти на волах и назначить срок, чтоб с обеих сторон придти на Крым вместе».
Однако правительница прекрасно понимала, что обессиленная армия не в состоянии тем же летом предпринять новый поход. Несомненно, приведенные выше рекомендации были даны главнокомандующему только для того, чтобы продемонстрировать Польше, Австрии и Венеции готовность России продолжить выполнение союзнических обязательств (копии царского указа русским воеводам тогда же были отправлены союзникам). А последнее предписание Голицыну было дано уже с учетом реальной обстановки: «Если того учинить нельзя, то построить на Самаре и на Орели города и всякие тягости и запасы и ратных людей по рассмотрению оставить, чтоб вперед было ратям надежное пристанище, а неприятелям страх».{293}
Шакловитый по поручению Софьи должен был «ратным людям сказать милость государскую пространно», а Самойловича «похвалить за его радение». Однако вслед за тем посланец правительницы объявил гетману в присутствии Голицына:
— Великим государям известно, что в степи, позади и по сторонам ваших обозов, жители малороссийских городов, ехавшие с харчами за обозом, сожгли конские кормы. Ты бы, гетман, про тот пожог велел розыскать со всяким радением и виноватых наказал немедленно, потому что то дело великое, чтоб от таких поступков немногих воров, дерзостных и бесстрашных, малороссийским жителям не нанеслось какого-нибудь неудобного слова.
Как видим, версия о причастности украинцев к поджогу степи уже утвердилась в правительственных кругах, однако донос с обвинениями в адрес самого гетмана еще не дошел до Москвы.
Четырнадцатого июля Голицын собрал военный совет для обсуждения рекомендаций царского указа и решения вопроса, что делать этим летом для воспрепятствования татарским вторжениям в Польшу или на Украину. Шакловитый как представитель правительницы на совете имел решающее слово. Он согласился с доводами Голицына о невозможности возобновления похода на Крым и предложил реализовать последнее предписание указа — построить крепость на реке Самаре. По окончании совещания посланник Софьи обратился к Самойловичу с неожиданным и прямолинейным вопросом:
— Зачем ты, как узнано, позволил зажечь степи?
— Я об этом даже не думал, — спокойно ответил гетман. — Поля горели, но о поджогах мне ничего не ведомо.
Казалось, инцидент исчерпан. После военного совета Голицын, Шакловитый, воеводы и старшие офицеры по приглашению Самойловича отправились обедать в гетманский шатер и после угощения по обычаю одаривали хозяина. Однако умный и проницательный гетман понимал, что над ним уже сгустились грозовые тучи.
Исполнив поручение правительницы, Шакловитый 16 июля отправился в обратный путь. Тем временем к армии уже спешил другой гонец с новым царским указом: Софья предписывала Голицыну созвать представителей старшины и объявить им, что «великие государи, по тому их челобитью, Ивану Самойлову, буде он им, старшине и всему войску малороссийскому, не годен, быть гетманом не указали и указали, у него великих государей знамя и булаву и всякие войсковые клейноты отобрав, послать его в великороссийские города за крепкою стражею, а на его место гетманом учинить, кого они, старшина, со всем войском малороссийским излюбят». Исполнение этого непростого дела было поручено Голицыну, «как Господь Бог вразумит и наставит». С. М. Соловьев справедливо замечает: «Из этого указа ясно видно, что в Москве смотрели на дело Самойловича как на чисто малороссийское, не убеждались доносом в его измене, но не хотели оставлять гетманом человека, возбудившего всеобщее неудовольствие».{294}
Царский гонец прибыл в лагерь русской армии у реки Коломак к вечеру 21 июля. Получив указ правительницы, главнокомандующий приказал русским полковникам окружить и охранять до утра гетманский походный двор. Самойлович провел ночь в молитвах, ожидая гибели. Субботним утром 22 июля, когда зазвонили к заутрене, он отправился в походную церковь. Туда вскоре явилась генеральная старшина с полковниками, всю ночь заседавшая на совете. Самойловича под руки вывели из церкви со словами:
— Пан гетман, тебя требует войско.
У Самойловича не было сил держаться мужественно; он плакал, показывал на свои больные глаза и умолял отпустить его в монастырь на покаяние, чем только усиливал злобу старшины. Его посадили на деревянную телегу и повезли к Голицыну. По свидетельству Невилля, главнокомандующий организовал суд над низложенным гетманом. Самойлович «был приведен связанный в то место в войске, которое называлось шатром, то есть судебной палаткой, который всегда в московском войске находится рядом с расположением воеводы. Утром было приказано, чтобы офицеры и дворянство вместе явились к нему. Когда воеводы-бояре заняли места, привели гетмана, прочли ему указ царя и поставили на очную ставку с казаками, которых разыскали, которые обвинили его в сношениях с ханом и в тайных приказах о поджоге степи, которые он отдавал».{295}
Однако в докладе Голицына государям о ходе разбирательства гетманского дела не говорится ни об очной ставке с «поджигателями», ни о прямом уличении Самойловича в предательстве. Если верить донесению главнокомандующего, представители казацкой старшины голословно заявили:
— Мы давно уже видели великие тягости от гетмана, а напоследок обнаружились и изменнические дела, о которых мы и донесли, служа их царским величествам.
Голицын счел своим долгом спросить:
— Не обвиняете ли вы гетмана, мстя ему какие-нибудь свои недружбы?
Старшина ответила:
— Хотя оскорбления, нанесенные гетманом народу и большей части из нас, и очень велики, однако мы не решились бы поступить с ним таким образом, если бы к тому же не присоединилась и измена, о которой, по нашей присяге, мы не можем умолчать. Кроме того, мы с большим трудом могли удержать народ, чтоб он не растерзал гетмана, так он стал всем ненавистен.
Главнокомандующий предоставил слово Самойловичу, который начал достаточно убедительно опровергать возведенные на него обвинения. Однако малороссийские полковники подняли шум, стали перебивать гетмана и угрожать ему немедленной расправой. Голицын вынужден был прекратить разбирательство и отдал Самойловича с его младшим сыном Яковом под охрану стрелецких полковников.
Двадцать пятого июля были организованы выборы нового гетмана. Утром в казацкий лагерь приехал Голицын с русскими воеводами, генералами и старшими офицерами. Был собран круг из двух тысяч малороссийских казаков; знатнейшие из них отправились с главнокомандующим в походную церковь, поставленную в поле рядом с казацким станом. После молебна перед церковью поставили покрытый ковром стол, на котором, разложили атрибуты гетманского достоинства: булаву, бунчук и знамя. Голицын встал на скамью и объявил казакам:
— Их царские величества дозволяют вам по вашему старому войсковому обычаю избрать гетмана. Каждый может свободно подать свой голос. Так пусть же все из вас объявят, кто нам люб.
На некоторое время воцарилось молчание, потом в толпе начали выкликать имя Мазепы. Некоторые называли генерального обозного Василия Дунина-Борковского, но их голоса были заглушены большинством. Уже вся толпа кричала: «Мазепу в гетманы!» Голицын задал вопрос представителям знатнейшего казачества: «Кого вы хотите гетманом?» Ответ был единодушным: «Мазепу!»
Вновь избранный гетман принес присягу на верность русским государям, после чего получил из рук Голицына булаву и другие знаки власти. Недоброжелатели князя утверждали, что Мазепа вечером того же дня отблагодарил его десятью тысячами рублей, но ни подтвердить, ни опровергнуть этот факт невозможно.
Правительница Софья, юные государи и Боярская дума утвердили результаты выборов нового гетмана, однако в Москве велись разговоры о несправедливости, допущенной в отношении Самойловича. Они беспокоили Голицына, который в письме просил Шакловитого: «Что про гетмана будет слух, пожалуй, отпиши подлинно». Тот ответил: «Внушают, зачем де Самойлович свергнут без розыска?» Голицыну пришлось оправдываться: «О гетмане, как учинилось, и о том писал я в отписках своих и в грамотах, из которых о всём можешь выразуметь. А пристойнее того и больше учинить невозможно. А что про него розыскивать, и такого образцу николи не бывало: извольте посмотреть в старых делах. А что от которого лица какое злословие, и то Богу вручаю: он-то может рассудить, какая в том наша правда. Мы чаяли, что те лица воздадут хвалу Господу Богу и нам милость, как то учинилось без всякой помешки и кровопролития и замешания».{296}
В действительности кровь всё же пролилась: сын опального гетмана Григорий был по приказу окольничего Неплюева четвертован в Севске за поднятый им бунт в защиту отца. Иван Самойлович вместе с женой и младшим сыном Яковом был сослан в Тобольск, где умер спустя год, а вскоре скончался и его сын. Всё имущество свергнутого гетмана и его детей было конфисковано в войсковую казну. По подсчетам старшины, речь шла о миллионах рублей.{297}
Отечественные историки неоднократно упрекали Голицына в том, он заменил верного слугу русского престола Самойловича тайным врагом России Мазепой, готовым при удобном случае перейти под протекторат Польши или Швеции за туманное обещание пресловутой украинской «самостийности». Однако изложенные выше обстоятельства смены гетмана не дают оснований приписывать главнокомандующему решающую или хотя бы сколько-нибудь активную роль в этом деле. Весь переворот был осуществлен самим Мазепой при помощи малороссийской старшины и особенно его друга Василия Кочубея. Вероятно, Голицын в самом деле недолюбливал Самойловича и симпатизировал Мазепе, однако это вряд ли повлияло на переизбрание гетмана, которое явилось следствием свободного волеизъявления верхушки украинского казачества.
В литературе утвердилось мнение иностранных дипломатов Фуа де ла Невилля и Христофора фон Кохена, что Голицын решил свалить вину за собственные ошибки на Самойловича и тем самым оправдать неудачу Крымского похода. Софья будто бы решила сделать гетмана козлом отпущения, чтобы выгородить своего фаворита. Эта точка зрения совершенно неоправданна. Хорошо информированный голландский резидент в Москве Иоганн ван Келлер утверждал, что в 1687 году у русского правительства не было планов полномасштабного вторжения в Крым и что первый поход Голицына носил преимущественно разведывательный характер. Кроме того, была продемонстрирована готовность России выполнить союзнический долг. С этой точки зрения задачи похода были выполнены, поэтому ни в каком оправдании главнокомандующий не нуждался.{298}
Кроме того, действия русской армии вовсе не были безрезультатны. Посланный к низовьям Днепра корпус Неплюева и Косагова разорил маленькие турецкие крепости Шах-Кермен, Ислам-Кермен и Изюм-Кермен, обратил в бегство конницу вассалов крымского хана белгородских татар и даже совершил нападение на неприступную крепость Очаков. Турки вынуждены были перебросить часть своих войск на кораблях из Мореи к устью Днепра, что отчасти способствовало успешным действиям армии венецианского дожа Франческо Морозини в центральной части Греции. В течение всего лета 1687 года крымский хан Селим-Гирей, опасаясь нападения русских войск, не решался послать превосходную татарскую конницу в помощь султану.{299}
Первый Крымский поход дал русскому командованию опыт ведения войны в тяжелых условиях южных степей. Важным следствием этой военной операции стало решение правительства усилить линию обороны на Украине и построить Новобогородицкую крепость у слияния Самары и Днепра, впоследствии ставшую незаменимым опорным пунктом для продвижения России на юг.
Правительница Софья постаралась представить поход на Крым успешной военной операцией и наградила его участников. В августе царские гонцы привезли в русский лагерь золотые медали для вручения воеводам, генералам и офицерам. На одной стороне медалей были изображены цари, а на другой — сама Софья. В начале сентября Голицын вернулся в Москву и, по словам Невилля, «был принят царевной со всеми изъявлениями радости, которые он только мог ожидать, и вновь взял на себя все дела с таким влиянием, каким не пользовался никогда». Кохен тоже отметил, что главнокомандующий по возвращении был хорошо встречен обоими царями и правительницей. «Он все еще в прежней чести и стоит у кормила правления, — утверждал шведский резидент, — к тому же царевна Софья Алексеевна, почти совсем завладевшая правлением царства, сильно поддерживает его».{300}
Упоминаемый иностранными дипломатами торжественный прием возвратившихся из похода главнокомандующего, воевод, генералов и полковников состоялся 5 сентября. Государи жаловали военачальников к руке, после чего им был объявлен именной указ «о их похвальной службе в Крымском походе»:
«…Посылан ты, Ближний Боярин и Оберегатель и Дворовый Воевода с товарищи, а с вами Их Великих Государей ратные конные и пешие многие люди для промысла на Крымского Хана и на его юрты, за их многия к Ним Великим Государем, неправды и досадительства… И ты, Ближний Боярин… и товарищи ж твои сходные Бояре ж и Воеводына тое Их Великих Государей службу в указанные места шли с великим поспешением; и пришел в указанные места, полков своих с Их Царских Государей ратными людьми собирались потому ж с великим поспешением, и, устроясь воинским ополчением, из указанных мест пошли на тех неприятелей бусурманов великим ранним временем, и в пути с обозы к их бусурманским юртам шли с желательною ревностью и со всяким радетельным тщанием и усердным попечением, и пребывали все единодушно в непрестанных воинских трудех. Упражняясь всегда непрестанным и неусыпным всяким попечением о Их Государском воинском деле и о полковом ратном устроении и от неприятельских людей остерегательстве, не имея себе никакого покоя, и с таким тщательным и радетельным поведением переправились степныя многия реки и пришли от крымских юртов в ближние места… А как ты, Ближний Боярин и Оберегатель и Дворовый воевода Князь Василий Васильевич с товарищи, переправясь реку Конскую, пошли к речке Акчакраку и Карачакраку: и Крымский хан с ордами, увидев о том вашем Бояр и Воевод многолюдном и стройном приходе и о промысле над собою, познав свое безсилие, около Перекопи и на Днепре все степи выжгли, чем бы им от вашего Бояр и Воевод с полками наступления свободиться; и, видя их, Хан с татары на себя ваше Бояр и Воевод полков ваших Их Великих Государей ратных людей наступление, пришли в боязнь и во ужас и отложа обыклую свою дерзость, нигде сам не явился и юртов его Татаровя в противление к вам вышли, и нигде не показались и бою с вами и полков ваших с Их Государей ратными людьми не дали, и пришед в самое отчаяние, ушли за дальния свои поселения за Перекоп и в иныя места».
Разумеется, указ преувеличил степень «радения» главнокомандующего и вверенных ему войск. Поход был начат не «великим ранним временем», а с большим опозданием, что предопределило его неудачу. Обращает на себя внимание тот факт, что виновниками степных пожаров признаны крымские татары. Тем не менее в другой части указа признавалась справедливость доноса украинской старшины на гетмана Самойловича, который будто бы «в нынешнем воинском походе явно своею изменою степи жег и с Ханом Крымским в том имел обсылку». Это противоречие составители царского указа устранить не смогли.
В указе было подробно описано единственное за всё время похода сражение с крымскими татарами, когда шедший на соединение с армией Голицына большой отряд донских казаков под предводительством атамана Фрола Минаева совместно с калмыцкой конницей разгромил неприятеля близ речки Овечьи Воды: было перебито пять сотен татар и полсотни взято в плен, а также захвачено 400 лошадей. Кроме того, донские казаки и калмыки освободили большое количество пленных украинцев «мужеска и женска полу», захваченных татарами во время набега на приднепровские местечки.
Указ завершался перечислением наград военачальникам и прочим ратным людям. Главнокомандующий, воеводы и генералы получили кафтаны «золотные на соболях», серебряные кубки с позолотой и прибавку к денежным окладам от 60 до 250 рублей. Полковникам и ротмистрам было пожаловано по 40 пар соболей, по 120 четвертей прибавки к поместному окладу и по 20 рублей. Поручики, хорунжие и дворяне московские также получили прибавку поместного и денежного жалованья.
Прогулка правительницы Софьи Алексеевны. Гравюра из книги Г. А. Шлейссинга «О двух русских царевичах Иване и Петре Алексеевичах, вместе с их сестрой Софией, доныне втроем несущих жезл власти…». 1693 г.
Патриарх Иоаким
Киевский митрополит Гедеон
Прения о вере в Грановитой палате в 1682 г. Гравюра
Наставник Софьи Симеон Полоцкий в присутствии царя Федора экзаменует Никиту Зотова перед его назначением учителем Петра. Миниатюра из рукописи П. Крекшина
Император Священной Римской империи Леопольд I. «Царский титулярник». 1672 г.
Король Дании Кристиан V. «Царский титулярник»
Аудиенция иностранных послов у царей Петра и Ивана. Немецкая гравюра 1693 г.
Китайский император Канси. После 1662 г.
Федор Алексеевич Головин, посол России на переговорах с Китаем в Нерчинске. Ранее 1706 г.
Китайские войска осаждают Албазинский острог. Китайский рисунок 1685 г.
Король Речи Посполитой Ян Собесский. Последняя четверть XVII в.
Турецкий султан Мехмед IV. Гравюра Н. де Лармессена. 1690 г.
Медаль князя В. В. Голицына за командование русскими войсками в Крымском походе 1687 года. Между 1687 и 1689 гг.
Возвращение русского войска из неудачного похода против Крымского ханства. Миниатюра из рукописи П. Крекшина
«Великих посольских дел оберегатель» князь Василий Васильевич Голицын. Гравюра Л. Тарасевича. 1685 г.
Палаты князя Голицына в Охотном Ряду. Реконструкция П. Д. Сухова
Тайнописное послание царевны Софьи «свету моему братцу Васеньке» (В. В. Голицыну). 1689 г.
Цари Иван и Петр Алексеевичи. Гравюра Ж. Жоллена. 1685 г.
В 1689 году, опасаясь нападения верных Софье войск, Петр I укрылся за стенами Троице-Сергиевой лавры
Допрос и пытки Федора Леонтьевича Шакловитого в 1689 году. Миниатюра из рукописи П. Крекшина
Заточение Софьи в Новодевичий монастырь в 1689 году. Миниатюра из рукописи П. Крекшина
Сражение взбунтовавшихся стрельцов и верных правительству войск у Новоиерусалимского монастыря 18 июня 1698 года. Гравюра из книги «Дневник путешествия в Московское государство… в 1698 г.» И. Г. Корба
Казни стрельцов в 1698 году. Гравюра З. Стефановича-Орфелина из книги «Житие и славные дела государя императора Петра Великого». Венеция. 1772 г.
Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь — место заточения бывшей правительницы Софьи
Палаты опальной царевны у Напрудной башни Новодевичьего монастыря
Позолоченный иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря изготовлен по заказу царевны Софьи в 1683–1685 годах
Последний приют схимницы Софьи в Смоленском соборе
Стены Напрудной башни испещрены обращениями к Софье
Восемнадцатого сентября 1688 года от имени великих государей царей и великой государыни царевны было объявлено о начале подготовки к новому походу на Крым. «Всяких чинов ратным людям» было приказано собраться не позднее 1 февраля 1689 года. Большому полку под началом главнокомандующего князя Василия Васильевича Голицына, окольничего Венедикта Андреевича Змеева и стольника князя Якова Федоровича Долгорукого следовало расположиться в Сумах. Новгородский разряд во главе с боярином Алексеем Семеновичем Шеиным и стольником князем Федором Юрьевичем Барятинским должен был дислоцироваться в Рыльске, Рязанский разряд под командованием боярина князя Владимира Дмитриевича Долгорукого и думного дворянина Авраама Ивановича Хитрово имел сборным пунктом Обоянь, Севский полк во главе с окольничим Леонтием Романовичем Неплюевым встал в Межеречах, Казанский полк под командованием боярина Бориса Петровича Шереметева расположился в Чугуеве. По зимнему первопутку ратные люди со всех концов России потянулись в сборные пункты.
В сентябре 1688 года Софья отправила своего верного друга Федора Шакловитого к новому малороссийскому гетману Ивану Мазепе для обсуждения планов предстоящих военных действий против Крыма. Тайной задачей Шакловитого являлось «разведывание», насколько можно полагаться на верность украинских казаков и самого гетмана. 8 ноября эмиссар правительницы вернулся в Москву и доложил Софье:
— Казаки противу Крыма идти готовы и верность государям неотступно сохраняют. Однако же сам гетман подозрителен, понеже есть известия, что пересылается с королем польским тайными письмами.
Результаты разведывательной миссии Шакловитого успокоили царевну, поскольку главным для нее был вопрос о готовности малороссийских казаков поддержать поход русской армии на Крым. Что же касалось сведений о секретной переписке Мазепы с Яном Собеским, то данное обстоятельство в тот момент не имело существенного значения, так как Польша находилась в союзе с Россией и вряд ли можно было ожидать враждебных действий с ее стороны.
Вместе с тем в октябре 1688 года до правительницы дошли тревожные известия, что австрийский император и польский король вступили в мирные переговоры с турецким султаном, нисколько не заботясь об интересах России. Правда, русский посланник в Варшаве Прокофий Возницын получил от Яна Собеского заверение, что «без согласия России мира с Турциею не будет». Однако австрийский дипломатический представитель при польском дворе барон Жировский заявил Возницыну:
— Если царские полномочные в половине марта не приедут и Вену, то мир состоится и без участия России.
Причина внезапно возникшего стремления императора заключить мир с Турцией состояла в военной угрозе со стороны Франции. 22 марта 1689 года в ответ на наглое заявление Жировского Возницын по указу государей (то есть Софьи) объявил ему:
— Московский двор с удивлением услышал такие вести, что после всех обнадеживаний и ручательств цесарю и королю было бы неприлично и на весь свет не славно склоняться на отдельный мир с Турциею. Если же цесарь и король твердо решились прекратить войну, то при заключении мирного договора русские государи требуют соблюсти ряд условий.
Выработанные Посольским приказом по поручению правительницы требования были неожиданны:
«1) Всех татар вывести из Крыма за Черное море в Анатолию, а Крым уступить России, иначе никогда покоя ей не будет.
2) Татар и турок при Азовском море также выселить, а Азов отдать России.
3) Казикермен, Очаков и другие города в низовьях днепровских также уступить России или по крайней мере разорить.
4) Всех русских и малороссийских пленных освободить без всякого выкупа и размена.
5) За убытки, причиненные набегами татар в прежнее время, вознаградить двумя миллионами червонных».
Как верно заметил Н. Г. Устрялов, подобных условий не решилась предложить даже Екатерина II, подписывая в 1774 году Кючук-Кайнарджийский мир с Турцией. Историк сделал правильный вывод: «…едва ли ожидала и Софья таких пожертвований от султана: она хотела, кажется, только уверить своих и чужих, что Россия приобрела в ее правление необычайные силы, когда могла требовать изгнания целого народа из Европы в Азию. Надобно было однакож подкрепить эту мысль каким-нибудь блистательным делом, и Голицын поспешно двинулся на Крым».{301}
В феврале 1689 года русские войска в количестве 112 тысяч человек собрались в назначенных пунктах. Армия имела весьма мощную по тем временам артиллерию. По свидетельству Невилля, в русском войске было 700 пушек, в том числе множество мортир. Н. Г. Устрялов считает эту цифру завышенной вдвое, однако справедливо замечает, что такого количества пушек было вполне достаточно, чтобы разгромить и более мощные укрепления, чем перекопские.{302}
Семнадцатого марта Большой полк под командованием Голицына двинулся на юг и спустя три дня был уже в Ахтырке. В тот день еще стоял сильный мороз, однако уже через неделю вдруг началась дружная оттепель. Степные реки моментально разлились, и войскам стоило большого труда переправиться через Ворсклу, Мерлу и особенно Орель, при форсировании которой приходилось строить мосты и класть гати на протяжении более двух верст.
На Орели к Голицыну присоединились другие воеводы — сначала Шереметев с Казанским полком, потом Шеин с Новгородским и, наконец, Долгорукий с Рязанским. Объединенные русские силы двинулись к реке Самаре. Там, возле только но построенной крепости Новобогородицк, к армии присоединился Севский полк Неплюева, а также корпус малороссийских казаков под командованием Мазепы. 24 апреля войска, запасшиеся провиантом на два месяца, двинулись из Новобогородицка по левому берегу Днепра вниз по течению. Дойдя до речки Коирки, Голицын повернул армию на юго-восток и двинулся через степь по направлению к Перекопу.
Вечером 13 мая войска вступили в Зеленую долину — огромное поле протяженностью десять верст, изобилующее родниками и ручьями и покрытое сочной высокой травой. Здесь главнокомандующий приказал разбить лагерь и дать армии день отдыха. 15 мая при выступлении из Зеленой долины на полк боярина Шеина напала татарская конница численностью до десяти тысяч человек. На близкое расстояние кочевники не подходили, кружа по степи перед русской пехотой и постреливая ее из луков и ружей. Полк вел ответный огонь, беспорядочная перестрелка продлилась более трех часов, причем потери с обеих сторон были минимальными, потом татары внезапно исчезли.
Голицын повел армию на юг по Казикерменской дороге. Вскоре войска вступили в Черную долину, где также было много хорошей травы и воды. 16 мая с утра начался сильный дождь, продолжавшийся почти до вечера. Около полудня на правом фланге русской армии внезапно появилось огромное татарское войско во главе с самим ханом. Детальное и точное описание хода сражения привел в своих записках Невилль, воспользовавшийся в данном случае рассказами очевидцев:
«Хотя все считали, что московитам стоит перейти в наступление, они довольствовались тем, что остались на месте, окруженные хорошими рогатками[13], которые привезли на повозках и которые служили тогда для них защитой. Вооруженная огнестрельным оружием пехота и вся артиллерия составили в поле надежную оборону, которую татары не могли прорвать. Конница оставалась за пределами укреплений; это побудило три или четыре татарских отряда, около 1000 конников каждый, напасть на нее. Вскоре после их атаки она бежала, причем обозы очень помогли этой смешавшейся коннице. Нельзя было сосчитать, триста или четыреста татар уложены были на месте из мушкетов, к которым присоединились пушки… Однако татары под командованием Нураддин-султана атаковали с другой стороны казаков из Сум и Ахтырки, во главе которых стоял Емельян Украинцев, думный дьяк, или государственный секретарь. Этот командир, неопытный в военном деле, как истинный московит, так смешался, что не смог выдержать натиска неприятеля. Обозы были опрокинуты, множество убитых лошадей перекрыло путь к бегству. Прорвавшись за повозки, татары увезли с собой 20 пушек, поставленных на повозки, в которые были запряжены лошади, и если бы не подоспел боярин Долгорукий со своим войском, то все эти казаки были бы изрублены в куски. Шереметев… был в то же время атакован другим татарским отрядом, который прорвался к обозу. Но он перенес удар поистине с большим мужеством, чем Емельян, и, наконец, принудил татар отступить. Когда сражение закончилось отступлением татар, добившихся преимуществ и захвативших добычу, войска двинулись искать воды».{303}
Согласно донесениям Голицына государям, сражения с татарами длились в течение 15–17 мая. В первый день «на урочище Зеленой долины пришел на наши полки крымский хан, с калгою, нурадином, ширинбеем, со всеми крымскими и белгородскими ордами, также из городков, на Днепре стоящих, с турецкими войсками, с горскими черкесами, которые им голдуют, и с джеман-саадаками, и был у нас с ними бой со второго часа дни до десятого» (то есть с семи часов утра до трех часов дня). Русские и украинцы «бились с тем поганством мужественно и храбро, побили многих знатных мурз и добрых приводцев, многих и живых поймали, знамена, лошади и рухлядь всякую побрали, и сказывают пленные, что побито у них и переранено многое число, а ранен сам Нурад[д]ин салдан, да убит сын каябея Мансурова Кантемир. И так то поганство билось с нами жестоко, что не только на мушкетные дула, но и на пушечные, к самым рогаткам, напусками приезжали; но, милостию Божиею, никакой себе утехи, кроме упадку, не отнесли. <…> Когда двинулись мы из урочища Черной долины, в 5 часу дни (то есть около полудня. — В. Н.) 16 мая, пришел на наши полки хан Крымский, со всеми вышеупомянутыми ордами, и имел с нами бои великие и жестокие на пути во весь день; ратные люди наши бились с тем поганством мужественно и храбро, и жестоким, кровавым боем сбив его с боевого поля, стали в степи, не доходя Колончака… В следующий день хан Крымский, не хотя наших полков допустить до Колончака, имел с нами бои великие и напуски жестокие, непрестанные во весь день; наши ратные люди бились с тем поганством мужественно и храбро, много побили, много живых взяли, и кровавым боем прогнанные до Колончака, неприятели, оставя свои боевые жестокие напуски, побежали за самый Колончак к Перекопу».
Сравнение этих сведений с данными других источников показывает, что главнокомандующий преувеличил подвиги русской армии. 15 мая не было крупного сражения, а имела место лишь перестрелка солдат полка Шеина с татарской конницей. Главная битва, в которой татары понесли большие потери и был ранен сам Нураддин-султан, произошла на следующий день. Неверно и заявление Голицына, что татары не получили «никакой себе утехи, кроме упадку»; как уже говорилось, они сумели захватить в русском обозе два десятка пушек. 17 мая никаких столкновений с неприятелем не было. Как пишет Гордон, «утром татары показались снова со всех сторон; но видя везде пехотные полки, не решались напасть на них и скрылись. Русская армия без всякого препятствия добралась до речки Колончака и раскинула лагерь на зеленых берегах ее».
Схожим образом описывает ситуацию 17 мая Невилль, добавив интересные детали. При выступлении русской армии из Черной долины по направлению к Колончаку войска, которые до того времени шли порознь, были объединены в каре. Конница, основной объект атак крымцев, располагалась и центре, между обозами, под прикрытием пехоты. Пехотинцы несли на плечах рогатки, чтобы при нападении татар сразу выставить укрепления. «Пока шли в таком порядке, — пишет Невилль, — татары появились вновь и обошли всю армию кругом, надеясь найти конницу вне обозов. Они удовольствовались тем, что нагнали страх на московитов и исчезли, чтобы позаботиться об обороне Перекопа, на который, как они думали, должно было напасть это многочисленное войско».{304}
Немного отдохнув на берегу Колончака, где «воды и травы было вдоволь», русская армия совершила еще два дневных перехода и в полдень 20 мая увидела вдалеке знаменитые укрепления Перекопа. По словам Невилля, войска «стали лагерем на пушечный выстрел от города, так, что Понт Евксинский (Черное море. — В. Н.) оказался по правую руку, а степь — по левую. Из города вовсе не вели огня, поскольку расстояние было слишком большим, но с башни, которая находилась у берега моря, постоянно стреляли из пушки».
Ногайские татары и калмыки, сражавшиеся на стороне русских, вступили в стычки с крымской конницей, кружившей по степи перед Перекопом. В составе крымских войск тоже оказалось немалое количество ногайцев. По свидетельству Невилля, именно ногайские татары, не желавшие сражаться с соплеменниками, подали Голицыну идею заключить мир с крымским ханом. Главнокомандующий отнесся к этой инициативе благосклонно, поскольку русская армия оказалась в сложном положении. В донесении в Москву князь писал: «…от Колончака до Перекопа шли мы двое суток без воды… У Перекопа стали в безводной степи; с одной стороны Черное море, с другой Гнилое; везде вода соленая, а колодцев нет. Был только один, да и тот порос татарским просом… Лошади под нарядом пали, люди обезсилели».
Наступление на Перекоп в таких условиях представляло большую опасность для русской армии. Ворота крепости были открыты, гарнизон из нее выведен по приказу хана. Дорога в Крым казалась свободной, но это была ловушка, поскольку за Перекопом лежала такая же сухая степь, как и перед ним. Русская армия могла сделать еще несколько дневных переходов и не дойти ни до рек, ни до селений. Люди и лошади окончательно обессилели бы в безводной степи при постоянно усиливавшейся жаре в канун летних месяцев. И тогда изможденные русские войска были бы частично перебиты, частично взяты в плен несметными полчищами крымских татар.
О тогдашних коварных замыслах крымского хана двумя годами позже рассказал освобожденный из татарского плена смоленский шляхтич Фома Поплонский: «Когда государевы ратные люди пришли к Перекопи, Нурадин салтан говорил отцу своему хану: для чего он против тех ратных людей из Перекопи нейдет, а если он, хан, идти не захочет, то он бы велел ему, Нурадину, выйти; и хан сказал: присылал к нему князь Василий Голицын для договору о мире, и он для того против тех ратных людей нейдет, а если это их желание не исполнится, то они, татары, его, князя Василья, и со всем войском, если станет приступать, в Перекопь пустят и без бою всех переберут по рукам, а иные и сами от нужды перемрут, потому что в Перекопи только три колодца воды пресной».{305}
В такой ситуации решение Голицына вступить в переговоры с крымским ханом было единственно правильным. В русский лагерь явился один из самых знатных татар — Сулеш-мурза, а в ставку хана в качестве заложника отправился Иван Змеев — младший брат верного помощника Голицына Венедикта Змеева. На переговорах русская сторона выдвинула условия мира: «Во-первых, чтобы татары обязались, что не посмеют больше нападать ни на империю московитян, ни на Польшу. Во-вторых, что не будут оказывать туркам никакой помощи против христиан. В-третьих, что никогда не будут больше требовать от Московии ежегодной дани в сорок тысяч рублей. В-четвертых, что они отдадут всех христиан, которых до сих пор взяли в плен».{306}
Представитель турецкой стороны начал тянуть время, прекрасно понимая, что в данных условиях оно работает против русских. «Сулеш-мурза, — пишет Невилль, — желая продержать московитов до следующего дня и хорошо зная, что такое большое войско не может долго оставаться без фуража и воды, затянул переговоры и удовлетворился тем, что дал некоторую надежду на соглашение. На следующий день он ответил, что хан не хочет других условий мира, помимо тех, на которых он ранее заключил мир с царями (имеется в виду Бахчисарайский мирный договор 1681 года. — В. Н.), что он требует ежегодной уплаты дани и желает, чтобы ему заплатили за три уже прошедших года 240 000 экю (120 тысяч рублей. — В. Н.). Этот ответ не понравился князю Голицыну и, не считая более возможным стоять лагерем в песках, он задумался об отступлении. Из боязни преследования он приказал везти с собой до Каланчака мурзу, который был в его лагере, и оттуда отослал его обратно и получил взамен своего заложника».{307}
В донесении государям Голицын сообщил, что решение об отступлении из-под Перекопа было принято на большом военном совете с участием всех командных чинов: «Бояре и воеводы советовались со всеми генералами, полковниками, ротмистрами, стрелецкими урядниками и пятидесятниками о безводице, и о промысле над Перекопом, и о приступе, для чего уже туры и мешки с землею были готовы; все чины единогласно отвечали, что служить и кровь свою пролить готовы, только от безводья и от безхлебья изнужились, промышлять под Перекопом нельзя, и отступить бы прочь».
В отдельном письме Софье Голицын сообщал: «Став обозом под Перекопом, объезжали мы все места, где бы найти конские кормы и несоленую воду; кормов не нашли: от самого Колончака всё потравлено; а рек и колодезей пресных на сей стороне Перекопа нет: с правой стороны облило Черное море, с левой Гнилое; в том и другом воды соленые. Хан же со своими поганскими ордами к нам не вышел и, предав перекопские посады и близлежащие села и деревни огню, неоднократно присылал кемана-мурзу Сулешева просить миру, на прежней шерти, поставленной при думном дворянине Василье Тяпкине (то есть на условиях Бахчисарайского договора. — В. Н.). По тем препятиям мы от Перекопа отступили, а в мирных договорах хану отказали, потому что тот мир противен будет Польскому союзу. При обратном отходе до Коирки терпели мы великую нужду от безводья: в Зеленой и Черной долинах воды нет; в самом Колончаке вода самая скудная. И если бы простояли мы под Перекопом еще один день, то ратных людей невозможно было бы отвесть без великого и страшного упадку».{308}
В этом послании главнокомандующий несколько раз покривил душой. Во-первых, ситуация с мирными переговорами, как было показано выше, развивалась совсем иначе. Во-вторых, как отмечал в дневнике Гордон, в реке Колончак было много хорошей пресной воды, а в Зеленой и Черной долинах — сочная трава для лошадиного прокорма. Голицын при желании мог дать войскам отдых в этих местах, а затем запастись водой и вернуться к Перекопу. Неверно также утверждение главнокомандующего в прежних донесениях о «бесхлебье» в русской армии; как уже говорилось, при выступлении из Новобогородицка войска запаслись провиантом на два месяца. Обозы с хлебом во время сражения с татарами 16 мая не пострадали, так что провизии в армии должно было быть достаточно.
Тем не менее Голицын объективно был прав, отступив от Перекопа. Овладение укреплениями, намеренно лишенными защитников, не принесло бы никакой славы русскому оружию, а дальнейший поход вглубь Крымского полуострова был лишен смысла, поскольку русская армия не имела достаточно сил для дальнейших завоеваний безлюдных степных мест, где до самого Бахчисарая нечем было завладеть. Что же касается возможности похода на столицу Крыма, то подобный план в тех условиях был бы явной утопией. Можно сказать, что армия Голицына выполнила свою задачу: сражение с татарами было выиграно, русские войска дошли до Перекопа, который был готов сдаться. Крымский хан, напуганный силой русского оружия, не решился на повторное сражение у входа на Крымский полуостров и запросил мира. Большего успеха в тогдашних условиях достичь было невозможно.
Важно было также учитывать международную ситуацию. Голицын как руководитель внешней политики России был прекрасно осведомлен о желании Австрии и Польши заключить скорейший мир с Турцией. Как верно заметил историк А. П. Богданов, «переступив порог Крыма, Россия автоматически становилась опаснейшим, смертельным врагом Османской империи, позволяла союзникам удачно выйти из войны с одной из мощнейших держав мира».{309} Действительно, попытка русской армии занять Крымский полуостров неминуемо привела бы к нападению Турции на Россию.
Кроме того, овладение Крымом в то время не имело никакого смысла. Исследовательница Л. Хьюз считает: «В любом случае, завоевание полуострова могло быть только временным ввиду трудностей, связанных с содержанием гарнизона и администрации на сопредельной с Турцией территории. Еще сотню лет Крым был недосягаем для России».{310}
Несмотря на кажущуюся неудачу, второй Крымский поход, как и предыдущий, явился существенной помощью союзникам в борьбе против Османской империи. Русская армия оттянула на себя крымских и белгородских татар — основного конного войска султана. Крымские походы вынудили турок разделить свои военные силы, бросив 15 тысяч янычар на оборону Азова, Очакова, Шах-Кермена, Кызы-Кермена и других крепостей на Азовском море и в устье Днепра. Отряды донских и малороссийских казаков совершали набеги на турецкие укрепления на северном и восточном побережье Черного моря, вызывая постоянное беспокойство Турции и отчасти отвлекая ее от европейского театра военных действий.{311}
Софья, в восторге от подвигов любимого друга, писала ему: «Батюшка ты мой, чем платить за такие твои труды неисчетные?.. А раденье твое, душа моя, делом оказуется… Чем вам платить за такую нужную службу, наипаче всех твои, света моего, труды? Если б ты так не трудился, никто б так не сделал».{312} От имени царей главнокомандующему была послана грамота:
«Мы, великие государи, тебя, ближнего нашего боярина и оберегателя и дворового воеводу князя Василия Васильевича, за твою к нам, великим государям, многую и радетельную службу, что такие свирепые и исконные Креста святого и всего Христианства неприятели твоею службою неначаянно и никогда не слыхано от наших царских ратей в жилищах их поганских поражены и побеждены и прогнаны, и что объявились они сами своим жилищам разорительми, отложа свою обыклую свирепую дерзость, пришед во отчаяние и в ужас, в Перекоп в посады и села и деревни все пожгли, и из Перекопи с своими поганскими ордами тебе… не показались и возвращающимся вам не явились, и что при помощи Божии ты… с сходными своими товарищами, с бояры нашими и воеводы и всеми ратными людьми к Нашим Царским границам с вышеописанными славными во всем свете победами возвратились в целости, жалуем милостиво и премилостиво и паки премилостиво похваляем».{313}
Четырнадцатого июня царь Иван и правительница Софья присутствовали на торжественном молебне в Успенском соборе по случаю вестей о победе армии Голицына над крымцами. Царь Петр решил уклониться от участия в торжестве, поскольку, по убеждению «партии» Нарышкиных, донесения главнокомандующего не содержали в себе «ничего отрадного».{314} Спустя всего три месяца после падения Софьи новая власть представила отступление русской армии из-под Перекопа в качестве одного из главных примеров «нерадения» Голицына о государственных делах, за что бывший главнокомандующий поплатился ссылкой.
Вскоре после возвращения армии на берега Мерлы туда прибыл окольничий Василий Саввич Нарбеков «с царским милостивым словом и с повелением распустить ратных людей по домам». 27 июня главнокомандующий выехал в Москву; бояре, воеводы и начальные люди также поспешили в столицу за наградами. Голицын получил от Софьи золоченый кубок, золотую медаль, осыпанную драгоценными камнями, «кафтан золотной на соболях», придачу к денежному окладу в 300 рублей и вотчину — село Решма в Суздальском уезде. Бояре, воеводы и генералы также были удостоены золотых медалей (меньшего веса), кубков, кафтанов, денежных придан и вотчин. Полковникам и ротмистрам пожалованы были серебряные ковши, поместья и различные денежные суммы; младшие офицеры получили придачи поместных и денежных окладов.
«Со всею Европою знаемся»
В правление Софьи Алексеевны значительно расширились контакты России с европейскими государствами. В начале августа 1682 года подьячий Посольского приказа Дмитрий Симоновский был послан в Бранденбург, Голландию и Англию с «известительными грамотами» от 9 июня о воцарении государей Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича.
Пятого апреля 1686 года находившиеся в Москве польские послы Гжимультовский и Огиньский подали русским государям грамоту бранденбургского курфюрста Фридриха Вильгельма от 23 февраля, советовавшего царям заключить с Польшей вечный мир и союз, «дабы соединенными силами противу общих врагов, турок и татар действовать». Курфюрст со своей стороны обещал «лучшего своего войска несколько отправить для сего святого дела в Венгрию». 5 мая русские государи поблагодарили курфюрста за добрые намерения и известили, что «по желанию польского двора и его, курфирста, для целости всего христианства, при помощи Божией, заключен с Польшею вечный мир и союз противу помянутых христоненавистных неприятелей; о чем нарочные в Берлин в скорости присланы будут из Москвы посланники».{315}
Весной 1687 года в Берлин был отправлен в звании посланника дьяк Посольского приказа Василий Тимофеевич Посников «как с объявлением о заключенном с Польшею вечном мире и союзе оборонительном и наступательном противу турок и татар, так и с требованием, дабы курфирст послал войска свои в соединение к цесарским противу оных же турок». 16 (26) июня он заключил договор «о воздавании посланникам и гонцам во время их аудиенции достойной чести для пресечения обоюдных споров и противностей», согласно которому бранденбургский курфюрст при приеме российских посланников обязан был выслушивать титулы государей и говорить речи с «именованием» царских величеств «стоя, сняв шляпу, непокровенною главою», грамоты «своими руками, стоя ж непокровенною главою, принять», а во время прощальной аудиенции посланника «стоя ж и без шляпы» своими руками отдать «лист», то есть ответную грамоту царям.{316}
Получив у курфюрста «отпуск», Посников 9 августа вернулся в Москву, привезя ответную грамоту от 22 июня: Фридрих Вильгельм поздравил царей с заключением мира и союза с Польшей, «уверяя при том, что он от славного и святого сего предприятия, то есть союза противу турков, никогда не отступит».
Двадцать девятого апреля 1688 года Фридрих Вильгельм умер. Его наследник Фридрих III прислал русским государям через смоленскую почту «грамоту уведомительную», датированную 17 мая, о кончине отца, своем вступлении на престол и скорой присылке в Россию нового посольства.
Семнадцатого ноября в Москву приехал чрезвычайный посланник и тайный секретарь Иоганн Райер Чаплич. На царской аудиенции 22 ноября он подал две грамоты от курфюрста. Первая из них содержала кредитив посланнику, а во второй сообщалось о рождении наследника бранденбургского престола (курпринца) Фридриха Вильгельма. Затем Чаплич получил от государей дозволение «говорить о делах с министрами» и «подал на письме» несколько сообщений, в том числе уведомление, что курфюрст, «снисходя на просьбу» их царских величеств, посылал на помощь польскому королю «своих 2000 войск опытных и храбрых, но оные по неизвестной ему причине не были приняты».{317}
Странные дипломатические казусы связаны с неудачной попыткой России наладить союзнические отношения с Францией. 27 февраля 1687 года из Москвы выехало посольство к французскому и испанскому королям. В его состав входили ближний стольник князь Яков Федорович Долгорукий, стольник князь Яков Ефимович Мышецкой и дьяк Кирилл Алексеев. Их сопровождала внушительная свита — 150 человек. Наказ Посольского приказа, врученный Долгорукому 30 января, предписывал ему уведомить Версальский двор, что в России «с ними, великими государи соцарствует сестра их великая государыня, благоверная царевна и великая княжна София Алексеевна».{318}
Великие и полномочные послы 30 апреля сели на корабль в Риге и 30 июля достигли Парижа. Как справедливо заметила Линдси Хьюз, «наверно, самым неудачным оказалось посольство во Францию в 1687 г. Русские посланники Долгорукий и Мышецкий прибыли туда в самый неподходящий момент и попытались убедить заклятых врагов австрийцев начать войну с их традиционным союзником — турецким султаном».{319}
Второго августа послам была дана аудиенция у Людовика XIV. Долгорукий и Мышецкий, «изъяснив подробно о заключенном в Москве с Польшею вечном мире и союзе и объявив государей своих желание быть с ним королем в братской дружбе и в приятнейшем паче прежнего обращении», обратились к королю с речью:
— Русские государи весьма того желают, дабы ваше христианнейшее величество, по прежде начинательному своему доброжелательству, так же и по изображенному в постановлении между Россиею и Польшею вечного мира и союза общему желанию противу врага Креста Святого и всех христиан, благоволил с своей стороны оружие свое воздвигнуть, и военный наступательный производить промысл, помоществуя единогласно или войсками, или деньгами.
Министр иностранных дел Франции Шарль Кольбер маркиз де Круасси «именем короля своего отвечал»:
— Дело сие может управиться и без помощи французского двора. Его христианнейшее величество, наш всемилостивейший король Людовик XIV не может вступить в союз против Турции, так как между императором и им существует незапамятная, вечная вражда. Наоборот, султана и короля объединяют вечный мир и прочная дружба. Какой бы разум и славу король оказал на весь свет, если б стал помогать недругу на друга? Его величество не будет столь неосторожным, он мудр.
Король хотел вручить российским послам грамоту, но она не была принята по той причине, что цари в ней не были названы великими государями. Французы утверждали, что такой титул они никогда не применяли, однако послы не отступали от своего требования переписать документ. Даже несмотря на то, что французское Министерство иностранных дел лишило их обслуги и прекратило выплату «кормовых» денег, послы не сдались и не приняли королевскую грамоту. В отместку Кольбер запретил им проезд в Испанию через территорию Франции. 31 августа русские дипломаты отправились из Парижа в Гавр, а оттуда на корабле отплыли в испанский порт Сан-Себастьян.{320} 26 ноября они прибыли в Мадрид и 1 декабря получили аудиенцию у Карла II. На озвученную ими царскую просьбу дать в долг три или хотя бы два миллиона иоахимсталеров король ответил отказом и не дал никаких конкретных обещаний по части оказания помощи против турок. 15 мая 1688 года послы вернулись в Москву.{321}
Двадцать восьмого июня 1688 года появилось правительственное решение по поводу неудачного посольства во Францию:
«…государи, обще с царевною Софиею Алексеевною, слушав посольства князя Долгорукова, указали и бояре приговорили такой недружбе короля французкого: 1) что он в приеме и в отпуску их послов показал к ним государям нелюбовь свою и всякую противность, 2) что в союзе противу общих христианских неприятелей султана турецкого и хана крымского, противу желания их царских величеств, любя паче дружбу и приязнь с теми христианскими неприятелями, нежели с христианскими государями, отказал непристойными отговорками, — послать обвестительные свои грамоты чрез почту к цесарю римскому, к королям гишпанскому и английскому, к Венецианской Республике и к Голландским Статам; да и к нему французкому королю отписать пространно, вычитая ему всю противность, оказанную от него им государям в сем посольстве».
С этого времени между Россией и Францией прекратилось всякое письменное сношение.{322}
Шестнадцатого января 1689 года в Москву приехали французские иезуиты Филипп Авриль и Антуан де Боволье с рекомендательными грамотами от французского короля к русским государям и от французского посла в Польше маркиза Гастона де Бетюна к князю Василию Голицыну с просьбой пропустить этих миссионеров через территорию России в Индию и Китай. Через две недели дьяки Посольского приказа вернули иезуитам королевскую грамоту и «паспорты их за подписанием французского и польского королей» с отказом. Им было велено «тотчас ехать обратно тем же путем за границу; и сие для того, что 1) французский король в грамоте своей писал противно и необыкновенно; а 2) что во время посольства князя Долгорукова во Франции, многая им показана противность с безчестием Российскому государству».{323}
С другой стороны, установившиеся в царствование Алексея Михайловича отношения с Саксонией при Софье продолжали развиваться. 8 июня 1684 года в Москву прибыл саксонский посланник доктор Лаврентий Рингубер. На аудиенции у государей 20 июня он подал две грамоты. В первой, от саксонского курфюрста Иоанна Георга III, датированной 9 апреля, содержались поздравления государям «с восприятием российского престола» и просьбы начать военные действия против общего врага христианских народов — Османской империи и «дозволить живущим в Москве немцам свободное веры своея исповедание, подражая предкам государевым». Вторая грамота от 1 мая была от сына курфюрста, саксонского герцога Фридриха: поздравляя государей с вступлением на российский престол, он обещал прислать «разных мастеровых, людей искусных, в коих Россия имеет нужду». Выполнив свою миссию, Рингубер «просился паки отпустить его в Саксонию». 20 августа он получил у государей «отпуск», спустя десять дней — ответные «благодарительные» грамоты и вернулся в Дрезден.{324}
Особое место в системе дипломатических отношений России занимала Венецианская республика — союзница по Священной лиге. 16 февраля 1686 года находившиеся в Москве польские послы Гжимультовский и Огиньский подали русским государям грамоту от венецианского дожа Маркантонио Джустиниани, датированную 22 сентября 1685-го, с «уведомлением», что венецианцы, «по силе союза с цесарем и короною польскою, получили знатную над турками победу и остров Святого Мавра и крепость Провезу у них отняли». 5 мая русские государи «с теми же послами ответствовали», поздравив дожа с победами над «врагом христианства».
Пятого ноября 1686 года «писали государи к венецианскому доже чрез почту, объявляя о заключенном в Москве с Польшею мире и о союзе противу турков». В ответной грамоте дож поблагодарил царей «за учиненной противу турок союз».
В январе 1687 года отправленному в Вену послу боярину Борису Петровичу Шереметеву было дано предписание «по совершении дел у цесаря отпустить от себя в Венецию дьяка Ивана Волкова с толмачем греком Настасом Ивановым в посланниках» с объявлением о заключенном с Польшей «Вечном мире» и союзе. Иван Волков «с товарищи» — переводчиком Степаном Чижинским и подьячими Михаилом Волковым и Василием Несмеяновым — выехал 1 мая из Вены в Венецию, чтобы вручить дожу копию русско-польского договора и «требовать, какое Венеция имеет намерение по учиненному с Польшею союзу по прежде начинательному своему доброжелательству воевать противу турков и пошлет ли сею войною и в следующие годы воинскую с своей стороны помощь». 28 мая русские посланники приехали в Венецию, 8 июня и 2 июля они имели аудиенцию у дожа и получили от него два ответных письма, датированных 28 июня, «благодарительныя за уведомление союза противу турок». Иван Волков доставил их в Москву 6 октября.
Девятого марта того же года «писали государи к доже», извещая об отправке российских войск «противу татар к Крыму», и просили, «дабы с венецианской стороны равномерно поранее войска противу турков были отправлены». 26 июня через Польшу была получена от дожа «грамота благодарительная» от 17 мая «за отправление войск противу турок и татар». Затем Джустиниани прислал русским государям несколько грамот с уведомлениями об одержанных над турками победах, в том числе послание от 11 октября о взятии турецкой крепости Кастельново в Иллирике. 13 февраля 1688 года государи в ответной грамоте поздравили союзника с победой.
В том же месяце находившийся в Москве иеромонах Иоанникий Лихуд был отпущен в Венецию «для свидания с детьми своими». Оттуда он 21 сентября письменно обратился к Василию Голицыну с прошением прислать ему кредитив на чин посланника, при этом сообщил интересную информацию. Венецианцы спрашивали у него:
— Желают ли государи российские быть царегородскими императорами?
— Государи сего желают, — отвечал монах, — и для того близ Крыма построили на реке Самаре город.
Тринадцатого декабря к Лихуду был отправлен грек Спиридон Остафиев, с которым была передана грамота государей к новому дожу Франческо Морозини, которую «велено ему самому, Лихудию, подать и именоваться ему тамо российским посланником».
Тридцать первого июля 1689 года «послана государева к доже грамота чрез почту» с подробным описанием похода русских войск под Перекоп, где 15 и 17 мая они «кровопролитнейшее имели с татарами сражение, но за безводием принуждены отступить». В грамоте сообщалось также о постройке на Самаре земляной крепости и «отнятии у татар многочисленного полону», то есть освобождении большого числа христианских невольников.{325}
В правление Софьи Алексеевны осуществлялись эпизодические контакты с флорентийским (тосканским) двором. 17 июля 1684 года живущий и торгующий в Москве флорентийский купец Франческо Гваскони подал русским государям грамоту флорентийского герцога Козимо III от 1 мая с поздравлением царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича «с принятием российского престола» и просьбами «прислать к нему одного черкесского татарина и дозволить Гвасконию вступить в переговоры о торговле». Государи на эту грамоту ответили 8 апреля 1685 года, что «поздравление его, герцога, принято с удовольствием, что желаемый татарин пришлется, что Гваскони, не имея от него, герцога, полномочия, не вступил в договоры о торговле, и чтобы впредь он, герцог, присылал к ним, государям, грамоты, по древнему обыкновению прописывая прежде государев, а потом свой титул».
В 1686 году посланному в Англию дьяку Василию Посникову велено было заехать к флорентийскому герцогу «с грамотою объявительною о заключении с Польшею вечного мира и союза противу турков». В той же грамоте содержалась просьба о займе в 200 тысяч рублей, за который «заплачено будет» поташом, пенькой и хлебом. Козимо, в свою очередь, 22 февраля 1687 года поздравил государей «с восстановлением мира», но денег не дал, отговорившись тем, что «по силе договора с венецианами дает им противу турков ежегодно по тысяче человек войска и по сорок тысяч ефимков (иоахимсталеров. — В. Н.)».{326}
Состоялся также контакт с папским двором, однако этот эпизод внешней политики России нельзя признать удачным. 10 июня 1685 года австрийский посланник Иоганн Игнатий Курц подал русским государям грамоту Иннокентия XI от 5 августа 1684 года, «коею папа приглашал их величества в союз с прочими государями противу турков». В ответной грамоте было отмечено, что «цесарские в Москве бывшие прошлого года послы довольно о сей материи с боярами рассуждали и уповательно цесарь не преминул уже и ему, папе, о том сообщить». Таким образом, русский двор уклонился от вступления в антитурецкую коалицию до решения вопроса о «Вечном мире» с Польшей. С этим посланием вышел казус: «Хотя соответствованная грамота к папе римскому против списка с его папиной грамоты была ко отдаче гонцу и изготовлена, однако ж они великие государи и сестра их великия государыня той грамоты отдавать гонцу не указали, потому что в подлинной папиной грамоте, какову гонец подал великим государем, имянования и титул их государских по их государскому чину и достоинству не написано. И указали отпустить того гонца без грамоты, а грамоты к папе ему не давать».{327}
Любопытен также контакт России с Женевской республикой, связанный с именем знаменитого сподвижника Петра I Франца Лефорта. Женевский гражданин Лефорт поступил на русскую службу в 1675 году в чине капитана. В 1681-м он, «получа известие о смерти родителя своего в Цесарии, испросил дозволение отлучиться, для получения после него пожитков, на полгода». Возвратясь в Москву 23 октября 1682 года, Лефорт подал свидетельство города Женевы «о происхождении своем от благородного и патрического поколения», при этом просил, чтобы «его имя ведомо было в Иноземском, а не в Посольском приказе», то есть пожелал числиться не иностранцем, а военным специалистом на русской службе.
В то время брат Лефорта являлся членом Совета Женевской республики. В феврале 1687 года Женева обратилась с письмом к князю В. В. Голицыну «о произведении чином онаго Франциска Лефорта и о содержании его в любви и милости». 8 марта Голицын в ответном письме известил швейцарцев, что Лефорт «пожалован от государей полковником пехотного строю».{328}
В целом эпизодические контакты России со странами Европы, с которыми она не имела устойчивых дипломатических отношений, нельзя считать сколько-нибудь важными. Тем не менее они интересны как показатель желания правительства Софьи «знаться со всей Европой».
Уступка «врагам неведомым»
В середине XVII века началось активное освоение Приамурья русскими землепроходцами. В 1643–1646 годах якутские служилые и «гулящие» люди под предводительством якутского письменного головы Василия Даниловича Пояркова впервые проникли в бассейн Амура и достигли его устья. Это событие совпало по времени с важным поворотом в истории Китая — будущего соперника России в борьбе за обладание землями по левому берегу Амура. В 1644 году в Поднебесной империи вспыхнуло мощное крестьянское восстание, для подавления которого были призваны войска соседнего государства Маньчжу. Маньчжурская армия без боя заняла Пекин. Китайским императором был провозглашен маньчжурский принц Айсиньгёро Фулинь (Шуньчжи) — основатель династии Цин, правившей Китаем до 1912 года.
Тем временем освоение Приамурья русскими казаками и «охочими» людьми продолжалось. В 1649–1653 годах известный землепроходец, промышленный человек Ерофей Павлович Хабаров с отрядами хорошо вооруженных добровольцев вновь совершил походы к Амуру и привел местное население — дауров и дючеров — в российское подданство. В 1651 году на левом берегу Амура была возведена крепость Албазин, которой впоследствии суждено было стать камнем преткновения в русско-китайских отношениях периода правления царевны Софьи. Успешно осваивались другие земли амурского левобережья, прежде всего бассейна реки Зеи. Здесь были поставлены четыре острога, а также Зейское зимовье, население которого занималось земледелием, скотоводством, различными промыслами, разработкой полезных ископаемых и торговлей с местными племенами.{329}
Двадцать четвертого марта 1652 года произошло первое вооруженное столкновение русских с маньчжурами. Двухтысячное маньчжурское войско, напавшее на казачьи отряды численностью всего несколько сотен человек, было полностью разгромлено. Маньчжуры взяли временный реванш 30 июня 1658 года, когда их флотилия на Амуре нанесла поражение кораблям преемника Хабарова Онуфрия Степанова. Вслед за тем цинские войска разорили Албазин, однако тут же ушли. В 1665 году русские восстановили Албазинский острог, ставший форпостом освоения края, после чего почти 18 лет в регионе царило спокойствие.{330}
Второй император цинской династии Сюанье (Канси), вступивший на престол в 1662 году, сумел к началу восьмидесятых годов преодолеть сопротивление китайского народа маньчжурскому завоеванию. После этого целью цинской экспансии стали Приамурье и Забайкалье. В ходе подготовки к войне с Россией за Приамурье правительство Канси сфабриковало целую серию якобы исторических документов, «доказывающих», что приамурские земли, которыми Русское государство владело уже более сорока лет, «в действительности принадлежат Китаю» и захвачены русскими первопроходцами «воровским образом». Это была сознательная дипломатическая диверсия, призванная оправдать агрессивные намерения.{331}
В 1681 году на Амур были отправлены маньчжурские воеводы Лантань и Пончон — под видом охоты на оленей в Даурии и Маньчжурии, а на самом деле «для осмотра и запоминания русских мест». В июне и августе боярский сын Юрий Лаба, представитель нерчинского воеводы Федора Воейкова, провел с маньчжурскими военачальниками и чиновниками переговоры по поводу русской крепости на реке Зее, которую император требовал снести, в противном случае угрожая войной. Лаба решительно заявил:
— Зейский острог построен по указу великого государя навечно и разорен не будет. Земля по Зее-реке до нашего приходу ничья была и никогда богдыхану не принадлежала. Мы здесь первыми поселились, и земля здешняя теперь русским государям подвластна.
Маньчжурский чиновник в свою очередь объявил ультимативное требование словами императора Канси:
— На Зее искони земля моя, а на той земле поставлены ваши избы, и в этом ваша неправда. Вы своих людей оттуда сведите. А если не сведете, то на пограничной земле драка будет, а после драки я моею большою силою ваших людей с позором сгоню. И в эту пору на нас не жалуйтесь.
С этим тревожным сообщением Лаба в начале октября 1681 года вернулся в Нерчинск. Пока велись переговоры, к Албазину подошло маньчжурское войско в тысячу человек, крепость была осмотрена со всех сторон, однако напасть на нее так и не решились.
Следующим летом по приказу Канси с устья реки Сунгари и новую маньчжурскую крепость Айгун были передислоцированы десятитысячное войско и флот под командованием Лантаня. Они не пропускали казаков вниз по Амуру, нападали на небольшие казачьи отряды и брали русских в плен. Одновременно частью айгунских войск были атакованы небольшие отряды албазинских казаков, которые были частично перебиты и взяты в плен. Затем маньчжуры разорили маленькие русские остроги по Зее, Бурее, Хамуну и Селимбе. Укрепившись на левом берегу Амура, они сосредоточили силы возле Албазина, являвшегося ключом ко всему русскому Приамурью.{332}
Тревожные вести с Дальнего Востока вызвали ответные меры правительства Софьи Алексеевны. В конце 1682 года было принято важное решение об образовании нового Албазинского уезда, то есть административном оформлении и юридическом закреплении приамурских земель за Россией. Историк В. А. Александров отметил большое значение этого постановления правительницы для укрепления позиций России на левом берегу Амура: «Выделение Албазина из состава Нерчинского уезда и образование отдельного Албазинского уезда, охватывавшего территорию собственно Приамурья, было демонстративно политическим актом, которым правительство подчеркивало незыблемость присутствия на Амуре русской администрации, по своим правам ничем не уступавшей воеводам других сибирских уездов».{333}
Воеводой в Албазин был назначен сын бывшего нерчинского воеводы Алексей Толбузин, пользовавшийся большим авторитетом среди даурского казачества и прочего русского населения Приамурья. Он немедленно сообщил в Москву об опасном положении Албазина, в котором насчитывалось не более 450 защитников и имелись скудные боеприпасы: 16 пудов пороха и десять пудов свинца, тогда как маньчжуры сосредоточили на Амуре войска общей численностью до 15 тысяч человек.
В ответ Софья Алексеевна царской грамотой от 20 апреля 1683 года предписала «наспех» набрать в Тобольске, Енисейске и других сибирских городах тысячу казаков и послать в Даурию. «Новоприборным казакам» повелевалось выдать царское жалованье — по пять рублей человеку, а всего пять тысяч рублей и 500 ружей-пищалей, а кроме того, хлебное жалованье из зерна «енисейской пахоты и из покупных и хлебных запасов».{334}
Сибирские воеводы выполнили указ правительницы из рук вон плохо — сумели набрать для отправки в Даурию только шесть сотен служилых людей из Тобольска, не снабдив их в нужном количестве ни оружием, ни продовольствием. В результате «новоприборные» по дороге подняли бунт, ограбили воеводу и приказчиков и угрожали их утопить. Навести порядок в мятежном войске удалось с большим трудом. Из-за всех этих перипетий отряд двигался в Даурию очень медленно и не успел вовремя прийти на помощь защитникам Албазина.
В конце 1684 года цинские войска вплотную подошли к острогу и захватили в плен всех русских, оказавшихся вне укреплений. Осада продолжалась несколько месяцев, а 10 июня 1685 года был предпринят штурм крепости. Войска под командованием Лантаня подплыли по реке к городу на ста судах, на каждом от тридцати до пятидесяти воинов. С суши подступила конница «с тысячу человек». У маньчжуров было 100 полковых пушек и еще 40 «ломовых больших», то есть мортир. Артиллерией заведовали «немцы», то есть наемники-европейцы.
В Албазине, как уже говорилось, находилось лишь около 450 человек, способных носить оружие, с тремя пушками и всего четырьмя ядрами к ним. Тем не менее защитники крепости, оборонявшиеся с невероятным героизмом, сумели отбить приступ и ответили рядом вылазок. Тогда Лантань решил уничтожить Албазин огнем. Крепость была обложена грудами дров и подожжена со всех сторон. Оставаться в охваченном пламенем городе было невозможно, и Толбузин вступил в переговоры с Лантанем об условиях капитуляции. Русский воевода потребовал пропустить его со всеми людьми и оружием в Нерчинск. Маньчжурский военачальник, заранее уполномоченный императором принять любые условия русских, согласился. Защитники крепости ушли в Нерчинск «босые, раздетые и голодные, питаясь травою и кореньем». Албазин был уничтожен до основания, после чего войска Лантаня отступили к крепости Айгун.
Узнав об уходе маньчжуров, албазинцы, усиленные отрядом из семидесяти нерчинских казаков, поспешили вернуться. Найдя в целости свои поля, они убрали хлеб, а затем приступили к постройке новой крепости. Новый Албазин, воздвигнутый на прежнем месте, был обнесен земляным валом высотой и полторы сажени (чуть более трех метров). Чтобы предотвратить поджоги, вал облили жидкой глиной и обложили дерном. Затем вырыли новый колодец и почти полностью завершили строительство в том же году, не успев только возвести кровлю на башнях из-за наступления холодов. В весенние месяцы следующего года работы возобновились и в июне были полностью завершены.{335}
В середине ноября 1685 года казаки, отпущенные из китайского плена, привезли в Москву грамоту императора Канси московским государям с претензиями к России и предложением заключить мир с определением границы. 26 ноября 1685 года правительница Софья по докладу Посольского приказа вынесла резолюцию:
«С китайским ханом учинить против прежних и нынешних писем… обсылку — для чего он, хан, оставя прежнюю дружбу и любительную ссылку, всчал с нами, великими государи, порубежную вражду и ссоры, и ис порубежного их государского города Албазина их государских жилецких и ясачных людей выслал. И чтоб он, хан, впредь ратных своих людей на порубежные места не посылал, а которые посланы, и тех бы велел свести».{336}
В декабре 1685 года правительство Софьи приняло решение об отправке посольства к китайскому императору. Первым послом был назначен Федор Алексеевич Головин — будущий знаменитый сподвижник Петра I в военных и дипломатических делах. Для придания посольству большего веса Софья пожаловала Головина из стольников в окольничие и дала ему ничего не значивший, но громкий титул брянского наместника. Федор Алексеевич был известен как человек умный, способный и широко образованный. При выполнении миссии ему особенно пригодилось хорошее знание латыни. Его отец боярин и воевода Алексей Петрович Головин успел передать сыну основательный административный опыт. В 1681 году они вместе были на воеводстве в Астрахани, где молодой человек проявил и смелость, и осмотрительность в управленческих делах. Вторым послом стал Иван Астафьевич Власов, константинопольский грек, верно служивший России уже несколько десятилетий. Вся его административная деятельность была связана с Сибирью. Он долгое время трудился на посту товарища енисейского воеводы, затем был селенгинским и иркутским воеводой. В 1683 году, в сложный момент начала маньчжурской экспансии на приамурские земли, Софья Алексеевна определила его воеводой в Нерчинск. При назначении в посольство правительница пожаловала Власову чин стольника и для большей важности дала ему титул елатомского наместника.
Наказ, составленный Посольским приказом, предписывал дипломатам во время переговоров требовать проведения границы по Амуру, а в случае упорного несогласия цинских представителей разрешено было согласиться на установление границы «по Албазин», то есть уступку Китаю полосы на левом берегу Амура, за исключением Албазина. Послы должны были договориться о беспрепятственной торговле, обмене пленными и перебежчиками, а также о взаимном признании титулов монархов, «как каждый государь себя именует», за исключением величания китайского императора «всего света владетелем».{337}
Двадцать шестого января 1686 года посольство Головина двинулось в путь на пятидесяти подводах. В свите великого посла кроме множества дворян находилось полтысячи московских стрельцов. Спустя два месяца делегация прибыла в Тобольск, где с декабря 1685 года воеводой служил Алексей Петрович Головин. Он оказал сыну большую помощь, передав значительный по численности отряд солдат и казаков-разведчиков. С марта по май Федор Головин занимался комплектованием своего полка, верстая в служилые казаки пашенных крестьян и даже уголовных и политических ссыльных, поскольку людей не хватало. В конце мая посольство со свитой, солдатами и пушками отправилось из Тобольска на двадцати трех дощаниках вниз по Иртышу к Оби. По дороге в сибирских городах Головин продолжать набирать «охочих» людей, увеличив подчиненное ему войско до двух тысяч человек — 500 стрельцов и около полутора тысяч «новоприборных» служилых казаков.
Тем временем цинские войска под командованием Лантаня попытались во второй раз овладеть Албазином. 6 июля 1686 года к городу по реке вновь подошли полсотни вражеских «бусов» — больших лодок, в каждой по 30–40 маньчжурских солдат. По суше подошла конница — более трех тысяч воинов. В это время в Албазине было всего 826 человек, способных вести оборону.
Началась новая осада крепости. Маньчжуры под руководством иностранцев-наемников вели стрельбу по Албазину из нескольких малых пушек и мортиры — большой «дракон-пушки». Русские отвечали пушечной пальбой и неоднократными вылазками. В армии Лантаня лишь немногие воины умели обращаться с огнестрельным оружием, а прочие стреляли из луков, поэтому защитники Албазина имели неоспоримое преимущество перед численно превосходящим противником. Маньчжуры особенно боялись рукопашного боя с русскими казаками и во время их вылазок в панике отступали к своему лагерю. В сентябре 1686 года воевода Толбузин был сражен пушечным ядром на стене крепости, и руководить обороной стал казачий голова Афанасий Бейтон.
Осада Албазина продлилась десять месяцев. К весне 1687 года положение маленького гарнизона стало критическим: осажденные голодали, не было дров, началась цинга. К маю в живых осталось только 70 человек, которые продолжали обороняться. Цинским войскам так и не удалось захватить Албазин. С наступлением лета Канси отдал приказ об отступлении, поскольку до него дошли известия о приближении посольства Головина с войсками. Маньчжуры отступили от Албазина вниз по Амуру на четыре версты, где простояли всё лето, пока 30 августа 1687 года не отошли к устью Зеи.
Из Селенгинска Головин 19 ноября 1687 года отправил к пограничным китайским воеводам чиновника посольства Степана Коровина с письменным уведомлением о своем прибытии, требованием довести до богдыхана (императора) намерение русских государей начать мирные переговоры и предложением назначить место для встречи представителей сторон.
Между тем правительство Софьи продолжало разрабатывать условия договора с Китаем, допуская дальнейшие уступки во имя установления мира с восточным соседом, принимая во внимание сложную обстановку в европейских международных отношениях и нестабильную политическую ситуацию в Москве. Неудача первого Крымского похода, необходимость подготовки нового наступления на Крым, разногласия с союзниками по Священной лиге, нереализованные планы Софьи венчаться на царство, активизация группировки Нарышкиных — всё это делало невозможной упорную борьбу с Цинской империей на дальневосточных рубежах. Отдаленные земли тогда еще не казались русскому правительству настолько ценными, чтобы за обладание ими вступать в схватку с могущественным и воинственным противником. Маньчжуры — «враги, доселе незнаемые», проявившие упорство в стремлении разрушить албазинский форпост на Амуре — издалека казались грозной силой.
Исследовательница русско-китайских отношений 1680-х годов П. Т. Яковлева установила целый комплекс причин, не позволявших России в то время продолжить военное противостояние с Китаем: «Воеводы Албазина, Нерчинска, Иркутска, Енисейска и почти всех восточносибирских городов жаловались царю на малочисленность гарнизонов, на недостаток пушек, пороха и свинца. Дальность расстояния от центра России не представляла реальной возможности в короткие сроки осуществить переброску сюда достаточных военных сил. Снабжение служилых людей продовольствием также являлось делом чрезвычайно сложным и трудным из-за бездорожья, суровых зимних холодов и сравнительно слабой заселенности обширной Сибири».{338} Таким образом, правительство Софьи Алексеевны в тогдашних непростых политических условиях имело достаточно оснований предпочесть мир с Китаем продолжению войны за обладание сравнительно небольшой территорией по левому берегу Амура.
Шестого июня 1687 года в Москву были доставлены донесения Головина о ситуации в Даурии. Несмотря на прекращение албазинской осады, враждебность Китая сохранялась. Посол приложил к своим грамотам письмо русского гонца Никифора Венюкова, побывавшего в Пекине в октябре 1686 года. Тот со всей определенностью утверждал: «…ближние люди говорят… чтоб Албазину конечно за великим государем не быть».
Во время прибытия курьера с известиями от великого посла в Москве не было ни правительницы Софьи, уехавшей в конце мая на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, ни руководителя внешней политики России князя Голицына, который еще не вернулся из Крымского похода. Основную роль в окружении Софьи в тот момент играл Федор Шакловитый, которому Голицын, безусловно, доверял, зная о его фанатичной преданности правительнице и будучи убежден в своих прочных дружеских отношениях со вторым фаворитом. «Я во всех своих делах надежду имею на тебя, — писал он Шакловитому из Крымского похода, — у меня только надежы, что ты». Во время отсутствия Голицына в столице основные дела Посольского приказа находились в руках Шакловитого, о чем свидетельствуют его пометы на донесениях Головина.{339}
После возвращения в Москву Софья провела в очень узком кругу правительственное совещание по дипломатическим делам, в решения которого не сочла нужным посвящать ни Боярскую думу, ни даже Посольский приказ. Точная дата совещания неизвестна, но оно состоялось между 8 и 14 июня 1687 года — между прибытием государыни в столицу и отправкой ответной грамоты Головину. Софья с приближенными обсудила и утвердила новый наказ послу из семи статей. Можно не сомневаться, что документ был написан Шакловитым.
Согласно наказу, уточняющему возможные условия мирного договора с Китаем, посол должен был по-прежнему «настаивать, чтобы между русскими и китайскими владениями границею была написана река Амур; если китайцы не согласятся, домогаться всячески, чтоб быть границею Албазину». Однако затем давалось новое предписание: при несговорчивости маньчжурских представителей в крайнем случае соглашаться на потерю Албазина («чтобы в Албазине острогу и поселению, и в том месте ратным людем с обоих сторон ныне и впредь не быть»). Таким образом, наказ не допускал уступки крепости маньчжурам: в случае невозможности удержать ее за Россией она должна была быть разрушена, а впредь на этом месте не допускалось строительство ни русского, ни китайского форпоста. Наказ повелевал в этом случае «нынешнее строение снесть и ратных людей вывесть, чтоб вперед у албазинских жителей с богдыханскими подданными ссор не было, но чтоб русские промышленные и служилые люди могли свободно промышлять в албазинских местах, также по рекам Быстрой и Зии».
Следующая статья предписывала Головину в случае несогласия цинских представителей даже на такие условия «отложить заключение мира до другого времени и постановить, чтоб до окончания переговоров русские люди свободно промышляли в означенных местах». Посол должен был вести речь с маньчжурскими уполномоченными «пространными и любовными разговорами», а «войны и кровопролития, кроме самой явной от них недружбы и наглого наступления, отнюдь не начинать». Наконец, последняя статья наказа повелевала «разведать подлинно и рассмотреть» военные обычаи маньчжуров, что представлялось русскому правительству важным на будущее, поскольку возможность мирного урегулирования с Китаем на длительный срок, по-видимому, вызывала сомнения.
Этот наказ первый посол получил 10 октября 1687 года. В июне следующего года прибывший из столицы в Селенгинск подьячий Посольского приказа Иван Логинов привез очередные инструкции, составленные на этот раз самим князем Голицыным, но, впрочем, в основном повторявшие предписания, разработанные Шакловитым.
Тридцатого мая 1688 года китайское посольство наконец выехало из Пекина. На границе с Монголией они узнали, что на ее территории началась война — властитель могущественного Джунгарского государства Галдан напал на монгольских ханов. В письме Головину с дороги китайские послы сообщили: «…мы поворачиваем обратно, так как военные действия мешают нашему продвижению».{340}
В июне цинские министры уведомили Головина, что император назначил местом переговоров Селенгинск и что китайское посольство будет состоять из пяти сановников в сопровождении пятисот солдат охраны. Однако 2 августа к русскому дипломату прибыл полковник цинской армии с сообщением, что императорские послы отложили приезд в Россию до будущего лета и что их свита будет составлять от двух до трех тысяч человек.
В начале 1689 года Головин получил известие из Пекина о решении императора Канси проводить переговоры не в Селенгинске, а в Нерчинске. 3 июня цинское посольство выехало из Пекина. В этот раз оно очень торопилось: расстояние в 1100 верст было преодолено за 47 дней. Уже 19 июля китайские полномочные послы в сопровождении 15 тысяч «охранного войска» с пятьюдесятью пушками подошли к Нерчинскому острогу и остановились в версте от города, при впадении реки Нерчи в Шилку. Туда же поспешил со своей маленькой армией Головин, прибывший к месту проведения переговоров 9 августа. В Нерчинске он наконец-то встретился со вторым послом Иваном Власовым, знатоком восточносибирской специфики, и детально обсудил с ним задачи и возможности порученной миссии.
Цинское посольство состояло из важнейших сановников. Первым послом был князь Сонготу, носивший титул «великого государственного советника». Вторым послом являлся князь первой статьи, главный начальник над государственным знаменем (главнокомандующий) Тун Гуеган, дядя богдыхана по матери. Третьим послом был определен начальник знамени (армейского корпуса) Лантань, прежде руководивший военными действиями против Албазина и хорошо знавший обстановку в Даурии. Теперь ему было поручено командовать маневрами цинских войск на случай, если переговоры зайдут в тупик.
В свиту посольства также входили крупные чиновники и военачальники: главный государственный судья Арани, прокурор «правой и левой стороны» императорских владений Маци, начальник лейб-гвардии Мала, губернатор и командующий войсками в странах, сопредельных с Амуром, Сапсу, заместитель управляющего внешними провинциями Уньда и второй начальник одного знамени Аюси. В состав посольства входили двое монахов-иезуитов — испанец Томас Перейра и француз Жан Франсуа Жербийон, пользовавшиеся особым доверием и расположением Канси. Формально они исполняли обязанности переводчиков (переговоры с обеих сторон велись на латыни), но на деле активно вмешивались в ход переговоров, отстаивая интересы богдыхана.
Головин и Власов потребовали, чтобы китайское войско, сопровождавшее послов, отступило от Нерчинска. Решено было оставить с каждой стороны охрану по 500 человек. Прочие цинские войска должны были находиться за рекой Шилкой и не приближаться к городу, а основные русские силы, наоборот, не имели права покидать Нерчинск. Съезд дипломатических представителей постановлено было провести в полуверсте от города, в поле между Шилкой и Нерчей.
Переговоры начались 12 августа. Русские и китайские представители расположились в двух шатрах, поставленных в нескольких метрах друг от друга. Передние стенки шатров были сняты, поэтому послы с обеих сторон могли прекрасно видеть и слышать друг друга. Русские сели в кресла перед большим столом, задрапированным персидским шелковым ковром, на котором стояли чернильница с письменными принадлежностями и дорогие европейские часы с боем, а позади стояли свитские дворяне. Восемь китайских вельмож, поджав ноги, расположились на широкой скамье, покрытой войлоком. Иезуиты сидели немного в стороне на маленькой скамейке. За спиной цинских послов на войлочном полу уселись пять полковников, несколько чиновников-мандаринов и остальная свита.
После обмена приветствиями Головин через переводчика объявил:
— Цель нашего приезда состоит в прекращении неудовольствий от набегов войск богдыхана на русские города. Ваше правительство, не обославшись с русскими великими государями письменными известиями, начало войну. Требуем, чтобы теперь всё было успокоено, а захваченное вами возвращено в русское владение.
Китайские послы высказывали встречные претензии:
— Русские казаки пришли в нашу землю, построили Албазин и в продолжение многих лет чинили китайским ясачным полям нестерпимое насилие. Его императорское величество послал войско, которое взяло Албазин. Воеводу Толбузина отпустили, потому что он обещался назад не приходить, нового города не строить, ссор и задоров не заводить. Это обещание исполнено не было. Его величество опять послал войска под Албазин, но как скоро узнал о приближении вашего великого посла для переговоров, велел осаду снять и от города отойти. Мы решительно настаиваем на том, что земля, на которой стоит Албазин, и вся Даурская страна принадлежат Цинской империи.
Головин возразил:
— Если были какие-нибудь обиды со стороны русских людей, то богдыхану следовало дать знать о них великим государям, как заведено у всех народов, а не начинать прямо войну. Земля, где построены Нерчинск, Албазин и другие остроги, никогда во владении богдыхана не бывала. Жившие на той земле ясачные люди платили ясак в сторону царского величества. А если когда-нибудь в древние времена они и платили ясак богдыхану, то делали это поневоле, потому что те места были тогда от русских городов в дальнем расстоянии. Когда же подданные царского величества построили в тех местах Нерчинск, Албазин и другие остроги, тогда даурские жители охотно стали платить ясак в сторону царского величества. А если богдыхан и собирал временами подати с даурских земель, то делал это незаконно, пользуясь тем, что Русское государство очень обширно и уследить за всеми землями трудно.
Цинские дипломаты продолжали настаивать:
— Землей по реку Амур русские никогда не владели. Вся страна по эту сторону Байкала-моря принадлежит его императорскому величеству богдыхану, ибо она принадлежит мунгальскому хану, а мунгальцы все издавна подданные китайские.
Споры затянулись, каждая сторона повторяла свою точку зрения по нескольку раз, не принимая никаких возражений. Продолжать дискуссию в таком ключе не имело смысла, поэтому Головин решил перевести переговоры на более конкретную почву, предложив точно определить рубежи государств:
— Границею должна быть река Амур до самого моря. Левой стороне быть под властию царского величества, а правой — под властию богдыхановой.
Китайские представители, явно с подачи иезуитов, попытались блеснуть историческими знаниями:
— Вся река Амур по обоим берегам состояла во владении богдыхана от самых времен Александра Македонского.
— Об этом хрониками разыскивать долго, — возразил не менее образованный Головин. — После Александра Великого многие земли разделились под державы многих государств.
— Даурские земли с тех времен были китайскими, — продолжали настаивать имперские послы, — а после они принадлежали Чингисхану. Потомком великого властителя является нынешний богдыхан, поэтому земли по обеим сторонам Амура должны принадлежать ему.
Этот аргумент был слабым, поскольку проследить родственные отношения династии Цин с Чингизидами вряд ли возможно. Головин категорически отверг ссылки на связь Даурии с Китаем через властителей Золотой Орды:
— Земли эти ни китайскими, ни мунгальскими никогда не были. Кочующие там народы сперва никому ясак не платили, а потом стали платить его русским государям. Российская держава никому не уступит ни этих земель, ни своих ясачных людей.
Таким образом, переговоры на первом съезде зашли в тупик.
На следующий день цинские дипломаты попытались продолжить бессмысленные исторические споры. Головин опять перевел обсуждение вопроса о приамурских владениях в конкретное русло:
— Надобно, чтоб великие послы о границе предлагали, а иные лишние разговоры отставили. Границу по реке Амуру определить положено, потому что во многих местах построены были со стороны царского величества на той реке остроги, и из давних лет та река принадлежит ко владению стороне царского величества.
— Даурия принадлежит его величеству богдыхану, — вновь доказывали цинские послы, — и границе следует быть за нею. А если русским послам не указано даже думать о такой границе, так и не о чем говорить. Пусть русский царь пришлет богдыхану других послов, которые уполномочены будут учредить справедливую границу.
Тут Головин выразил недоумение по поводу перемены настроения китайских дипломатических представителей:
— На вчерашнем съезде разговоры велись дружески, великие послы любезность и разум являли. Удивительно, что ныне они переменились и говорят столь грубо. Разве вы, великие послы, присланы от государя своего не для договоров вечного мира и разграничения земель?
Первый посол Сонгуту ответил на слова Головина тирадой на маньчжурском языке, а Жербийон перевел ее на латынь:
— Установить иной границы нам его величеством богдыханом не указано, и больше нам говорить с русскими послами не о чем. Если царь не пришлет других послов или если нынешнее посольство не согласится на границу за Даурией, то его величество богдыхан сам ее установит, а ныне к Албазину выслано ратных людей многое число.
Головин в ответ заметил:
— При посольских съездах нет обычая грозить войной. Если вы хотите войны, то объявите об этом прямо. Нам ваши ратные люди не страшны, о чем великие послы и сами ведают доподлинно.
Понимая латинский язык, Головин внимательно следил за переводом своих слов и неоднократно замечал, что Жербийон извращает его речи. Он предположил, что иезуит искажает также речи цинских послов, поэтому приказал толмачу Андрею Белободскому перевести свое последнее высказывание не на латынь, а на монгольский язык, который цинские послы понимали. Подозрения Головина оправдались: китайские уполномоченные, выслушав его речь по-монгольски, выразили удивление:
— Мы говорили только о границе, а о новом приводе наших войск никаких слов не было.
После этого цинские послы некоторое время обсуждали создавшуюся ситуацию по-маньчжурски, и никто из русских по незнанию этого языка не мог их понять. Однако Головин по мимике и жестикуляции уполномоченных не без основания решил, что те выражают презрение к иезуитам, вздумавшим вести странную игру. Русские предложили удалить коварных европейцев и отныне вести переговоры по-монгольски. Однако цинские представители не посмели нарушить предписания императора Канси, и иезуиты остались в роли переводчиков.
Впрочем, теперь часть своих речей китайские послы произносили по-монгольски, чтобы быть полностью уверенными, что информация дойдет до русской стороны без искажений. Но и на монгольском языке цинские представители продолжали настаивать на установлении границы по Байкалу. Головину пришлось предложить в качестве рубежа реку Быструю. Тогда китайцы объявили «последнее слово»:
— Пусть граница будет по город Нерчинск. Левой стороне, идя вниз по реке Шилке к Нерчинску, быть за царями, а правой стороне до реки Онона и самой реке Онону быть за его величеством богдыханом по реку Ингоду.
Это означало для России потерю всего Приамурья и значительной части Забайкалья. Головин решил ответить на эти явно неприемлемые условия шуткой:
— Благодарю вас, что вы не высылаете меня еще из Нерчинска.
В ходе дальнейшей дискуссии цинские послы подолгу молчали, давая понять, что говорить больше не о чем и им хотелось бы поскорее уехать. Тогда Головин внес новое предложение: провести границу по притоку Амура Зее, чтобы, начиная от нее, левому амурскому берегу быть за Россией, а правому — за Китаем. Цинские представители отвергли эту инициативу:
— Кроме Нерчинска далее границы мы чинить не будем, и обсуждать тут больше нечего. Нерчинск тоже стоит на земле его величества богдыхана, но он уступает этот город России, чтобы из него русские приходили торговать с Китаем.
Сославшись на позднее время, императорские послы начали готовиться к отъезду. Переговоры зашли в тупик: обе стороны не желали идти ни на какие уступки. После второго съезда китайцы приказали убрать свои шатры и заявили, что завершают свою миссию, поскольку позиция русских послов для них неприемлема. Головин с Власовым уехали в Нерчинск. Вскоре туда явились иезуиты с вопросом, какая будет уступка с русской стороны.
— Никакой, — ответил Головин.
Иезуиты начали тайно внушать Белободскому:
— Мы приводим китайцев ко всякой склонности, а то они обычаев политичных государств не знают и к войне склонность немалую имеют. Поставить границу по реку Зею они никогда не согласятся.
По приказу Головина толмач ответил иезуитам:
— За ваше радение об интересах их царских величеств будет вам милость великих государей. А войны русские не боятся.
В следующий раз монахи явились в Нерчинск с новыми предложениями:
- Китайские послы согласны на уступку — быть рубежу вниз по реке Шилке, по реку Черную. Правая сторона останется за китайцами, левая — за русскими, а от Нерчинска до реки Черной ходу семь дней, это уступка большая.
— Ниже Черной реки, — ответил Головин, — по обоим берегам Шилки построены русские острожки, которых уступить нельзя. Албазин стоит ниже Черной, от него до этой реки будет также дней семь или больше ходу.
Иезуиты продолжали настаивать:
— Богдыхан наказал своим послам ни за что не оставлять Албазина в русской стороне, об этом и речи быть не может. Есть там еще Аргунский острог, но в нем большого поселения нет, поэтому русским нетрудно будет уступить его в богдыханову сторону.
Между тем китайцы начали переманивать бурят и онкотов, находившихся в русском подданстве, под свою власть. Головин оказался в сложном положении. В донесении русским государям он сообщил, что, «видя соглашение китайских послов с изменниками и великое упорство в определении границ, боясь, чтоб китайцы, по объявлении войны, не побрали всех ясачных иноземцев в свое владение и не разорили Даурской земли», отправил к цинским представителям Андрея Белободского «с предложением границы по Албазин, и промыслы иметь в зийских местах сообща». Толмач объявил китайским вельможам:
— Великие послы соглашаются именем государей постановить границу на том месте, где построен Албазин. В Албазине городу и поселению никакому не быть с обеих сторон, нынешнее строение разорить и ратных людей вывезти.
— Мы не согласны, — ответили оппоненты. — Этих мер недостаточно. Своевольники русские люди соберутся и построят опять, хотя и не в том самом месте, но близ Албазина другие крепости. Так они и Албазин построили воровским обычаем, без царского указа.
Китайские послы со свитой сели на бусы и поплыли вниз по реке Шилке. На горных склонах вокруг Нерчинска появились вооруженные китайцы численностью до трех тысяч человек, которые разбили военный лагерь за полверсты до города. Головин со стрелецкими полками нерчинского гарнизона и с казачьей конницей вышел навстречу врагам и приготовился к бою. Обороняться в самом Нерчинске было нельзя, поскольку, как сообщал великий посол в донесении в Москву, «острог очень мал и худ и к воинскому промыслу безнадежен». Однако напасть китайцы не решились.
Тем временем посланный Головиным Белободский догнал китайское посольство. Цинские вельможи объявили «последнюю меру»:
— Быть границею реке Горбице, которая впадает в реку Шил-ку близ реки Черной, а с другой стороны быть границе по реку Аргунь и вверх Аргуни до реки Большого Годзимура, которая впадает с левой стороны. Аргунский острог снести и на Аргуне никаких крепостей и поселений не иметь. Албазин разорить, а с китайской стороны в этом месте никакого поселения не будет.
Дальнейшие переговоры велись через пересыльных людей. Российская сторона продолжала настаивать, что Албазин должен остаться «на стороне царского величества»; китайская не соглашались. Тем временем осада Нерчинска продолжалась, а с 20 по 23 августа воевода Лантань провел тщательную подготовку к штурму русской крепости. Вражеский флот поднялся по реке к самому городу, приблизились и сухопутные войска. Военное столкновение казалось неизбежным. У Головина было мало шансов отбить нападение противника, по численности превосходившего русские силы в десять раз.
В создавшихся условиях московские послы приняли решение пойти на самую крайнюю уступку, предусмотренную предписаниями: отказаться от Албазина и согласиться на установление границы по Горбице и Аргуни, а далее по Становому хребту до Охотского моря. Таким образом, Россия теряла почти все земли по Амуру.
Двадцать седьмого августа 1689 года состоялся третий посольский съезд. На этот раз шатры были поставлены в 50 саженях от передовых укреплений Нерчинска. После церемонии взаимных приветствий переводчики по очереди прочитали текст договора на трех языках: русском, маньчжурском и латинском. Текст на латыни был составлен в двух экземплярах для подписи обеими сторонами. Договор гласил:
«Река, называемая Горбица, которая расположена близ реки Черной… и впадает в реку Сагалиен-ула, составляет рубеж между обеими империями. Также от вершины скалы или каменной горы, на которой находится исток и начало вышеназванной реки Горбицы, и через вершины той горы до моря владение империй так разделить, чтобы все земли и реки, малые или большие, которые от южной части той горы впадают в реку Сагалиен-ула, быти под властью Китайской империи, все же земли и реки, которые с другой стороны горы простираются к северной стороне, остаются под властью Российской империи, таким образом, чтобы реки, впадающие в море, и земли, находящиеся в промежутке между рекой Удью и вершиной горы, указанной в качестве рубежа, оставались бы до времени не определенными…
Также река, называемая Аргунь, которая впадает в вышеназванную реку Сагалиен-ула, определяет границы так, что все земли, которые с южной стороны, принадлежат Китайской, а те, которые с северной стороны, — Российской империи».
Неопределенность основных статей Нерчинского договора фактически привела к тому, что граница на нескольких важнейших отрезках осталась условной. Часть земель осталась неразграниченной — рубежи были «до времени не определенными». Включение в текст договора данного условия явилось большой победой русской дипломатии. Другим ее достижением стало обязательство китайской стороны не заселять отходившие к Цинской империи приамурские земли. Таким образом, китайский суверенитет над этой территорией был ограничен. По существу Приамурье не было присоединено к цинским владениям, а превратилось в пустынную буферную зону между двумя государствами.{341} Подобная неопределенность статуса этих земель также оставляла возможность для будущего пересмотра договорных обязательств.
Утверждение статей трактата было обставлено с подобающей торжественностью: первые послы Сонгуту и Головин взяли оформленные тексты в руки и от имени своих государей поклялись в нерушимом соблюдении соглашения. 30 августа цинское посольство выехало в Пекин. Головин со своими служилыми людьми отправился из Нерчинска в Иркутск, а оттуда через Тобольск и Соликамск в Москву. Албазин по царскому указу вскоре был разрушен до основания самими жителями под руководством полковника Бейтона, а население и гарнизон крепости переведены в Нерчинск. Аргунский острог в соответствии с договором перенесли на северный берег Аргуни.
Подписание Нерчинского трактата нельзя считать поражением русской дипломатии, как иногда делают историки. В сложнейших условиях переговоров под угрозой применения китайской стороной военной силы российское посольство решительно отвергло претензии на русские земли вплоть до Нерчинска и добилось вполне приемлемых условий мира. Удержать за собой Приамурье в тогдашней ситуации Россия была не в состоянии. Цинское правительство твердо вознамерилось уничтожить Албазинский форпост и не допускало возможности сохранения его под властью русских государей. Дальнейшее упорствование российских послов в данном вопросе непременно привело бы к срыву переговоров и началу широкомасштабной войны с Китаем, для ведения которой у России было слишком мало сил на дальневосточных рубежах. Кроме того, Русское государство в тот момент воевало с Турцией и Крымом, поэтому эскалация напряженности на Амуре угрожала перспективой вести войну на двух противоположных направлениях. Борьба с Цинской империей была бы крайне тяжелой. Из-за огромных расстояний Россия не имела возможности в короткие сроки перебрасывать значительные контингенты войск из центральных районов на Дальний Восток, поэтому китайская армия имела в этом регионе неоспоримое преимущество. В случае войны с Китаем в тогдашних условиях территориальные потери России могли бы оказаться более значительными — вплоть до Нерчинска и берегов Байкала. Отказ от Албазина, устроивший китайскую дипломатию и способствовавший заключению договора, позволил закрепить мир и дружественные отношения между Россией и Цинской империей.
Глава пятая ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ
Вокруг двойного трона
Государственно-политическая обстановка 1682–1689 годов была поистине уникальной для русской истории: формально у власти находились два царя, а фактически страной от их имени самодержавно правила сестра царевна Софья, причем ее власть, как это ни странно, не имела под собой никакой законодательной основы. Тем не менее двойной трон[14], на котором во время пышных церемоний восседали коронованные братья, в сложившейся к тому времени системе русского абсолютизма служил лишь декорацией. В России не могло быть одновременно двух правителей, поскольку подобная форма власти противоречила бы упрочившемуся со времени Алексея Михайловича принципу самодержавия. Так как ни один из братьев по разным причинам не был способен реально осуществлять функции монарха, эту задачу взяла на себя Софья — единственная представительница царской семьи, имевшая для этого не только желание, но и способности.
Вопрос о политической опоре власти правительницы является крайне сложным и до сих пор открытым. Можно, подобно А. С. Лаврову, кропотливо изучать соотношение семейных и политических группировок в составе Боярской думы и Государева двора или, как П. Бушкович, отслеживать перипетии борьбы вокруг двойного трона по донесениям иностранных дипломатов из Москвы на родину, но всё равно механизм осуществления государственной власти рассматриваемого периода останется загадкой. Единственный выход для историка, по нашему мнению, заключается в априорном понимании того непреложного факта, что Софья правила вполне самодержавно, оставляя боярам лишь ограниченные совещательные функции. Власть правительницы в очень малой степени зависела как от соотношения сил боярских кланов, так и от политической возни вокруг престола. При осуществлении монархических полномочий Софья опиралась на вполне сформировавшуюся к тому времени приказную бюрократию и на достаточно узкий круг доверенных лиц, занимавших ключевые посты в государственном аппарате.
Братья, восседавшие на двойном троне, являли собой разительную противоположность. Иван Алексеевич имел вид тяжелобольного человека. Патрик Гордон описал свои впечатления от аудиенции у старшего царя: «Я подошел и поцеловал руку его царского величества, который был больным и немощным, выглядел печальным и ничего не говорил, а от его имени спросил о моем здоровье и похвалил меня за службу его боярин».{342}
Фуа де ла Невилль утверждал, что на царя Ивана «страшно смотреть»; «будучи полностью парализованным», он проводит всю жизнь в поездках на богомолье.{343} Генрих Бутенант отмечал, что он «слеп и косноязычен».{344} По словам австрийского посла Иоганна Хёвеля, во время аудиенции Иван «едва мог стоять на ногах, и его поддерживали два камергера под руки»; «говорил он слабым и неясным голосом». Тот же автор пишет: «Иван нездоров и недалек»; «никому не тайна, что старший по слабому состоянию умственных и физических сил не способен на управление».{345} Саксонский дипломат Георг Адам Шлейссинг писал: «Старший царь Иван Алексеевич вообще был обижен природой… поскольку он не может ни видеть, ни говорить как следует, ни даже держаться хоть немного по-царски или властно. Он постоянно носит зеленую тафтяную повязку, которая скрывает его лицо, так как глаза его то и дело мечутся туда-сюда. С другой стороны, он очень благочестив и набожен».{346}
Свидетельства современников не позволяют точно определить характер недугов царя Ивана. Во всяком случае нет достаточных оснований утверждать, что он был слабоумен. Вряд ли правильны диагнозы, «поставленные» двумя известными историками. Брюс Линкольн полагает, что Иван Алексеевич страдал синдромом Дауна; Н. И. Павленко утверждает, что «подслеповатый Иван» с детства «изъяснялся… с трудом, был косноязычными отставал от сверстников в развитии. Современные нам медики называют таких детей дебилами».{347} Однако существуют указания источников на то, что старший государь порой высказывал здравые суждения и был способен трезво оценивать обстановку. Например, в письме неизвестного корреспондента, посланном из Москвы архиепископу Коринфскому, говорится, что в ответ на заявление Ивана Нарышкина о готовности стать регентом на время малолетства его племянника царя Петра («Признайте пока меня государем, ибо я сумею править благоразумно») Иван Алексеевич ответил: «Черепахе не летать с орлами». Польский резидент и Москве Станислав Бентковский, описывая в донесении в Варшаву тот же эпизод, привел слова Ивана в несколько иной форме, но с тем же смыслом: «Ни свинья, ни черепаха никогда не полетят».{348}
Невилль передал высказывание Ивана Алексеевича по поводу бегства Петра из Преображенского в Троице-Сергиев монастырь 8 августа 1689 года:
— Мой брат Петр скрылся в Троицком монастыре, а почему — я не знаю. Он, несомненно, хотел смутить государство.{349}
Андрей Матвеев утверждал, что именно твердость Ивана, заявившего о нежелании ссориться с Петром, заставила царевну Софью отказаться от защиты своего фаворита Федора Шакловитого.{350} Можно, конечно, заподозрить все приведенные выше свидетельства в недостоверности, поскольку ни один из названных авторов не присутствовал при произнесении Иваном подобных речей и знал о них понаслышке. Однако сам факт, что слухи о разумных высказываниях старшего царя циркулировали в обществе, не позволяет судить о нем как об умственно неполноценном человеке. Тем не менее он, несомненно, был тяжело болен физически и по этой причине не мог выполнять функции самодержавного правителя. Такую задачу взяла на себя царевна Софья.
Австрийский посол Хёвель охарактеризовал русских государей и обстановку при дворе следующим образом: «Иван очень слабого сложения, напротив, Петр исполнен силы, здоровья, ума и блестящих надежд… На стороне Петра большая часть бояр и сенаторов; только сестра Софья, 26-ти лет, великого ума и способности, поддерживает старшего брата. Но никому не тайна, что старший по слабому состоянию умственных и физических сил не способен на управление. Это признают сами бояре и частенько о том вздыхают».{351}
В отличие от Ивана юный Петр удивлял современников ранним развитием. Андрей Матвеев писал, что царевна Софья, «издалека бодрственно усмотря», что младший брат «с чрезвычайными талантами рожден был и показывал в себе от самой молодой юности разум проницательный и понятный и что по неописанной глубине остроты своей исследовать может предбудущие зело великие намерения ее, весьма была предупредительна и осторожна».{352}
Датский посол Гильдебранд фон Горн писал в ноябре 1682 года: «Вражда между вдовствующей царицей (Натальей Кирилловной. — В. Н.) и старшей царевной (Софьей. — В. Н.) растет день ото дня, и оба государя, подталкиваемые матерью и сестрой, начинают проявлять больше взаимного раздражения, чем любви. Бояре также разделились, и большинство их вместе со всем молодым дворянством склоняется на сторону Петра Алексеевича, хотя некоторые, ныне едва ли не самые влиятельные, вместе с большинством народа, в сущности, против него, пусть и не открыто».
В марте 1683 года шведский резидент Христофор фон Кохен сообщил в Стокгольм: «Между двумя дворами существует большая подозрительность, у младшего Петра больше всего сторонников, особенно среди дворянства, хотя старший царь Иван раздал дворянству щедрые подарки и милости и позволяет всем управлять своей сестре, принцессе по имени Софья Алексеевна, по той причине, что почтительнейше упомянутый царь Иван совершенно недееспособен». Кохен впервые привел толки о возможности установления единоличного правления Петра: «Большинство людей придерживаются мнения, что младший царь отделится от старшего и легко возьмет власть себе одному. Несколько недель назад в царских апартаментах были найдены разные письма, в которых среди прочего говорилось, что принцесса сохранит власть за собой, а старший царь уйдет в монастырь; к тому же в них содержались угрозы господину Милославскому и другим, стоящим за старшего царя, и поэтому было проведено большое расследование, чтобы выяснить, откуда эти письма взялись». Весьма важно последующее замечание шведского дипломата о лидирующем положении в правящих кругах фаворита Софьи: «Сейчас князь Василий Васильевич Голицын, весьма рассудительный господин, имеет самое веское слово и многочисленную свиту».
Месяц спустя Кохен снова подчеркнул неопределенность ситуации в российских верхах: «Считается, что между двумя партиями царит большое недоверие, из-за чего знатнейшие люди не знают толком, за кем им следовать, а потому стараются держаться подальше от двора как можно больше времени, так что трудно разузнать, что происходит. Родственник и фаворит старшего царя, Иван Милославский, теперь очень болен, и если он умрет, то партия младшего царя может одержать верх».{353}
Приведенные выше наблюдения иностранных дипломатов характеризуют неустойчивое равновесие политических сил осенью 1682-го — весной 1683 года, когда Софья еще не достигла вершины власти, для чего ей нужно было оттеснить, с одной стороны, вдовую царицу Наталью и сторонников ее сына Петра, а с другой — Ивана Милославского, имевшего большое влияние на царя Ивана. Примечательно, что до ноября 1682 года в донесениях иностранных послов не встречаются упоминания о противоречиях между Софьей Алексеевной и Натапьей Кирилловной и, соответственно, о противостоянии дворов Ивана и Петра. Это вполне объяснимо — обе группировки были в равной мере обеспокоены стрелецким восстанием. Лишь после окончательного подавления бунта окружение Петра решилось потребовать свою долю власти.
Обращает на себя внимание утверждение Горна, что Петра в тот момент поддерживали большинство бояр и «всё молодое дворянство», а на стороне Ивана были наиболее влиятельные представители правящей верхушки «вместе с большинством народа». Его следует принимать с осторожностью, поскольку оно, несомненно, носит умозрительный характер. Датский посланник не мог иметь в своем распоряжении достаточного количества репрезентативной информации для столь широкого и категоричного обобщения.
Донесения иностранных дипломатов позволили Полу Бушковичу ярко обрисовать придворную политическую ситуацию начала 1683 года: «Кохен подтвердил, что Петр имеет широкую опору среди крупного и мелкого дворянства, а изображенная им картина колебаний боярской верхушки, выжидающей, куда подует ветер, объясняет, каким образом Софья и ее окружение могли сохранять власть при столь малой поддержке со стороны правящей элиты. Конечно, Софья и Голицын находились у власти, но лишенные этой поддержки, с самого начала они находились в опасности. Эти двое — молодая царевна и сорокалетний боярин и воевода — составляли эффектный политический союз, однако основа их власти была непрочной».{354}
Этот вывод отчасти правилен, но нужно принимать во внимание, что он сделан на основе не вполне достоверных исторических источников. Фундамент власти Софьи составляла поддержка ее наиболее активными членами Боярской думы, которые не могли не понимать, что из всего царского семейства только она обладает достаточными знаниями и способностями для принятия государственных решений. А во взаимодействии правительницы с Думой, собственно, и состоял механизм управления страной в период регентства. Что же касается политических симпатий большинства дворян, якобы стоявшего за Петра, то в России XVII века они вряд ли учитывались правящей верхушкой. В равной мере не мог иметь большого значения и отмеченный Горном факт, что основная масса простого народа поддерживала Ивана. Мнение низов общества влияло на политическую ситуацию только в условиях восстания, последствия которого к концу осени 1682 года были уже преодолены.
Датский дипломат приводит в донесениях ряд сведений о том, как сторонники царя Петра старались заручиться его поддержкой в придворной борьбе. Князья Борис Алексеевич Голицын и Михаил Иванович Лыков со слезами на глазах говорили Горну об опасности, якобы угрожающей юному государю. Через несколько дней Борис Голицын вновь начал заискивать перед датчанином и опять «проливал слезы над участью Петра». В последующие недели он, а также Лыков и другие сторонники Петра неоднократно посещали Горна и Бутенанта, несомненно, рассчитывая, что датчане сообщат королю Кристиану V о несправедливостях, творящихся в России по отношению к законному монарху Петру I. Слухи об этих визитах дошли до Софьи, и она отчитала Наталью Кирилловну, «сказав, что она не только настраивает собственный народ против старшего великого князя, но даже пытается привлечь в свой лагерь иностранных послов».{355}
В июле 1683 года Борис Голицын вновь явился к Горну умолять о помощи против Софьи, которая якобы строила козни Петру, и даже лично продиктовал датчанину письмо на латыни, адресованное королю Дании. В письме содержалась просьба, чтобы Кристиан V уговорил своих союзников во Франции, Англии и Бранденбурге через послов в России поддержать Петра в борьбе против сестры-правительницы.
В сентябре противоречия при московском дворе вновь выплеснулись наружу во время паломничества царской семьи в Троице-Сергиев монастырь. Горн сообщил в Копенгаген, что одиннадцатилетний Петр по наущению своих сторонников вступил в резкую перепалку с Софьей, а князья Василий Голицын и Михаил Черкасский разругались до того, что схватились за ножи, и окружающие едва сумели их растащить.
В марте 1684 года Горн в очередном донесении описал еще один придворный скандал: «В. В. Голицын и Иван Михайлович Милославский поссорились в присутствии царевны Софьи и даже взялись за ножи. Царевна со слезами на глазах умоляла их не шуметь и подумать об интересах страны, а не о своих собственных. Голицын без промедления усмирил свою ненависть ради слез царевны… но второй громко сказал, что лучше умереть, чем видеть, что дела и дальше идут, как сейчас».{356}
Нужно заметить, что созданный Горном образ отчаянного скандалиста, кидающегося с ножом то на Черкасского, то на Милославского, совершенно не соответствует характеру меланхоличного и деликатного Василия Голицына. Датский дипломат не присутствовал при этих ссорах и знал о них понаслышке, поэтому достоверность деталей его рассказа сомнительна. Но сам факт стычек Голицына с двумя боярами, несомненно, имел место.
Что же касается повторяющихся известий Горна о склонности Голицына к поножовщине, то этому можно найти простое объяснение. Думается, датского посланника подвело недостаточное владение русским языком. Сам он своими знаниями очень гордился и, по-видимому, разговаривал с некоторыми царедворцами по-русски. Кто-то из них, вероятно, сказал датчанину, что Голицын «на ножах» с Черкасским и Милославским, а тот понял фразу буквально.
Важным событием в жизни двора и правящей династии стала женитьба царя Ивана Алексеевича. Брак этот был задуман Софьей с сестрами еще в мае 1682 года, однако юный возраст и болезненное состояние старшего царя заставили на время отложить его. Важную роль в деле женитьбы Ивана Алексеевича сыграл Иван Милославский, который в качестве невесты предложил «первую красавицу России», девятнадцатилетнюю Прасковью — дочь своего лучшего друга Федора Петровича Салтыкова. Невеста не радовалась предстоящему браку и даже заявила прилюдно:
— Лучше уж умереть, чем идти за царя Ивана.
Однако чувства девушки не имели никакого значения, когда на кону стояла судьба династии. Софья надеялась, что рожденные Прасковьей мальчики продолжат царский род по линии Милославских. В таком случае Петр как представитель младшей ветви семьи Романовых был бы оттеснен от власти, а сама Софья Алексеевна смогла бы еще долгое время оставаться регентшей и соправительницей при царе Иване и его потомках.
К моменту реализации матримониального замысла отношения Софьи и Ивана Милославского испортились окончательно. Горн в донесении привел сведения об интригах Ивана Михайловича, говорившего царевнам:
— Я не понимаю, отчего Софья, даже не старшая из сестер, правит одна, без вас. Вы должны настаивать на браке царя Ивана, от которого у Софьи поубавится важности.
Пол Бушкович на основании свидетельства датского посланника утверждает даже, что «в этот момент Софья и Голицын пошли было на попятный, но опоздали».{357} Эта версия не кажется убедительной. Правительница не могла ожидать для себя ничего плохого от женитьбы брата, напротив, всячески стремилась приблизить это событие, надеясь, что оно в скором времени приведет к упрочению ее положения.
Восемнадцатилетний царь Иван к вступлению в брак «никакой склонности не оказывал», однако «не был он в состоянии противиться хотению сестры своей». Были организованы выборы невесты: по обычаю в царский терем свезли дочерей московской знати и, по словам историка М. И. Семевского, «в толпе юных барышень подслеповатые очи Ивана остановились на круглолицей полной Прасковье Салтыковой».{358} Несомненно, приближенные подсказали ему, какую из девушек следует предпочесть.
Девятого января 1684 года молодые были обвенчаны. Вероятно, венценосная чета была по-своему счастлива. Их объединяла горячая, фанатичная религиозность — достаточно прочная основа для общих занятий. Политикой супруги совершенно не интересовались и находились в стороне от придворной борьбы. Защиту их интересов взяла на себя Софья.
Иван Милославский между тем продолжал мелкие интриги. В начале мая 1684 года он принялся вербовать сторонников среди московских дворян: приглашал их к себе на обеды и во время застольных бесед пытался настраивать против Василия Голицына, которого «поносил за несправедливость». Правительнице тоже доставалось. Однажды Иван Михайлович со всей решительностью заявил:
— Или я сломаю хребет Голицыну, или мне конец.
Милославский в это время был тяжело болен, и политическая активность уносила последние силы. В июле 1685 года он скончался, оставив по себе недобрую память.
Тем временем борьба вокруг двойного трона продолжалась, и в ней подчас были важны любые мелочи. Весной 1687 года прошел слух, что царь Петр хочет заменить своего старого дядьку (опекуна и телохранителя) Родиона Матвеевича Стрешнева князем Михаилом Алегуковичем Черкасским. Известие вызвало переполох при дворе, на который немедленно отреагировали внимательные иностранные дипломаты. Христофор фон Кохен отметил в донесении, что Черкасский — «буйная голова, татарский мурза по рождению, крайне не расположен к царевне и величайший враг главнокомандующего (В. В. Голицына. — В. Н.), но очень расположен к младшему царю». Юный государь уступил желанию сестры и ее фаворита оставить дядькой Стрешнева.{359} Это показывает, что отношения Петра и Софьи не всегда были враждебными. Возможно, между ними даже могло бы установиться согласие, если бы мать, дядья и другие сторонники юного царя не настраивали его против правительницы.
Иногда коллизии борьбы придворных группировок принимали причудливые формы. В начале 1687 года украинский гетман Иван Мазепа прислал в подарок царю Петру двух карликов, которые были доставлены гетманскими посланниками в Малороссийский приказ. Там их увидел Василий Голицын и решил забрать себе. Петр, которому нравились всякие капризы природы, был раздосадован и даже оскорблен поступком всесильного фаворита Софьи, а сторонники юного государя постарались еще подогреть его ненависть к тогдашнему лидеру правительства. Этот внешне малозначительный эпизод не был забыт и спустя два с половиной года фигурировал на следствии по делу Голицына в качестве одного из примеров его произвола.{360}
Весьма существенное значение в ситуации вокруг трона имели личные отношения Софьи Алексеевны и Натальи Кирилловны. Федор Шакловитый впоследствии дал на этот счет уникальные показания. Царевна наносила регулярные визиты вдовствующей царице, выражая тем самым почтение женщине, формально со времени вступления Алексея Михайловича во второй брак считавшейся ее матерью. Шакловитый рассказывал:
— В которые времена великая государыня благоверная царевна в кое время изволила видаться с матерью своею великою государынею благоверною царицею, и как государыня царевна от ней, великой государыни, прихаживала к себе светлым лицом, и в то время она, великая государыня, благодарствовала, что меж ими государями всё добро. О том же и мы радовались. А в которые времена изволила приходить печальна, а к тому же, после того как побывают у нее постельницы, и в те времена от тех слов бывало великое мнение и опасение, и ожидали всякой беды.
Упомянутые Шакловитым постельницы царицы Натальи Кирилловны Сенюкова и Нелидова к царевне Софье «прихаживали почасту и слова принашивали». Они наушничали правительнице, что в окружении царя Петра про нее «говорят многие непристойные и бранные слова, и здоровье ее государнины не желают». Яростнее всех бранили Софью Алексеевну Лев Кириллович Нарышкин и князь Борис Алексеевич Голицын.{361} Эти два лидера «партии» Петра даже не считали нужным скрывать свою ненависть к правительнице: «к ней, великой государыне, к руке не хаживали», отказывались являться к ней с поздравлениями в большие праздники, когда другие царедворцы толпились в хоромах царевны.
Два фаворита
Успех женских правлений в мировой истории с древнейших времен до гендерной революции XX века всецело зависел от того, какие мужчины окружали облеченную властью женщину. В этом отношении правительницы часто оказывались недостойными своего высокого положения. Кардинал Джулио Мазарини язвил по этому поводу: «Женщина, которая очень мудро могла бы управлять государством, завтра же создаст себе господина, которому и десяти кур нельзя дать в управление». Деятельность Софьи Алексеевны опровергает этот скептический взгляд на возможности осуществления женской власти. В качестве друзей и помощников она выбрала себе двух мужчин, отличавшихся большими способностями и энергией. Они были совершенно не похожи друг на друга и вместе с Софьей составляли почти идеальный двигатель государственной политики.
Старший из фаворитов Софьи, князь Василий Васильевич Голицын, родился в 1643 году в семье, занимавшей видное, хотя и не первое место в государстве. Голицыны вели свой род от литовского великого князя Гедимина, через знаменитого московского боярина и воеводу Михаила Патрикеева (от Патрикеевых произошли также Хованские и другие знатные фамилии). В XVI веке предки князя были боевыми воеводами, а его двоюродный дед и тезка Василий Васильевич Голицын прославился как выдающийся полководец периода Смутного времени. Будущий дипломат принадлежал к одному из шестнадцати родов России, члены которых имели право получать боярство минуя предшествующий чин окольничего.
Василий Васильевич был одним из образованнейших людей своего времени. В качестве руководителя российской дипломатии он внес ощутимый вклад в формирование внешнеполитической системы страны. Современные исследователи оценивают результативность этой политики очень высоко. По справедливому отзыву историка А. П. Богданова, «деятельность князя Василия Васильевича Голицына стала образцом высокого дипломатического искусства, способствовала формированию той школы русских дипломатов, которая обеспечивала внешнеполитическую сторону преобразований Петра I».{362}
Возраст другого мужчины, много значившего для Софьи, неизвестен. Судя по всему, он был моложе Голицына, но ненамного. Федор Леонтьевич Шакловитый обеспечил себе головокружительную карьеру благодаря своим способностям, энергии и трудолюбию. Происходил он из мелкого брянского дворянства. Будучи подьячим Брянской приказной избы, он в начале 1660-х годов был послан в Москву со списками служителей и денежной казной. В столице он обратил на себя внимание кого-то из руководства Разрядного приказа и был зачислен в штат этого учреждения. В 1672 году исполнительный и знающий Шакловитый был взят на службу в приказ Тайных дел — личную канцелярию царя Алексея Михайловича. После смерти государя и упразднения приказа в 1676 году Федор Леонтьевич вернулся в Разряд, но уже в качестве дьяка. 27 июля 1682 года он был пожалован в думные дьяки.
Выше уже говорилось, что Шакловитый играл заметную роль в событиях, связанных с казнью князей Хованских, составил тексты царского указа и приговора. Вероятно, именно в эти дни Софья обратила особое внимание на талантливого и исполнительного думного дьяка. 10 декабря 1682 года правительница назначила его начальником Стрелецкого приказа вместо казненного князя Ивана Андреевича Хованского. Шакловитый полностью оправдал ее доверие на этом важном посту. Под его руководством были потушены последние вспышки стрелецкого мятежа, а неблагонадежные стрельцы из московского гарнизона разосланы по другим городам. 26 января 1688 года он был пожалован в думные дворяне, а уже через два месяца получил чин окольничего. Это скандальное по скорости возвышение ясно показало всем, что правительница его особо выделяла.
Личная жизнь царевны Софьи Алексеевны неоднократно привлекала внимание современников, историков и романистов. Из русских авторов наиболее определенные сведения по данному вопросу привел князь Борис Иванович Куракин: «Царевна Софья Алексеевна, по своей особливой инклинации (наклонности. — В. Н.) и амуру, князя Василия Васильевича Голицына назначила дворовым воеводою войски командовать и учинила его первым министром и судьею Посольского приказу. Который вошел в ту милость чрез амурные интриги и почал быть фаворитом и первым министром, и был своею персоною изрядной, и ума великого, и любим от всех». Далее Куракин пишет, что Софья «начала план свой делать, чтоб ей самой корону получить и выйти бы замуж за князя Василия Васильевича Голицына». Однако честный и объективный автор тут же поясняет: «О сем упомяну токмо как разглашение было народное, но в самом деле сумневаюсь, ежели такое намерение было справедливое (то есть на самом деле. — В. Н.). Правда ж, подозрение взято в сем на нее, царевну Софью, от ея самых поступок».
«Что принадлежит до женитьбы с князем Василием Голицыным, — пишет далее Куракин, — то понимали все для того, что оный князь Голицын был ее весьма голант (ухажер. — В. Н.); и всё то государство ведало и потому чаяло, что прямое супружество будет учинено».
Однако следующие пассажи Куракина опровергают все прогнозы относительно замужества царевны:
«Надобно ж и о том упомянуть, что в отбытие князя Василия Голицына с полками на Крым Федор Шакловитый весьма в амуре при царевне Софьи профитовал (получал выгоду. — В. Н.) и уже в тех плезирах (удовольствиях. — В. Н.) ночных был в большей конфиденции при ней, нежели князь Голицын, хотя не так явно.
И предусматривали все, что ежели бы правление царевны Софьи еще продолжалося, конечно бы князю Голицыну было от нея падение или б содержан был для фигуры за первого правителя, но в самой силе и делах был бы помянутой Шакловитый».
Куракин не ограничивается скандальным утверждением о наличии у правительницы двух любовников одновременно, а рисует феноменальную картину распущенности нравов вырвавшихся из терема царевен: «По вступлении в правление царевна Софья для своих плезиров завела певчих из поляков, из черкас. Также и сестры ее по комнатам, как царевны Екатерина, Марфа и другие. Между которыми певчими избирали своих голантов и оных набогощали, которые явно от всех признаны были».
Свидетельство Куракина уникально по степени откровенности. Но следует ли в данном случае доверять этому современнику? Какими источниками информации он располагал? Что мог знать о личной жизни Софьи человек, которому в период ее регентства было от шести до тринадцати лет?
С конца апреля 1682 года маленький князь Куракин состоял при особе царя Петра. В момент их знакомства при назначении князя спальником царя первому из них было шесть лет, а второму — неполных десять. Петр стал для Бориса не просто государем, сюзереном, патроном, а старшим другом, товарищем в мальчишеских играх. Петр с раннего детства отличался харизматичностью, верховодил в компании сверстников не столько как монарх (своей власти он еще не сознавал), сколько как самый энергичный и заводной. Отсюда берут начало присущие Петру Великому демократизм и простота в общении с приближенными. Для юного Бориса Куракина Петр стал образцом для подражания, что вполне естественно для мальчиков с разницей в возрасте в три-четыре года. Можно сказать, что Борис Иванович сформировался как личность под влиянием Петра I.
Оба мальчика отличались ранним половым развитием и нравственной испорченностью. Куракин в 15 лет соблазнил тринадцатилетнюю Ксению Лопухину, младшую сестру царицы Евдокии Федоровны. Юные любовники «блудно» жили целый год, пока узнавшие об этом родители не поспешили их обвенчать.{363} Легко можно представить, с каким упоением юный князь Борис слушал фантазии прыщавого подростка-царя на тему интимной жизни его старших сестер. Эти фривольные сказки с обязательной матерщиной, неизменно присущей грубому солдатскому юмору Петра I,{364} прочно вошли в сознание маленького князя и впоследствии стали восприниматься им как непреложный факт. С учетом этих доводов откровения Куракина не вызывают доверия.
Панорамную картину отношений правительницы и князя Голицына создал в своих записках Невилль, пользовавшийся, по-видимому, московскими слухами, сообщенными его приятелем Андреем Матвеевым. «Царевна Софья, — пишет француз, — готовая на всё, захотела для успокоения совести заменить скандальную связь с этим фаворитом на таинство брака. Вся трудность заключалась в том, чтобы избавиться от жены Голицына, на что этот князь не мог решиться, будучи честным по природе; к этому нужно прибавить, что он получил за ней в приданое большие имения и имел от нее детей, которые были ему дороже, чем те, что были от царевны, которую он любил только ради своей выгоды».
В данном случае Невилль слишком увлекся созданием скандальных подробностей. Никаких детей у Софьи не было, иначе факт их существования многократно отразился бы в других источниках. Между тем в документах имеется лишь два одинаково недостоверных свидетельства на этот счет. В материалах политического сыска зафиксированы грязные слухи о том, что «царевна Софья была блудница и жила блудно с боярами, да и другая царевна, сестра ее»; «и бояре ходили к ним, и робят те царевны носили и душили, и иных на дому кормили». Такие разговоры велись в 1723 году между старообрядцами, жившими по реке Тагилу.{365} Разумеется, эти темные и бесконечно далекие от царского двора люди не могли иметь никакого представления о жизни Софьи. Со времени ее правления прошло уже четыре десятка лет, поэтому правильнее было бы говорить даже не о слухах, а о народной мифологии. В приведенной выше отвратительной сказке, несомненно, отразился след более позднего события: староверы по наивности приписали царевне грех фрейлины Марии Гамильтон, в 1718 году задушившей своего ребенка, рожденного от Петра I.
Простодушные народные мифотворцы не могли даже отдаленно представить себе, до какой степени была прозрачна дворцовая жизнь царевен в восьмидесятые годы XVII столетия, проходившая на виду у постоянно толкущихся в их покоях «мамок», постельниц, служанок, карлиц, шутих, «дур», юродивых, «верховых богомолок» и прочих приживалок. Стать «блудницей» в таких условиях было невозможно при всём желании. И уж тем более исключена возможность рожать детей втайне от пестрого и любопытного населения дворца.
Другое весьма смутное упоминание о личной жизни одной из царевен содержится в донесении из Москвы польского резидента Станислава Бентковского королю Яну III от 20 сентября 1682 года, в котором анализируется участие женской половины царской семьи в событиях, связанных с майским бунтом: «…Тетки по отцу и сестры поспешили к Иоанну, жалуясь ему на восстание стрельцов и утверждая, что они могут управлять империей до совершеннолетия правителя. Они назначили одной тетке мужа, предсказывая потомство, которое могло бы сохранить данный род». Публикатор этого документа М. М. Галанов в комментариях к тексту расценивает данное известие следующим образом: «Имеются в виду слухи о том, что у В. В. Голицына и Софьи Алексеевны были дети».{366}
Однако это совершенно неверная трактовка неясных слов польского дипломата, смешавшего в донесении два разнородных пласта информации. Упоминаемое им гипотетическое «потомство, которое могло бы сохранить данный род», должен был произвести на свет Иван Алексеевич, поскольку род в России того времени положено было продолжать строго по мужской прямой линии. Донесение Бентковского свидетельствует лишь о том, что уже в мае 1682 года сестры Ивана Алексеевича обсуждали планы его женитьбы, чтобы поскорее появилось царское потомство по линии Милославских, пока Петр Алексеевич был еще ребенком.
Невилль, дав волю фантазии, утверждал: Софья «благодаря женской хитрости» убедила Голицына «склонить свою жену сделаться монахиней», что позволило бы ему добиваться от патриарха разрешения на брак с правительницей. «Когда эта добрая женщина согласилась на это, царевна более не сомневалась в удаче своих замыслов». В действительности же вопрос о разводе Голицына с женой никогда не ставился. Князь Василий Васильевич был вполне счастлив в браке с Авдотьей Ивановной, урожденной Стрешневой, имел с ней шестерых детей; их сын Алексей являлся деятельным помощником отца в Посольском приказе и пользовался доверием и расположением правительницы. Гипотетический брачный союз Софьи и ее фаворита был заведомо невозможен, поскольку явился бы немыслимым скандалом, способным разрушить власть правительницы. Она на это никогда не пошла бы, невзирая на любовь к Голицыну, даже если предположить, что это чувство в самом деле имело для нее существенное значение. В любом случае власть для царевны являлась основным приоритетом, и всякая потенциальная помеха в его достижении считалась ею недопустимой.
Невилль создает фантастическую картину борьбы вокруг российского престола в связи с матримониальными, династическими, политическими и даже конфессиональными планами Софьи. «Трудность была в том, — пишет он, — чтобы заставить Голицына согласиться на убийство двух царей, на которое она твердо решилась, считая, что этим обеспечит власть себе, своему будущему мужу и их детям. Князь, более опытный и менее влюбленный, представил ей весь ужас этого замысла и заставил ее принять другой план, более благоразумный и, очевидно, более надежный. Он состоял в том, чтобы женить царя Ивана, и ввиду его бессилия дать его жене любовника, которого она полюбила бы на благо государству, которому она дала бы наследников. А когда у этого монарха появятся дети и у царя Петра не станет больше ни друзей, ни креатур, в этом случае они повенчаются, и, чтобы их брак был признан всем миром, они добьются избрания патриархом отца Сильвестра, польского монаха греческой веры, человека очень опытного, который тут же предложит направить посольство в Рим для объединения Церквей. Когда это удастся, то вызовет одобрение и уважение». (Сразу видно, что католик Невилль не мог даже представить себе степень ненависти подавляющего большинства населения России XVII века к католичеству.)
«Затем, — увлеченно излагает автор дальнейшие „планы“ Софьи и Голицына, — они принудят Петра сделаться священником, а Ивана — громко сетовать на распущенность его жены, чтобы показать, что дети рождены ею не от него. Потом постригут ее в монастырь и добьются, чтобы Иван женился вновь, но так, чтобы они были уверены, что у них не будет детей. Этим путем, без убийства и без боязни Божьей кары, они станут во главе государства при жизни этого несчастного и после его смерти, так как в царской семье больше не останется мужских наследников».
Однако Невиллю даже этого мало. Он предполагал изощренное коварство фаворита правительницы, якобы стремившегося воспользоваться ситуацией для удовлетворения собственных амбиций: «Царевна, находя равно выгодными эти замыслы, охотно согласилась и предоставила Голицыну заботу о том, чтобы добиться их осуществления. Она не предвидела, что у этого князя были другие планы, отличные от ее собственных. Присоединив Московию к Римской церкви, он, надеясь пережить царевну, не сомневался в том, что добьется от папы того, чтобы его законный сын унаследовал его власть, предпочтительно к тем, кого он прижил от царевны при жизни своей жены».{367}
Можно было бы не уделять столько внимания фантазиям французского авантюриста, привыкшего судить о других по себе. Но дело в том, что «Записки» Невилля широко используются историками без должной источниковедческой критики, что порождает множество мифов о царевне Софье и ее правлении.
Андрей Артамонович Матвеев, в молодости предоставивший Невиллю немало непроверенной информации и внесший определенную лепту в создание приведенной выше фантастической картины, с годами стал мудрее и осторожнее в оценках. 30 лет спустя в мемуарах он описал отношения Софьи и ее любимцев достаточно взвешенно и точно. Не касаясь сомнительного вопроса о их интимных связях, Матвеев рассматривал только политическую составляющую фаворитизма. Он писал, что князь Василий Голицын «вступил в великую и крайнюю милость царевны Софьи». «Но однако ж, — замечает мемуарист, — в прямом всех тайных ее, царевниных, дел секрете скрытно самым видом, особливо же в советах стрелецких, всегда первенствовал Щекловитый».
По мнению Матвеева, именно последний пользовался особым доверием правительницы и служил главной опорой ее власти. Андрей Артамонович подчеркивал, что в преддверии неизбежной борьбы за власть с подрастающим Петром Софья «начала принимать благополучные и безопасные для себя меры»: «Того ради при своей начатой властолюбивой державе она, царевна, избрала из Разряда дьяка Феодора Щекловитого, великого лукавства и ума человека бессовестного, и пожаловала его в думные дьяки. И вместо князей Хованских поручила ему Стрелецкий приказ. Все тайные секреты свои между собой и стрелецкими полками к будущим намерениям ко обороне своей ему открыла и в великой содержала его при себе верности. И потом уже он, Щекловитый, в скором времени до палатной окольнической чести, по крайней ее к себе царевниной милости, произведен, вотчинами, и богатством, и дачею в Белом городе на улице Знаменке отписным двором князя Андрея Хованского удовольствован и обогащен был…»{368}
Возвращаясь: к вопросу о личных отношениях Софьи и Голицына, следует упомянуть немногочисленные достоверные факты. Известно, что правительница сделала своему старшему фавориту достаточно интимный подарок — «кровать немецкую ореховую, резную, резь сквозная, личины человеческие и птицы и травы, на кровати верх ореховый же резной, в средине зеркало круглое».{369} Однако этот факт вовсе не является доказательством непременной плотской связи между Софьей и Голицыным — скорее даже наоборот. Ведь на роскошной кровати князь спал не с царевной, а с законной супругой. Следовательно, добрейшая и преданная жена Василия Васильевича не заподозрила в дорогом презенте государыни никакой сомнительной подоплеки. Да и была ли она? Такой подарок скорее всего характеризует дружбу и доверие между женщиной и мужчиной. Если бы Софье было что скрывать, она воздержалась бы от дарения предмета мебели, вызывающего ассоциации с интимными отношениями полов.
Но есть еще одна «улика» — два собственноручно написанных Софьей шифрованных письма Голицыну, которые выдержаны в более чем теплых тонах. Источники эти широко известны. Со времени расшифровки и публикации писем И. Г. Устряловымв 1858 году они многократно воспроизводились полностью или в отрывках в различных изданиях, вплоть до романа А. Н. Толстого «Петр Первый». Поместим их еще раз на страницах этой книги, а потом поразмышляем, какую информацию из них можно извлечь.
«Свет мой братец Васенка здравствуй батюшка мой на многия лета и паки здравствуй Божиею и пресветыя Богородицы и твоим разумом и счастием победив агаряны, подай тебе Господи и впредь враги побеждати, а мне свет мой веры не имеется што ты[15] к нам возвратитца тогда веры пойму как увижю во объятиях своих тебя света моего. А што свет мой пишешь, штобы я помолилась, будто я верна грешная пред Богом и недостойна, однако же дерзаю надеяся на его благоутробие, аще и грешная. Ей всегда того прошю штобы света моего в радости видеть. По сем здравствуй свет мой о Христе на веки неищетные.
Аминь».
«Свет мой батюшка, надежда моя, здравствуй на многия лета! Зело мне сей день радостен, что Господь Бог прославил имя свое святое, также и матере своей пресвятыя Богородицы над вами свете мой чево от века не слыхано, ни отцы наша поведаша нам такова милосердия Божия не хуже Израилтеских людей вас Бог извел из земли Египетцкия тогда чрез Моисея угодника своего, так ноне чрез тебя, душа моя, слава Богу нашему помиловавшему нас чрез тебе. Батюшка мой платить за такие твои труды неисчетные радость моя, свет очей моих, веры мне не иметца, сердце мое, что тебя, свет мой, видеть. Велик бы мне день той был, когда ты душа моя ко мне будешь если бы мне возможно было, я бы единым днем тебя поставила пред собою. Писма твои врученны Богу к нам все дошли в целости из под Перекопу, из Каирки чрез сеунтшиков и с Московки все приходили в приметныя времяна из под Перекопу пришли отписки в пяток (пятницу. — В. Н.) иа (11. — В. Н.) числа. Я брела пеша из Воздвиженскова, толко подхожу к монастырю Сергия Чудотворца к самым святым воротам, а от вас отписки о боях: я не помню как взошла, чла идучи не ведаю чем его света благодарить за такую милость его и матерь его пресвятую Богородицу и преподобнаго Сергия чудотворца милостиваго.
Сеунщик к нам еще Змеов не бывал что ты батюшка мой пишешь о посылке в монастыри все то исполнила по всем монастырям бродила сама пеша а со отпуском пошлю к вам вскоре Василия Нарбекова, а золотыя не поспели, не покручиньтеся за тем вас держать жаль тотчас поспеют тотчас пришлю, а денги сбираю стрельцам готовы тотчас сберу тотчас пришлю, скажи им будут присланы, а раденья твое, душа моя, делом оказуетца. Почты от нас, свет мой, послан три четвертой Шошин порадей, батюшка мой, чтоб его окупить или на размену отдать что пишешь батюшка мой, чтоб я молилася: Бог, свет мой, ведает как желаю тебя, душа моя, видеть, и надеюся на милосердие Божие велит мне тебя видеть надежда моя, как сам пишешь о ратных людех так и учини, а Борису не побыть ли в Белгороде; также и Овраму сверх того как ты, радость моя, изволишь, а я, батюшка мой здарова твоими молитвами и все мы здаровы, аще даст Бог увижу тебя свет мой о всем своем житье скажу, а вы свет мой не стойте, подите помалу, и так вы утрудилися. Чем вам платить за такую нужную службу, наипаче всех твои света моего труды если б ты так не трудился нихто б так не сделал».
Историки сделали из этих писем категоричные выводы. А. Г. Брикнер отметил: «достоверно известно», что «Софья страстно любила» князя Василия Голицына. «Царевна Софья, видимо, была женщиной любвеобильной, — вторит ему Н. И. Павленко. — Уже будучи в летах, она стремилась наверстать упущенное во время пребывания в тереме…»{370} Отсюда всего один шаг до грубого натурализма А. Н. Толстого, создавшего в романе «Петр Первый» незабываемую картину интимных переживаний царевны: «У Софьи раскрылись губы. Тогда душистые усы его защекотали щеки, теплые губы приблизились, прижались сильно. Софья всколыхнулась, неизъяснимое желание прошло по спине, горячей судорогой растаяло в широком тазу ее»; «Этой зимой Софья тайно вытравила плод… Ее мучила нужда скрывать любовь к Василию Васильевичу. Хотя об этом знали все до черной девки-судомойки и за последнее время вместо грешного и стыдного названия — любовник — нашлось иноземное приличное слово галант, — всё же отравно, нехорошо было, — без закона, не венчанной, не крученной, — отдавать возлюбленному свое уже немолодое тело».
Нетрудно дойти до подобного недомыслия, если читать письма Софьи вне контекста эпохи. Необходимо учитывать, что одни и те же фразы и слова могут звучать совершенно по-разному в XX–XXI веках и в XVII столетии. То, что в наше развращенное время представляется почти животной страстью, в далекую старомосковскую эпоху несло в себе искреннюю душевную «горячесть» без малейшего эротического оттенка. Да, письма Софьи со всей определенностью свидетельствуют о ее любви к Голицыну. Но это чистая, светлая, платоническая любовь, на которую способна только девушка, воспитанная на христианской литературе и на византийских нравственных образцах. Для ее характеристики можно применить греческий термин агапэ — непорочная любовь, несущая в себе божественную искру.
В отношениях Софьи и Голицына нет и не может быть ничего греховного, иначе они не позволили бы себе шутить на тему греха. «А што свет мой пишешь, штобы я помолилась, будто я верна грешная пред Богом и недостойна, однако же дерзаю надеяся на его благоутробие, аще и грешная», — пишет царевна, и за этими строками видна ее улыбка. Судя по всему, Василий Васильевич в шутливой форме «отечески поучал» свою корреспондентку, а та в ответ выражала согласие исправить свое «недостойное» поведение. Это игры не любовников, а близких друзей.
«Свет мой о Христе на веки неищетные» — это обращение Софьи к Голицыну со всей определенностью рисует картину их светлых, возвышенных отношений. Воистину странно, что историки не смогли прочесть написанное черным по белому. Может быть, мешают мифы и историографические штампы, утвердившиеся с легкой руки того же пресловутого Невилля, который экстраполировал на полувизантийский-полуазиатский мир Кремля нравы свободного и развратного Версаля.
Впрочем, был еще один иностранец, взявший на себя смелость судить об отношениях правительницы и ее фаворита. В марте 1684 года датский посланник Гильденбранд фон Горн, описывая ссору князя Василия Голицына и Ивана Милославского, сделал замечание: «Голицын без промедления усмирил свою ненависть ради слез царевны, которая без колебаний пожертвовала ему свое сердце». Комментируя это свидетельство, Пол Бушкович отмечает: «Язык письма не совсем ясен, но кажется, что Софья полюбила Голицына и он не ответил взаимностью».{371} Эта версия не кажется правдоподобной: у Василия Васильевича не хватило бы смелости «не ответить взаимностью» правительнице, от которой полностью зависели его карьера и благополучие. Любовь была обоюдной, но не плотской. Что же касается приведенной выше странной фразы Горна, вставленной в его донесение совсем не к месту, то ее лучше попросту сбросить со счета. Что мог знать о чувствах Софьи чрезмерно самонадеянный и в общем недалекий иностранец? Кто говорил с ним на эту тему? Во всяком случае, не Василий Голицын, который попросту издевался над датчанином и долго водил его за нос намеками на перспективы русско-датского союза против Швеции, заключая в это время договор со шведами.
На наш взгляд, не может быть никаких сомнений, что царевна хранила девственность по примеру византийской Пульхерии, поскольку это была основа ее политического капитала — и не только в религиозно-патриархальной России, но и, как бы ни казалось странным, на международном уровне. Политические гравюры, печатавшиеся в Голландии и прославлявшие Софью, содержали в себе перечисление присущих ей добродетелей: великодушие, благочестие, благоразумие, целомудрие, справедливость и надежда на Бога.{372} В русском варианте таких же гравюр набор даров Святого Духа был несколько иным: мудрость, целомудрие, правдолюбие, благочестие, щедрость, великодушие и чудный дар слова; однако, как видим, указание на непорочную чистоту царевны неизменно сохранялось. Константинопольский патриарх Дионисий писал Софье Алексеевне в 1686 году: «Редко самого мужа благого украшают четыре главные добродетели: теплая вера, разум, мудрость, целомудрие; ты обладаешь ими всеми… Девство сохраняешь по примеру пяти целомудренных дев, с ними же вгрядешь в радость жениха» (имеется в виду жених Небесный, то есть Христос). «О Христе Иисусе возлюбленная, от глубины сердца возжелаемая» — называл Софью константинопольский патриарх.{373}
Власть являлась для Софьи основной жизненной ценностью. По сравнению с таким мощным приоритетом мимолетные радости плотской любви были для нее неизмеримо ниже. Отказ от них царевны, воспитанной в идеалах и привычках терема и находившей образцы для подражания в монашеской аскезе, даже не воспринимался ею как жертва.
Софья любила Голицына чистой и светлой любовью, и объект ее чувств был избран достойный. Василий Васильевич был одним из самых образованных и талантливых людей своего времени.
Отношения Софьи с Голицыным и Шакловитым — это два совершенно разных мира. Младший фаворит не мог похвастаться родовитостью, образованностью и талантами, зато обладал энергией, неутомимостью, решительностью, находчивостью, управленческой хваткой. А главное — он был беззаветно предан царевне и готов ради нее на всё. Личные отношения Софьи и Шакловитого в источниках и литературе почти не рассматривались. Единственное свидетельство современника на этот счет — приведенное выше недостоверное замечание князя Бориса Куракина. Ему доверились два историка: Н. И. Павленко, увидевший в симпатии Софьи к Шакловитому еще один пример ее «любвеобильности»,{374} и А. П. Богданов. Последний попытался обрисовать этот мнимый эпизод интимной жизни правительницы: «Если страсть и присутствовала в жизни Софьи (заставляя ее во время любовной связи с Шакловитым украшать свою спальню по его вкусу), она не демонстрировалась при дворе и не проявлялась в государственной деятельности царевны».{375} Эта «страсть» действительно не проявлялась и не демонстрировалась — потому что ее не было. А украшение спальни — это всё та же пресловутая кровать, подаренная Софьей Голицыну. Таким образом, мы видим в данном случае явное недоразумение.
О плотской связи царевны и выскочки из мелкого провинциального дворянства не может быть и речи, даже если предположить такую невероятную вещь, как влюбленность Софьи в Шакловитого. Для представительницы царского дома это явилось бы слишком большим унижением. Кроме того, известно, что Шакловитый, как и Голицын, был женат и имел детей, хотя никаких конкретных данных о его семье в источниках обнаружить не удалось. Софья симпатизировала Федору Леонтьевичу, ценила его, всецело доверяла, и он платил ей горячей преданностью. Однако их отношения всегда были скорее деловыми, чем личными. Вопреки необоснованным прогнозам Куракина Шакловитому никогда не удалось бы оттеснить Голицына на второй план. Князь всегда оставался для Софьи мужчиной номер один. Но и Федор Леонтьевич тоже был очень хорош. По современным представлениям он был даже интереснее Голицына, поскольку в нем явно наличествовала харизма, которой Василий Васильевич был лишен. Государыня Софья Алексеевна умела выбирать мужчин и использовать их как в нуждах государства, так и для упрочения своей власти.
Брат и сестра
Сложные отношения между Софьей и Петром стали одной из важнейших составляющих в политических событиях восьмидесятых годов XVII века. Петр резко повзрослел после совершившейся у него на глазах кровавой вакханалии 15 мая 1682 года. Его изначально подвижной психике был нанесен серьезный ущерб. Часто повторяющиеся нервные тики, припадки эпилепсии, вспышки немотивированного гнева, проявления болезненной изощренной жестокости — эти и другие признаки патологии личности великого реформатора во многом берут начало в ужасах стрелецкого бунта. Матери и дядьям Петра, очевидно, не составило большого труда настроить мальчика против ненавистной им Софьи, узурпировавшей, по их мнению, власть. Судя по донесениям и запискам иностранных дипломатов, уже с конца мая 1682 года противники правительницы усердно распространяли легенду о ее руководящей роли в заговоре, который привел к стрелецкому мятежу.
С самого начала регентства Софьи Алексеевны сторонники Петра обвиняли ее в намерении погубить младшего брата. Во время пребывания двора в Воздвиженском среди ночи внезапно загорелись деревянные хоромы Натальи Кирилловны и Петра, который в то время болел и лежал в постели в горячке. Слуги едва успели вынести мальчика из полыхающего здания. «И причитали, — пишет князь Борис Куракин, — что тот пожар нарочно учинен от царевны Софьи Алексеевны, дабы брата своего, царя Петра Алексеевича, умертвить и сесть ей на царство». Предположение это, порожденное убежденностью окружения молодого государя в злодейских замыслах его сестры, ничем не подтверждено.
О стремлении Софьи «извести» юного царя многократно упоминали и ее политические противники, и доверявшие им историки. М. П. Погодин в фундаментальном исследовании «Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великого» постоянно указывал на коварные замыслы правительницы Софьи Алексеевны в отношении младшего брата и его матери: «Царица Наталья Кирилловна с сыном, младшим царем… на первых порах оставлена была в покое. Временщики рассчитывали, что с ними всегда управиться можно»; «София предоставляла Петру полную свободу, впредь до решения его участи»; «готовила ему решительный удар».{376}
Однако нет никаких объективных подтверждений этих обвинений. Более того, в них трудно найти элементарную логику. Если бы Софья в самом деле планировала каким-либо образом избавиться от юного конкурента в борьбе за власть, то сделать это следовало как можно раньше. Зачем нужно было оставлять его в покое «на первых порах», ожидая, пока он вырастет и заявит о своих правах, когда заново окрепнет почти уничтоженная в мае 1682 года партия Нарышкиных? Почему Софья ни разу не попыталась реализовать братоубийственные планы? Если Петру в самом деле ежечасно угрожала опасность, то непонятно, как в такой обстановке он всё-таки сумел выжить. Так что логичнее предположить, что юный государь находился в полной безопасности. Правительница относилась к нему по-сестрински, хотя, возможно, без особой теплоты. Зато Петр люто ненавидел Софью и был уверен в аналогичных ответных чувствах.
Убежденность окружения юного царя в наличии у регентши коварных замыслов передавалась современникам событий и стала общим местом в донесениях и записках иностранных дипломатов. Например, ганноверский резидент в России Фридрих Христиан Вебер, обобщая известные ему сведения, писал в сентябре 1714 года: «Всем ведомо, что после смерти старшего царя по отцовской линии, Федора, ныне царствующий государь сначала разделял трон с братом Иоанном. Принцесса София, единоутробная сестра Федора и Иоанна, то ли по любви к сему последнему, то ли по своему неумеренному влечению к власти, изыскивала всяческие способы, дабы избавиться от своего единокровного брата, нынешнего царя, или, по крайней мере, каким-то образом исключить его из престолонаследия. Чтобы достичь сей цели, она сочла за наилучшее лишить царя какого бы то ни было образования и предоставить его самому себе среди банды несмышленых отроков. Царевна надеялась, что своим недостойным поведением он вызовет отвращение в народе, а уже замечавшиеся в нем начатки большого ума будут заглушены развратным и недостойным поведением, и таким образом он сделается не годным для царствования. Но все сии поползновения ни к чему не привели, и благие природные качества царя развивались по мере того, как он приходил в совершенные лета, что позволило ему преодолеть все препоны».{377}
Заметим, что адресованные Софье обвинения в стремлении лишить младшего брата надлежащего образования выглядят по меньшей мере странно. Петр находился на попечении матери, которая и должна была заботиться о его воспитании. Обучение Петра началось еще в годы царствования Федора Алексеевича, когда младшему царевичу исполнилось пять лет. Учителей выбрали Наталья Кирилловна и патриарх Иоаким. Ни Федор, ни тем более Софья не были виноваты в том, что наставниками маленького Петра были назначены люди малообразованные и слабо подготовленные к педагогической деятельности. Одним из них являлся Никита Моисеевич Зотов — человек с дурными наклонностями, который, несомненно, внес немалый вклад в моральную распущенность будущего царя. Впоследствии пьяница и хулиган Зотов стал важнейшей фигурой «Всешутейшего и Всепьянейшего собора», заняв в нем руководящий пост «князь-папы».{378} (В исторической литературе неоднократно высказывалась противоположная точка зрения, что именно подросший Петр споил и развратил прежде тихого и безобидного Зотова. Однако подобная версия событий неубедительна — слишком уж вдохновенно «князь-папа» предавался всевозможным безобразиям в компании Петра Великого и его собутыльников.)
Тем не менее Зотова нельзя обвинить в том, что он не дал Петру никакого образования. К сожалению, Никита Моисеевич мог вести преподавание лишь в рамках собственных, не очень обширных знаний, которых было достаточно лишь для начального обучения. Царевич быстро научился читать и впоследствии «проглатывал» множество книг самой разнообразной тематики. Однако писал Петр крайне неразборчиво и с многочисленными ошибками. В целом же будущий государь получил весьма скудное образование, которое не могло идти ни в какое сравнение с всесторонним и глубоким обучением Софьи под руководством выдающегося педагога, ученого и эрудита Симеона Полоцкого. Тем не менее в зрелые годы Петр обнаруживал неплохие познания в различных областях: истории, географии, артиллерии, фортификации. Всего этого он достиг неустанным самообразованием в силу постоянной жажды знаний, не покидавшей гениального реформатора до конца жизни.{379} Однако государь всегда жалел об упущенных в детстве и юности возможностях систематического образования. Собиратель анекдотов о жизни Петра Великого Якоб Штелин приводит слова царя, умилившегося при виде усердных учебных занятий своих маленьких дочерей Анны и Елизаветы:
— Я согласился бы отдать палец на руке, если бы меня в детстве учили так правильно.
Однако, повторим, Софья была нисколько не виновата в недостатках воспитания и образования младшего брата. Даже если она от всей души захотела бы исправить положение, Наталья Кирилловна ни за что не подпустила бы падчерицу к своему сыну и не поверила бы в ее добрые намерения, будучи глубоко убеждена в стремлении Софьи всеми способами навредить Петру.
Надо признать, что царевич в детстве не обнаруживал особой склонности к учебе. Он проводил все дни в компании упомянутых Вебером «несмышленых отроков», играя с ними, по обыкновению всех мальчишек, в войну. Но присущий Петру с самого раннего возраста организаторский талант обеспечил превращение ватаги детей и подростков с палками в руках в зачаток будущих полков российской гвардии. Постепенно забавы на просторах Преображенского и Воробьева приобретали черты настоящей военной подготовки. Из Оружейной палаты и Воинского приказа по требованию юного царя стали привозить уже вовсе не игрушечные пищали, карабины и мушкеты. Вскоре для игры в войну потребовались порох и свинец. Уже в 1683 году одиннадцатилетний Петр во главе группы сверстников занимался стрельбой из мушкетов по мишеням.
В 1685 году отряд «потешных» войск во главе с младшим царем под барабанный бой промаршировал полковым строем через всю Москву с северо-востока на юго-запад, из Преображенского в Воробьево. Это событие можно считать рождением русской гвардии. А в следующем году четырнадцатилетний государь завел при своем войске настоящую артиллерию под руководством «огнестрельного мастера» капитана Федора Зоммера. Управляться с тяжелыми пушками Петр со сверстниками был еще не в состоянии, поэтому он взял из Конюшенного приказа «охочих к военному делу» стряпчих-конюхов и назначил их «потешными» пушкарями.
В Преображенском, на берегу Яузы, под руководством капитана Зоммера по всем правилам фортификационной науки был построен «потешный городок» — наполовину деревянная, наполовину земляная маленькая крепость со стенами, башнями, рвами и бастионами. Крепость начали осаждать, разделив «потешные» войска на защитников и атакующих, а затем взяли ее приступом. Осады и штурмы повторялись не раз.
С 1686 года началось увлечение Петра навигацией. На Яузе возле «потешного городка» появились два плоскодонных парусно-гребных судна. Русский посланник во Франции князь Яков Лукич Долгорукий привез в подарок царю навигационный прибор — астролябию. Голландец из Немецкой слободы Франц Тиммерман начал показывать Петру, как пользоваться диковинным инструментом, но прежде пришлось преподать ему азы математики, которую они с Зотовым не изучали. После этого юный государь под руководством голландского друга начал учиться управлению парусами на английском боте, найденном в одном из амбаров в Измайлове. Сначала плавали по Яузе и измайловским прудам, потом переместились на Плещеево озеро под Переславлем. Там шестнадцатилетний Петр приказал расчистить место для верфи и пристани и начать строительство кораблей.
Тиммерман пригласил своего державного приятеля в Немецкую слободу, называемую москвичами Кокуем. От этого клочка европейской цивилизации посреди патриархальной страны Петр пришел в восторг. Он стал частым гостем в домах живших в слободе голландцев, немцев, шотландцев и представителей других национальностей, тем более что из Преображенского до Кокуя очень удобно было добираться на парусной лодке вниз по Яузе. С первых же посещений Немецкой слободы Петр пристрастился к пьянству и курению.
В 1688 году молодой государь сформировал из своих подросших «потешных» Преображенский полк, а затем второй — Семеновский, размещенный в одноименном селе по соседству с Преображенским. Князь Борис Иванович Куракин, с детских лет входивший в ближайшее окружение юного Петра и участвовавший в создании полков с момента первых мальчишеских игр в войну, высоко оценивал значение маленькой армии своего государя в борьбе за власть: «Понеже царь Петр Алексеевич склонность свою имел к войне от младенчества лет своих, того ради имел всегда забаву екцерциею военную. И начал сперва спальниками своими… а к тому присовокупил и конюхов потешной конюшни. И потом начал из вольных чинов шляхетства и всяких прибирать в тот полк, и умножил до одного баталиона, и назывались потешные, которых было с триста человек. А другой полк начал прибирать в Семеновском из сокольников, и к ним также прибирать, и набрано было с триста ж человек. И первый назвал полк Преображенской, а второй — Семеновской. И так помалу привел себя теми малыми полками в огранение от сестры или начал приходить в силу».
Создание верной младшему царю небольшой армии имело крайне важное значение в преддверии решающего момента в борьбе за власть. Как уже отмечалось, с апреля 1686 года в законодательных актах Софья наряду с братьями стала именоваться самодержицей. С этого времени «партия» сторонников царя Петра начала упорную обструкцию правительницы. Царица Наталья Кирилловна в открытую сказала старшим царевнам Анне и Татьяне Михайловнам:
— Для чего учала государыня Софья Алексеевна с великими государями обще писаться? И у нас люди есть — и того дела не покинут.
Это была прямая декларация, что сторонники младшего царя будут бороться против посягательств регентши на формальные признаки самодержавной власти. «От того и почало быть опасение», — утверждал впоследствии Федор Шакловитый. Дело началось с мелочи: постельничий молодого царя Гавриил Иванович Головкин «привел в Верх двух человек, неведомо каких людей». Царевне, находившейся на богомолье в Троице-Сергиевом монастыре, «ведомо… учинилось, что те люди говорят, чтоб быть ему великому государю одному». Эти новости очень обеспокоили правительницу.
В Великий пост 1687 года на Лубянке было обнаружено подброшенное кем-то письмо, содержавшее «многие непристойные слова» о Софье Алексеевне, «от чего опасно было ее государскому здоровью всякого дурна. Да в том же письме написано было побить бояр многих, к которым она, великая государыня, милостива». Обнаружение провокационного письма совпало по времени с набором «потешных конюхов» в маленькую армию Петра. Между «потешными» и верными Софье стрельцами начались стычки. Стрельцы неоднократно приходили к своему начальнику Федору Шакловитому и «говаривали, что их потешные конюхи везде изобижают и побивают, и естьли с ними не управиться, и от них де будет всем худо».{380}
Приверженцы правительницы со своей стороны стремились дискредитировать младшего царя и его окружение в глазах народа. Федор Шакловитый в разговорах со стрелецкими офицерами осуждал образ жизни Петра и его нежелание нормализовать отношения с сестрой:
— Государь пьет и на Кокуй ездит, и своими руками потешных конюхов кнутом бьет, и никакими мерами его в соединение и в мир привесть нельзя для того, что пьет допьяна.
Самый доверенный человек Шакловитого Никита Гладкой рассказывал стрельцу Стремянного полка Андрею Сергееву:
— У государя царя Иоанна Алексеевича двери дровами и поленьями закидали. Царской венец его изломали. А кому ломать? Только с другой стороны. Государя царя Петра Алексеевича с ума споили. Да ты смотри: государыня наша Софья Алексеевна непрестанно Бога молит, а там только на органах и на скрипицах играют.{381}
Между сторонниками правительницы велись разговоры об убийстве царицы Натальи Кирилловны и ее братьев. Даже флегматичный князь Василий Васильевич Голицын высказывал сожаление:
— Для чего ее, великую государыню, и в девяностом (1682. — В. Н.) году не убили? Естьли бы в то время уходили, ничего б не было.{382}
Крайне важные сведения о позиции Софьи Алексеевны в отношении насильственных способов борьбы за власть сообщил в показаниях 6 сентября 1689 года стрелецкий пристав Обросим Петров: в конце августа 1687 года правительница призвала к себе его и еще пятерых стрелецких офицеров (видимо, караульную смену) «к Спасу в сенях, часу в 4-м ночи», вышла к ним и сказала:
— Начинают государыня царица Наталья Кирилловна, да князь Борис Голицын, да Лев Нарышкин бунт.
Присутствовавший при встрече Федор Шакловитый предложил:
— Для чего князь Бориса Голицына и Льва Нарышкина не принять?
(В то время одно из значений слова «принять» было «убить».)
Софья возразила фавориту:
— Как их принять — мне всех жаль.
— Что, государыня, изволишь делать, и в том воля твоя, — заверили стрелецкие командиры.
Шакловитый продолжал настаивать:
— А что про царицу Наталью Кирилловну долго думать — мочно и ее принять. Известно и тебе, государыня, какова она в Смоленске была — в лаптях ходила и какого роду была.
— И без того их Бог убил, — сказала в ответ Софья.
«И она де великая государыня ему, Федке, воспретила», — подытожил Обросим.{383}
Данный факт достаточно известен — его приводят М. П. Погодин и С. М. Соловьев.{384} Но почему-то именитые историки не делают из этих крайне важных показаний очевидного вывода: Софья являлась принципиальной противницей кровопролития как средства политической борьбы. В показаниях Петрова, несомненно, звучит подлинная речь Софьи. Можно даже почувствовать ее интонацию. Царевна говорила спокойно, бесстрастно, с чувством явного морального превосходства над противниками. Не может быть никаких сомнений в подлинности изложенного выше факта, ведь слова правительницы не могли быть приятны Нарышкиным и, соответственно, не должны были понравиться следователям. Обросиму Петрову не было никакой нужды их придумывать. По материалам следственного дела ясно вырисовываются психологические особенности данного свидетеля — этот честный и простоватый человек был не способен что-либо сочинить.
Тогда же Федор Шакловитый составил от имени стрельцов, солдат, московского купечества и посадских челобитную о венчании Софьи царским венцом. Он показал документ своим доверенным, стрелецким командирам, которые должны были обеспечить сбор подписей и на Семенов день (1 сентября 1687 года) бить челом великим государям о короновании правительницы. Однако вечером Шакловитый вновь призвал к себе стрелецких офицеров и дал отбой — «великая де государыня того дела делать не указала».{385}
Между тем с конца 1687 года младший государь начал осуществлять политическую деятельность, принимавшую разнообразные формы. В декабре шведский дипломат Кохен отметил в донесении: «Теперь царя Петра стали ближе знать, так как первый министр, князь Голицын, обязан ныне докладывать его царскому величеству о всех важных делах, что прежде не делалось».
Четырнадцатого января Петр впервые участвовал в заседании Боярской думы, а два дня спустя, в годовщину смерти царя Алексея Михайловича, юный государь демонстративно обошел все приказы и находившиеся при них тюремные помещения; некоторых узников он одарил деньгами, а другим даровал свободу. Кохен отметил в феврале: «Царь Петр прилежно посещает думу и, как говорят, недавно ночью секретно рассматривал все приказы».{386}
Андрей Матвеев пишет о первых государственных занятиях молодого царя в возвышенных тонах: «Государь царь Петр Алексеевич, от времени до времени из юного своего возраста в большие лета приходя, неусыпными своими добрыми очами смотрел на властолюбивое восхищение сущей законной державы своей, и правление то свое пред правлением Софии Алексеевны не стерпел больше меньшим быть… Того ради вскоре тогда ж начал сам в думу входить, где в палате она, царевна, и бояре собирались и думали об управлении государственном».{387}
По мере взросления Петра усиливались позиции «партии» его сторонников. 8 апреля 1688 года 24-летний Лев Кириллович Нарышкин был пожалован в бояре; одновременно с ним в боярское достоинство возведен один из самых активных и верных сторонников будущего преобразователя Тихон Никитич Стрешнев. В связи с этим Кохен предположил: «Кажется, что любимцы и сторонники царя Петра отныне тоже примут участие в управлении государством».{388}
В конце мая 1688 года Петру исполнилось 16 лет. Ростом он уже превосходил всех приближенных, а его необыкновенные способности всё чаще отмечались в донесениях иностранных дипломатов. Например, Фуа де ла Невилль писал: «Этот монарх красив и хорошо сложен, а живость его ума позволяет надеяться в его правление на большие дела, если им будут хорошо руководить».{389} В день именин Петра, 29 июня, его доверенные стольники Матвей Филимонович Нарышкин и Иван Афанасьевич Матюшкин были пожалованы в окольничие.
С начала 1688 года молодой царь сблизился с генералом Патриком Гордоном, ставшим его главным учителем в области военного дела. Гордон много времени проводил с Петром в Преображенском, обучая его артиллерийскому искусству и готовя солдат для «потешных» полков. 7 сентября 1688 года, когда по Москве разнесся безосновательный слух о готовящемся бунте стрельцов, Петр получил повод для пополнения своих «потешных» войск солдатами Выборного полка Гордона. Сначала царь потребовал прислать ему пять трубачей и пять барабанщиков; генерал поспешил исполнить это приказание, даже не поставив в известность своего непосредственного начальника — руководителя Иноземского приказа князя Василия Голицына. Глава правительства Софьи был сильно раздосадован этим происшествием, но не мог ничего поделать вопреки крепнущей воле молодого государя. А тот к вечеру прислал к Гордону нового гонца с требованием дать еще пятерых барабанщиков, и генерал опять не посмел отказать. Через день в Преображенское было послано еще десять трубачей и барабанщиков под командой капитана — уже с ведома Голицына, который не решился спорить с царем, тем более что повод казался пустяковым. С того времени полк Гордона начал регулярно поставлять солдат для маленькой «потешной» армии. В октябре в Преображенское забрали шестерых рядовых, а в ноябре Петр распорядился отдать ему всех барабанщиков Выборного полка и еще десять солдат, которые были определены в конюхи для перевозки артиллерии и других нужд «потешного» воинства. Гордону пришлось набрать в свой полк «для обучения» 20 флейтистов и 30 барабанщиков.
Петр всё чаще, хотя пока еще в мелочах, демонстрировал волю самодержавного государя. В середине сентября 1688 года он потребовал послать к нему из Москвы в Преображенское всех стольников и стряпчих своего двора; тех из них, кто самовольно покинул столицу и уехал в свои поместья, предписано было разыскать и «задержать в Разряде». Той же осенью Петр на улице начал выспрашивать у какого-то пьяного подьячего, получают ли приказные жалованье, довольны ли они своим положением, а также «интересовался разными другими мелочами». Софья и ее сторонники должны были понять, что юный царь всеми силами пытается показать окружающим свою способность управлять делами.
Тем временем царица Наталья Кирилловна решила женить сына. Она руководствовалась двумя соображениями. Во-первых, беспорядочный образ жизни Петра — ночные оргии в Немецкой слободе, пьянство, курение — уже вызывал опасения за его здоровья. Чрезмерное увлечение военными маневрами и корабельным делом также зачастую вело к перенапряжению сил неокрепшего организма царственного подростка. Кроме того, эти занятия представлялись окружающим недостойными российского монарха и вызывали осуждение как со стороны боярства, так и среди простолюдинов. Еще больше не нравилось москвичам возрастающее пристрастие Петра к иностранцам. Наталья Кирилловна могла надеяться, что сын после женитьбы остепенится.
Во-вторых, вдовствующая царица со своими братьями и сторонниками была горячо заинтересована в скорейшем появлении на свет потомства Петра. В тот момент это казалось тем более важным, поскольку стало известно о беременности царицы Прасковьи Федоровны.
При выборе невесты для Петра впервые проявились серьезные противоречия внутри «партии» его сторонников. Князь Борис Голицын усердно хлопотал за княжну Трубецкую, с которой состоял в свойстве. Однако Нарышкины и Тихон Стрешнев воспротивились — по мнению князя Бориса Куракина, из опасения, что «чрез тот марьяж оный князь Голицын с Трубецкими и другими своими свойственниками великих фамилий возьмут повоир (силу. — В. Н.) и всех других затеснят».
Стрешнев предложил в качестве невесты Петра девицу из незнатного дворянского рода — Евдокию Федоровну Лопухину. Невеста была на три года старше жениха, по отзыву Куракина, «лицом изрядная, токмо ума посредняго и нравом несходная к своему супругу».
Петр, которому не исполнилось еще и семнадцати лет, не возражал против женитьбы. Красивая, добрая и скромная Евдокия ему понравилась. Венчание состоялось 27 января 1689 года. Борис Куракин, близкий к особе государя и вскоре женившийся на младшей сестре царицы Евдокии Ксении Лопухиной, а следовательно, хорошо осведомленный о перипетиях семейной жизни монарха, утверждал: «…сначала любовь между ими, царем Петром и супругою его, была изрядная; но продолжилася разве токмо год, но потом пресеклась. К тому ж царица Наталья Кирилловна невестку свою возненавидела и желала больше видеть с мужем ее в несогласии, нежели в любви».{390}
Впрочем, Петр был совершенно не готов к браку. По словам историка Е. Ф. Шмурло, «в течение медового месяца он меньше думал о молодой жене, чем о судах, заложенных с прошлого лета на Переяславском озере… И едва только повеяло весенним теплом, едва только в реках и озерах послышался первый треск льда, как Петр, забыв и мать, и молодую жену, умчался опять к своим кораблям, беззаботно предоставив своим близким отстаивать его интересы и права».{391}
К тому времени личные отношения Софьи и Петра уже обострились до предела, хотя добродушный Иван пытался их мирить. 26 апреля 1689 года оба брата пошли на панихиду в память о царе Федоре Алексеевиче. Софья не захотела идти в церковь вместе с Петром и распорядилась провести специально для нее повторное богослужение. Как отметил И. Е. Забелин, «царевна время от времени приказывала петь в соборе канон „Многими одержим напастьми“, словами которого желала выразить свое положение и отношение к петровской партии».{392}
Восьмого июля 1689 года во время крестного хода из кремлевского Успенского собора в Казанский собор на Красной площади на глазах у множества народа произошло открытое столкновение Петра и Софьи. Когда два царя, «пришедши в соборную церковь Успенскую, стали оба на своем царском месте», к ним присоединилась правительница. Затем, когда цари двинулись в ход за святыми иконами, «с их царскими величествами чрезвычайно пошла вместе чином и она, царевна, публично». Петр резко сказал сестре:
— Не приличествует при такой церемонии зазорному твоему лицу по необыкновению быть!
Однако Софья, проигнорировав демарш младшего брата, взяла в руки образ Божьей Матери «О тебе радуется» и пошла за крестами и хоругвями по направлению к Казанскому собору. Тогда рассвирепевший Петр «за святыми иконами вместе с нею не пошел» — покинув процессию, он наспех помолился в Архангельском соборе, а затем уехал в Коломенское. По словам Андрея Матвеева, царевна Софья, «то его братнее презрение увидав, впала в немалое мнение».{393}
Еще один эпизод показывает, что страсти накалились до предела. Утром 25 июля 1689 года по случаю именин царской тетки Анны Михайловны Софья и Иван в Кремлевском дворце угощали водкой бояр и царедворцев. Петр не явился из Коломенского на праздничную церемонию, после чего приближенным Софьи стала мерещиться угроза вооруженного нападения сторонников младшего царя на кремлевскую резиденцию. Шакловитый спрятал под Красным крыльцом отряд вооруженных стрельцов, которые должны были по его сигналу бежать в государевы апартаменты, чтобы спасти правительницу и царя Ивана.{394} Однако к концу дня младший царь всё же приехал в Кремль. Сопровождавший его отряд телохранителей бдительно следил за действиями стрельцов и других сторонников Софьи. Поздравив тетку, Петр поспешно покинул Кремль, наполненный враждебными ему людьми.
Через два дня Петр I отказался допустить к себе вернувшихся из Крымского похода князя Василия Голицына и других воевод, желавших поблагодарить государя за награды. Вместо этого он, как сообщает Иржи Давид, «позвал государственного казначея (Алексея Ржевского. — В. Н.) и допрашивал его о расходах царевны. При этом допросе Петр схватил казначея за бороду, швырнул его на землю и топтал ногами».{395}
Вечером того же дня Софья Алексеевна по обычаю отправилась пешком в Новодевичий монастырь к всенощной на храмовый праздник Смоленской иконы Божьей Матери. Ее сопровождали пятисотные и пятидесятники всех стрелецких полков, князь Василий Голицын и Федор Шакловитый. Софья, «едучи в монастырь на правой стороне, где делают палаты», начала жаловаться стрелецким командирам на царицу Наталью Кирилловну:
— И так беда была, да Бог сохранил, а ныне опять беду начинают.
Царевна призывала:
— Годны ли мы вам? И буде вам годны, и вы за нас стойте; а буде не годны, и мы оставим государство, воля ваша.
— Повеление твое, — заверили стрелецкие офицеры, — исполнить готовы, и что велишь делать, то и станем.
— Вы ждите повестки, — приказала Софья.{396}
Обе враждебные группировки приготовились к решительному столкновению. Сторонники Петра твердо вознамерились ликвидировать режим регентства, который в самом деле казался странным после достижения младшим царем совершеннолетия и его женитьбы. Однако правительница, не соглашавшаяся добровольно расстаться с властью, воспринимала действия петровской «партии» как бунт и пыталась заручиться поддержкой московского стрелецкого гарнизона. Софья не была сторонницей экстремальных мер и надеялась уладить нарастающий конфликт с младшим братом мирным путем. Однако рядом с ней находился человек, готовый ради сохранения ее власти на самые решительные действия.
Опасные затеи верного друга
Какая женщина не мечтает о преданном рыцаре, готовом оберегать ее до последней возможности? Софье посчастливилось иметь рядом с собой такого мужчину. Деятельный, изобретательный и безрассудно смелый Федор Шакловитый старался защищать интересы своей государыни всеми возможными способами, не останавливаясь перед авантюрами, интригами и даже преступлениями. Выше уже говорилось о том, какими мерами Федор Леонтьевич пытался упрочить власть правительницы. Планы венчания Софьи царской короной являлись весьма рискованной затеей, которая уже в сентябре 1687 года могла спровоцировать междоусобицу в правящей верхушке. Не сумев заручиться твердой поддержкой московского стрелецкого гарнизона, благоразумная царевна решила не менять положение вещей. Достижению главной цели должны были способствовать другие инициативы Шакловитого и его друга и помощника Сильвестра Медведева: печатание политических гравюр с прославлением царевны, составление поддельного акта о регентстве, написание «Созерцания краткого» — публицистического сочинения об успехах правления Софьи, издание стихотворных панегириков в ее честь. Не ограничиваясь этими мирными и в большинстве своем легальными средствами политической агитации, Шакловитый предпринял ряд решительных и опасных шагов, которые после поражения Софьи в борьбе с «партией» Нарышкиных привели его на плаху.
Важнейшим направлением деятельности Федора Леонтьевича в качестве начальника Стрелецкого приказа являлось обеспечение безопасности монархов и других особ царского семейства. Шакловитый использовал свои возможности для борьбы со сторонниками Петра и — шире — для подавления оппозиционных настроений в отношении режима регентства. В 1685 году стольник Григорий Павлович Языков сказал по неосторожности:
— Имя государское царя Петра Алексеевича в челобитной видим, а бить челом ни о чем ему, государю, не смеем.
Прознав об этих словах, Шакловитый прислал к нему в дом команду из пятидесяти стрельцов, но «Григорий, испужався, от тех стрельцов ушел» и «от него, Федьки, укрывался с неделю». Тогда начальник Стрелецкого приказа от имени правительницы Софьи Алексеевны распорядился конфисковать у стольника деревни и московский двор. Языкову ничего не оставалось, как добровольно объявиться перед грозным стражем государственного порядка. Шакловитый арестовал стольника и «держал его у себя на дворе в своей избе» дней десять. Сам Федор Леонтьевич с семьей жил в роскошном каменном особняке на Знаменке, а упомянутая изба служила, видимо, для хозяйственных нужд или проживания челяди.
В одну из ночей Шакловитый в сопровождении слуг явился в избу, растолкал спящего Языкова и начал его пытать на сооруженной прямо в комнате дыбе, повторяя один и тот же вопрос:
— От кого ты те слова про челобитье государю царю Петру Алексеевичу слышал?
Языков «от страха ничего ему отповеди не учинил, потому что был от него, Федьки, замучен».
В другой раз Шакловитый опять же посреди ночи вывез Языкова и его арестованных слуг в Марьину рощу в закрытых рогожами телегах. Там Григория Павловича снова пытали («поднимали на сосну») и «с человеком его давали ему очную ставку». Языков вновь «отповеди ему, Федьке, никакой не учинил же». Шакловитый отправил несчастного стольника под караул в дом стрелецкого подполковника Михаила Шеншина. «На третий день, в ночи» к нему явился комнатный истопник царевны Софьи Алексеевны Степан Евдокимов и, «выслав всех, которые к нему приставлены, сказывал ему государской указ»: никому не говорить, куда его возили и о чем спрашивали.
— А если скажешь, — пригрозил истопник, — и за то кажнен будешь смертью. А буде кто спросит, сказывай, что был в деревне.
После этих мытарств Языков еще шесть недель жил у своего брата Ивана под домашним арестом и присмотром четверых стрельцов. Затем к нему явился подьячий Стрелецкого приказа с повелением ехать в свою деревню в Костромской уезд. Излишне строгий Шакловитый хотел даже сослать Языкова в Астрахань, но Софья пожалела настрадавшегося стольника и разрешила ему в следующем году вернуться в Москву.{397}
Случай с Языковым был далеко не единственным. Из показаний подьячего Стрелецкого приказа Ивана Ушакова известно, что Шакловитый неоднократно пытал и допрашивал других людей в Марьиной роще, в лесу у села Преображенского, а также близ Москворецкого моста позади Новодевичьего монастыря. В числе пытаемых были представители самых разных слоев населения: армейский офицер, псаломщик, нищий слепой, посадские и дворовые люди и «неведомо какой мужик». Ушаков рассказывал страшные вещи о произволе Шакловитого: «Да по его ж Федькиному приказу посадскому человеку вырезан язык и послан в Сибирь за то, что говорил про боярина князя Василия Васильевича Голицына безчестные слова; да за такие ж слова пытан и бит кнутом капитан Дмитрий Слепушкин и послан в Сибирь».{398}
В октябре 1685 года стрельцы по приказу Шакловитого арестовали бывшего дьякона Воскресенского собора Никифора. Начальник Стрелецкого приказа отвез его в лес близ Преображенского и, «изготовя в той роще плаху и топор, того дьякона роспрашивал… на одине, и плахою и топором стращал». После допроса Никифор неделю провел под арестом в Капитанской слободке за Мясницкими воротами, а затем был сослан в монастырь.
Дворового человека Ивана Табунцова после недельного тюремного заключения Шакловитый «за два часа до света» отвез в Кремль и запер в помещении, где хранились седла для царской конюшни. Там стрелецкий пристав Обросим Петров поднял его на дыбу, а Шакловитый вел допрос. Потом Табунцов еще неделю просидел под стражей на дворе Ивана Ушакова, после чего был отдан «за караул приставу Оброске». Дальнейшая судьба этой жертвы политических репрессий неизвестна.
Надо заметить, что Федор Леонтьевич в служебных обязанностях по охране здоровья и чести членов царской фамилии не ограничивался только защитой интересов правительницы Софьи. Например, в 1686 году «Полуехтова приказу стрелецкая жена», говорившая «непристойные слова» про царицу Наталью Кирилловну, была по его указанию «за то кажнена». Верховой богомолец (приживала из царского дворца) за подобные слова в адрес матери царя Петра лишился языка и был отправлен в ссылку.{399}
Вторым направлением энергичной деятельности Шакловитого в пользу царевны Софьи являлась агитация среди стрелецких командиров с целью уговорить стрельцов применить в отношении сторонников младшего царя насильственные меры. Подобные случаи известны с лета 1687 года, когда стало усиливаться противостояние двух враждебных придворных группировок. Шакловитый собрал более десятка стрелецких офицеров на своем загородном дворе неподалеку от Новодевичьего монастыря и обратился к ним:
— Житья ныне не стало ото Льва Кирилловича Нарышкина с братьями, да от князя Бориса Алексеевича Голицына, да к ним же пристали и иные. Из государского дома тащат да волокут деньги, и разорение чинят, и кареты с Конюшенного двора развезли. Льзя ли вам с ними управиться, мочно ль их уходить? Я ведь говорю не собою.
Последней фразой Шакловитый дал понять, что выступает от лица правительницы Софьи.
— Не знаем, как быть, — пребывали в нерешительности стрельцы.
— И вы впредь подумайте, — настаивал Федор Леонтьевич, — мочно ль на вас надеяться, и своей братье, кому поразумнее, сказывайте.{400}
Двадцать восьмого августа 1687 года Шакловитый вновь призвал к себе доверенных стрелецких командиров и проинструктировал:
— Сентября, первого числа, как изволят великие государи выйти в Обновление нового лета, приготовьте из ваших полков человек по пятьдесят и по шестьдесят, чтоб в тот день были готовы для того: как великие государи выйдут, и вы бы побрали боярина Льва Кирилловича с братьями и посадили б за караул.
Однако за два дня до операции Федор Леонтьевич собрал у себя тех же стрелецких офицеров и сообщил им:
— Того дела делать великая государыня царевна Софья Алексеевна не указала.{401}
Один из приближенных Шакловитого стрелецкий капитан Василий Сапогов позже утверждал на следствии, что в 1687 году его шеф говорил про царя Петра и его мать Наталью Кирилловну «многие неистовые слова», и «умышлял де он, Федор, мать его государеву постричь за то, будто де она говорила, чтоб царевну Софию Алексеевну постричь».{402}
Из показаний Сильвестра Медведева известно, что Шакловитый летом 1688 года дважды говорил ему наедине:
— Как бы не было благоверной государыни царицы Натальи Кирилловны и боярина Льва Кирилловича, так бы у великой государыни благоверной царевны Софьи Алексеевны с великим государем царем Петром Алексеевичем было совестно.
Однако в материалах следствия зафиксировано отсутствие намерения двух собеседников покуситься на жизнь царицы Натальи: «И он де Сенька (расстриженному по указу патриарха Сильвестру Медведеву вернули мирское имя Семен. — В. Н.) о том, что ей великой государыне не быть, с ним, Федькою, не мыслил».{403}
Опасные затеи Шакловитого касались не только Натальи Кирилловны, Нарышкиных и князя Бориса Голицына. Фаворит Софьи неоднократно выражал презрение и ненависть к патриарху Иоакиму, который в придворной политической борьбе всецело был на стороне царя Петра. У Шакловитого возникла идея сместить Иоакима и заменить его горячим приверженцем правительницы Сильвестром Медведевым. В июле 1688 года Федор Леонтьевич призвал к себе на загородный двор 20 стрельцов из разных полков и заявил им:
— Мочно патриарха переменить и взять из властей, который на нашу руку, для того, что от патриарха многое прение бывает.
Стрельцы задали резонный вопрос:
— Ведают ли про то великие государи и бояре?
— Ведает один великий государь, — ответил Шакловитый, — а другой в малых летах. А бояре — все отпадшие, зяблое дерево.
— А боярин князь Василий Васильевич?
— Покамест он постоит.
— Твоя воля, — сказали стрелецкие выборные, — а нашего разума нет.
Тогда Шакловитый вынул из кармана заранее составленную челобитную от имени стрелецких и солдатских полков, гостей и гостиной сотни. В документе содержалась просьба, чтобы «великие государи указали святейшего патриарха переменить за то, что он не их рука».
— Кому же на его место быть? — спросили стрельцы.
— Изо властей. А буде изо властей не похотят, мочно и простого старца. Учинить ему такую честь — тот же будет патриарх.
Это был явный намек на Сильвестра, которого Софья и Шакловитый в самом деле хотели видеть на патриаршем престоле.
В завершение встречи начальник Стрелецкого приказа сообщил, что перепишет челобитную набело и даст ее стрельцам на подпись. С этими словами он отпустил своих сторонников, одарив каждого деньгами в бумажных кулечках.{404} На том дело и остановилось. Вероятно, умная и осторожная Софья запретила фавориту затевать слишком уж опасную попытку свержения патриарха.
Между тем Шакловитого не покидала мысль о возможности расправы над Нарышкиными и Борисом Голицыным руками верных стрельцов. В конце августа 1688 года он вновь призвал к себе своих сторонников:
— Много ли вас людей? А дело вам то: как на Семенов день (1 сентября. — В. Н.) к действу выйдет великий государь царь Петр Алексеевич, и вам надо ближних людей его Льва Кирилловича Нарышкина, князь Бориса Алексеевича Голицына и иных, которые при нем, государе, будут, побрать и отвесть в розные места.
После этого разговора часть верных ему людей начала проявлять беспокойство, не желая вмешиваться в придворную распрю. Пятисотный Ларион Елизарьев советовался с денщиками Шакловитого десятником Федором Туркой и рядовыми Михаилом Капрановым и Иваном Троицким:
— Как нам быть? Заставливают нас побить бояр!
Денщики ответили:
— Нам ни к какому дурну приставать и бояр побивать невозможно; а буде на кого государское изволение будет и пошлют нас по указу, и в том воля государская, по их государскому указу исполнять будем.
С этого момента между Елизарьевым, Туркой, Капрановым и Троицким установилось «согласие»: все четверо решили не поддаваться на уговоры Шакловитого, а в случае обнаружения явных планов покушения на «здоровье» царя Петра предупредить его об опасности. Вероятно, Федор Леонтьевич с его звериным чутьем заподозрил своих денщиков в неверности, поскольку пригрозил им:
— Будет из вас кто учнет ходить на боярские дворы, и тем людям учиню я без пощады смертную казнь.{405}
Как уже говорилось, в день именин царевны Анны Михайловны 25 июля 1689 года среди сторонников Софьи возникли подозрения о возможности нападения «потешных» войск царя Петра на кремлевскую резиденцию. Шакловитый приказал Обросиму Петрову и другим стрелецким командирам:
— Как ударят в Верху в колокольчик, и вы будьте готовы, и чтоб люди все были готовы в Кремле. И как ударят в колокольчик, и вы подите все в Верх, и кого велим имать, и вы тех людей и емлете.
«А кого именем имать — того он не сказал», — отметил в показаниях Петров.{406}
С целью дискредитации политических противников Шакловитый придумал удивительную авантюру, в которой участвовал его земляк из Брянска — подьячий Большой казны Матвей Шошин, лицом и фигурой очень похожий на Льва Кирилловича Нарышкина. Решено было, что Шошин обрядится в такой же белый атласный кафтан, какой носил Нарышкин, и в сопровождении свиты из переодетых стрелецких капитанов и рядовых поедет «по Земляному городу к Сретенским и к Мясницким воротам, где стоят стрельцы на караулах».
Там была устроена оригинальная политическая провокация. Свита Шошина направилась к караульным стрельцам и объявила, что «зовет их боярин Лев Кириллович». Когда те вышли из караульных помещений на улицу, Шошин сначала спросил их: «Которой час ночи?» — а потом вдруг начал хлестать плетью с криками:
— Убили вы братей моих, и я вам кровь братей моих отомщу!
Сопровождавшие его принялись бить караульных обухами, а ряженый «Нарышкин» подзадоривал их воплями:
— Бейте гораздо, не то им еще будет — заплачу им смерть братьев своих! Увидите вы все, что вам будет!
Через несколько минут свита начала демонстративно громко уговаривать мнимого Нарышкина прекратить расправу:
— Лев Кириллович! За что бить до смерти? Душа христианская!
Потерпевших доставили в Стрелецкий приказ, где они, пребывая в заблуждении, рассказывали о нападении на них дяди царя Петра. Шакловитый старательно протоколировал их показания, описывал «раны и побои», показывал избитых «многим людям», докладывал о происшествии государям и давал распоряжения лечить пострадавших снадобьями из царской аптеки.{407} Всё это делалось с целью вызвать озлобление стрельцов против Нарышкиных, настроить соответствующим образом общественное мнение и в то же время продемонстрировать трогательную заботу начальника Стрелецкого приказа о подчиненных.
Между тем агитация Шакловитого среди стрелецких командиров против сторонников царя Петра была подхвачена его клевретами Андреем Кондратьевым, Обросимом Петровым, Алексеем Стрижовым и Никитой Гладким. По показанию пятисотного Нифонта Чулочникова, первые трое «говаривали почасту, чтоб князя Бориса Алексеевича Голицына поймать где; а знатно, что и побить у них в мыслех было, потому что говаривали, чтоб мать великого государя Петра Алексеевича как бы де отдать в монастырь».{408} Гладкой «в разных месяцах и числех» 1689 года говорил стрельцу Стремянного полка Андрею Сергееву:
— Приготовь копье и будь готов, как я тебя позову. Слушай, как забьют в набат. А у нас будет ярмонка — побиение будет на бояр, на многих людей против прежнего смутного времени. И ты того смотри и от меня не отставай.
В этих словах примечательно указание на пример «смутного времени» (1682 года) и на готовность стрелецкого командира повторить кровавую вакханалию. Это уже инициатива самого Гладкого, склонного к экстремизму. Шакловитый в своих замыслах никогда не шел дальше намерения расправиться лишь с несколькими наиболее активными сторонниками царя Петра. Гладкой же проявлял в своей неуклюжей агитации явные уголовные наклонности. Он говорил Турке, Капранову и Троицкому:
— Ныне терпите да ешьте в долг; даст Бог, будет ярмонка — станем боярские дворы и торговых людей лавки грабить.{409}
Шакловитый очень симпатизировал Гладкому, выполнявшему при нем обязанности телохранителя. Однажды они вместе возвращались из Коломенского в Москву. Федор Леонтьевич пребывал в дурном расположении духа, громко возмущался, что Нарышкины не допустили его к руке царя Петра. Гладкой в знак сочувствия «матерны бранил» приближенных младшего царя и заявлял: «Пора де опять за дело приниматься!»
В мае 1689 года Шакловитый призвал к себе стрельцов Кузьму Чермного, Михаила Евдокимова и Михаила Чечотку:
— Многие плевелы в мире, а меж великими государями чинится великая ссора. И вы слушайте, какие есть слова и какие кто плевелы сеет, ко мне приносите.
Для большей убедительности Федор Леонтьевич начал запугивать их мрачными перспективами, ожидавшими стрелецкое войско в случае победы «партии» Нарышкиных:
— Хотят вас всех перевесть, а меня из Стрелецкого приказу вон высадить, а тех, которые ко мне в дом вхожи, всех разослать по другим городам. А мутит всем царица Наталья Кирилловна.
Наконец 28 июля 1689 года Шакловитый в беседе с пятью самыми доверенными офицерами из трех полков — Ларионом Елизарьевым, Андреем Кондратьевым, Никитой Гладким, Обросимом Петровым и Егором Романовым — озвучил уже весь свой замысел устранения наиболее активной части петровской «партии»:
— Надо приготовить стрельцов, кто сколько человек из вас приберет: сто или двести, а буде мочно, хотя б кто и весь полк привел. Это нужно для того: как изволит великий государь царь Петр Алексеевич быть на Москве и бояре также, и боярин Лев Кириллович Нарышкин и кравчий князь Борис Алексеевич Голицын будут на Москве ж. И, излуча время, ударить в Спасской набат. И вам бы в то время своей братье сказать, чтоб шли в город Кремль с копьями и мушкетами, что у кого есть. И говорите им, что князь Борис Алексеевич и Лев Кириллович с братьями хотят известь великую государыню благоверную царевну Софью Алексеевну. И в то число надобно побить князь Бориса Алексеевича и Льва Кирилловича и всех Нарышкиных до единого человека, да Апраксиных всех троих, Викулу Федоровича Извольского, Федора Тихоновича Зыкова. А как их побьют, и кто что в домах их возьмет и то всё перед ними, также и сыску никакого не будет.
— То дело не малое, — колебались стрелецкие командиры, — дай нам подумать, а подумав, мы тебе скажем.
Некоторое время спустя Елизарьев позвал к себе домой десятников своего Стремянного полка Федора Турку, Михаила Феоктистова, Ивана Троицкого и Якова Ладогина, рассказал им о намерениях Шакловитого и спросил: «Как тому быть?» Посовещавшись, единогласно решили, что не станут следовать указаниям начальника Стрелецкого приказа «без повеления великих государей», о чем Елизарьев в тот же день объявил Шакловитому:
— Буде таковое какое дело, и ты, Федор Леонтьевич, или думный дьяк сказал бы нам государев указ. Кого государи велят взять — и мы их и возьмем.{410}
Стрельцы сообщили о подстрекательствах Шакловитого своему духовному отцу Сильвестру Медведеву. Тот пришел в ужас:
— Что вы делаете? Берегитесь, чтоб ваши души не пропали!
Стрельцы разошлись по своим слободам в недоумении. Многим предлагаемые Шакловитым меры по обузданию «изменников-бояр» казались справедливыми, но отважиться на какие-либо действия без государева указа никто не хотел — свежи были в памяти репрессии, последовавшие за восстанием 1682 года.
Однако Федор Леонтьевич проявлял удивительную настойчивость. В первых числах 1689 года он вновь призвал к себе Лариона Елизарьева и объявил:
— Царевна София Алексеевна жаловалась мне на Федора Кириллова сына Нарышкина, что он приходил к ее комнате и в комнату ее бросал поленьями. Мочно ль на товарищев твоих надеяться, чтоб с озорниками управиться?
— Вольны в том государи, — ответил Елизарьев. — Есть на таких людей у них, государей, бояре, а паче всех святейший патриарх. Есть с кем им, государям, советовать и без нас.
В то же дни Шакловитый говорил своим любимцам из числа стрелецких офицеров:
— Князь Борис Алексеевич и Лев Кириллович с товарищами хотят всех стрельцов перевести и разослать в ссылки. Да они же хотят великую государыню благоверную царевну и великую княжну Софью Алексеевну убить.
Стрелецкие командиры младшего состава Обросим Петров, Алексей Стрижов, Андрей Кондратьев и Никита Гладкой, как утверждал в доносе Ларион Елизарьев, разнесли эти слова по всем полкам и «вмещают безпрестанно, что убить, убить — то и говорят».{411}
В то время как Федор Леонтьевич всеми силами пытался спасти положение, князь Василий Васильевич пребывал в меланхолии. Как справедливо заметил С. М. Соловьев, «поддержать Софью мог один Шакловитый своими средствами, на которые не был способен Голицын. Оберегатель находился в тяжком положении: ему оставалось не одобрять средств Шакловитого и в то же время робко, затаясь от самого себя, желать им успеха, который один мог спасти его».{412}
Любопытные сведения о настроениях стрельцов накануне кризиса 1689 года содержатся в показаниях Нифонта Чулочникова. Он воспроизвел разговор, состоявшийся в начале августа во время обеда в доме клеврета Шакловитого Алексея Стрижова, на который были приглашены многие стрелецкие командиры. Стрижов и его друг Обросим Петров внушали собеседникам:
— Великой государыне Софье Алексеевне смерть приходит, хотят убить; а если ее, государыни, не станет, то и нам худо будет.
— Хорошо бы, — предложил Чулочников, — о таком великом деле великим государям побить челом вообче об розыске.
— Так пойдет в слух и в стачки, — возразил Стрижов. — А то дело делается от князя Бориса и от Нарышкиных. Лучше так сделать: будет великие государи укажут кого взять за караул, взять того нам — для чего бы и не взять? Надо, чтоб были у вас люди готовы человек по десять с полка.
— У нас людей для этого никаких нет, — ответили стрелецкие пятисотные. — А что нам по вашему призыву делать, о том мы в наших полках товарищей своих спросим.
Выйдя из дома Стрижова, Чулочников и другие командиры обсудили ситуацию и благоразумно решили об этом опасном деле у себя в полках ничего «не сказывать».
Об агитации Шакловитого и его приспешников среди стрельцов моментально стало известно в лагере сторонников Петра. Это видно из следующего эпизода. 4 августа молодой государь приехал из Преображенского в Измайлово, где отпраздновал именины своей супруги Евдокии Федоровны. В числе поздравителей во дворец явился Шакловитый. Петр потребовал от него выдачи Алексея Стрижова. Стрелецкий начальник наотрез отказался подчиниться, доказывая необоснованность возводимых на его клеврета обвинений. Тогда Петр распорядился арестовать самого Шакловитого. Его заперли в одной из комнат Измайловского дворца, но к вечеру того же дня отпустили — младший царь и его приближенные еще не были готовы к обострению отношений с правительницей.
Из Измайлова Федор Леонтьевич по неясной причине поехал не домой, а в загородную усадьбу своего приятеля Любима Домнина. Можно с большой долей уверенности предположить, что фаворит Софьи во время спора с царем и последующего ареста несколько пострадал от скорого на расправу Петра I, поэтому не хотел пугать домашних видом свежих синяков. «Не доехав до Покровского», Шакловитый сказал сопровождавшим его денщикам и телохранителям из числа наиболее доверенных стрельцов:
— Был я за караулом, а просят у меня Алешку Стрижова; а если его отдам, будут спрашивать и вас.
С дороги Федор Леонтьевич послал в Кремль пятидесятника Ивана Троицкого «известить великой государыне царевне Софии Алексеевне о том, что он, Федор, из-за караулу свобожден и едет в добром здравии».{413}
Тем временем Софья призвала четверых наиболее доверенных стрелецких командиров и стала им жаловаться:
— Долго ль нам терпеть — уж житья нашего не стало от князя Бориса да ото Льва. Брата нашего царя Иоанна Алексеевича комнату дровами заклали, и хотят князь Василью Васильевичу Голицыну голову отрубить. А он добра много сделал: польское перемирие учинил, с Дону выдачи беглых крестьян не было, а его промыслом и с Дону выдают. Да на него ж все несут, брат ему князь Борис несет на него. И вы нас не покиньте — мочно ль на вас надеяться и князь Бориса и Льва взять?
— Воля в том ваша государская! — заверили служивые.
При расставании Софья одарила их крупной суммой — сотней рублей.{414}
Роковая ночь
Атмосфера в Москве накалилась до предела. Вместе с тем ни одна из враждующих придворных группировок не имела определенного плана действий. Как справедливо полагал Е. Ф. Шмурло, «заговора, как чего-либо организованного, не было; но всеобщее опасение его страшно нервировало всех, кружило голову. Напряженное ожидание кризиса собственно произвело самый кризис». М. П. Погодин также отмечал: «…ни той ни другой стороне, не убежденной в успехе, долго не хотелось начинать спора. Петрова сторона опасалась стрельцов. Софьина не была уверена в их единодушии, подготовляла, подкупала. Обе, кажется, хотели выжидать благоприятных обстоятельств, надеялись на случаи, чтоб нанести решительный удар обороняясь, а не нападая».{415}
Дальнейшие события развернулись с неожиданной быстротой. Утром в среду 7 августа Софья вызвала к себе Шакловитого, объявила ему о своем намерении отправиться перед рассветом следующего дня «пешим походом» на богомолье в Донской монастырь к заутрене и приказала подготовить отряд охраны из ста вооруженных стрельцов. Она опасалась повторения инцидента, произошедшего двумя неделями ранее, когда на Девичьем поле «перед нею государынею неподалеку неведомо какие люди зарезали до смерти отставного конюха».{416}
Начальник Стрелецкого приказа тут же распорядился снарядить конвой. Однако ближе к вечеру Софья снова призвала его к себе и рассказала, что дворцовые служители только что принесли ей подброшенное в сени письмо, в котором сообщалось о намерении «потешных» солдат Петра явиться ближайшей ночью из Преображенского в Кремль с целью убить ее, Ивана и их сторонников. Почему-то этот явно провокационный анонимный донос, несмотря на нелепость содержащихся в нем сведений, вызвал сильную тревогу правительницы, передавшуюся Шакловитому и князю Василию Голицыну. Первый немедленно распорядился собрать в Кремле 300 стрельцов, а второй приказал запереть все ворота в Кремле, Китай-городе и Белом городе и никого не пропускать по направлению к царской резиденции. Еще три сотни стрельцов были отправлены к съезжей избе на Лубянке, а троих своих денщиков Шакловитый послал в разведку в сторону Преображенского.{417}
По показанию Нифонта Чулочникова, командовавшего стенным караулом в ночь на 8 августа, «Кремль был с первого часу ночи заперт до отдачи дневных часов», то есть с десяти часов вечера до шести утра. В начале караульной смены Шакловитый предупредил его:
— Сего числа будут потешные в Кремль и хотят какие-нибудь пакости учинить.
Федор Лонтьевич продолжал обрабатывать подчиненного:
— Великого государя царя Иоанна Алексеевича князь Борис Алексеевич Голицын да Лев Кириллович Нарышкин с братьями ни во что не поставили. А великой государыни благоверной царевны Софии Алексеевны и на свете видеть не хотят. Хорошо бы их поймать.
Чулочников потом высказал предположение: «А знатно, что умысл был их и побить».{418}
Шакловитый постарался не упустить никаких возможностей для нейтрализации подозрительных лиц. Подьячий Стрелецкого приказа Федор Степанов передал караульным предписание начальника:
— Кого станете имать у Никольских ворот людей, которые едут из походу из Преображенского, тех людей Федор Леонтьевич велел водить во дворец к себе в Золотую палату на допрос.
В ту ночь Шакловитый призвал к себе ближайших соратников Никиту Гладкого, Алексея Стрижова и Андрея Кондратьева и говорил им:
— От князя Бориса и ото Льва житья нет.{419}
Однако никаких инструкций по действиям против сторонников Петра не последовало, иначе они непременно отразились бы в подробных показаниях Гладкого о событиях той ночи.
Поднятые по тревоге стрельцы терялись в догадках. Большинство были уверены, что их призвали для охраны государей, но некоторые пришли к выводу о готовящемся нападении на Преображенское. Подобное подозрение возникло из-за бестолковой активности Никиты Гладкого, известного всем в качестве главного доверенного лица и помощника Шакловитого. Будучи посланным для сбора отряда на Лубянке, он по дороге кричал стрельцам:
— Мы в Кремле все готовы, а приказу никакого нет! Шлите людей в город, а сами слушайте набату, я привязал язык к спасскому колоколу. Как ударят, смотрите на нас, что вам делать и куда идти.
Тем временем в Китайгородском доме пятисотного Лариона Елизарьева собрались стрельцы: пятидесятники Дмитрий Мельнов и Ипат Ульфов, десятники Яков Ладогин и Федор Турка, рядовые Иван Троицкий и Михайло Капранов. Посовещавшись, они решили тайком сообщить царю Петру о грозящей опасности. Трое последних, денщики Шакловитого, в решающий момент не остановились перед предательством доверявшего им начальника. Особой благосклонностью начальника Стрелецкого приказа пользовался также Елизарьев, которого тот неоднократно приглашал к себе в числе наиболее близких сторонников для тайных бесед. Впоследствии именно Елизарьев во время следствия по делу Шакловитого дал убийственные показания против него.
Если стрельцы в самом деле могли не разобраться в происходившем в ночной суматохе, то позиция историков, приписывающих Софье и ее сторонникам намерения напасть в ту ночь на Преображенское, перебить приближенных Петра I и даже расправиться с Натальей Кирилловной и самим молодым царем, вызывает сомнения. Шакловитый как начальник Стрелецкого приказа мог «именем государей», то есть Софьи, в считаные часы поднять по команде весь московский гарнизон численностью свыше 12 тысяч человек, однако вместо этого собрал в Кремле и на Лубянке всего 600 стрельцов. Такого количества войск было бы явно мало для нападения на Преображенское, в котором находились несколько сотен «потешных» солдат и стрелецкий полк Лаврентия Сухарева. Зато шестисот человек было вполне достаточно для обороны неприступной крепости — Кремля.
Кроме того, если бы Шакловитый в самом деле задумал в ту ночь военную операцию против Преображенского, то непременно попытался бы ее осуществить. Решительности и смелости этому человеку было не занимать, а ситуация после получения подметного письма о преступных намерениях Нарышкиных и Бориса Голицына была более чем благоприятна для нападения на сторонников Петра, поскольку впоследствии можно было бы сослаться на этот документ как неоспоримое свидетельство вины намеченных к «побиению» бояр. Ведь послужил же в свое время такой же анонимный донос основанием для казни князей Хованских. Однако никаких распоряжений о походе стрельцов на Преображенское не последовало. Мощный спасский набат так и не раздался, поскольку в действительности он должен был стать не сигналом к выступлению на Преображенское, а сигналом тревоги, извещавшим о нападении преображенцев на Кремль.
Той же ночью произошло случайное событие, укрепившее уверенность будущих доносчиков в преступных замыслах Софьи и Шакловитого против Петра и его сторонников. В Кремль с непонятной целью приехал из Преображенского спальник молодого царя Федор Плещеев. Он был пропущен через Никольские ворота, но перед царским дворцом на него напали стрельцы под предводительством Никиты Гладкого, стащили его с лошади, сорвали саблю и принялись избивать с криками: «Вот те, кто нам надобны!» Два сопровождавших Плещеева «потешных конюха» и слуга в страхе соскочили с коней и бросились бежать к Троицким воротам. Их поймали и посадили под караул на Лыковом дворе, а самого Плещеева повели на допрос к Шакловитому в Золотую палату. Тот выяснил у спальника цель его приезда в Кремль, убедился в его мирных намерениях и приказал отпустить, однако его людей на всякий случай оставил под арестом.{420} Инцидент мог бы оказаться исчерпанным и не иметь никаких последствий, однако по роковой случайности нападение на придворного чиновника царя Петра увидел Мельнов, посланный Елизарьевым и его товарищами в Кремль для выяснения ситуации. Грубая выходка Гладкого убедила его, что сторонники Софьи перешли к активным действиям.
Мельнов легко миновал караул у кремлевских ворот, видимо, сказавшись посланным на разведку. Поспешив в дом Елизарьева, он поделился с товарищами увиденным. Семеро доброжелателей (или предателей?) решили немедленно оповестить Петра о якобы грозящей ему опасности. Незадолго до полуночи Мельнов и Ладогин поскакали в Преображенское.
В резиденции младшего царя стояла тишина; село, дворец, «потешный городок» и казармы были объяты сном. Появление двух «изветчиков» на взмыленных лошадях вызвало переполох. Внезапно разбуженный Петр соскочил с постели и босой, в одной сорочке, кинулся в расположенную рядом с дворцом конюшню Льва Нарышкина. Царю наскоро оседлали лошадь, и он ускакал в близлежащий лес, где укрылся в чаще. Постельничий Гаврила Головкин привез ему одежду. Наспех натянув ее на себя, Петр в сопровождении Головкина и еще четырех человек поскакал в Троице-Сергиев монастырь. Дорога длиной в 40 верст заняла остаток ночи и рассветные часы. В шесть утра Петр ворвался в ворота обители, бросился на кровать в келье архимандрита Викентия и с рыданиями начал умолять настоятеля о защите от врагов. Вслед за государем прибыли Наталья Кирилловна с дочерью Натальей, Евдокия Федоровна, преданные младшему государю бояре и придворные, а также несколько сотен «потешных» войск. Позже подошли верные Петру стрельцы полка Сухарева. Монастырь приготовился к обороне: ворота были заперты, на стенах расставлены пушки, все подходы к обители перекрыты вооруженными караулами.
Тем временем в Кремле уже настало спокойствие. Князь Василий Голицын, убедившись в достаточности охранных мер, уехал в свой особняк в Охотном Ряду. Шакловитый тоже съездил к себе домой на Знаменку, но вскоре вернулся с двумя подьячими и прошел прямо в апартаменты царевны. Разговор между ними продолжался около часа. Содержание его неизвестно, но можно с уверенностью утверждать, что Софья и ее фаворит из соображений безопасности приняли решение не устраивать утром пеший поход в Донской монастырь, а ограничиться присутствием на заутрене в церкви Казанской Божьей Матери в Китай-городе, у стен Кремля. Это видно из последующих действий Шакловитого: выйдя от царевны, он отправился к названному храму, чтобы удостовериться, что Софье во время предстоящего выхода на богомолье ничто не угрожает. По пути он встретил своих денщиков Федора Турку и Ивана Троицкого и «послал их проведать в село Преображенское: тут ли де государь и будет ли к Москве?». Затем Федор Леонтьевич вернулся во дворец и с чувством выполненного долга улегся спать в Грановитой палате. С ним оставались двое подьячих и начальник стрелецкого караула полковник Андрей Нормацкий.
Стрельцы в течение всей ночи находились в назначенных сторожевых пунктах — на Лубянке, перед кремлевскими Никольскими воротами, у главных дворцовых входов и лестниц, а также на Лыковом и Житном дворах в восточной части Кремля. Легко заметить, что все эти заставы и караулы преграждали путь для движения с востока, со стороны Преображенского.
«За час до света» Софья пешком отправилась к заутрене в Казанский собор под охраной стрельцов из четырех полков, вооруженных бердышами. Из приближенных царевну сопровождали только окольничий Шакловитый и думный дьяк Данила Полян&кий. Правительница хотела, чтобы в церковь с раннего утра явился и князь Василий Голицын. Возможно, она рассчитывала после литургии провести там же, в храме, совещание своих ближайших сторонников. По распоряжению правительницы Шакловитый послал в дом Голицына Обросима Петрова, однако вышедший к нему дворецкий объявил:
— Скажи Федору Леонтьевичу, что князь Василий Васильевич не будет для того, что ему неможется.
После доклада Петрова Шакловитый сам поехал к князю и пробыл у него около получаса. В это время Софья слушала акафист и молилась в одиночестве, за закрытыми дверями. Возвращение Федора Леонтьевича из Охотного Ряда к Казанской церкви совпало с приездом из разведки его денщиков Турки и Троицкого, сообщивших:
— Благочестивейшего государя из Преображенского согнали. Ушел он, государь, бос, только в одной сорочке, а куды — того не ведомо.
— Вольно ему взбесясь бегать, — с деланым спокойствием произнес Шакловитый.{421}
Он сразу же прошел в церковь и до окончания службы оставался с государыней наедине. Вероятно, они о чем-то успели переговорить после заутрени. Строить предположения о содержании беседы сложно из-за отсутствия даже косвенных сведений, но по логике вещей разговор должен был вестись о создавшейся ситуации. Смелый и решительный Шакловитый мог настаивать на походе на Преображенское. Момент был благоприятный: там уже не было царя Петра, но еще оставались ненавистные Нарышкины и Борис Голицын. Повод для их ареста тоже имелся: подметное письмо с предупреждением о намерении «потешных» прийти с оружием в Кремль.
Однако стрелецкий поход против резиденции младшего царя никак не обошелся бы без большого кровопролития, поскольку преображенцы и Сухарев полк составляли значительную военную силу, а Нарышкины и Голицын, конечно, не сдались бы без сопротивления, несмотря на явный численный перевес на стороне противника. Если предположить, что Шакловитый действительно призывал Софью послать стрелецкие полки против Преображенского, то ее реакцию угадать несложно: являясь убежденной противницей кровопролития, царевна не захотела его слушать.
На обратном пути в Кремль Софья сказала сопровождавшим ее стрельцам:
— Если бы я не опасалась, как бы приехали из Преображенского, всех бы передавили.{422}
В этих словах помимо указания на необходимость принятых прошлой ночью оборонительных мер можно заметить убежденность Софьи в своей правоте и надежду на то, что досадный инцидент исчерпан. Однако это было не так.
Последнее противостояние
На следующий день из Москвы в Троице-Сергиев монастырь явились сбежавшие из своих полков капитаны московских стрельцов братья Василий и Филипп Сапоговы и пятидесятники привилегированного Стремянного полка Ипат Ульфов и Филипп Федоров. Как мы помним, Ульфов был в числе «доброжелателей», отправивших Мельнова и Ладогина с «изветом» к Петру I. Теперь четверо перебежчиков заявили со всей определенностью, что «воры и изменники» Шакловитый со своими сообщниками задумали «смертное убийство» царя Петра и его матери «и всякой свой воровской умысл».{423}
Тем временем ни о чем не подозревающие правительница Софья и царь Иван со спокойной душой участвовали в крестном ходе из Чудова монастыря и после «вечернего пения» слушали панихиду по своим родителям сначала в Архангельском соборе, а затем в Воскресенском девичьем монастыре. К вечеру в Москву прискакал гонец от Петра, чтобы узнать причину сбора множества стрельцов в Кремле. Софья приказала ответить, что это было сделано для ее охраны по пути в монастырь, куда она собиралась отправиться на богомолье. Драматизируя описываемый эпизод, Невилль сообщает: «…к вечеру узнали, что царь Петр послал упрекнуть царевну за ее вероломство, однако она громко отрицала всё и утверждала, что по ошибке за заговорщиков приняли стрельцов, которых привели, чтобы сменить стражу, и что напрасно предполагают, что у нее столь черная душа, чтобы желать смерти своего брата».{424}
Десятого августа Петр прислал в Москву приказ об отправке в Троицкий монастырь полковника Стремянного полка Ивана Цыклера с пятьюдесятью стрельцами. После некоторых колебаний Софья согласилась отпустить их. «После было узнано, — сообщает Гордон, — что это было хитростию Цыклера, который был одним из главных действовавших лиц в первом стрелецком бунте, когда погибло много из друзей младшего царя. Чтоб приобресть милость младшего царя, он написал к одному из своих друзей, чтоб тот убедил младшего царя прислать за ним, и обещал открыть некоторые вещи, которые там знать нужно». По прибытии в Троицкий монастырь Цыклер объявил, что его пытались привлечь к заговору Софьи и ее сторонников с целью низложения государя и убийства его приближенных. Это была явная ложь с целью завоевания симпатий царя. Гордон с чужих слов утверждал, что Цыклер по прибытии в Троицкий монастырь «открыл всё и передал на письме, какие получал с Верху приказы и записки для распространения между стрельцами». Однако никаких записок в действительности не было, иначе впоследствии они непременно фигурировали бы в качестве вещественных доказательств во время следствия по делу Шакловитого. Фаворит Софьи был достаточно осторожен, чтобы не оставить никаких документальных свидетельств своей агитации в стрелецких полках.
В тот же день в Троицкий монастырь сумели сбежать еще два недавних «доброжелателя» — Елизарьев и Капранов, которые подтвердили заявление Цыклера о заговоре Софьи и Шакловитого. Это тоже была ложь, ведь они, как было показано выше, не имели представления о смысле происходящего в ночь на 8 августа в Кремле. Однако их показания пришлись как нельзя кстати и очень обрадовали Нарышкиных и князя Бориса Голицына, получивших повод для устранения от власти «преступников» — Софьи и ее фаворитов.
Слухи о клевете дошли до Москвы, но не напугали царевну, уверенную в своей правоте. По ее приказанию Шакловитый написал объявление «для людей всяких чинов», что «стольник и полковник Иван Елисеев сын Циклер да изветчик Ларион Елизарьев с товарищи… стакався (то есть сговорившись. — В. Н.) затеяли напрасно».{425}
Несмотря на крайне напряженную обстановку, Софья не позволила себе нарушить распорядок богомольных походов и церковных праздников. 11 августа она в сопровождении бояр и воевод провожала чудотворную Донскую икону Божьей Матери, побывавшую в Крымском походе, из Кремля в Донской монастырь. Переночевав в обители, царевна на следующий день вернулась во дворец. 15 августа отмечалось Успение Пресвятой Богородицы. Накануне Софья слушала вечерню и молебное пение в кремлевском Успенском соборе, а в сам праздник присутствовала на литургии. На следующий день она вновь слушала литургию в церкви Спаса Нерукотворного в Верху на сенях. Как верно заметила Л. Хьюз, «в поведении Софьи чувствовались полное пренебрежение угрозой со стороны Петра, решимость продолжать являться перед народом».{426}
Между тем «партия» младшего царя продолжила постепенные наступательные действия. 16 августа в Москву пришло письменное распоряжение Петра всем стрелецким и пехотным полкам прибыть к 20-му числу к Троицкому монастырю. Гордон отметил в дневнике, что после получения этого приказа Софья собрала стрелецких командиров и произнесла перед ними «проникновенную речь», призывая не покидать Москву и не вмешиваться в споры между ней и братом. Затем царевна удалилась, а командиры начали обсуждать создавшуюся ситуацию. По словам Гордона, «полковники спросили, что же им делать, и поставили на вид, что перемены никакой в положении не произошло бы, если бы они пошли к Троице». Услышав об этом, Шакловитый поспешил донести царевне о столь неприятном повороте дела. Софья тут же вернулась в комнату, где еще оставались стрелецкие «начальные люди», и пригрозила:
— Если кто отойдет в Троицкий монастырь, то я велю поймать того и отсечь голову!
Напуганные стрелецкие командиры больше не обсуждали возможность выполнения требования Петра. Для их успокоения сторонники правительницы распустили по Москве слух, что указ о явке стрельцов к Троице послан без ведома царя, «по вымыслу» князя Бориса Голицына. Вместе с тем Софья еще 13 августа распорядилась описать имущество и арестовать семьи стрельцов, перешедших на сторону Петра. Поэтому московский гарнизон не спешил выполнять полученное тремя днями позже предписание младшего царя, обязывающее всех стрельцов не позднее четырехдневного срока явиться «пред его царские очи». На некоторое время в Москве наступило затишье, хотя, как отметил Гордон, многие были сбиты с толку явно ненормальным положением вещей, когда «два разных государя издавали противоречащие друг другу указы».
Запретив стрельцам выполнять распоряжение Петра, Софья всё же сочла нужным извиниться перед младшим братом и объяснить ему мотивы своего поступка. 16 августа она отправила в Троицу дядьку царя Ивана князя Петра Ивановича Прозоровского и священника Меркурия, духовника обоих царей. Они должны были всеми возможными мерами добиться примирения брата и сестры. Разумеется, эта миссия не могла увенчаться успехом, поскольку «партия» Нарышкиных уже уверилась в своих силах и определенно поставила перед собой цель свержения Софьи. Через два дня посланцы вернулись в Москву, не сумев, как отметил Гордон, «сделать ничего из того, что было им поручено».
Сторонники Софьи в Москве всеми силами старались исправить положение, успокоить верные правительнице стрелецкие полки и сохранить за собой перевес военных сил. Сильвестр Медведев, основываясь на предсказаниях «юрода» из Ниловой пустыни, ободрял посещавших его стрельцов:
— Не бойтесь, хоть и повезет нашим врагам, много что дней на десять, а там опять возьмет верх царевна София Алексеевна, потерпите.{427}
Шакловитый послал к Троицкому монастырю лазутчиков, чтобы те разузнали, какие показания дают против него и правительницы Цыклер, Елизарьев, Мельнов, Ладогин и другие перебежчики. 18 августа двое разведчиков были пойманы монастырскими караульными, а другие вернулись в Москву, однако их известия оказались крайне неприятны для правительницы и ее сторонников. Стало ясно, что враждебная «партия» намерена обвинить их в организации заговора и планах кровопролития.
Князь Василий Голицын посоветовал Шакловитому попытаться переманить стрельцов Сухарева полка:
— Уговори у Троицы их сколько-нибудь, чтобы они воротились к Москве, а глядя на них, поднимутся и прочие. Тогда царь Петр должен будет поневоле двинуться к Москве, и может устроиться примирение.
Во исполнение этого совета Шакловитый подослал своих поверенных к стрелецким женам, поручив передать:
— Зовите мужей домой, скажите: не то плохо будет им, нападут на них прочие полки, и одному полку не устоять против девятнадцати.
Все эти ухищрения не имели никакого успеха. Сухарев полк сохранял верность Петру, а из Москвы в Троицкий монастырь тайком перебегали поодиночке и маленькими группами стрельцы, решившие подчиниться распоряжениям младшего царя.
Правительница же продолжала усердно молиться и совершать пешие походы в монастыри. 17 августа она была в Новодевичьем, а в следующие два дня в Донском монастыре слушала литургию, которую совершал сам патриарх Иоаким. Вероятно, он по собственной инициативе вызвался поехать к Троице, и Софья поручила ему упросить брата «отложить гнев его и все прочие ссоры предать забвению».
М. П. Погодин относил отъезд патриарха в Троице-Сергиев монастырь к 19–22 августа. Недавно А. С. Лавров на основании «Смотренного списка Троицкого похода» установил точную дату его прибытия в обитель — 21 августа. Трудно сказать, хотел ли Иоаким в самом деле добиться примирения между братом и сестрой. Не исключено, что он попросту решил покинуть Москву, чтобы очутиться в лагере сторонников Петра, которого ранее всегда и во всём поддерживал. Погодин предполагает, что первоиерарху по прибытии в Троицкий монастырь «прочтены были изветы о покушениях на жизнь царя Петра, и об умыслах против него самого. Иоаким убедился приведенными доказательствами и остался в монастыре, приняв решительно сторону Петрову, чем она укрепилась и усилилась значительно».{428} Судя по дальнейшим событиям, так оно и было. Нарышкины и Борис Голицын действительно должны были поскорее ознакомить патриарха с показаниями перебежчиков о злых умыслах Софьи и Шакловитого.
Узнав о решении Иоакима остаться в Троице, правительница пришла в негодование, выплескивавшееся в доверительных разговорах с преданными стрелецкими командирами:
— Послала я патриарха, чтоб с братом сойтись, а он заехал туда, да там и живет, а к Москве не едет.
Шакловитый тем временем искал поддержки в стрелецких полках. 27 августа он жаловался полковнику Семену Рязанову:
— Стрельцы меня поклепали, будто я хочу известь великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича и великую государыню благоверную царицу и великую княгиню Наталью Кирилловну, и будто я, собрався со стрельцами, для такого умыслу хотел идти к ним, великим государям, в село Преображенское.
Рязанов в свою очередь подговаривал стрельцов своего полка:
— Буде вы умыслу Федора Леонтьевича никакого не ведаете, и вы милости у государя просите, чтоб государь его пожаловал.{429}
В тот же день от имени царя Петра в столицу были посланы грамоты полковникам стрелецких и солдатских полков с приказанием немедленно явиться в Троицкий монастырь «со всем полковым начальством» и десятью рядовыми от каждого полка. Кроме того, сторонники младшего царя обратились теперь и к народу. Московскому купечеству и посадским людям были посланы царские грамоты с предписанием прислать своих представителей в Троицкий монастырь. За невыполнение указов грозила смертная казнь.
На этот раз грамоты царя Петра оказали действие на стрельцов, несмотря на их страх перед гневом правительницы. Вероятно, царские угрозы испугали их больше. Полковники Иван Нечаев, Иван Спиридонов, Андрей Нормацкий, Илья Дуров и Сергей Сергеев с несколькими десятками офицеров и пятью сотнями рядовых отправились к Троицкому монастырю. Прибывшая толпа была пропущена через монастырские ворота и остановилась перед покоями государя. Петр вместе с патриархом вышел к прибывшим и кратко объявил о «злоумышлении вора Федьки Шакловитого» и его сторонников. Затем государь приказал прочесть «Объявление об открывшемся заговоре», где сообщалось:
«В нынешнем году, августа против 8 числа, в ночи, в селе Преображенском известно нам учинилось, что той ночи на Москве из ваших полков было многолюдное собрание, и город Кремль был заперт, для того, чтоб тому собранию быть тайно. А явной заводчик тому собранию вор Федор Шакловитой и иные такие ж воры. И хотели те воры приттить в село Преображенское, и нас и мать нашу, и сестру и ближних людей побить до смерти… И мы, от такого смертного убивства, изволили наскоре идти в дом Живоначалныя Троицы и чюдотворца Сергея».
В конце объявлялось, что «вор и возмутитель Федька Шакловитов» отстраняется от управления Стрелецким приказом и на его место будет назначена «из наших бояр знатная и правдивая особа». Половину прибывших полковников и стрельцов Петр приказал оставить в монастыре, а остальных «с тою ведомостью отпустить в полки к Москве, чтоб в полкех всем стрелцам было ведомо, что наш скорой поход учинился от смертного убивства».{430} Из этого следует, что сторонники младшего царя нисколько не опасались нападения верных Софье войск и не старались оставить у себя как можно больше сил для обороны. Таким образом, в возможность вооруженного конфликта они не верили, а считали важным оповестить как можно большее количество московских стрельцов и посадских о «преступных намерениях» Софьи и Шакловитого и тем самым подорвать доверие к власти правительницы.
После прочтения «Объявления» патриарх Иоаким говорил стрельцам «с великими слезами»:
— Смотрите, что уже у нас чинится, как такие воры умышляют на великих государей и нас!
Потом он «поучал» стрельцов «от Божественного писания многими притчами» и в завершение своей речи призвал сообщить, кому и что известно о заговоре. В ответ стрельцы «с великим слезным воплем» уверяли, что «воровского умыслу» не знают, и клялись в верности великим государям, обещая заговорщиков «ловить и приводить к ним». После этого половина стрельцов была отпущена к Москве.{431}
Софья почувствовала, что враги одерживают верх, и решилась на крайнюю меру: самой ехать к брату для объяснения и примирения. Вечером 28 августа по ее приказу отслужили напутственный молебен в Успенском соборе, затем в ночные и предрассветные часы она посетила Архангельский собор, Вознесенский и Чудов монастыри, успела побывать на Троицком подворье и в церкви Вознесения на Никитской улице. Оттуда, с Казанской иконой Божьей Матери в руках, она отправилась в Казанский собор и после долгой молитвы ранним утром двинулась в путь. Ее сопровождали бояре князь Василий Голицын, князь Владимир Долгорукий, Леонтий Неплюев, окольничие Венедикт Змеев, Василий Нарбеков, Семен Толочанов, думные дворяне Григорий Косагов и Федор Нарбеков, думный дьяк Емельян Украинцев и множество стрельцов. Андрей Матвеев сообщает, что во время похода к Троице правительница держала в руках «икону Спасителеву, якобы объявляя тем пред светом и всем народом свою невинность и напрасный на себя царский гнев».{432} Он же утверждает, что Софью сопровождали несколько сестер, но это вряд ли соответствует истине.
На следующее утро процессию встретил спальник молодого царя князь Иван Велико-Гагин и государевым именем приказал царевне поворачивать обратно. Та не захотела его слушать и продолжила путь до села Воздвиженского, в десяти верстах от Троицкой обители, где «стала с безотложным намерением в тот монастырь идти и видеться с его царским величеством». Узнав об этом, Петр прислал своего комнатного стольника Ивана Бутурлина «говорить ей, царевне, чтобы она в тот монастырь отнюдь не ходила; но она, царевна, в том упорно стоя, в ответ сказала ему, Бутурлину, что она конечно идет».
Пока Софья отдыхала в Воздвиженском после долгого пути, Бутурлин поспешил вернуться к Петру. Узнав, что сестра упорствует в своем решении, младший государь отправил к ней боярина князя Ивана Борисовича Троекурова «с последним словом», чтобы «она, царевна, никак отнюдь в Троицкий монастырь не шла; ежели же дерзновенно придет, то с нею нечестно в тот ее приход поступлено будет». Этому рассказу Матвеева вполне можно верить. Князь Борис Куракин более конкретно излагает угрозу Петра, объявленную Троекуровым: «…что ежели поедет — в монастырь не будет пущена, и велено будет по ней стрелять из пушек».
Софья вынуждена была вернуться в Москву. В новогоднюю ночь на 1 сентября она прибыла во дворец и «за час до свету» призвала к себе самых верных стрелецких командиров — пристава Обросима Петрова и пятидесятников Илью Афанасьева, Василия Тулу и Михаила Обросимова.
— Чуть меня не застрелили, — гневалась царевна. — В Воздвиженском прискакали на меня многие люди с самопалами и луками. Я насилу ушла и поспешила к Москве в пять часов. Нарышкины затевают, сложась с Лопухиными, и хотят изогнать государя царя Иоанна Алексеевича, и доходят до моей головы. Соберу полки и буду им говорить сама. Вы послужите нам верою и правдою и к Троице не уходите. Я вам верю, уж некому больше верить, как не вам, старым людям. Пожалуй, и вы побежите? Целуйте лучше крест.
С этими словами Софья «велела вынесть из хором крест девке. И девка из хором вынесла крест. И она, великая государыня, изволила у девки крест принять, и велела им целовать».
— А если побежите, животворящий крест вас не допустит, — вещала царевна, приводя стрельцов к присяге. — Письма же, какие будут из Троицкого похода от государя царя Петра Алексеевича, у съезжих изб не читать, а приносить ко мне в Верх.{433}
Очередная порция таких писем была доставлена в Москву и Немецкую слободу утром 1 сентября. Грамота Петра служилым иноземцам предписывала генералам и офицерам от полковника до прапорщика немедленно явиться в Троицкий монастырь со своими солдатами. В другом указе сообщалось об отправке в Москву полковника Ивана Нечаева со стрелецким отрядом — по десять человек от каждого полка (поскольку в Троицком монастыре сосредоточилось к тому времени шесть полков, эта команда должна была насчитывать 60 человек). Нечаеву поручено было разыскать и арестовать Федора Шакловитого, старца Сильвестра Медведева, стрельцов Никиту Гладкого, Алексея Стрижова, Обросима Петрова и еще четверых «бунтовщиков и изменников».
Когда Нечаев явился в Кремль с предписанием о выдаче Шакловитого, Софья в первую минуту пришла в ярость и приказала схватить дерзкого полковника и отрубить ему голову, однако для выполнения этого приказания не нашлось палача. Пока его искали, царевна успокоилась и отпустила государева посланца, заявив при этом, что своих людей не выдаст. Потом она обратилась к пришедшим с Нечаевым стрельцам:
— Брат наш, великий государь царь Петр Алексеевич, указал вам взять Федора Шакловитого да Оброску Петрова и иных, а они люди добрые, и безвинно ныне возьмете их. А в иное время и иных так и всех переберут. И вы без нашего указу никого не берите и сами с Москвы не съезжайте.{434}
Затем Софья собрала множество стрельцов перед Красным крыльцом и произнесла перед ними длинную речь, дошедшую до нас в пересказе Патрика Гордона:
— Некие злые силы, действовавшие между мною и братьями, использовали все средства, чтобы нас разъединить, возбудить ревность и раскол. Они подкупили людей, чтобы те стали рассказывать о заговоре против молодого царя. Мои враги, завидуя добрым делам Федора Шакловитого и его непрестанным заботам днем и ночью о безопасности и благе государства, называют его зачинщиком заговора, как будто это и в самом деле заговор. Чтобы разобраться в этом деле должным образом и выяснить, в чем причина всего этого, я предложила брату свою помощь и отправилась к нему в Троице-Сергиев монастырь. Но по наговору злых советников, окружавших моего брата, меня остановили и не пропустили дальше, поэтому, к моему величайшему бесчестью, я была вынуждена вернуться.
Все вы прекрасно знаете, как я правила государством последние семь лет, взяв на себя бразды правления в очень беспокойное время. Во время моего правления я добилась прочного мира с соседними христианскими государями, так что враги христиан вынуждены, благодаря двум военным походам, жить в страхе перед нами. Вы сами получили большие награды за свою службу, и я была все время очень милостива к вам и не могла представить себе, чтобы вы не были мне верны и поверили бы проискам врагов благоденствия и мира в стране. Врагам этим нужна не жизнь Федора Шакловитого, а жизнь моя и моего брата. Обещаю пожаловать тех, кто останется преданным мне и не будет участвовать в этом деле. Но тех, кто не подчинится мне и будет возбуждать какие-либо волнения, я велю казнить безо всякой пощады.
Спустя некоторое время правительница повторила ту же речь перед собравшимися «горожанами и простолюдинами», а затем последовало еще одно «красноречивое обращение» — вероятно, к боярам, окольничим и прочим царедворцам, собравшимся для празднования Нового года.
Л. Хьюз отметила: «…в этом эпизоде Софья предстает как натура энергичная, целеустремленная. Она совершенно не боится общаться с народом. Она борется за свое место в политической жизни и использует все имеющиеся средства, как угрозы, так и уговоры, чтобы обрести поддержку».{435}
Во время празднования новолетия и именин царевны Марфы Алексеевны в столице было спокойно. «Всех чинов людей» угощали водкой, налили чарку и полковнику Нечаеву. Но это была лишь видимость примирительного отношения к посланцу младшего царя. Нечаев опасался за свою жизнь и жаловался в донесении Петру: «А меня, холопа вашего, хотят поймать тайным обычаем, и я, холоп ваш, в домишку своем не ночую». Он рассказывал, что в полночь 2 сентября к нему на двор явился подьячий Стрелецкого приказа с большим отрядом стрельцов и хотел отвести его «в Верх», но того, по счастью, дома не оказалось.
Второго сентября приехавшие с Нечаевым в Москву стрельцы явились к Софье и просили разрешить им вернуться в Троицкий монастырь. Царевна «отпустить не поволила» и пригрозила:
— А будет кто поедет, помните, что у вас жены и дети на Москве останутся.
Шакловитый тем временем скрывался во дворце, в придворной церкви Святой Екатерины.{436} Позже подьячий приказа Большой казны Семен Надеин сообщил следствию, что 1 сентября он со своими подручными по договоренности с Софьей намеревался «увезть с Москвы Федку Шакловитого» после того, как «его де с Верху к ним сведут». Надеин послал Федору Леонтьевичу записку, что «лошади готовы у дворцовой лестницы, а коляска — на загородном дворе» (в усадьбе Шакловитого близ Новодевичьего монастыря).{437} Однако по непонятной причине бегство фаворита не состоялось. Может быть, он не захотел оставлять в опасности свою покровительницу — или же она сама побоялась отпустить его в рискованное путешествие, полагая, что в царском дворце под ее защитой ему будет безопаснее.
Шакловитый всё еще продолжал отчаянную борьбу всеми возможными способами. 2 сентября подьячие набело переписывали составленные им «сказки» с объявлением о делах государственной важности. В одной из них, которая была «писана начерно Федкиной руки Шакловитого, всего на трех столбцах самым мелким письмом», излагалось, «как воцарились великие государи цари и великие князи, Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич… и как по их государскому совету и по упрощению святейшаго патриарха и всего Российского народу восприяла правление благоверная государыня царевна и великая княжна София Алексеевна».
В другой «сказке» говорилось, что Лев Нарышкин с братьями к царю Ивану и царевне Софье «к руке не ходят» и «тем де их государскому имени ругаютца». Лев Кириллович обвинялся также в том, что «прибрал потешных конюхов и от тех де конюхов многим людем чинятца многие обиды и налоги». По этому поводу царю Петру послано «многое челобитье», но поскольку «никакого указа не чинено — знатно де, что о том не докладывает великому государю боярин Лев Кириллович Нарышкин с братьями и с единомышленники своими».{438} Эти «сказки» Шакловитый намеревался использовать в качестве прокламаций «для объявления разных чинов людям».
Между тем полковник Нечаев пребывал в растерянности. 3 сентября он послал царю Петру донесение о невозможности выполнения приказа об аресте сторонников Софьи: «…вора Федьки Шакловитова и жены и детей в доме нет, а носится речь, что в Верху, — и тут его взять невозможно. А старца Селиверстка искали… и сказали — не нашли». В стрелецких полках было «не согласно». На дворе съезжей избы Огибалова полка стрелец Яким Иванов застал Обросима Петрова и попытался его арестовать, но «тот Оброска Петров учинился силен и почал его бить». Присутствовавшие при этом стрельцы не поддержали Иванова «и его, Оброску, отпустили; и Олешку Стрижова и Егорка Романова также не дали». В то же время в других полках были арестованы трое сторонников Шакловитого — Андрей Сергеев, Иван Муромцов и Дементий Лаврентьев.
Очень интересны показания Нифонта Чулочникова о разговоре Софьи с пятью стрелецкими командирами, которых она призвала во дворец в начале сентября.
— Надобен ли вам великий государь царь Иоанн Алексеевич? — спросила царевна.
Стрельцы ответили, что намерены сохранять верность обоим царям:
— Мы им великим государям служить и работать готовы вобще.
— Житье наше становиться коротко, — начала жаловаться Софья. — Царя Иоанна Алексеевича ставят ни во что, а меня называют девкою, будто я и не дочь царя Алексея Михайловича.
— Ваша в том воля государская, — дипломатично ответили стрельцы, — нам вам, великим государям, указать нельзя.
Софья продолжала:
— А князь Борис Голицын да Лев с братьями Нарышкины, да набралось еще их новой родни, и они с царских конюшен коней, и кареты, и шоры все растащили. А святейшему патриарху о чем почнешь говорить, то он и не глядит.
Стрелецкие командиры возразили:
— Нам, государыня, святейшему не указать — воля его.
— Я кабы обо всём радела, — сетовала правительница, — а у нас всё из рук тащат. А будет вам мы не надобны, и мы пойдем себе с братом, где кельи искать.
— Мы вам, великим государям, рады служить вобще, — повторили стрельцы.
При расставании Софья по своему обыкновению одарила собеседников ста рублями.{439}
Из этого эпизода видно, что правительница стремилась заручиться поддержкой московского стрелецкого гарнизона и настроить общественное мнение против своих политических противников — Бориса Голицына, Нарышкиных и патриарха Иоакима. Стрелецкие же командиры в беседе с ней вели себя дипломатично, не выказывая желания ввязываться в придворную борьбу. Но во всяком случае Софья сумела добиться от них обещания служить государям «вобще», то есть всем троим. Тем самым стрельцы выразили готовность поддерживать существующую систему высшей власти, которую «партия» Нарышкиных стремилась изменить в пользу царя Петра. Такой итог переговоров со стрелецкими начальниками можно считать важным достижением Софьи Алексеевны.
Около 3 сентября двое пятисотных из полка Цыклера отправили ему письмо из Москвы о последних происшествиях в столице. Этот уникальный документ свидетельствует, что энергичная правительница в то время еще не утратила надежду на возможность вооруженного сопротивления врагам. На Лыковом дворе она расставила дополнительные стрелецкие караулы и начала стягивать туда «полные полки тысячные» со знаменами, копьями, ружьями и барабанами. По Москве ходили слухи, что Софья и царь Иван «изволят идти в Троецкой поход вскоре, а которого числа — того вподлинно неведомо».{440} Гордон также сообщает, что 3 сентября Софья подтвердила свое намерение «ехать с братом на следующий день в Троицу». Несомненно, у нее еще не угасла надежда на возможность примирения с Петром. Узнав об этом, младший царь, как сообщает шведский резидент Кохен, прислал Софье письмо с указанием «не трогаться с места под угрозой унизительного обращения и снова потребовал выдачи Шакловитого».
В тот же день правительница созвала заседание Боярской думы, чтобы обсудить, как поступить с Шакловитым; и «бояры, и окольничие, и думные дворяня приговорили вора Федку Шакловитого и товарищев его отдать к великому государю в Троецкой поход».{441} Софья должна была понять, что находится практически в изоляции. В то же время нет достаточных оснований для жесткого вывода, сделанного историком Е. Ф. Шмурло: «Царевна говорила не то, что думала. В ее действиях не видать уже более ни руководящей мысли, ни зрелого обсуждения. Она совсем потеряла голову». В действительности же Софья сохраняла ясность ума и продолжала бороться до последней возможности за свою власть и за жизнь близких ей людей. Известно, что она в те дни снова призывала стрелецких пятидесятников и десятников и говорила им:
— Я еще с государем грамотами перешлюсь, и вы до указу не отдавайте тех людей, те люди добрые. А то этак и всех вас переберут по указам царя Петра.{442}
Четвертого сентября по указу младшего государя на помощь Нечаеву для поимки «воров и изменников» был послан полковник Сергей Сергеев с двадцатью стрельцами. Ему было дано многозначащее предписание: «…буде он, Сергей, увидит брата его великого государя царя и великого князя Иоанна Алексеевича… и ему, Сергею, донести, что его, Сергея, для сыску тех воров, послал брат его государев, великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич». Как видим, правительница Софья Алексеевна уже совершенно игнорировалась царем Петром, ей о поручении докладывать не следовало. Юный самодержец был настроен решительно и на всякий случай пригрозил Сергееву: «А будет он в сыску и в поимке тех воров учинит какое нераденье, или оплошку, или их, сыскав, отпустит, и за то от великого государя быть ему в смертной казни, безо всякия пощады».
На следующий день Петр еще усилил сыскную команду, послав ей в помощь стрелецкий отряд из сорока человек под командованием полковника Ивана Спиридонова. Тем временем Сергеев со своими стрельцами явился в царский дворец и показал грамоту Петра о выдаче Шакловитого, Сильвестра Медведева и прочих «бунтовщиков». Посланец младшего царя и сопровождавшие его стрелецкие командиры просили, чтобы их проводили к старшему государю, однако им было отказано. Указ Петра принял боярин Борис Гаврилович Юшков, один из главных приближенных царя Ивана. Ознакомившись с документом, он объявил Сергееву:
— Вы зачем присланы, и тех людей стрельцов, вашей братии, у нас в ведомости (то есть в наличии. — В. Н.) нет. А Федька Шакловитый в ведомости есть. А старца Селиверстка Медведева в ведомости нет же, а ищите сами. А послан о том деле к великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичу боярин князь Петр Иванович Прозоровский. И как он будет от великого государя, и мы в то время вам великих государей указ скажем.
Софья как правительница в этом эпизоде уже не фигурирует, переговоры ведутся между представителями двух братьев-царей. Отправка князя Прозоровского к Петру явилась последней попыткой примирить его с сестрой и спасти ее любимца Шакловитого. Однако этот шаг был обречен на неудачу.
Князь Василий Голицын тоже попытался спасти положение — 3 сентября, по свидетельству Гордона, «прислал подьячего к своему двоюродному брату, князю Борису Алексеевичу, к Троице, убедить его, чтоб он постарался примирить враждебные стороны. В ответ ему было сказано, что он лучше всего сделает, если как можно скорее явится в монастырь и прибегнет к милости царя, который верно примет его наилучшим образом». Гордон отметил в дневнике: «Говорили, что младший царь, требуя выдачи Шакловитого с товарищами, обещал не лишать их жизни».{443} Вряд ли это соответствовало действительности: партия Нарышкиных жаждала крови врагов.
Между тем 4 сентября в Немецкую слободу дошла, наконец, грамота царя Петра с приказом офицерам-иноземцам явиться в Троицу. Пока начальник Иноземного приказа князь Василий Голицын колебался, следует ли их отпустить, Гордон и его товарищи с наступлением сумерек тайком выехали из слободы и направились к обители. Следующим утром они были «милостиво приветствованы» Петром. В числе прибывших иностранных офицеров находился полковник Франц Лефорт — будущий знаменитый сподвижник великого преобразователя. Вслед за генералами и полковниками в монастырь пришли подчиненные им войска «иноземного строя». Софья и Голицын потеряли основную военную опору.
Дело близилось к развязке. Вечером 6 сентября стрельцы во главе с полковниками Нечаевым, Сергеевым и Спиридоновым пришли в Кремль, чтобы арестовать Шакловитого. Как сообщает Гордон, Софья сначала держалась «решительно и отказывалась выдать его, убеждая их не вмешиваться в отношения между ней и ее братом, а сохранять спокойствие, но они этим не удовольствовались и сказали, что если они не смогут его взять, то будут вынуждены бить в набат, и тут царевна как будто разволновалась, и тогда те, кто стояли рядом с ней, опасаясь насилия и волнений, сказали, что ей не нужно участвовать в этом деле, и что, если поднимется бунт, многие лишатся жизни, и поэтому лучше выдать его; и так она позволила уговорить себя и велела его выдать».{444}
Матвеев утверждает, что решающее слово в деле выдачи Шакловитого принадлежало царю Ивану Алексеевичу — тот послал к Софье своего дядьку боярина князя Петра Ивановича Прозоровского, которому поручил «в крепких словах» объявить:
— Должна ты, государыня, напрасно больше не отговариваясь отнюдь ничем, того Шакловитого вместе со стрельцами — сообщниками его воровства во властные руки присланного полковника Нечаева отдать велеть. Ибо государь царь Иоанн Алексеевич ни в чем с любезным своим братом царем Петром Алексеевичем ссориться не будет даже ради тебя, государыни царевны, а тем паче ради такого вора Федьки Шакловитого.
«Тогда она, царевна, — пишет Матвеев, — видя прямую стороны своей явную слабость и крайнее безмочество и что никакими уже мерами у себя его, Щекловитого, удержать ей было невозможно, принуждена была с великими слезами его, Щекловитого… отдать».{445}
По свидетельству Куракина, царевна лично передала своего любимца князю Прозоровскому. Можно представить себе ее чувства в данную минуту. Она оказалась не в силах спасти близкого человека, своего «конфидента», горячего защитника ее интересов. Она больше не имела власти, и ее мнение ничего не значило. Это был конец правления государыни царевны Софьи Алексеевны.
Глава шестая НАЕДИНЕ С БОГОМ
«Гонение претерпех…»
Князь Прозоровский под караулом повез Шакловитого в простой телеге, скованного цепями. В час пополуночи 7 сентября арестант был доставлен в Троицкий монастырь. Матвеев сообщает, что к тому времени «у ворот бесчисленное собрание народа было… и та встреча была ему, Щекловитому, от народа с великими угрозами и ругательством».
В тот же день после пяти часов пополудни к воротам Троицкого монастыря «с повинною головою» явился князь Василий Голицын в сопровождении старшего сына Алексея и ближайших друзей и соратников Леонтия Неплюева, Венедикта Змеева, Григория Косагова и Емельяна Украинцева. Их не пропустили в обитель, приказав ждать, а спустя четверть часа отвели на постоялый двор и объявили, что «они должны находиться в своих квартирах и не выходить оттуда до приказа». Это была мягкая форма ареста.
Через два дня Василию и Алексею Голицыным был объявлен приговор от имени царей Ивана и Петра:
«…как они, великие государи, изволили содержать прародительский престол, и сестра их, великих государей, великая государыня благоверная и великая княжна Софья Алексеевна, без их великих государей совету, во всякое самодержавие вступила, и вы, князь Василей и князь Алексей, отставив их великих государей, и угождая сестре их государевой и доброхотствуя, о всяких делех мимо их великих государей докладывали сестре их; а им, великим государем, в то время было неведомо. Да ты ж, князь Василей, посылал в Малороссийские городы их великих государей грамоты, велел печатать в книгах имя сестры их великих государей, великия государыни благоверный царевны без их великих государей указу. Да ты ж князь Василей прошлого 197 (1689. — В. Н.) году послан с их великих государей ратными людьми в Крым и, дошед до Перекопи, промысла никакого не учинил и отступил прочь, и тем своим нерадением их государской казне учинил великие убытки, а государству разорение и людем тяжесть. И за то указали великие государи: отнять у вас честь боярство, а поместья ваши и вотчины отписать на себя великих государей, и послать вас в ссылку в Каргополь…»{446}
Леонтий Неплюев также был лишен «чести боярства», подвергся конфискации поместий и вотчин и ссылке в Пустозерск. Венедикту Змееву велено было «жить в Костромской его деревне до указу». Емельян Украинцев сумел вовремя отмежеваться от своего патрона Голицына и сохранил за собой пост дьяка Посольского приказа, оставаясь по сути вершителем внешней политики России при формальном руководстве бездарного и малообразованного Льва Нарышкина.
Федор Шакловитый подвергался допросу несколько дней. Сразу после доставки его в Троицкий монастырь он был «расспрашиван пред бояры»; затем последовала череда очных ставок со стрелецкими командирами. На одной из них недавно арестованный Обросим Петров заявил:
— Федька Шакловитый такие слова говорил, чтоб в селе Преображенском зажечь где-нибудь, и в то бы время убить великую государыню благоверную царицу Наталью Кирилловну и князь Бориса Алексеевича и Льва Кирилловича с братьями.
Другие стрельцы на очных ставках давали показания, что Шакловитый говорил «про государское здоровье многие злые слова», собирался постричь в монастырь или убить мать Петра, «умышлял» на жизнь боярина князя Бориса Голицына, хотел «переменить» или убить патриарха Иоакима. На все обвинения Шакловитый упорно отвечал, «что таких непристойных слов не говаривал». Исследованный А. С. Лавровым архивный подлинник следственного дела показывает, что Федор Леонтьевич перебивал свидетельствовавших против него стрельцов и «держался на допросе уверенно, вовсе не считая своего дела потерянным». Перелом в следствии наступил после того, как Шакловитый и его сообщники были подвергнуты пыткам. Если стрельцы получили по три-пять ударов кнутом, то Шакловитому было дано 15 ударов. Это было страшное, невыносимое истязание. Как поясняет Невилль, «удары начинают наносить ниже шеи, от плеча до плеча; палач бьет с такой силой, что вырывает с каждым ударом кусок кожи толщиной с сам кнут и длиной во всю спину. Большинство после этого умирают или остаются искалеченными».
Под пыткой Шакловитый признал почти все возведенные на него обвинения: и что участвовал в «умысле» на здоровье царицы Натальи Кирилловны, и что, «утешая» царевну Софью Алексеевну, обсуждал с ней, «чем де ей государыне не быть, ино де лутче царицу Наталию Кириловну известь». Наконец он прямо подтвердил, что говорил пятерым стрельцам про царицу Наталью, «чтоб ее убить». Сознался он и в стремлении сменить патриарха, и в намерении учинить стрелецкую расправу над боярами — сторонниками Петра.{447} Однако даже после пытки Шакловитый решительно отверг самое страшное обвинение — в умысле на жизнь государя. Тем не менее утверждение, что он намеревался убить царя Петра Алексеевича, вошло в следственное заключение и в вынесенный на его основании приговор.
Одиннадцатого сентября боярская комиссия от имени царей Ивана и Петра приговорила Шакловитого к смертной казни. На следующий день он был обезглавлен у стен Троице-Сергиева монастыря, в Клементьевской слободе. Во время казни Федор Леонтьевич держал в руках образ Святого Николая Чудотворца в серебряном окладе, переданный потом в церковь Вознесения Господня и Трех Святителей в Стрелецкой слободе близ Троицкого монастыря.{448} Можно с большой долей уверенности предположить, что это был прощальный подарок Софьи, благословившей друга перед расставанием навеки.
Вместе с Шакловитым были казнены Обросим Петров и Кузьма Чермной. Полковнику Семену Рязанову, стрельцам Ивану Муромцеву и Дементию Лаврентьеву, также получившим смертный приговор, казнь была заменена битьем кнутом, урезанием языка и ссылкой «в сибирские городы на вечное житье». Еще девять стрельцов были также биты кнутом и сосланы, а 15 человек были отправлены в ссылку без телесного наказания. В отношении стольника подполковника Михаила Шеншина, который посланных от Петра I в Москву стрельцов «бил и государевы грамоты сильно отнимал», было решено: сечь батогами и «честь, стольничество и подполковничество отнять».{449}
Полученные при допросах Шакловитого показания следователи постарались использовать против князя Василия Голицына, который, по их мнению, отделался слишком легко. Патрик Гордон пишет: «Интересно отметить, что несмотря на то, что князь Вас[илий] Вас[ильевич] был надежной опорой и поддержкой царевны и, как всем было известно, он знал обо всех происках против жизни молодого царя, если сам не был их инициатором, всё же он был наказан не как предатель или изменник, что могло произойти лишь благодаря власти и влиянию, которое его двоюродный брат князь Борис Алексеевич в то время имел на царя и его окружение».{450}
Копию записи показаний Шакловитого вместе с «вопросными статьями» следователи 10 сентября послали вдогонку отправленному в ссылку Василию Голицыну. Но поспешная казнь главного обвиняемого и свидетеля не позволила уличить Василия Васильевича в «преступлениях». В лаконичных ответах на каждую инкриминируемую «статью» он писал, что «Федке таких слов не говаривал» или «Федке того не приказывал». Как отметил А. С. Лавров, «один из ответов носил откровенно издевательский характер. Касаясь письма Шакловитого о предполагавшемся венчании на царство царевны Софьи Алексеевны, Голицын написал: „через почту Федка ко мне не писывал; а будет есть мое письмо к нему о том Федке, чтоб великие государи указали мне показать, как в нем писано“. Но подлинного письма в распоряжении следствия не было, а привести на „очную ставку“ казненного Шакловитого было невозможно».{451}
Таким образом, боярской комиссии не удалось окончательно погубить главу правительства Софьи. Достаточных оснований для обвинения его в причастности к антипетровскому «заговору» не нашлось. В результате было лишь изменено место ссылки: 18 сентября последовал указ царей Ивана и Петра об отправке отца и сына Голицыных вместо Каргополя в Яренск.
Лишившаяся всех сторонников и приближенных Софья молилась в кремлевских храмах и ждала решения своей участи. 7 сентября ее имя было исключено из царского титула. По замечанию Е. Ф. Шмурло, «это было сделано в очень деликатной форме, но сущность оставалась неизменною».{452} Соответствующее распоряжение гласило: «Великие Государи Цари и Великие Князи Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич всеа Великия и Малыя России Самодержцы указали: в своих Великих Государей грамотах, в Приказех во всех делех и в челобитных писать свое Великих Государей именование и титлу по сему, как писано в сем указе выше сего».{453}
Между 8 и 12 сентября царь Петр отправил письмо брату Ивану:
«Милостию Божиею вручен нам двум особам скипетр правления прародительнаго нашего Российскаго царствия, якоже о сем свидетельствует матери нашие восточные Церкви соборное действо 190 (1682. — В. Н.) году, также и братием нашим, окресным государем, о государствовании нашем извесно, а о третьей особе, чтоб с нами быть в равенственном правлении, отнюдь не воспоминалось. А как сестра наша царевна София Алексеевна государством нашим учела владеть своею волею, и в том владении что явилось особам нашим противное и народу тягость и наше терпение, о том тебе, государю, извесно. А ныне злодеи наши Фетка Шакловитой с товарыщи, не удоволяся милостию нашею, преступи обещание свое, умышлял с иными ворами об убивстве над нашим и матери нашей здоровием, и в том по розыску и с пытки винились. А теперь, государь братец, настоит время нашим обоим особам Богом врученное нам царствие править самим, понеже пришли есми в меру возраста своего, а третьему зазорному лицу, сестре нашей… с нашими двемя мужескими особоми в титлах в росправе дел быти не изволяем; на то б и твоя б государя моего брата воля склонилася, потому что учела она в дела вступать и в титлах писаться собою без нашего изволения, к тому же еще и царским венцом для конечной нашей обиды хотела венчатца. Срамно, государь, при нашем совершенном возрасте тому зазорному лицу государством владеть мимо нас».{454}
В сентябре 1689 года во время допросов сторонников царевны следователи неоднократно предпринимали попытки установить причастность Софьи к заговору с целью убийства Петра или членов его семьи. Разумеется, поиск каких-либо свидетельств и иных улик был заведомо бесперспективен, поскольку царевна никогда не согласилась бы санкционировать братоубийственное кровопролитие и вряд ли знала о замыслах Шакловитого, который подговаривал стрельцов к «побиению бояр» по собственной инициативе. Следствие лишь установило, что Софья встречалась со стрелецкими командирами, уговаривала их «постоять» за нее и царя Ивана, просила защиты от происков Нарышкиных и Бориса Голицына, раздавала стрельцам деньги с целью привлечь их на свою сторону. Во всех этих действиях невозможно заметить не только «преступление», но и какой-либо злой умысел. Софья лишь пыталась защититься от притеснений врагов.
После отмены регентства для царевны оставалась только одна дорога — в монастырь. Обстоятельства ее заточения известны лишь по запискам Матвеева. По данному вопросу не было принято никакого акта или иного письменного распоряжения. Матвеев сообщает, что в начале десятых чисел сентября царь Петр отправил из Троицкого монастыря в Москву к старшему брату Ивану боярина князя Ивана Борисовича Троекурова «со объявлением: чтобы за известные подыскательства, учиненные ею, царевною Софьею Алексеевною, не допуская впредь до горшего от нее последования, нимало не умедляя, из дворца шла она в Новодевичий монастырь». По словам того же мемуариста, «хотя она много тогда отговаривалася, но необходимо принуждена была разлучиться с сестрами своим царевнами во многом плаче и, оставя свое прежнее властолюбие, идти в тот монастырь, где ей назначено жить».
Партия Нарышкиных торжествовала. Петр Алексеевич с супругой, матерью и «со всем своим царским домом» вернулся в Москву 10 октября. По пути, у села Алексеевского, государя встречали «всяких чинов люди в чрезмерном множестве с несказанною всенародною радостию». Не было заметно ликования только среди стрельцов, которые разложили вдоль дороги плахи с вонзенными в них топорами и сами «лежали при том пути и просили милосердого в своих винах всепокорно у его царского величества прощения». Несомненно, это был спектакль, организованный московскими властями и призванный продемонстрировать «раскаяние» людей, якобы участвовавших в «преступном заговоре» Софьи и Шакловитого. Петр помиловал стрельцов по случаю своего возвращения в столицу «с торжественною радостию и со всенародным утешением», однако некоторое время спустя счел необходимым продолжить следствие. По свидетельству Матвеева, «приличные воры, по розыску боярина князя Троекурова, достойную казнь себе получили». Многие стрелецкие полки «в ту пору по разным городам в службу из Москвы были разосланы», и численность столичного гарнизона сильно сокращена.{455}
Въезд Петра в столицу лаконично и четко описан Невиллем. В данном случае автору можно верить, поскольку он тогда находился в Москве и с нетерпением ожидал аудиенции у младшего царя. Петр въехал в город верхом в сопровождении многочисленной вооруженной стражи; «четверть часа спустя появились в карете его мать и жена, и все вместе направились во дворец. Царь Иван вышел встретить своего брата на крыльцо. Они обнялись. Царь Петр просил Ивана быть ему другом, и тот, кто отвечал ему от имени брата, заверил Петра в его дружбе. Каждый удалился в свои покои, и после этого об Иване упоминают только в заголовке грамот».{456}
Началось правление партии Нарышкиных от имени Петра I. Сам он в течение восьми следующих лет мало интересовался государственными делами, предпочитая проводить маневры «потешных» войск и строить корабли на Плещеевом озере.
Дева из Новодевичьего
В сентябре 1689 года ворота монастыря закрылись за Софьей навсегда. О последних четырнадцати годах ее жизни мы знаем совсем мало, поскольку официальные источники почти не сообщают об опальной царевне, которой государь предписал удалиться от мира. Нельзя ждать помощи и от мемуаристов — им ничего не могло быть известно о жизни монастырской затворницы. Даже иностранные послы, стремившиеся донести до своих дворов исчерпывающие сведения о царской семье и пользовавшиеся любой доступной информацией, включая сплетни и слухи, почти не говорят о бывшей правительнице, а лишь пересказывают измышления идеологов петровского царствования об ужасных замыслах Софьи относительно младшего брата, который сумел уберечь себя от опасности и заслуженно покарал коварную сестру, поступив с ней значительно мягче, чем она заслуживала своими преступлениями.
Можно лишь утверждать, что место заточения царевны было выбрано по ее собственному желанию. Бывшая правительница всегда очень любила Новодевичий монастырь, куда в лучшие годы своей жизни часто являлась на богомолье.
Обитель во имя Смоленской иконы Божией Матери была основана еще в 1524 году великим князем Василием III в благодарность за взятие Смоленска (1514). Новодевичьим монастырь стали называть, чтобы отличать от основанного еще в 1360-х годах святителем Алексием девичьего монастыря, вначале именовавшегося Алексеевским, затем Зачатьевским. В 1524–1525 годах в Новодевичьем был возведен главный храм — Смоленский собор. Южный придел храма был освящен во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Ярким доказательством того, что царевна Софья активно покровительствовала этой обители, являются проводившиеся в годы ее правления интенсивные строительные и ремонтные работы монастырских зданий, осуществлявшиеся за счет казны. Были обновлены сохранившиеся до наших дней стены и башни.
В настоящее время общая протяженность монастырских стен составляет около 950 метров. Во времена Софьи территория обители была несколько меньше: тогдашний периметр ее стен был 638 метров, а вместо двенадцати ныне существующих башен стояли только десять. Посередине северной и южной стен находилось по одной проездной (воротной) башне, украшенной росписями. Над южной проездной башней была выстроена надвратная Покровская церковь, к которой примыкают кирпичные палаты, названные позже Мариинскими, поскольку в них в 1690-х годах жила старшая сестра Софьи Мария Алексеевна. Покровская церковь и палаты имеют единое архитектурное оформление. Храм и третий этаж палат поставлены на общую галерею. Существует предположение, что в тех же палатах некоторое время обитала и царевна Софья.{457}
К 1687–1688 годам относятся парадные северные трехстворчатые ворота со Спасо-Преображенской церковью. Стройный четверик маленького храма, великолепно декорированный деталями из резного белого камня, возвышается на широких белокаменных воротах. Церковь венчается полукруглыми раковинами и пятью стройными главками. Внутри расположен великолепный золоченый иконостас, в создании которого принимал участие один из наиболее известных иконописцев Оружейной палаты Карп Золотарев. С западной стороны к храму примыкают жилые палаты, выстроенные одновременно с воротами. Они предназначались для царевны Екатерины Алексеевны, которая больше сестер увлекалась архитектурой и оформлением интерьеров. Впоследствии эти палаты получили название Лопухинских, поскольку в них последние четыре года жизни (с 1727 по 1731) провела первая супруга Петра Великого царица Евдокия Федоровна Лопухина.
Монастырские строения дошли до нас практически в том виде, в каком они были во времена пребывания Софьи. Все они выполнены из красного кирпича и украшены белыми известняковыми колоннами, порталами и наличниками. Их формы в стиле московского барокко свидетельствуют о влиянии западной архитектуры на русское придворное зодчество. Влияние европейского стиля сказалось даже на форме зубцов, увенчавших мощные монастырские стены в годы регентства Софьи.
Для главного храма монастыря — Смоленского собора — по заказу царевны в 1683–1685 годах был изготовлен великолепный позолоченный иконостас. Иконы для него были написаны в те же годы ведущими мастерами Оружейной палаты Симоном Ушаковым и Федором Зубовым. Благодаря щедрым вкладам правительницы для собора были приобретены купель, лампады и церковные ризы. По замыслу ктиторши иконостас в приделе в честь ее святой покровительницы был посвящен теме женской святости: традиционные иконы деисусного ряда заменены образами благоверных княгинь и преподобных жен, в частности Евфросинии Суздальской. Храмовой иконой придела стал образ святой Софии с дочерьми-мученицами.{458}
В 1682–1687 годах было возведено одно из самых больших сооружений ансамбля Новодевичьего монастыря — церковь Успения Богоматери с трапезной, замечательный памятник московского барокко. Трапезная служила как для повседневного столования монахинь, так и для угощения знатных посетителей во время праздников и поминальных обедов. Главный зал площадью 400 квадратных метров покрыт единым сводом, без дополнительных опор, что явилось редким достижением строительной техники XVII века. Многочисленные помещения в западной части здания имели хозяйственное назначение. В расположенных в подклетях подвалах варили пиво, готовили квас, хранили съестные припасы.
По инициативе царевны Софьи Алексеевны в Новодевичьем монастыре было возведено одно из лучших произведений русской архитектуры XVII века — колокольня высотой 72 метра, составленная из шести постепенно сужающихся восьмериков. Строитель этого прекрасного сооружения — вероятно, «подмастерье каменных дел» Осип Старцев — не только обозначил колокольней центр всего монастырского ансамбля, но и замкнул дорогу, ведущую от Кремля.{459}
Надпись на монастырских колоколах, отлитых в 1684 и 1685 годах, гласит, что они изготовлены по указу царей Ивана и Петра и «общими же с ними великими Государи изволением и согласием сестры их Государския, великия Государыни, благоверныя Царевны и великия княжны Софии Алексеевны всея Великия и Малыя и Белыя России, понеже она Государыня того святого дому из давних лет строительница, а ныне наипаче имеет прилежное попечение к устроению, как от всех видимо».{460}
В Новодевичьем монастыре Софья находилась под домашним арестом, но не была особенно стеснена в условиях жизни. Ей было разрешено взять с собой бывшую няньку Марфу Вяземскую, двух казначей и девять постельниц. Из царского дворца в монастырь для бывшей правительницы и ее штата ежедневно присылались съестные припасы: хлеб, рыба, мед, пиво и водка. Примечательно, что вино в этом списке не фигурирует — очевидно, царевна предпочитала «утешаться» более крепкими напитками. Обращает на себя внимание также отсутствие в составе присылаемых продуктов мяса, что является показателем давней привычки Софьи к постнической жизни.
Первые десять лет монастырского затворничества царевна продолжала располагать собственными денежными средствами. В это время она продолжала делать вклады в святые обители. Например, в феврале 1695 года она подарила Новодевичьему монастырю лампаду к домовой Смоленской иконе Божьей Матери в поминовение своих родителей.{461} 10 декабря 1693 года в Саввино-Сторожевском монастыре была освящена церковь Преображения Господня, построенная по заказу Софьи в стиле московского барокко, в память «спасения от Хованских». Вероятно, строительство храма было начато на средства царевны годом раньше, в ознаменование десятой годовщины этого события. Данный факт позволяет в полной мере понять, какое значение придавала Софья устранению князей Хованских и последующему подавлению стрелецкого восстания, без чего невозможно было наладить нормальную жизнь в Москве, да и во всей стране. Царевна проявляла заботу о Саввино-Сторожевском монастыре, помня, что он стал убежищем для царской семьи в самый напряженный момент «Хованщины». В период ее регентства в обители был построен каменный двухэтажный дворец. В конце XIX века в нем хранились портреты Софьи в монашеском одеянии, впоследствии утраченные.{462}
Во многих отношениях жизнь Софьи в Новодевичьем монастыре была сходна с традиционным постничеством русских царевен в тереме. Как и прежде, она ревностно соблюдала церковные обряды, молилась, постилась и занималась чтением и переписыванием духовных книг.
В первые годы пребывания в обители бывшая правительница России была еще не готова отрешиться от мирской жизни. Вне всякого сомнения, она внимательно следила за происходившими в Москве событиями. Получать соответствующую информацию поначалу было несложно: царь Петр разрешил сестрам посещать Софью. Конечно, от них опальная узнала о перестановках в правительстве. Руководство Посольским приказом было поручено бездарному, малообразованному и ленивому дяде юного государя Льву Кирилловичу Нарышкину. Есть сведения, что Василий Васильевич Голицын, проведав об этом, вскричал в ярости:
— Уж не сошел ли его царское величество с ума?
Несомненно, это удивительное назначение столь неподходящего человека на важнейший государственный пост вызвало схожую реакцию и у Софьи Алексеевны.
Другие правительственные назначения были, в общем, вполне обоснованными и диктовались стремлением Петра I и Нарышкиных сосредоточить основные государственные должности в руках своих сторонников. Тихон Никитич Стрешнев сосредоточил под своим началом управление тремя весьма важными учреждениями: Разрядом, Сыскным приказом и приказом Розыскных дел. По современным понятиям, он стал одновременно министром обороны и руководителем службы безопасности. Стрелецкий приказ перешел в руки князя Ивана Борисовича Троекурова. Иноземный, Пушкарский и Рейтарский приказы оказались объединены под началом князя Федора Семеновича Урусова. Боярин Петр Абрамович Лопухин, младший брат тестя Петра I, оказался во главе приказа Большого дворца и Дворцового судного приказа. Поместный приказ был доверен боярину Петру Васильевичу Шереметеву. Нарышкины поделились властью и с приближенными царя Ивана Алексеевича: князь Петр Иванович Прозоровский получил в свое ведение приказ Большой казны.{463}
К началу следующего года относятся последние известные репрессии в отношении лиц, входивших прежде в окружение правительницы Софьи: 10 января у дьяка Разрядного приказа Еремея Полянского «по памяти из Стрелецкого приказа чин за вину отнят и велено жить в деревне».{464}
Князь Борис Алексеевич Голицын, так много сделавший для завоевания власти Петром I, по возвращении двора из Троице-Сергиева монастыря в Москву утратил значение главного фаворита царя. Причинами этому стали заступничество князя за своего двоюродного брата Василия Голицына и происки Нарышкиных, которые явились к молодому государю во главе с его дедом Кириллом Полуектовичем и со слезами умоляли покончить с чрезмерным влиянием Бориса Голицына. Как сообщает Невилль, князь Борис даже подвергся опале, однако она была краткосрочной. Тем не менее позиции правительственного лидера были утрачены Голицыным навсегда. Он сохранил за собой почетную должность кравчего, однако ему не нашлось места ни в Боярской думе, ни в руководстве приказами. В январе 1690 года Патрик Гордон в дневнике назвал Льва Нарышкина «новым любимцем, или первым министром». Софья могла только сетовать по поводу новых правительственных назначений и сожалеть, что важнейшие государственные посты доверены людям, способностями столь явно уступавшим лицам из ее бывшего окружения.
Царевна продолжала интересоваться семейными делами брата Ивана. Невестка Прасковья Федоровна производила на свет только девочек, окончательно развеяв мечты Софьи о продолжении старшей ветви царского рода по прямой мужской линии. После первенца, царевны Марии, прожившей всего три неполных года, родилась Феодосия, умершая в возрасте одиннадцати месяцев. В 1691 году на свет появилась Екатерина, которой суждено было продолжить царский род, хотя и по женской линии. Через полвека она стала бабкой младенца-императора Ивана Антоновича. В 1693 году родилась Анна — будущая герцогиня Курляндская и русская императрица. Так на российском престоле продолжилась линия потомков Милославских, находившихся у власти с февраля 1730 года. Дворцовый переворот в ноябре 1741 года привел к окончательному торжеству отпрысков рода Нарышкиных в лице императрицы Елизаветы Петровны.
В 1694 году родилась последняя дочь Ивана Алексеевича и Прасковьи Федоровны Прасковья. Она прожила 37 лет и была замужем за видным соратником Петра Великого генералом и сенатором Иваном Ильичом Дмитриевым-Мамоновым. Царь дал согласие на этот морганатический брак, но официально он не был объявлен.{465}
Царица Прасковья Федоровна не кичилась положением супруги государя и всячески старалась угождать деверю. Как отмечает историк М. И. Семевский, «она не входила в сношения с нелюбезными ему сестрами, неосторожно судившими и осуждавшими Петра и его сторонников. Имея возможность часто навещать заключенную царевну Софью, Прасковья уклонялась от этих свиданий».{466}
Царь Иван тем временем продолжал формально быть соправителем брата, присутствуя на всевозможных торжествах и церемониях рядом с ним, но не играя при этом никакой реальной роли. Вероятно, старший государь тяготился утомительными обязанностями монаршего сана, которые отвлекали его от излюбленных молитвенных занятий и вынуждали напрягать изнуренный болезнями организм. Он умер 29 января 1696 года в возрасте неполных тридцати лет, страдая, как и его старшие братья, от многочисленных недугов, вызванных наследственной «цинготной хворью». Исследовательница Л. Хьюз пишет: «Хотя он был заложником политических амбиций Софьи, можно с уверенностью сказать, что царевна была искренне привязана к нему и мысленно присутствовала на его похоронах в Архангельском соборе, состоявшихся на следующий день после его кончины».{467}
Трудно сказать, какие чувства испытала Софья Алексеевна, получив 25 января 1694 года известие о смерти 42-летней царицы Натальи Кирилловны. Однако вряд ли уход из жизни давней соперницы обрадовал царевну — она была слишком религиозна и чиста душой, хотя и не имела особых причин скорбеть о мачехе.
В источниках не удалось обнаружить никаких данных о визитах Петра к сестре до сентября 1698 года. Правда, историк С. Ф. Либрович на основании каких-то сведений неустановленного происхождения утверждал, что государь навестил царевну незадолго до своего отъезда в Европу в 1697 году, но «нашел ее до того надменною, холодною и непримиримою, что в крайнем волнении вышел из Новодевичьего монастыря». Однако, думается, это всего лишь легенда. Так же считает Л. Хьюз: «Вряд ли бы Петру захотелось нанести „визит вежливости“ своей сестре, с которой у него были связаны столь неприятные воспоминания».{468}
Вне всякого сомнения, сестры передавали Софье слухи, рассказывали, что народ недоволен поведением царя, пренебрегающего древними традициями и отдающего предпочтение «поганым немецким обычаям». Бывшая правительница отнюдь не придерживалась консервативных убеждений и не считала Европу источником зла, однако ее собственная прозападная ориентация была несравненно мягче, чем грубые и решительные действия Петра в его стремлении к копированию голландской и немецкой жизни. Великого реформатора привлекали образцы протестантской культуры, тогда как Софье и Федору была более близка католическая Польша. Вместе с тем она, возможно, полагала, что настроения народа могут дать ей надежду на возвращение утраченной власти.
Имя бывшей правительницы после восьмилетнего забвения впервые всплыло в политических проектах в феврале 1697 года. Тогда был «раскрыт» мнимый заговор стрелецкого полковника Ивана Цыклера, который из-за «многого нестроения» в государстве якобы намеревался убить царя Петра I и «посадить на царство» Софью, а руководителем правительства «учинить» возвращенного из ссылки князя Василия Голицына. Примечательно, что в роли «доброжелателя» вновь выступил уже известный нам доносчик по делу Шакловитого Ларион Елизарьев — он сообщил Льву Нарышкину и следователям Преображенского приказа о разговоре, который затеял с ним Цыклер.
— Смирно ли у вас в полках? — спросил он.
— Смирно, — ответил Елизарьев.
— Ныне великий государь идет за море, — продолжал полковник, — и как над ним что сделается, кто у нас государь будет?
— У нас есть государь царевич Алексей Петрович.
Тогда Цыклер озвучил крамольную мысль:
— В то время кого Бог изберет, а тщится и государыня царевна Софья Алексеевна, что в Девичьем монастыре.
Елизарьев сослался также на свидетельство пятидесятника своего полка Григория Силина, с которым Цыклер вел еще более откровенный и опасный разговор:
— Можно государя царя Петра Алексеевича изрезать ножей в пять. Хотел государь над моей женою и дочерью учинить блудное дело. И я над ним, государем, знаю, что сделать.
Цыклер был немедленно арестован и под пыткой дал показания против боярина Алексея Прокофьевича Соковнина, который, узнав, что стрельцы ведут себя тихо, возмущался:
— Где они, б… дети, передевались? Знать, спят! Где они пропали? Можно им государя убить, потому что ездит он один, и на пожаре бывает малолюдством, и около Посольского двора ездит одиночеством. Что они спят, по се число ничего не учинят?
— В них малолюдство, — пояснил полковник, — и чаю, что опасаются потешных.
Далее между Соковниным и Цыклером произошел весьма бестолковый разговор о перспективах выдвижения на царство Софьи Алексеевны.
— Чаю, — предположил боярин, — стрельцы возьмут по-прежнему царевну, а царевна возьмет царевича, и как она войдет, и она возьмет князя Василья Голицына, а князь Василий по-прежнему станет орать.
Цыклер возразил:
— В них, стрельцах, я того не чаю, что возьмут царевну.
Тогда Соковнин вдруг высказал совершеннейшую чушь:
— Если то учинится смертное убийство над государем, мы и тебя на царство выберем.
Из этих неожиданных поворотов беседы можно без труда понять, что «заговорщики» находились в состоянии сильного опьянения. Все их разглагольствования ничего не значили бы, если бы собутыльников не угораздило затеять рассуждения о судьбах престола.
Арестованный Соковнин под пытками назвал еще нескольких людей, которые спьяну вели разговоры про бунт и ругали государя.{469} Никакого реального заговора за ними не существовало. Можно констатировать лишь наличие отзвуков широкого недовольства правлением Петра I как среди бояр, так и среди стрельцов и посадских.
На очередном допросе с применением пыток Цыклер дал показания против бывшей правительницы Софьи, полные нелепых инсинуаций. Совершенно очевидно, что все эти заявления были выбиты у него кнутом.
— Перед Крымским первым походом, — рассказывал полковник, — государыня царевна София Алексеевна меня призывала и говаривала почасту, чтоб я с Федькою Шакловитым над государем царем и великим князем Петром Алексеевичем учинил смертное убийство. Да и в Хорошеве, в нижних хоромах, призвав меня к хоромам, царевна в окно говорила мне про то ж, чтобы я вместе с Шакловитым над государем убийство учинил, а я в том ей отказал.
Грубая ложь Цыклера в данном случае видна невооруженным глазом. Мало того что описанное им поведение Софьи совершенно не согласуется с ее позицией, которую, как показано выше, можно определить на основании материалов следствия по делу Шакловитого. В показаниях Цыклера правительница предстает фанатичкой, одержимой стремлением сохранить власть путем убийства младшего брата. Невозможно, чтобы Софья обращалась с таким предложением к полковнику через окно, при этом невольно повышая голос. Неужели царевна не могла призвать Цыклера к себе в покои и шепотом поведать свои страшные замыслы? Однако следователей подобные несуразности совершенно не волновали — им было важно положить на стол царю Петру показания обвиняемого, в которых Софья представала в самом злодейском виде.
Цыклер, Соковнин и еще несколько человек были обезглавлены. Петр превратил казнь в страшный спектакль, приказав выкопать гроб с останками Ивана Милославского, умершего 12 лет назад. Полусгнившую домовину поставили под плахой, чтобы на нее стекала кровь «изменников». Тем самым царь в очередной раз продемонстрировал злопамятность и дал понять, что не простил организаторов кровавого стрелецкого бунта 1682 года.
К счастью, показания Цыклера и Соковнина никак не повлияли на участь Софьи. Видимо, государю хватило ума не использовать против нее столь нелепые свидетельства людей, доведенных пытками до полубезумного состояния. Однако впереди был гораздо более опасный инцидент, изменивший дальнейшую судьбу царевны Софьи Алексеевны.
«Быть царевне на царстве!»
В 1698 году имя Софьи помимо ее воли вновь всплыло в событиях политической борьбы. Находясь в заточении и не имея достоверной и полной информации о состоянии дел в России и за рубежом, она на свою беду поверила упорным слухам о кончине Петра за границей, куда он отправился годом ранее в составе Великого посольства. Царь, всецело поглощенный работой на голландских судостроительных верфях, перестал писать в Москву. Возникшее подозрение, что «государя в живых более нет», быстро овладело умами, поскольку смерти Петру желали многие. Оппозиция мигом подняла голову. Разговоры о том, что «его царское величество преставился и теперь Лефорт со своей немецкой братией народ душить будет», велись по всей Москве, от особняков знати до убогих хижин посадских людей.
Но особенно горячились стрельцы, положение которых всё ухудшалось. Они участвовали в обоих Азовских походах (1695–1696), а после победы их задержали в Азове сначала для охраны города, а потом для строительства укреплений. Это вызвало бурю возмущения среди московских стрельцов, оторванных на неопределенное время от своих семей и хозяйств. Между ними пошли разговоры, что государь по указке «немецкого изверга» Лефорта «стрелецкое войско совсем извести хочет». Они надеялись, что после тяжелой азовской службы будут возвращены, наконец, в Москву, но вместо этого получили указ о передислокации четырех стрелецких полков из Азова к литовской границе.
По пути на северо-запад полторы сотни стрельцов сбежали и отправились в Москву, чтобы «бить челом» по поводу «утеснений и неправды». Помимо «утруждения» азовской службой стрельцы жаловались на нищету, невыплату жалованья и произвол офицеров, особенно иностранцев. Начальник Стрелецкого приказа князь Иван Борисович Троекуров принял челобитную и разрешил дезертирам остаться в Москве до 3 апреля, пока просохнут дороги, после чего они должны были отправиться к своим полкам на литовский рубеж.
Во время пребывания в столице стрельцы встретили на Ивановской площади знакомых площадных подьячих, которые сообщили им удивительные новости:
— Государь наш залетел на чужую сторону, да и жив ли сам — того не ведомо. Хочет боярин Тихон Никитич Стрешнев царевича Алексея Петровича задушить, чтобы самому на Москве властвовать. А то еще немец Лефорт на царстве будет и веру святую православную до конца истребит.
Группа беглых стрельцов составила нечто вроде политического кружка, в котором обсуждались различные планы спасения страны: посадить на царство Алексея Петровича, вернуть из ссылки князя Василия Голицына или вручить правление царевнам — сначала решили, что всем сестрам сообща, но потом сочли, что «довольно» будет Софьи Алексеевны, «понеже она при таких государских делах уже бывала».
Стрельцы Федор Проскуряков и Василий Тума придумали способ обратиться с челобитной о своих нуждах к сестрам Софьи, жившим в Кремле. Одна вхожая «в Верх» стрельчиха передала их послание царевне Марфе Алексеевне, которая, прочитав грамотку, сказала:
— Хотели было бояре царевича удушить, но его подменили и платье его на другого надели. Бояре царицу Евдокию Федоровну по щекам били; а государь неведомо жив, неведомо мертв. И по стрельцов указ послан: не бывать им уже на Москве. Хорошо, если б стрельцы подошли и с боярами управились.
Тума собрал на Арбате, у ограды церкви Николы Явленного, толпу стрельцов и читал им какую-то бумагу, утверждая, что это грамота от самой царевны Софьи из Новодевичьего:
— Пишет государыня, зовет все четыре полка, чтоб шли к Москве, становились табором под Девичьим монастырем и подавали ей, царевне, челобитье, чтоб шла по-прежнему на державство.{470}
Вскоре стрельцы по приказу Троекурова были выдворены из Москвы и вернулись в свои полки, находившиеся в то время в Торопце. Принесенные ими столичные вести еще сильнее накалили страсти, и 6 июня начался бунт. Стрелец Артемий Маслов перед полками зачитал письмо, переданное ему Василием Тумой. Содержание этого послания, якобы полученного от царевны Софьи, в основном совпадало с воззванием, оглашенным Тумой на Арбате. Но теперь царевна будто бы еще призывала стрельцов вступить в бой с правительственными войсками, если те не будут пропускать их к Москве.{471}
Четыре мятежных полка двинулись к столице. 17 июня возле Новоиерусалимского монастыря дорогу им преградили Преображенский и Семеновский полки под командованием генералов Патрика Гордона и Алексея Семеновича Шеина. В коротком бою стрельцы потерпели поражение. Шейн оперативно провел следствие, по результатам которого казнил 130 человек.
Узнав о стрелецком бунте, Петр прервал заграничное путешествие и поспешил в Москву, куда прибыл 25 августа. Результаты проведенного Шеиным расследования не удовлетворили царя, и он начал новый розыск. Теперь к следствию были привлечены все стрельцы мятежных полков, в общей сложности 1041 человек. Нет сомнений, что главной задачей розыска стало выяснение причастности Софьи к стрелецкому мятежу. Петр распорядился начать расследование 17 сентября, в день рождения сестры. Под пытками стрельцы признавались, что хотели «бить челом царевне Софье Алексеевне, чтобы взяла в свои руки правление государством». 20 сентября Василий Алексеев после троекратной пытки огнем дал показания, что «было де к ним письмо с Москвы от царевны, а принес де то письмо с Москвы Васка Тума…».{472}
Двадцать седьмого сентября Петр лично отправился в Новодевичий монастырь допрашивать Софью. В протоколе допроса отмечено, что царевне была устроена очная ставка со стрельцами Артемием Масловым и Василием Игнатьевым и предъявлено письмо, которое от ее имени зачитывалось перед полками. Маслов и Игнатьев заявили, что письмо Василий Тума «взял подлинно» из Новодевичьего монастыря «от ней, царевны через нищую». Софья твердо отвела от себя это обвинение: «такова де писма она, царевна через нищую ему, Васке, не отдавывала, и ево, Васки, и Артюшки, и Васки Игнатьева не знает». Что же касается намерения стрельцов звать «ее, царевну, по-прежнему в правительство, и то де не по писму от нее, а знатно потому, что она со 190-го (1682. — В. Н.) году была в правителстве».{473} В протокольной записи допущена существенная неточность: царевне было предъявлено не само письмо, которое, несмотря на все усилия следователей, так и не было обнаружено, а только изложение его содержания в записи показаний нескольких подследственных. Однако, по убеждению Петра, факт причастности его сестры к стрелецкому мятежу был твердо установлен.
По Москве ходили слухи, что Петр намеревался даже казнить Софью за разжигание «опасного пожара междоусобной войны». Австрийский дипломат Иоганн Корб приводит слова царя:
— Пример Марии Шотландской, идущей из темницы под меч палача по приказанию сестры Елизаветы, королевы английской, указывает, что и я должен подвергнуть Софию моему царскому правосудию.{474}
Однако Петр, несмотря на уверенность в виновности сестры, не решился казнить ее. Наказанием для Софьи стало ужесточение условий ее жизни в монастыре.
Какова же была реальная роль царевны в событиях стрелецкого мятежа 1698 года? Действительно ли она обращалась к стрельцам с письменными призывами к восстанию? Думается, никаких писем стрельцам она не посылала. Во-первых, Софья с ее трезвым умом должна была прекрасно понимать, что четыре мятежных полка не смогут выстоять в борьбе с правительственными войсками. Во-вторых, приписываемое ей послание, известное в пересказах нескольких стрельцов, слишком убого по смыслу. Судя по всему, письмо от имени царевны сочинил Василий Тума. Вероятно, Софья от посещавшей ее сестры Марфы могла знать о намерении стрельцов звать ее на царство, однако сама не проявляла никакой инициативы.
Келья строгого режима
Двадцать первого октября 1698 года царевна Софья постриглась в монахини Новодевичьего монастыря под именем Сусанна. Источников, рассказывающих о пострижении, не сохранилось, но дату можно определить по надписи на надгробии царевны, указывающей, сколько времени, с точностью до дней, она пребывала в монашеском чине.{475}
За причастность Софьи-Сусанны к стрелецкому мятежу Петр придумал для нее изощренное наказание. Австрийский дипломат Иоганн Корб сообщает, что 28 октября «неподалеку от Новодевичьего монастыря было воздвигнуто тридцать виселиц, в виде квадрата, на которых повешены были двести тридцать стрельцов, достойных более жестокого возмездия». «Три зачинщика гибельной смуты, которые, подав челобитные Софье, приглашали ее к управлению государством, были повешены у стен названного монастыря у самого окна Софьиной кельи», причем один из них «держал бумагу, сложенную наподобие челобитной и привязанную к его мертвым рукам». «Вероятно, — полагает австриец, — это было сделано для того, чтобы сознание прошлого терзало Софью постоянными угрызениями».
Корб описывает ужасающее зрелище как очевидец, поскольку в конце ноября сам вместе с австрийским послом Гвариентом и дворянами посольской свиты ездил посмотреть на казненных.
В расправе с участниками восстания Петр проявил немыслимую, дикую жестокость. В октябре были приговорены к смерти почти 800 стрельцов, в феврале следующего года казнили более 350 человек. Государь лично отрубал головы осужденным и заставлял делать то же своих приближенных. Особым усердием отличался Александр Меншиков. Петр помиловал только тех мятежников, которые не достигли двадцатилетнего возраста. Однако и они не избежали жестоких телесных наказаний: их до полусмерти выпороли кнутом, отрезали уши и носы, а потом отправили в ссылку в Сибирь.
Охрана инокини Сусанны была усилена. В октябре 1698 года Петр в письме князю Федору Юрьевичу Ромодановскому дал, со свойственной ему чудовищной орфографией, указания по ужесточению содержания мнимой соперницы:
«Сестрам кроме Светлой недели и праздника Богородицына, который в ыюле живет, не ездить в монастырь в ыныя дни кроме болезни. С здаровьем посылать Степана Нарбекова, или сына ево, или Матюшкиных, а иных, и баб, и девок не посылать; а о пераезде брать писмо у кнезь Федора Юрьевича. А в празники быф, не оставатца; а естли останетца, да другова празника не выежать и не пускать. А певчих в монастырь не пускать: а поют и старицы хорошо, лишь бы вера была; а не так, что в церкви поют: спаси от бет, а в паперти денги на убиство дают. А царевне Татьяне Михайловне побить челом, чтоб в монастырь не изволила ходить, кроме Светлова Воскресения да на празник июля 28 д[ня], или занемощует».{476}
Из этого письма видно, что Петр продолжал опасаться интриг тетки и сестер. Особенно примечателен приказ государя не пускать в монастырь певчих. Похоже, он в самом деле был уверен, что Софья в свое время подбирала себе любовников из этой категории церковнослужителей.
В исторических легендах отразились постоянные подозрения Петра в отношении сестры, которая даже под бдительным присмотром за высокими стенами и прочными воротами монастыря пугала его несгибаемой силой воли. Рассказывали, что однажды царь, находясь на пирушке в усадьбе одного из своих приближенных неподалеку от Новодевичьего монастыря, вдруг услышал среди ночи колокольный звон. Это навело его на мысль, что Софья вновь пытается осуществить какие-то опасные замыслы. Петр немедленно покинул компанию собутыльников и поспешил в монастырь, чтобы узнать причину ночной тревоги. Однако его страх оказался напрасным — колокола возвестили всего лишь об открывшемся ограблении монастырской ризницы и дали сигнал к преследованию воров.
В реальность этой истории вполне можно поверить с учетом психологических особенностей Петра I, подверженного неконтролируемым колебаниям настроения. Будучи убежденным фаталистом, он обычно демонстрировал несгибаемую силу духа и презрение к опасности. Однако в источниках отражены случаи, когда он вел себя как последний трус. Во всяком случае, приведенный выше эпизод свидетельствует, что великий реформатор всегда видел в старшей сестре серьезную угрозу для своей власти.
Л. Хьюз остроумно заметила: «Очевидно, Петра никогда не покидала мысль, что все монастыри, в особенности женские, были оплотом заговоров и интриг».{477} В самом деле, навязчивая подозрительность царя в отношении женских обителей хорошо видна из его указа от 26 мая 1702 года:
«На Москве в девичих монастырех чтоб врата всегда были заперты и были б у тех врат караульщики старые, а не молодые люди безотходно, и мужеска полу никого в монастырь никогда, ни во время святаго пения, отнюдь не пущать; а кому доведетца быть в монастыре и монахинь для какова дела по знакомству или по свойству, и тем монахиням к тем свойственником и знакомцам выходить для свидания ко вратам монастырским с старою и искусною монахинею, с которой повелено будет от игуменьи; и видатца с ними у врат и говорить о всём вслух, а не тайно, при той монахине и при караульщиках».{478}
Непримиримое отношение Петра к сестре сохранялось даже спустя десять лет после ее кончины. В сентябре 1714 года ганноверский резидент Фридрих Христиан Вебер повторил в своих записках все обвинения царя против Софьи, которая якобы «изыскивала всяческие способы, дабы избавиться от своего единокровного брата, нынешнего царя». Вебер считает, что «интриги и злоумышления сестры принудили его к изничтожению ее партии… Частые покушения и заговоры, от которых он спасался самым невероятным образом, заставили царя ускорить исполнение своего замысла».{479} В более позднем сочинении, опубликованном в 1722 году, Вебер привел слова Петра о покойной сестре:
— Софья была бы наделена всеми телесными достоинствами и совершенным умом, если бы не ее непомерные амбиции и ненасытное желание царствовать.
Английский путешественник Уильям Кокс также передал в своих записках отзыв Петра о сестре в пересказе «одного знатного русского господина»:
— Как жаль, что она преследовала меня в детстве и что я ни в чем не мог на нее положиться; будь по-иному, когда я уезжал за границу, она могла бы править дома.{480}
Вторая часть этой фразы маловероятна, поскольку Петр ни при каких обстоятельствах не согласился бы допустить ненавистную старшую сестру к делам государственного управления. Но в данном случае важно другое: государь демонстрирует абсолютную уверенность в том, что Софья старалась вредить ему с самого раннего возраста.
О последних годах жизни бывшей правительницы России почти ничего не известно. Источники не позволяют составить представление о занятиях инокини Сусанны в монастыре. Вряд ли она, в отличие от сестры-инокини Маргариты (Марфы), находила утешение в физическом труде. Ее невозможно представить подстригающей кусты или носящей кирпичи для монастырского строительства. По всей видимости, Софья по-прежнему ограничивалась духовными занятиями: молитвами, участием в богослужениях, чтением и переписыванием церковных книг.
Она, как и раньше, продолжала делать вклады в Новодевичий монастырь. Сохранился серебряный ковчег с частицами мощей митрополита Филиппа и других святых и надписью: «1700 года месяца Октоврия в 8 день построен си ковчег в дом Пресвятыя Богородицы в Новодевичий в похвалу и честь единому в Троице славимому Богу тщанием неложным обещанием инокини Царевны Сусанны (Софии)».
В приделе святой мученицы Софии Смоленского собора хранится серебряный вызолоченный крест, на котором можно увидеть надпись: «Се животворящий крест состроен тщанием благородныя Государыни Царевны и Великия Княжны монахини Сусанны Алексеевны и благородныя Государыни Царевны Феодосии Алексеевны, во обитель Пречистыя Богородицы Новодевичь монастырь, при игуменьи Памфилии со иже во Христе сестрами, от воплощения сына Божия Иисуса Христа лето 1703, июля в 1 день». Примечательно содержащееся в этой надписи указание на то, что Софья до последних лет жизни продолжала общаться и взаимодействовать с младшей сестрой Феодосией. Вероятно, другие сестры, Екатерина и Мария, тоже посещали Софью в монастыре — два раза в год, как было предписано Петром. Однако любимую сестру и единомышленницу Марфу инокиня Сусанна больше никогда не увидела — та была по приказу Петра в сентябре 1698 года сослана в Успенский монастырь в Александровской слободе. Там 29 мая 1699 года Марфа Алексеевна постриглась в монахини под именем Маргарита.
В последний год жизни инокиня Сусанна приняла схиму под прежним именем Софья, тем самым одержав моральную победу над Петром, которому не удалось искоренить ненавистное ему имя сестры.
Надгробие Софьи в южной части Смоленского собора Новодевичьего монастыря представляет собой простой белый продолговатый камень с надписью:
«Лета от сотворения мира 7212, а от Рождества Христова 1704 года июля в 3 день, в понедельник, на первом часу дни, на память святаго мученика Иоакинфа и в принесение, иже во святых отца нашего, Филиппа митрополита Киевского и всея Рос[с]ии, в тот день преставяся раба Божия блаженныя памяти благовернаго и благочестиваго Великаго Государя Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя Рос[с]ии Самодержца, и блаженныя памяти благоверныя и благочестивыя Великия Государыни Царицы и Великия Княгини Марии Ильиничны дщерь их, Великая Государыня благоверная Царевна и Великая Княжна София Алексеевна, а тезоименитство ея было сентября в 17 числе, а от рождения ей было 46 лет и 9 месяцев и 16 дней, во иноцех была 5 лет и 8 месяцев и 12 дней, а имя ей наречено Сусанна, а в схимонахинях переименовано имя ей прежнее София, и погребена в церкви Пресвятыя Богородицы Смоленский на сем месте июля в 4 день».
Четыре сестры Софьи пережили ее. Марфа скончалась в июне или июле 1707 года. В последние годы жизни она очень нуждалась. По непонятной причине Петр, не отказывавший в деньгах Софье, сократил содержание Марфы до минимума. Инокиня Маргарита выполняла все монастырские работы: носила кирпичи для строительства, убирала сено, возделывала землю в своем маленьком садике близ кельи, а свободное время отдавала чтению духовных книг и рукоделию, вышивая шелками и золотом. Изредка инокиню навещали ее сестры Мария и Феодосия. Марфа Алексеевна скончалась в монастыре и была там же похоронена, по ее собственному желанию, без каких-либо церемоний, как простая монахиня, в общей усыпальнице. Приехавшие в Успенский монастырь в 1712 году Мария и Феодосия распорядились перезахоронить останки сестры в особом склепе монастырской церкви Сретения Господня.{481}
Евдокия умерла 10 мая 1712 года в возрасте шестидесяти двух лет. Последние годы жизни она провела в Новодевичьем монастыре, но постриг не принимала. Иверскую икону Божьей Матери Портаитиссы (Привратницы) из кельи царевны Евдокии можно в наши дни увидеть в Новодевичьем монастыре в бывшей трапезной, примыкающей к Успенской церкви.
Из всех сестер только Екатерине Алексеевне (не считая единоутробную Наталью) удавалось сохранять добрые отношения с братом Петром. Последние десять лет жизни царевна почти безвыездно провела в своем загородном доме на Девичьем поле, неподалеку от Новодевичьего монастыря. Эта близость расположения позволяла ей часто видеться с жившей в обители сестрой Евдокией. 1 мая 1718 года Екатерина скончалась, полгода не дожив до шестидесяти лет. Обе сестры были похоронены в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря, рядом с Софьей.
Феодосия жила в Москве, а в 1708 году по требованию Петра I переехала в Петербург. Умерла она 14 декабря 1713 года, когда ей шел 52-й год. Царь не решился нарушить написанное в 1712 году завещание сестры и позволил похоронить ее в Сретенской церкви Успенского монастыря Александровской слободы, где нашла свой последний приют ее сестра монахиня Маргарита-Марфа.
Дольше всех из сестер-царевен — 63 года — прожила Мария. В 1708 году она по желанию Петра I переехала в Петербург. В день кончины Марии Алексеевны 9 марта 1723 года в покоях умирающей столпилось множество священников и юродивых. Петр, пришедший навестить сестру, приказал выгнать их вон. С тех пор в царской семье навсегда отошли в прошлое старомосковские обычаи, связанные с проводами в мир иной. Похороны царевны Марии Алексеевны также подчеркнули стремление царственного реформатора порвать с московской стариной: последняя сестра государя была погребена в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.
Послесловие РОЖДЕННАЯ, ЧТОБЫ СТАТЬ ВЕЛИКОЙ
Царевне Софье Алексеевне не повезло в качестве исторического деятеля: она оказалась жертвой мощной идеологической пропаганды времен Петра Великого. Публицисты и историки первой четверти XVIII века, относившиеся к свергнутой правительнице крайне враждебно, постарались выставить ее в наиболее неприглядном виде. В их сочинениях Софья была изображена беспринципной, жестокой, коварной, кровожадной и развратной авантюристкой, готовой на любые преступления ради достижения и сохранения за собой власти. Она якобы старалась всячески вредить юному гениальному брату, стремясь не допустить его к государственным делам и тем самым воспрепятствовать историческому прогрессу страны. Со временем эта крайне негативная точка зрения была несколько скорректирована; в работах историков XIX–XX веков Софья уже не выступала в качестве реакционерки. Было признано, что она, подобно брату, являлась прогрессивной государственной деятельницей прозападного образца.
Историками предпринимались неоднократные попытки снять с царевны обвинение в организации страшного кровопролития 1682 года. Однако доводы ее защитников не казались убедительными, поскольку выставляли взбунтовавшихся стрельцов самостоятельной политической силой, действовавшей без внушения извне. Внимательное рассмотрение перипетий придворной борьбы апреля — мая 1682 года и спровоцированного ею стрелецкого бунта не оставляет никаких сомнений в том, что Софья участвовала в интригах с целью устранения от власти правительства Натальи Кирилловны. Однако царевна не являлась ни руководителем, ни главным действующим лицом заговора. Эти задачи взяли на себя И. М. Милославский и И. А. Хованский. Ими был составлен проскрипционный список бояр и других лиц. Стрельцы методично следовали этому списку, и ни одна из жертв убийств 15–17 мая не была случайной.
Софья ничего не знала о планировавшейся крупномасштабной расправе. Она старалась речами успокоить и образумить озверевших стрельцов, до последней возможности пыталась спасти жизнь своего основного политического противника И. К. Нарышкина. Ей удалось избавить от смерти К. П. Нарышкина, уговорив стрельцов ограничиться заточением его в монастырь. Можно уверенно говорить о непричастности Софьи к майской трагедии.
Историки почти единогласно утверждают, что царевна организовала стрелецкое восстание, чтобы получить власть. Действительно, законодательный акт от 29 мая 1682 года об установлении регентства Софьи Алексеевны при царях Иване и Петре определенно наводит на эту мысль. Однако тщательный источниковедческий анализ документа не оставляет сомнений в том, что он был составлен не ранее 1687 года. Никакого акта о регентстве Софьи в 1682 году принято не было. В результате восстания она не получила официальной власти. Ей пришлось самой взять на себя властные полномочия в сложнейших условиях лета и осени 1682 года, поскольку больше никто из членов царской семьи не был на это способен. Софья постепенно подавила стрелецкое восстание и тем самым спасла правящую династию, Москву и всю Россию.
Правление царевны Софьи Алексеевны отмечено активной и в целом успешной внешней политикой. В 1686 году был заключен «Вечный мир» с Польшей, который на 300 лет закрепил за Россией Киев и Левобережную Украину. Большим дипломатическим достижением Софьи и В. В. Голицына стал переход Киевской митрополии из-под власти константинопольского патриарха под юрисдикцию патриарха Московского и всея Руси, остававшуюся стабилизирующим фактором вплоть до наших дней.
Софья и Голицын отказались от планов борьбы со Швецией за возвращение захваченных в начале XVII века российских земель — Ингерманландии и Карелии. Ими было отвергнуто предложение датской дипломатии о вступлении России в союз Дании, Франции и Бранденбурга, направленный против Швеции, Англии и Голландии. В 1684 году был подписан русско-шведский договор, подтверждающий условия Кардисского мира 1661 года. Однако при этом Россия не отказалась в перспективе от борьбы за возвращение утраченных территорий.
Не пожелав вступить в антишведский союз, Россия присоединилась к антитурецкой Священной лиге Австрии, Польши и Венеции. Для выполнения союзнических обязательств были предприняты два похода на Крым. Считается, что они оказались совершенно безуспешными. Однако походы сковывали действия татар Крымской и Белгородской орд, не позволяя им воевать на стороне Турции в Молдавии и Валахии. Тем самым была оказана весьма существенная помощь действовавшим на этом направлении войскам польского короля Яна Собеского. Отвлечение крымских татар и части янычарского войска на борьбу с русской армией у Перекопа и турецких крепостей в устье Днепра способствовало успешным действиям венецианских войск в Центральной и Южной Греции.
Крымские походы стали завершающим моментом в преодолении позорных последствий владычества Золотой Орды. Отныне Россия отказалась от унизительной традиции посылать ежегодные подарки крымскому хану.
Внутренняя политика периода регентства Софьи стала реализацией мероприятий, запланированных в царствование Федора Алексеевича. Начались валовое межевание и описание поместных и вотчинных земель. Продолжился сыск беглых крестьян и холопов. Однако в этом отношении политика Софьи была двойственной. Соблюдая по возможности интересы помещиков и вотчинников, стремившихся вернуть беглых и предотвратить дальнейшие побеги, правительство вместе с тем проявляло лояльность к населению южных пограничных уездов, состоявшему в значительной части из беглых. Те из них, кто был записан в военную службу до 1675 года, не подлежали возвращению хозяевам. Тем самым Софья и ее советники предпочли заботу об обороноспособности страны интересам правящего сословия.
В правление Софьи было основано первое в России высшее учебное заведение — Славяно-греко-латинская академия. Его возникновение было связано с упорной идеологической борьбой грекофилов и «латинствующих». Представитель последних, просветитель и теолог Сильвестр Медведев, являлся главным советником Софьи в духовных делах. Он отстаивал оформившуюся в царствование Федора Алексеевича идею создания учебного заведения западного университетского типа, независимого от церковных властей. Ярым противником этих тенденций свободного «западного мудрствования» был патриарх Иоаким. В сложных условиях борьбы за Киевскую митрополию Софья нуждалась в союзе с патриархом. В результате академия была ориентирована прежде всего на подготовку священнослужителей. С большим трудом удалось утвердить в учебной программе латинский язык, являвшийся в XVII веке языком международного общения. В силу политической конъюнктуры Софье пришлось отказаться от планов своего советника, которые она одобряла и поддерживала.
Правление Софьи стало временем жестокого преследования раскольников. Суровые меры в отношении старообрядцев явились государственно-политической необходимостью, поскольку страна стояла на грани религиозной гражданской войны. За семь лет правительнице удалось сломить сопротивление наиболее радикальной части старообрядчества, что дало возможность Петру I отказаться от крайних репрессивных мер в отношении раскольников.
В качестве правительницы России Софья Алексеевна опередила свое время. Она вознеслась на вершину власти в патриархальной стране, где публичная деятельность женщины была немыслима. Царевна находилась у руля государственного управления, от нее зависело решение всех важнейших дел, но при этом она по большей части оставалась в тени. Подобно отцу и брату, Софья правила самодержавно, оставляя Боярской думе лишь совещательные функции. При осуществлении властных полномочий она опиралась на вполне сформировавшуюся к тому времени приказную бюрократию и достаточно узкий круг доверенных лиц, занимавших ключевые посты в государственном аппарате. По существу система ее власти ничем не отличалась от самодержавия Петра Великого 1694–1711 годов, когда Боярская дума после короткого периода возрождения (1689–1694) потихоньку отмирала, а Правительствующий сенат еще не был создан.
Дума, по существу, никак не ограничивала власть регентши. Единственный заметный эпизод состоял в том, что бояре не рекомендовали правительнице лично вести переговоры со шведскими послами весной 1684 года. Это был сугубо формальный момент государственной деятельности, важный лишь с точки зрения дипломатических традиций и никак не сказавшийся на властных полномочиях царевны. Бояре, по меткому выражению Ф. Л. Шакловитого, стали уже «зяблым деревом» на почве российского абсолютизма. Уничтожение боярской аристократии как особого социально-политического организма непременно произошло бы в самое ближайшее время даже без участия Петра Великого. Такова была логика исторического развития России, которая после завоевания огромных территорий на востоке могла существовать только как империя с самодержавным правителем. Боярская дума при Софье была не более чем политической декорацией в период кажущейся нестабильности верховной власти.
Софья была рождена, чтобы стать великой. Выдающиеся правители отнюдь не всегда бывают гениальными людьми; таковой, например, не являлась Екатерина Великая, в отличие от своего предшественника на российском троне Петра Великого или прусского короля Фридриха Великого. Но гениальность государя можно считать избыточным фактором успешного самодержавного правления. Для безотказной и результативной работы самодвижущейся системы раннего абсолютизма монарху достаточно было обладать умом, здравым смыслом, харизматичностью, энергией, трудолюбием и умением выбирать талантливых и деятельных помощников. Софья, несомненно, совмещала в себе все эти качества.
Можно со всей уверенностью утверждать, что правление Софьи Алексеевны — это не закат старого мира, а рождение нового. Имперский XVIII век России начался уже при Федоре и Софье, а Петр лишь ускорил движение по намеченному пути. Как братья, так и сестра были устремлены на Запад. Различие состояло лишь в ориентации на конкретные европейские образцы. Если для Федора и Софьи примером служила католическая Польша, то Петр подражал протестантской Голландии. Нельзя не признать, что польский вариант был России ближе. Европеизация страны по плану Софьи и Голицына прошла бы несравненно более мягко, чем грандиозная ломка, осуществленная Петром I.
Тем не менее это были два пути к одной цели. Если бы в российской истории по воле судьбы не оказалось Петра Великого, его место могла бы занять Софья Великая.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦАРЕВНЫ СОФЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ
1657, 17 сентября — рождение у царя Алексея Михайловича и его супруги Марии Ильиничны шестого ребенка — четвертой дочери, названной Софьей.
4 октября — крещение Софьи в Успенском соборе Московского Кремля.
1661, 30 мая — рождение брата Федора Алексеевича.
1666, 27 июля — рождение брата Ивана Алексеевича. Назначение Симеона Полоцкого учителем царевичей Алексея и Федора и царевны Софьи.
1669, 4 марта — смерть матери.
1670, 17 января — смерть царевича Алексея Алексеевича.
1671, 22 января — женитьба царя Алексея Михайловича на Наталье Кирилловне Нарышкиной.
1672, 30 мая — рождение царевича Петра Алексеевича.
1676, 29 января — смерть Алексея Михайловича, вступление на престол царя Федора Алексеевича.
1680, 25 августа — смерть Симеона Полоцкого.
1682, 27 апреля — смерть Федора Алексеевича, провозглашение царем девятилетнего Петра Алексеевича.
15–17 мая — стрелецкий бунт, убийство вельмож, в том числе А. С. Матвеева, И. К. и А. К. Нарышкиных, князей Г. Г. Ромодановского, Ю. А. и М. Ю. Долгоруких.
26 мая — избрание на царство Ивана Алексеевича наряду с Петром Алексеевичем.
25 июня — коронация царей Ивана и Петра.
5 июля — религиозный диспут с раскольниками в Грановитой палате с участием царевны Софьи.
20 августа — отъезд Софьи, царей и двора из Москвы в село Коломенское.
5 сентября — прибытие в Саввино-Сторожевский монастырь.
13 сентября — приезд с двором в село Воздвиженское.
17 сентября — казнь князей Хованских.
3 ноября — возвращение Софьи с братьями-царями в Москву.
1683, апрель — заключение антитурецкого союза Священной Римской империи и Речи Посполитой.
1684, 9 января — женитьба царя Ивана Алексеевича на Прасковье Федоровне Салтыковой.
Апрель — присоединение Венеции к антитурецкому союзу, создание Священной лиги.
22 мая — подтверждение мирного договора России и Швеции.
10 августа — заключение российско-датского договора.
1685, 27 июля — смерть боярина И. М. Милославского.
8 ноября — посвящение патриархом Московским Иоакимом епископа Гедеона в сан киевского митрополита, переход Украинской православной церкви под власть Московской патриархии.
1686, 5 мая — подписание «Вечного мира» между Россией и Польшей.
1687, 2 мая — выступление русской армии в первый Крымский поход.
30 мая — присоединение к армии украинского корпуса гетмана И. С. Самойловича.
17 июня — решение военного совета возвратить армию в пределы России из-за грандиозных степных пожаров.
22 июля — свержение гетмана И. С. Самойловича.
25 июля — избрание гетманом И. С. Мазепы.
Конец августа — попытка Софьи венчаться на царство.
1688, февраль — основание Новобогородицкой крепости на реке Самаре.
1689, 27 января — женитьба царя Петра Алексеевича на Евдокии Федоровне Лопухиной.
Начало марта — выступление полков во второй Крымский поход. 20 мая — подход русской армии к Перекопу.
22 мая — начало отступления в пределы России.
8 июля — столкновение Софьи с Петром по поводу ее участия в крестном ходе.
Ночь на 8 августа — тревога в Кремле, бегство Петра из Преображенского в Троице-Сергиев монастырь.
27 августа — подписание Нерчинского договора с Китаем.
29 августа — попытка Софьи поехать в Троице-Сергиев монастырь для переговоров с Петром.
6 сентября — арест Ф. Л. Шакловитого, конец правления Софьи.
7 сентября — исключение имени Софьи из царского титула.
9 сентября — царский указ о ссылке князя В. В. Голицына.
12 сентября — казнь Шакловитого.
Сентябрь — заточение Софьи в Новодевичьем монастыре.
1697, 9 марта — отъезд Петра I за границу в составе Великого посольства.
1698, 3 апреля — начало стрелецкого мятежа.
17 июня — разгром мятежных полков правительственными войсками близ Воскресенского монастыря.
25 августа — возвращение Петра I в Москву.
17 сентября — возобновление розыска по делу о стрелецком восстании и причастности к нему Софьи.
30 сентября — казнь двухсот стрельцов.
11–17 октября — продолжение стрелецких казней.
21 октября — пострижение Софьи в монахини под именем Сусанна.
1703 или начало 1704 — принятие монахиней Сусанной великой схимы под именем Софья.
1704, 3 июля — кончина схимницы Софьи.
БИБЛИОГРАФИЯ
Богданов А. П. В тени Петра Великого. М., 1998.
Богданов А. П. Московская публицистика последней четверти XVII века. М., 2001.
Богданов А. П. Царевна Софья и Петр. Драма Софии. М., 2008.
Богословский М. М. Петр Великий: Материалы для биографии: В 6 т. Т. 1. Детство. Юность. Азовские походы. 30 мая 1672 — 9 марта 1697. М., 2005.
Богоявленский С. К. Хованщина // Исторические записки. Т. 10. М., 1941. С. 180–221.
Брикнер А. Г. Иллюстрированная история Петра Великого. М., 2000.
Буганов В. И. Московские восстания конца XVII века. М., 1969.
Бушкович П. Петр Великий: Борьба за власть (1671–1725). СПб., 2008.
Восстание в Москве 1682 года: Сборник документов. М., 1976.
Гордон П. Дневник. 1684–1689 / Пер. с англ., вступ. ст. и прим. Д. Г. Федосова. М., 2009.
Демидова Н. Ф. Из истории заключения Нерчинского договора 1689 г. // Россия в период реформ Петра I. М., 1973. С. 289–310.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. Новосибирск, 1992.
Кочегаров К. А. Речь Посполитая и Россия в 1680–1686 годах. Заключение договора о Вечном мире. М., 2008.
Курукин И. В. Романовы. М., 2013 (серия «ЖЗЛ»).
Лавров А. С. Регентство царевны Софьи Алексеевны: Служилое общество и борьба за власть в верхах Русского государства в 1682–1689 годах. М., 1999.
Невилль де ла. Записки о Московии / Предисл., подг. текста, пер. с фр. и коммент. А. С. Лаврова. М.; Долгопрудный, 1996.
«Око всей великой России»: Об истории русской дипломатической службы XVI–XVII вв. М., 1989.
Павленко Н. И. Петр Великий. М., 1994.
Рождение империи / Неизвестный автор. Иоганн Корб. Иван Желябужский. Андрей Матвеев. М., 1997.
Россия при царевне Софье и Петре I: Записки русских людей. М., 1990.
Семевский М. И. Исторические портреты: Избранные произведения. М., 1996.
Хьюз Л. Царевна Софья. СПб., 2001.
Черная Л. А. Повседневная жизнь московских государей в XVII веке. М., 2013 (серия «Живая история»).
Яковлева П. Т. Первый русско-китайский договор 1689 г. М., 1958.
Примечания
1
Понятие «Верх» употреблялось в то время для обозначения кремлевской царской резиденции.
(обратно)2
Цинга — заболевание, которое вызывается недостатком в организме человека аскорбиновой кислоты (витамина С). Главной ее причиной является потребление однообразной пищи с малым содержанием витаминов, в результате чего в организме происходит нарушение образования коллагена и соединительная ткань (хрящи, кости, сухожилия) теряет прочность. Симптомами болезни являются слабость, усталость, учащенное сердцебиение, давящая боль в грудной клетке, поражение десен, тянущие боли и припухлости в ногах, кровоизлияния.
(обратно)3
Располагался в Константино-Еленинской башне Кремля.
(обратно)4
Болтун, пустомеля.
(обратно)5
Кирилл Полуектович Нарышкин в свое время был стрелецким полковником.
(обратно)6
Намек на Смуту начала XVII века, когда на русский престол был приглашен сын польского короля Владислав, и перспективу новой польской интервенции в случае ослабления царской власти при малолетнем Петре.
(обратно)7
Арсений Грек (ок. 1610–?) — иеромонах, справщик богослужебных книг, помощник патриарха Никона в осуществлении церковной реформы.
(обратно)8
Годовое жалованье московских стрельцов составляло десять рублей, но в 1681 году им было выплачено примерно по пять рублей (см.: Романов М. Ю. Стрельцы московские. М., 2004. С. 53).
(обратно)9
Владислав Ягелло (Ягайло) (ок. 1350–1434) — литовский великий князь (1377–1392), получил польскую корону после женитьбы на королеве Ядвиге. Наримунт (в православном крещении Глеб) (ок. 1294–1348) — сын великого литовского князя Гедимина, был женат на дочери Слонимского князя. Карибут (Корибут, в православном крещении Дмитрий) (? — после 1404) — младший брат Ягайло, был женат на дочери рязанского князя.
(обратно)10
Объярь — плотная шелковая ткань, употребляемая для шитья парадной одежды.
(обратно)11
Засечные черты — линии оборонительных сооружений на южных и юго-восточных окраинах России, созданные для защиты от набегов кочевников и состоявшие из лесных завалов-засек, чередовавшихся с частоколами, земляными валами и рвами в безлесных промежутках и крепостями на дорогах.
(обратно)12
От Kleinod — сокровище, драгоценность (нем.).
(обратно)13
Рогатка — здесь: легкое оборонительное заграждение из перекрещенных и скрепленных между собой деревянных брусьев и заостренных кольев.
(обратно)14
Серебряный позолоченный трон с ажурной аркой на витых колонках был изготовлен в кремлевских мастерских в 1682 году. Три серебряные с прорезным орнаментом ступени поднимались к обитому бархатом сиденью, разделенному поручнем на два места. Две боковые стенки, соединенные со спинкой под прямым углом, образовывали за троном небольшое закрытое пространство, где находился тот, кто руководил действиями юных царей во время официальных церемоний, давая наставления через оконце в спинке, задрапированное бархатом.
(обратно)15
Слова и отдельные буквы, выделенные курсивом, в подлиннике не зашифрованы.
(обратно)Комментарии
1
См.: Русский дипломат во Франции: Записки Андрея Матвеева. Л., 1972. С. 4.
(обратно)2
См.: Матвеев А. А. Описание возмущения московских стрельцов // Рождение империи. М., 1997. С. 359–414.
(обратно)3
См.: Созерцание краткое лет 7190, 91 и 92, в них же что содеяся во гражданстве // Россия при царевне Софье и Петре 1: Записки русских людей. М., 1990. С. 45–200.
(обратно)4
См.: Богданов А. П. Сильвестр Медведев // Вопросы истории. 1988. № 2. С. 85–90.
(обратно)5
См.: Куракин Б. И. Гистория о царе Петре Алексеевиче и ближних к нему людях 1682–1694 гг. // Архив князя Ф. А. Куракина: В 10 т. Т. 1. СПб., 1890. С. 39–78.
(обратно)6
См.: Богданов А. П. Царевна Софья и Петр. Драма Софии. М., 2008. С. 244.
(обратно)7
См.: Гордон П. Дневник. 1684–1689. М., 2009.
(обратно)8
См.: Ф. Лефорт: Сборник материалов и документов / Сост. Т. А. Лаптева, Т. Б. Соловьева. М., 2006. С. 92–93.
(обратно)9
Невилль де ла. Записки о Московии / Предисл., подг. текста, пер. с фр. и коммент. А. С. Лаврова. М.; Долгопрудный, 1996.
(обратно)10
См.: Московское восстание 1682 г. глазами датского посла // Вопросы истории. 1986. № 3. С. 78–91.
(обратно)11
См.: Бушкович П. Петр Великий: Борьба за власть (1671–1725). СПб., 2008.
(обратно)12
Мейерберг А. Путешествие в Московию // Утверждение династии. М., 1997. С. 120–121.
(обратно)13
Коллинс С. Нынешнее состояние России // Там же. С. 200.
(обратно)14
Рейтенфельс Я. Сказания о Московии // Там же. С. 288–289.
(обратно)15
Там же. С. 219.
(обратно)16
См.: Преображенский А. А., Морозова Л. Г., Демидова Н. Ф. Первые Романовы на российском престоле. 2-е изд. М., 2007. С. 186.
(обратно)17
Мейерберг А. Указ. соч. С. 152–153.
(обратно)18
Коллинс С. Указ. соч. С. 220.
(обратно)19
Дополнения к тому III-му Дворцовых разрядов, издаваемых по Высочайшему повелению изданные II-м отделением Собственной Его Императорскаго Величества канцелярии. СПб., 1854. С. 107.
(обратно)20
Котошихин Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича // Московия и Европа. М., 2000. С. 23.
(обратно)21
См.: Дополнения к тому III-му Дворцовых разрядов… С. 109, 146–147; Котошихин Г. К. Указ. соч. С. 25.
(обратно)22
См.: Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст.: В 2 т. М., 1901. Т. 2. С. 351, 552–553; Хьюз Л. Царевна Софья. СПб., 2001. С. 48–49.
(обратно)23
См.: Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. Новосибирск, 1992. С. 167–168.
(обратно)24
Савваитов П. Описание старинных царских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора. СПб., 1865. С. 127–132.
(обратно)25
См.: Котошихин Г. К. Указ. соч. С. 24–25; Рейтенфельс Я. Указ. соч. С. 297, 309–310.
(обратно)26
Хьюз Л. Указ. соч. С. 344. Прим. 54.
(обратно)27
См.: Фабрициус М. П. История Московского Кремля. М., 2007. С. 154.
(обратно)28
Соловьев С. М. Сочинения: В 18 кн. Кн. 7. История России с древнейших времен. Т. 13–14. М., 1991. С. 178.
(обратно)29
См.: Хьюз Л. Указ. соч. С. 60.
(обратно)30
Рейтенфельс Я. Указ. соч. С. 296–297.
(обратно)31
Посольство Кунраада фан Кленка к царям Алексею Михайловичу и Федору Алексеевичу. Рязань, 2008. С. 524.
(обратно)32
См.: Калязина Н. В., Калязин Е. А. Окно в Европу. М., 1999. С. 12.
(обратно)33
См.: Черная Л. А. Повседневная жизнь московских государей в XVII веке. М., 2013. С. 219.
(обратно)34
Погодин М. П. Повествование о московских происшествиях по кончине царя Алексея Михайловича, посланное из Москвы к архиепископу Коринфскому Франциску Мартелли // Журнал Министерства народного просвещения (далее — ЖМНП). 1835. № 5. Отд. II. С. 72.
(обратно)35
Цит. по: Бушкович П. Указ. соч. С. 84.
(обратно)36
Посольство Кунраада фан Кленка к царям Алексею Михайловичу и Федору Алексеевичу. С. 430–431.
(обратно)37
См.: Бушкович П. Указ. соч. С. 88.
(обратно)38
См.: Демидова Н. Ф. Федор Алексеевич // Преображенский А. А., Морозова Л. Е., Демидова Н. Ф. Указ. соч. С. 349.
(обратно)39
Цит. по: Бушкович П. Указ. соч. С. 106.
(обратно)40
См.: Богданов А. П. В тени Петра Великого. М., 1998. С. 139–141.
(обратно)41
Седов П. В. Закат Московского царства: Царский двор конца XVII в. СПб., 2008. С. 305.
(обратно)42
Цит. по: Бушкович П. Указ. соч. С. 118.
(обратно)43
См.: Курукин И. В. Романовы. М., 2013. С. 67.
(обратно)44
Невилль де ла. Указ. соч. С. 197.
(обратно)45
См.: Матвеев А. А. Указ. соч. С. 363–365.
(обратно)46
Корб И. Дневник путешествия в Московское государство // Рождение империи. С. 187–188.
(обратно)47
Матвеев А. А. Указ. соч. С. 365; Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 254.
(обратно)48
Куракин Б. И. Указ. соч. С. 43.
(обратно)49
Восстание в Москве 1682 года: Сборник документов. М., 1976. С. 256.
(обратно)50
См.: Галанов М. М. Семейство Нарышкиных и политическая борьба в России в последней четверти XVII в. // Вопросы истории. 1999. № 6. С. 146.
(обратно)51
См.: Богданов А. П. Летописные известия о смерти Федора и воцарении Петра Алексеевича // Летописи и хроники. 1980. М., 1981. С. 203.
(обратно)52
Невилль де ла. Указ. соч. С. 133.
(обратно)53
Матвеев А. А. Указ. соч. С. 366–367.
(обратно)54
Дневник зверского избиения бояр в столице в 1682 году и избрания двух царей Петра и Иоанна / Пер. с польск. А. Василенка // Рождение империи. С. 13.
(обратно)55
См.: Погодин М. П. Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великого. М., 1875. С. 31–32; Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 255; Богоявленский С. К. Хованщина // Исторические записки. Т. 10. М., 1941. С. 185; Буганов В. И. Московские восстания конца XVII в. М., 1969. С. 138; Павленко Н. И. Петр Великий. М., 1994. С. 10; Богословский М. М. Петр Великий: Материалы для биографии: В 6 т. Т. 1. Детство. Юность. Азовские походы. 30 мая 1672 — 9 марта 1697. М., 2005. С. 37; Зенченко М. Ю. Династический кризис весны 1682 года: событие и его версии // Одиссей: Человек в истории. 2012. Предательство: опыт исторического анализа. М., 2013. С. 420.
(обратно)56
Хьюз Л. Указ. соч. С. 87.
(обратно)57
См.: Иностранные источники по истории политической борьбы в России в 1682 г. / Публ. М. М. Галанова // Клио. 2000. № 2. С. 252–253.
(обратно)58
См.: Восстание в Москве 1682 года. С. 40.
(обратно)59
См.: Богданов А. П. Царевна Софья и Петр. С. 25.
(обратно)60
См.: Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках: В 4 т. Т. 1. СПб., 1884. Стб. 114–115; Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 278, 444; Погодин М. П. Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великого. С. 60, 162.
(обратно)61
Цит. по: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 314.
(обратно)62
См.: Бутенант Г. Верное объявление скорбной и страшной трагедии, которая здесь в Москве приключилась в понедельник, вторник и среду, 15-го, 16-го и 17-го мая нынешнего 1682 года // Погодин М. П. Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великого. Исследования. С. 42–43; Буганов В. И. Указ. соч. С. 145–146; Бушкович П. Указ. соч. С. 133–144.
(обратно)63
Матвеев А. А. Указ. соч. С. 375.
(обратно)64
Там же. С. 377.
(обратно)65
См.: Галанов М. М. Политическая борьба в России в 1682 году: Автореф. дис. канд. ист. наук. СПб., 2000. С. 14.
(обратно)66
Буганов В. И. Указ. соч. С. 168–169.
(обратно)67
Матвеев А. А. Указ. соч. С. 383.
(обратно)68
Там же. С. 385.
(обратно)69
Дневник зверского избиения бояр… С. 14.
(обратно)70
См.: Матвеев А. А. Указ. соч. С. 370–371, 390.
(обратно)71
Дневник зверского избиения бояр… С. 14–15.
(обратно)72
Иностранные источники по истории политической борьбы в России в 1682 г. С. 252–253.
(обратно)73
См.: Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого: В 6 т. Т. 1. Господство царевны Софьи. СПб., 1858. С. 44; Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 267; Богословский М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 41; Богоявленский С. К. Указ. соч. С. 195.
(обратно)74
См.: Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в архиве Коллегии иностранных дел. Ч. 4. М., 1828. № 147. С. 441–445; Полное собрание законов Российской империи. Серия 1 (далее — ПСЗРИ-1). М., 1830. Т. 2. № 920. С. 398–401.
(обратно)75
См.: ПСЗРИ-1. Т. 2. № 920.
(обратно)76
Хьюз Л. Указ. соч. С. 101.
(обратно)77
См.: ПСЗРИ-1. Т. 2. № 961. С. 472; № 973. С. 483; Лермонтова Е. Самодержавие царевны Софии Алексеевны, по неизданным документам (из переписки, возбужденной графом Паниным) // Русская старина. 1912. № 2. С. 437.
(обратно)78
ПСЗРИ-1. Т. 2. № 1036. С. 557; № 1050. С. 566.
(обратно)79
Там же. № 181. С. 765.
(обратно)80
Российский государственный архив древних актов (далее — РГАДА). Ф. 156. Оп. 1. Д. 89.
(обратно)81
См.: Лавров А. С. Регентство царевны Софьи Алексеевны: Служилое общество и борьба за власть в верхах Русского государства в 1682–1689 гг. М., 1999. С. 73–74.
(обратно)82
РГАДА. Ф. 156. Оп. 1. Д. 89. Л. 10–11.
(обратно)83
Там же. Л. 12.
(обратно)84
См.: Богданов А. П. К вопросу об авторстве «Созерцания краткого лет 7190, 91 и 92, в них же что содеяся во гражданстве» // Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода: Сборник статей. М., 1987. С. 129.
(обратно)85
См.: Он же. Сильвестр Медведев. С. 89–90.
(обратно)86
Созерцание краткое… С. 93–95.
(обратно)87
См.: Лавров А. С. Указ. соч. С. 74–75.
(обратно)88
См.: РГАДА. Ф. 156. Оп. 1. Д. 89. Л. 14.
(обратно)89
Цит. по: Лермонтова Е. Указ. соч. С. 431.
(обратно)90
Цит. по: Там же. С. 433.
(обратно)91
Лавров А. С. Указ. соч. С. 75.
(обратно)92
См.: РГАДА. Ф. 156. Оп. 1. Д. 87. Л. 5.
(обратно)93
Хьюз Л. Указ. соч. С. 101.
(обратно)94
См.: ПСЗРИ-1. Т. 2. № 932.
(обратно)95
Цит. по: Буганов В. И. Указ. соч. С. 181–182.
(обратно)96
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 266.
(обратно)97
Матвеев А. А. Указ. соч. С. 390.
(обратно)98
Богоявленский С. К. Указ. соч. С. 192.
(обратно)99
См.: Созерцание краткое… С. 88–93.
(обратно)100
См.: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 326–327; Бушкович П. Указ. соч. С. 137.
(обратно)101
См.: Восстание в Москве 1682 года. С. 36–39.
(обратно)102
См.: Лаврентьев А. В. Московское «столпотворение» конца XVII в. (первые гражданские памятники в России и политическая борьба эпохи Петра I) // Архив русской истории. Вып. 2. М., 1992. С. 133–134.
(обратно)103
Матвеев А. А. Указ. соч. С. 394–395; Восстание в Москве 1682 года. С. 279–280.
(обратно)104
См.: Восстание в Москве 1682 года. С. 50.
(обратно)105
См.: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 331–335; Бушкович П. Указ. соч. С. 137–138.
(обратно)106
Матвеев А. А. Указ. соч. С. 390.
(обратно)107
Там же. С. 393.
(обратно)108
См.: Лавров А. С. Указ. соч. С. 18.
(обратно)109
См.: Кожурин К. Я. Повседневная жизнь старообрядцев. М., 2014. С. 16–19.
(обратно)110
Буганов В. И. Указ. соч. С. 215.
(обратно)111
Романов С. История о вере и челобитная о стрельцах // Летописи русской литературы и древности, издаваемые Н. С. Тихонравовым: В 5 т. Т. 5. М., 1863. С. 119.
(обратно)112
См.: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 268–274; Буганов В. И. Указ. соч. С. 214–220.
(обратно)113
См.: Созерцание краткое… С. 108–109.
(обратно)114
См.: Там же. С. 112–113; Богданов А. П. Царевна Софья и Петр. С. 32.
(обратно)115
См.: Романов С. Указ. соч. С. 135–136; Созерцание краткое… С. 113; Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 276.
(обратно)116
Созерцание краткое… С. 113.
(обратно)117
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 277.
(обратно)118
Созерцание краткое… С. 115; ПСЗРИ-1. Т. 2. № 954. С. 465.
(обратно)119
См.: Романов С. Указ. соч. С. 138.
(обратно)120
Буганов В. И. Указ. соч. С. 229.
(обратно)121
См.: Там же. С. 230.
(обратно)122
Созерцание краткое… С. 119.
(обратно)123
Богданов А. П. Царевна Софья и Петр. С. 32.
(обратно)124
См.: Созерцание краткое… С. 119; Буганов В. И. Указ. соч. С. 230–231.
(обратно)125
См.: Романов С. Указ. соч. С. 146–148.
(обратно)126
См.: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 279–280.
(обратно)127
См.: Буганов В. И. Указ. соч. С. 233.
(обратно)128
См.: Богоявленский С. К. Указ. соч. С. 211–212.
(обратно)129
Цит. по: Буганов В. И. Указ. соч. С. 258.
(обратно)130
Восстание в Москве 1682 года. С. 63.
(обратно)131
См.: Там же. С. 60; Богоявленский С. К. Указ. соч. С. 211–212; Буганов В. И. Указ. соч. С. 258.
(обратно)132
Восстание в Москве 1682 года. С. 63.
(обратно)133
См.: Там же. С. 62–69.
(обратно)134
Бушкович П. Указ. соч. С. 138.
(обратно)135
См.: Богоявленский С. К. Указ. соч. С. 214–215; Матвеев А. А. Указ. соч. С. 390; Восстание в Москве 1682 года. С. 58, 69.
(обратно)136
См.: Лавров А. С. Указ. соч. С. 18, 21, 23.
(обратно)137
См.: Восстание в Москве 1682 года. С. 137.
(обратно)138
См.: Созерцание краткое… С. 124–125; Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 280–282.
(обратно)139
Восстание в Москве 1682 года. С. 262, 264. См. также: Лавров А. С. Указ. соч. С. 20.
(обратно)140
Лавров А. С. Указ. соч. С. 18–19, 24.
(обратно)141
Там же. С. 33.
(обратно)142
См.: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 282; Восстание в Москве 1682 года. С. 132–133.
(обратно)143
См.: Лавров А. С. Указ. соч. С. 26.
(обратно)144
См.: Восстание в Москве 1682 года. С. 79–80.
(обратно)145
Там же. С. 132.
(обратно)146
Матвеев А. А. Указ. соч. С. 395.
(обратно)147
Цит. по: Буганов В. И. Указ. соч. С. 268.
(обратно)148
Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. 1. С. 81–82; Погодин М. П. Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великого. Исследования. С. 139–140.
(обратно)149
Матвеев А. А. Указ. соч. С. 393–394; Созерцание краткое… С. 124; Невилль де ла. Указ. соч. С. 134–135; Дневник зверского избиения бояр… С. 18; Московское восстание 1682 г. глазами датского посла. С. 88.
(обратно)150
См.: Лавров А. С. Указ. соч. С. 32.
(обратно)151
Восстание в Москве 1682 года. С. 113–117.
(обратно)152
См.: Там же. С. 144–145.
(обратно)153
Там же. С. 117.
(обратно)154
См.: Буганов В. И. Указ. соч. С. 271.
(обратно)155
См.: Мазуринский летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 31. Летописцы последней четверти XVII в. М., 1968. С. 178.
(обратно)156
См.: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 283–284; Буганов В. И. Указ. соч. С. 274.
(обратно)157
См.: Восстание в Москве 1682 года. С. 130–133.
(обратно)158
Цит. по: Лавров А. С. Указ. соч. С. 40.
(обратно)159
См.: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 284–285; Матвеев А. А. Указ. соч. С. 396–397.
(обратно)160
См.: Лавров А. С. Указ. соч. С. 47–48.
(обратно)161
См.: Созерцание краткое… С. 142–143; Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. 1. С. 86–87; Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 285, 325; Погодин М. П. Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великого. С. 88–89; Буганов В. И. Указ. соч. С. 279–282.
(обратно)162
См.: Восстание в Москве 1682 года. С. 87, 89, 92, 138, 144.
(обратно)163
Там же. С. 92–93; Созерцание краткое… С. 144.
(обратно)164
Восстание в Москве 1682 года. С. 93–94.
(обратно)165
См.: Там же. С. 94–98.
(обратно)166
См.: Там же. С. 149–150; Желябужский И. А. Дневные записки // Рождение империи. С. 263–265. '
(обратно)167
См.: Буганов В. И. Указ. соч. С. 291–293.
(обратно)168
См.: Созерцание краткое… С. 148–151; Буганов В. И. Указ. соч. С. 304.
(обратно)169
См.: Буганов В. И. Указ. соч. С. 306.
(обратно)170
См.: Восстание в Москве 1682 года. С. 175.
(обратно)171
См.: Там же. С. 104–106.
(обратно)172
См.: Там же. С. 189–190; Богоявленский С. К. Указ. соч. С. 219; Московское восстание 1682 г. глазами датского посла. С. 85.
(обратно)173
Московское восстание 1682 г. глазами датского посла. С. 82, 88.
(обратно)174
Цит. по: Лермонтова Е. Указ. соч. С. 437.
(обратно)175
Лавров А. С. Указ. соч. С. 77.
(обратно)176
См.: Восстание в Москве 1682 года. С. 218–219; ПСЗРИ-1. Т. 2. № 961. С. 472–474.
(обратно)177
См.: Лаврентьев А. В. Указ. соч. С. 135; Восстание в Москве 1682 года. С. 225–228; Буганов В. И. Указ. соч. С. 311.
(обратно)178
Желябужский И. А. Указ. соч. С. 265.
(обратно)179
Восстание в Москве 1682 года. С. 208.
(обратно)180
См.: Буганов В. И. Указ. соч. С. 311–312.
(обратно)181
См.: ПСЗРИ-1. Т. 2. № 975. С. 484–485.
(обратно)182
См.: Восстание в Москве 1682 года. С. 240–244; Созерцание краткое… С. 181–185; Буганов В. И. Указ. соч. С. 314–317.
(обратно)183
Щебальский П. К. Правление царевны Софии. М., 1856. С. 74.
(обратно)184
Цит. по: Созерцание краткое…. С. 195.
(обратно)185
РГАДА. Ф. 248. Кн. 650. Л. 480 об. — 481.
(обратно)186
См.: Буганов В. И. Указ. соч. С. 323–326.
(обратно)187
См.: Там же. С. 327.
(обратно)188
См.: Там же. С. 327–333.
(обратно)189
См.: Богоявленский С. К. Указ. соч. С. 220–221.
(обратно)190
См.: Российское законодательство X–XX вв.: В 9 т. Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма. М., 1986. С. 274–275.
(обратно)191
См.: ПСЗРИ-1. Т. 2. № 926. С. 404; № 938. С. 450–451; № 1013. С. 522–534; № 1192. С. 798–800.
(обратно)192
Там же. № 992. С. 499–500.
(обратно)193
См.: Там же. № 998. С. 502–513.
(обратно)194
Маньков А. Г. Развитие крепостного права в России во второй половине XVII в. М.; Л., 1962. С. 73.
(обратно)195
ПСЗРИ-1. Т. 2. № 946. С. 458.
(обратно)196
Там же. № 1293. С. 920.
(обратно)197
См.: Маньков А. Г. Указ. соч. С. 73–74.
(обратно)198
См.: ПСЗРИ-1. Т. 2. № 1169. С. 745–747.
(обратно)199
См.: Там же. № 1147. С. 704–718.
(обратно)200
Цит. по: Маньков А. Г. Указ. соч. С. 134.
(обратно)201
Цит. по: Там же. С. 137.
(обратно)202
Хьюз Л. Указ. соч. С. 161.
(обратно)203
См.: Румянцева В. С. Народное антицерковное движение в России XVII в. М., 1986. С. 240.
(обратно)204
ПСЗРИ-1. Т. 2. № 1102. С. 647–650.
(обратно)205
Панченко А. М. Начало Петровской реформы: идейная подоплека // Петр Великий: Pro et contra: Личность и деяния Петра I в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. СПб., 2003. С. 577.
(обратно)206
Цит. по: Зеньковский С. А. Русское старообрядчество: Духовные движения семнадцатого века. Мюнхен, 1970. С. 430.
(обратно)207
См.: Хьюз Л. Указ. соч. С. 165.
(обратно)208
ПСЗРИ-1. Т. 2. № 1163. С. 738.
(обратно)209
Цит. по: Хьюз Л. Указ. соч. С. 166.
(обратно)210
См.: Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 1. Стб. 683.
(обратно)211
См.: Там же. Стб. 162.
(обратно)212
См.: Богданов А. П. Царевна Софья и Петр. С. 49.
(обратно)213
См.: Очерки истории СССР. Период феодализма. XVII в. М., 1955. С. 566.
(обратно)214
Цит. по: Богданов А. П. К полемике конца 60-х — начала 80-х гг. XVII в. // Исследования по источниковедению истории СССР XIII–XVIII вв. М., 1986. С. 193.
(обратно)215
Ключевский В. О. Русская история: Полный курс лекций: В 3 кн. М., 1993. Кн. 2. С. 443.
(обратно)216
Невилль де ла. Указ. соч. С. 165.
(обратно)217
Там же. С. 175–176.
(обратно)218
Погодин М. П. Кто первый в России имел мысль об освобождении крестьян с земельным наделом (воспоминание о князе Василии Васильевиче Голицыне, русском государственном деятеле XVII столетия) // Складчина: Литературный сборник. СПб., 1874. С. 146.
(обратно)219
Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. М., 1882. С. 331–333.
(обратно)220
Он же. Русская история. Кн. 2. С. 444–445.
(обратно)221
См.: Семевский В. И. Крестьянский вопрос в России в XVII! и первой половине XIX в.: В 2 т. СПб., 1888. Т. 1. С. 1–2.
(обратно)222
Плеханов Г. В. История русской общественной мысли: В 3 т. Т. 1. М.; Л., 1925. С. 311–312.
(обратно)223
См.: Волков М. Я. О становлении абсолютизма в России // История СССР. 1970. С. 101–102.
(обратно)224
Буганов В. И. «Канцлер» предпетровской поры // Вопросы истории. 1971. № 10. С. 154–155.
(обратно)225
См.: Лавров А. С. «Записки о Московии» де ла Невилля (преобразовательный план В: В. Голицына и его источники) // Вестник ЛГУ. Сер. 2. История, языкознание, литературоведение. 1986. Вып. 4. С. 89–90.
(обратно)226
См.: Московское восстание 1682 г. глазами датского посла. С. 79.
(обратно)227
См.: Форстен Г. В. Датские дипломаты при московском дворе во второй половине XVII в. // ЖМНП. 1904. № 11. С. 68.
(обратно)228
Цит. по: Возгрин В. Е. Источники по русско-скандинавским отношениям XVI–XVIII вв. // Рукописные источники по истории Западной Европы в архиве ЛОИИ СССР: Археографический сборник. Л., 1982. С. 154.
(обратно)229
См.: Форстен Г. В. Сношения Швеции и России во второй половине XVII в., 1648–1700 // ЖМНП. 1899. № 9. С. 48.
(обратно)230
См.: Он же. Датские дипломаты при московском дворе во второй половине XVII в. С. 70.
(обратно)231
См.: Бушкович П. Указ. соч. С. 143.
(обратно)232
См.: Форстен Г. В. Датские дипломаты при Московском дворе во второй половине XVII в. С. 73.
(обратно)233
См.: Бушкович П. Указ. соч. С. 144.
(обратно)234
См.: Форстен Г. В. Датские дипломаты при Московском дворе во второй половине XVII в. С. 75.
(обратно)235
Богданов А. П. Василий Васильевич Голицын // «Око всей великой России»: Об истории русской дипломатической службы XVI–XVII вв. М., 1989. С. 202.
(обратно)236
См.: Форстен Г. В. Сношения Швеции и России во второй половине XVII в. С. 51–53.
(обратно)237
См.: Лермонтова Е. Указ. соч. С. 441–444.
(обратно)238
Цит. по: Бушкович П. Указ. соч. С. 149–150.
(обратно)239
См.: ПСЗРИ-1. Т. 2. № 1088. С. 636–638.
(обратно)240
См.: Там же. Т. 1. № 398. С. 631–643.
(обратно)241
Цит. по: Очерки истории СССР. Период феодализма. XVII в. С. 531.
(обратно)242
См.: Лавров А. С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. С. 118.
(обратно)243
См.: Там же. С. 33–34.
(обратно)244
См.: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 361; Кинросс Л. Расцвет и упадок Османской империи. М., 1999. С. 367–375.
(обратно)245
Цит. по: Щебальский П. К. Указ. соч. С. 89; Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 361.
(обратно)246
Цит. по: Лавров А. С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. С. 119.
(обратно)247
См.: Королюк В. Д., Рогов А. И. Битва под Веной в 1683 г. и русско-польские отношения (документы Посольского приказа о приезде в Москву польского посланника Яна Окрасы) // Австро-Венгрия и славяно-германские отношения. М., 1965. С. 191–192.
(обратно)248
См.: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 361.
(обратно)249
Цит. по: Там же. С. 364.
(обратно)250
Цит по: Хьюз Л. Указ. соч. С. 237.
(обратно)251
См.: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 379.
(обратно)252
Цит. по: Лавров А. С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. С. 119.
(обратно)253
См.: Бантыш-Каменский Н. Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 год): В 4 ч. Ч. 2. М., 1896. С. 156.
(обратно)254
См.: Чистякова Е. В., Галактионов И. В. Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин // «Око всей Великой России». С. 128.
(обратно)255
См.: Туманский Ф. Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого: В 10 т. СПб., 1787. Т. 4. С. 103–105, 124–125; Т. 5. С. 332.
(обратно)256
См.: Аделунг Ф. Критико-литературное обозрение путешественников по России до 1700 года и их сочинений: В 2 ч. Ч. 2. СПб., 1864. С. 227.
(обратно)257
См.: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 362; Хьюз Л. Указ. соч. С. 239.
(обратно)258
См.: Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. 1. С. 152–156.
(обратно)259
Цит. по: Хьюз Л. Указ. соч. С. 244.
(обратно)260
См.: Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. 1. С. 152–167; Богданов А. П. Василий Васильевич Голицын. С. 209–210.
(обратно)261
См.: ПСЗРИ-1. Т. 2. № 1186. С. 770–786.
(обратно)262
См.: Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. 1. С. 169–170; ПСЗРИ-1. Т. 2. № 1187. С. 786–793; № 1197. С. 799–803.
(обратно)263
См.: Лермонтова Е. Указ. соч. С. 539–540.
(обратно)264
Цит. по: Там же. С. 540.
(обратно)265
См.: Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. 1. С. 170–171.
(обратно)266
См.: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 370.
(обратно)267
См.: Таирова-Яковлева Т. Г. Гетманы Украины: Истории о славе, трагедиях и мужестве. М.; СПб. 2011. С. 344–345; Кочегаров К. А. Речь Посполитая и Россия в 1680–1686 гг.: Заключение договора о Вечном мире. М., 2008. С. 104.
(обратно)268
См.: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 368–370.
(обратно)269
Цит. по: Там же. С. 372–373.
(обратно)270
Таирова-Яковлева Т. Г. Указ соч. С. 346.
(обратно)271
Цит. по: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 373–374.
(обратно)272
См.: Там же. С. 371–376; Таирова-Яковлева Т. Г. Указ. соч. С. 347.
(обратно)273
См.: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 376–378.
(обратно)274
См.: ПСЗРИ-1. Т. 2. № 1183. С. 767–768.
(обратно)275
См.: Кочегаров К. А. Указ. соч. С. 425–427.
(обратно)276
См.: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 379; Таирова-Яковлева Т. Г. Указ. соч. С. 349.
(обратно)277
См.: ПСЗРИ-1. Т. 2. № 1205. С. 812; № 1224. С. 835–842.
(обратно)278
Невилль де ла. Указ. соч. С. 138, 194.
(обратно)279
Цит. по: Хьюз Л. Указ. соч. С. 252–253.
(обратно)280
См.: Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. 1. С. 194.
(обратно)281
См.: Там же. С. 195.
(обратно)282
См.: Лавров А. С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. С. 142–143.
(обратно)283
См.: Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. 1. С. 196, 350–351.
(обратно)284
Цит. по: Там же. С. 351.
(обратно)285
Цит. по: Хьюз Л. Указ. соч. С. 253–254.
(обратно)286
Ф. Лефорт. С. 92–93.
(обратно)287
Цит. по: Хьюз Л. Указ. соч. С. 254.
(обратно)288
Ф. Лефорт. С. 93.
(обратно)289
Цит. по: Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. 1. С. 199.
(обратно)290
Ф. Лефорт. С. 93.
(обратно)291
См.: Там же; Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. 1. С. 200.
(обратно)292
См.: Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. 1. С. 203–204; Таирова-Яковлева Т. Г. Указ. соч. С. 350, 353–355.
(обратно)293
Цит. по: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 382.
(обратно)294
Там же. С. 387.
(обратно)295
Невилль де ла. Указ. соч. С. 141.
(обратно)296
Цит. по: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 390.
(обратно)297
См.: Таирова-Яковлева Т. Г. Указ. соч. С. 356.
(обратно)298
См.: Хьюз Л. Указ. соч. С. 255–256.
(обратно)299
См.: Бабушкина Г. К. Международное значение Крымских походов 1687 и 1689 гг. // Исторические записки. Т. 33. М., 1950. С. 171–172; Богданов А. П. Царевна Софья и Петр. С. 53.
(обратно)300
Невилль де ла. Указ. соч. С. 143; Кохен X. Москва в 1687–1688 гг.: Письма Христофора фон-Кохен, шведского посланника при русском дворе // Русская старина. 1878. № 9. С. 122.
(обратно)301
Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. 1. С. 217.
(обратно)302
См.: Там же. С. 218–219; Невилль де ла. Указ. соч. С. 145.
(обратно)303
Невилль де ла. Указ. соч. С. 146–147.
(обратно)304
Там же. С. 147–148.
(обратно)305
Цит. по: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 396.
(обратно)306
Цит. по: Лавров А. С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. С. 155.
(обратно)307
Невилль де ла. Указ. соч. С. 149.
(обратно)308
Цит. по: Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. 1. С. 227–228.
(обратно)309
Богданов А. П. Царевна Софья и Петр. С. 63.
(обратно)310
Хьюз Л. Указ. соч. С. 272.
(обратно)311
См.: Бабушкина Г. К. Указ. соч. С. 170.
(обратно)312
Цит. по: Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. 1. С. 237–239.
(обратно)313
ПСЗРИ-1. Т. 3. № 1340. С. 19–20.
(обратно)314
См.: Богословский М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 64.
(обратно)315
Цит. по: Бантыш-Каменский Н. Н. Указ. соч. Ч. 4. М., 1902. С. 18.
(обратно)316
См.: ПСЗРИ. Т. 2. № 1250. С. 860–861.
(обратно)317
См.: Бантыш-Каменский Н. Н. Указ. соч. Ч. 4. С. 19–20.
(обратно)318
Цит. по: Лермонтова Е. Указ. соч. С. 543.
(обратно)319
Хьюз Л. Указ. соч. С. 249.
(обратно)320
См.: Борисов Ю. В. Дипломатия Людовика XIV. М., 2002. С. 347.
(обратно)321
См.: Бантыш-Каменский Н. Н. Указ. соч. Ч. 1. С. 263.
(обратно)322
См.: Там же. Ч. 4. С. 83–84.
(обратно)323
См.: Там же. С. 84; Хьюз Л. Указ. соч. С. 174.
(обратно)324
См.: Бантыш-Каменский Н. Н. Указ. соч. Ч. 2. С. 19.
(обратно)325
См.: Там же. С. 209–210.
(обратно)326
См.: Там же. С. 247.
(обратно)327
Цит. по: Там же. С. 238.
(обратно)328
См.: Там же. С. 221.
(обратно)329
См.: Мелехов Г. В. Экспансия Цинского Китая в Приамурье и Центральной Азии в XVII и XVIII вв. // Вопросы истории. 1974. № 7. С. 55.
(обратно)330
См.: История внешней политики России. Конец XV–XVII в. (от свержения ордынского ига до Северной войны). М., 1990. С. 250–261.
(обратно)331
См.: Мелехов Г. В. Указ. соч. С. 55–56.
(обратно)332
См.: Яковлева П. Т. Первый русско-китайский договор 1689 г. М., 1958. С. 115–119.
(обратно)333
Александров В. А. Россия на дальневосточных рубежах. М., 1966. С. 129.
(обратно)334
См.: Яковлева П. Т. Указ. соч. С. 119–120.
(обратно)335
См.: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 402.
(обратно)336
Цит. по: Демидова Н. Ф. Из истории заключения Нерчинского договора 1689 г. // Россия в период реформ Петра I. М., 1973. С. 292–293.
(обратно)337
См.: Там же. С. 293; Яковлева П. Т. Указ. соч. С. 132–133.
(обратно)338
Яковлева П. Т. Указ. соч. С. 127.
(обратно)339
См.: Демидова Н. Ф. Указ. соч. С. 301.
(обратно)340
Русско-китайские отношения в XVII в.: В 2 т. Т. 2. М., 1972. С. 710.
(обратно)341
См.: История внешней политики России. Конец XV–XVII в. С. 271–272.
(обратно)342
Цит. по: Хьюз Л. Указ. соч. С. 126.
(обратно)343
Невилль де ла. Указ. соч. С. 171.
(обратно)344
Бутенант Г. Указ. соч. С. 40.
(обратно)345
Цит. по: Аделунг Ф. Указ. соч. Ч. 2. С. 227.
(обратно)346
Цит. по: Хьюз Л. Указ. соч. С. 127–128.
(обратно)347
Lincoln W. В. The Romanovs. London, 1981. P. 58; Павленко H. И. Указ. соч. С. 5.
(обратно)348
Погодин М. П. Повествование о московских происшествиях по кончине царя Алексея Михайловича. С. 79; Иностранные источники по истории политической борьбы в России в 1682 г. С. 255.
(обратно)349
Невилль де ла. Указ. соч. С. 153.
(обратно)350
См.: Матвеев А. А. Указ. соч. С. 404.
(обратно)351
Цит. по: Аделунг Ф. Указ. соч. Ч. 2. С. 227.
(обратно)352
Матвеев А. А. Указ. соч. С. 399–400.
(обратно)353
Цит. по: Бушкович П. Указ. соч. С. 140–141.
(обратно)354
Там же. С. 142.
(обратно)355
Цит. по: Там же. С. 143.
(обратно)356
Цит. по: Там же. С. 144, 145, 147.
(обратно)357
Там же. С. 147.
(обратно)358
Семевский М. И. Исторические портреты: Избранные произведения. М., 1996. С. 68.
(обратно)359
См.: Бушкович П. Указ. соч. С. 153.
(обратно)360
См.: Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 3. СПб., 1884. Стб. 750.
(обратно)361
См.: Там же. Т. 1. Стб. 175, 203–204; Т. 3. Стб. 48.
(обратно)362
Богданов А. П. Василий Васильевич Голицын. С. 179.
(обратно)363
См.: Богданов А. П. Царевна Софья и Петр. С. 249.
(обратно)364
См.: Наумов В. П. Повседневная жизнь Петра Великого и его сподвижников. М., 2010. С. 229, 241–242.
(обратно)365
См.: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 9. М., 1993. С. 184, 332.
(обратно)366
Иностранные источники по истории политической борьбы в России в 1682 г. С. 260.
(обратно)367
Невилль де ла. Указ. соч. С. 160–161.
(обратно)368
Матвеев А. А. Указ. соч. С. 400.
(обратно)369
Цит. по: Курукин И. В. Указ. соч. С. 79.
(обратно)370
Брикнер А. Г. Иллюстрированная история Петра Великого. М., 2000. С. 48; Павленко Н. И. Указ. соч. С. 22.
(обратно)371
Бушкович П. Указ. соч. С. 142, 147.
(обратно)372
См.: Коллман Н. Ш. Соединенные честью: Государство и общество в России раннего нового времени. М., 2001. С. 349.
(обратно)373
Цит. по: Семевский М. И. Указ. соч. С. 18–19.
(обратно)374
См.: Павленко Н. И. Указ. соч. С. 22.
(обратно)375
Богданов А. П. Царевна Софья и Петр. С. 49.
(обратно)376
Погодин М. П. Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великого. С. 99, 106–107.
(обратно)377
Вебер Ф. X. Преображенная Россия: Новые записки о нынешнем состоянии Московии. СПб., 2011. С. 38–39.
(обратно)378
См.: Наумов В. П. Указ. соч. С. 236–239.
(обратно)379
См.: Там же. С. 14–17.
(обратно)380
Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 1. Стб. 165–166.
(обратно)381
См.: Там же. Стб. 31, 109–110.
(обратно)382
См.: Там же. Стб. 203.
(обратно)383
См.: Там же. Стб. 117–118, 120.
(обратно)384
См.: Погодин М. П. Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великого. С. 129; Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 439.
(обратно)385
См.: Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 1. Стб. 117.
(обратно)386
Кохен X. Указ. соч. С. 126.
(обратно)387
Матвеев А. А. Указ. соч. С. 401.
(обратно)388
Кохен X. Указ. соч. С. 128.
(обратно)389
Невилль де ла. Указ. соч. С. 133.
(обратно)390
Куракин Б. И. Указ. соч. С. 56.
(обратно)391
Шмурло Е. Ф. Падение царевны Софьи // ЖМНП. 1896. № 1. С. 68.
(обратно)392
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. С. 183.
(обратно)393
Матвеев А. А. Указ. соч. С. 402. См. также: Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 1. Стб. 127–128.
(обратно)394
См.: Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 1. Стб. 118, 217.
(обратно)395
Давид И. Современное состояние Великой России, или Московии // Вопросы истории. 1968. № 1. С. 127.
(обратно)396
См.: Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 1. Стб. 114–115; Т. 3. Стб. 1096; Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 440.
(обратно)397
См.: Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 1. Стб. 81–84, 88–89.
(обратно)398
Там же. Стб. 87–88.
(обратно)399
См.: Там же. Стб. 116.
(обратно)400
См.: Там же. Стб. 137–139.
(обратно)401
См.: Там же. Стб. 5–6.
(обратно)402
Там же. Стб. 25.
(обратно)403
Там же. Стб. 636.
(обратно)404
См.: Там же. Стб. 36–38, 361–362.
(обратно)405
См.: Там же. Стб. 19–21.
(обратно)406
Там же. Стб. 118.
(обратно)407
См.: Там же. Стб. 217, 235–236, 885–886, 891–892.
(обратно)408
Там же. Стб. 52.
(обратно)409
См.: Там же. Стб. 21, 109.
(обратно)410
См.: Там же. Стб. 7.
(обратно)411
См.: Там же. Стб. 11–12, 20–21, 706.
(обратно)412
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 424.
(обратно)413
См.: Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. I. Стб. 20, 610, 683.
(обратно)414
См.: Там же. Стб. 559.
(обратно)415
Шмурло Е. Ф. Указ. соч. С. 85; Погодин М. П. Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великого. С. 163.
(обратно)416
Цит. по: Лавров А. С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. С. 172.
(обратно)417
См.: Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 1. Стб. 168; Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. 2. СПб., 1858. С. 55.
(обратно)418
См.: Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 1. Стб. 48–50.
(обратно)419
См.: Там же. Стб. 562.
(обратно)420
См.: Там же. Стб. 3.
(обратно)421
См.: Там же. Стб. 23–24.
(обратно)422
См.: Там же. Стб. 113–114.
(обратно)423
Там же. Стб. 385.
(обратно)424
Невилль де ла. Указ. соч. С. 153.
(обратно)425
Цит. по: Аристов Н. Я. Московские смуты в правление царевны Софии Алексеевны. Варшава, 1871. Приложения. С. 20.
(обратно)426
Хьюз Л. Указ. соч. С. 293.
(обратно)427
См.: Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 1. Стб. 638.
(обратно)428
См.: Погодин М. П. Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великого. С. 182; Лавров А. С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. С. 164; Невилль де ла. Указ. соч. С. 225. Прим. 17.
(обратно)429
См.: Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 1. Стб. 364.
(обратно)430
Там же. Стб. 295–299.
(обратно)431
См.: Там же. Стб. 386–387.
(обратно)432
Матвеев А. А. Указ. соч. С. 403.
(обратно)433
См.: Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 1. Стб. 137–138; Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. 2. С. 67; Погодин М. П. Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великого. С. 184–185.
(обратно)434
См.: Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 1. Стб. 345.
(обратно)435
Хьюз Л. Указ. соч. С. 295.
(обратно)436
См.: Невилль де ла. С. 226. Прим. 20.
(обратно)437
См.: Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 1. Стб. 697–698, 703.
(обратно)438
См.: Там же. Стб. 871–873.
(обратно)439
См.: Там же. Стб. 53–54.
(обратно)440
Там же. Стб. 327.
(обратно)441
Цит. по: Лавров А. С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. С. 165.
(обратно)442
См.: Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 1. Стб. 327–328.
(обратно)443
Цит. по: Погодин М. П. Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великого. С. 188–189.
(обратно)444
Цит. по: Хьюз Л. Указ. соч. С. 296–297.
(обратно)445
Матвеев А. А. Указ. соч. С. 404.
(обратно)446
Розыскное дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 3. Стб. 3–6.
(обратно)447
См.: Лавров А. С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. С. 171–174.
(обратно)448
См.: Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 1. Стб. 423–424.
(обратно)449
См.: Там же. Стб. 265–270.
(обратно)450
Цит. по: Хьюз Л. Указ. соч. С. 297.
(обратно)451
Лавров А. С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. С. 181.
(обратно)452
Шмурло Е. Ф. Указ. соч. С. 94.
(обратно)453
ПСЗРИ-1. Т. 3. № 1347.
(обратно)454
Письма и бумаги императора Петра Великого: В 13 т. Т. 1. СПб., 1887. С. 13–14.
(обратно)455
Матвеев А. А. Указ. соч. С. 406–407.
(обратно)456
Невилль де ла. Указ. соч. С. 158.
(обратно)457
См.: Молева Н. М. Сторожи Москвы: История московских монастырей. М., 2008. С. 279.
(обратно)458
См.: Хьюз Л. Указ. соч. С. 303.
(обратно)459
См.: Молева Н. М. Указ. соч. С. 279–280.
(обратно)460
Цит. по: Антушев Н. Историческое описание Московского Новодевичьего монастыря. М., 1885. С. 75.
(обратно)461
См.: Там же. С. 7.
(обратно)462
См.: Кондратьев И. К. Седая старина Москвы. М., 2008. С. 647–649.
(обратно)463
См.: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 453; Богоявленский С. К. Приказные судьи XVII в. М.; Л., 1946. С. 29, 51, 59, 80, 126, 138, 148, 152, 169, 196.
(обратно)464
Цит. по: Лавров А. С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. С. 189.
(обратно)465
См.: Пчелов Е. В. Романовы: История династии. М., 2004. С. 80.
(обратно)466
Семевский М. И. Указ. соч. С. 95.
(обратно)467
Хьюз Л. Указ. соч. С. 307–308.
(обратно)468
Либрович С. Петр Великий и женщины. СПб., б. г. С. 23; Хьюз Л. Указ. соч. С. 308.
(обратно)469
См.: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 7. С. 527–529.
(обратно)470
См.: Там же. С. 541–542.
(обратно)471
См.: Там же. С. 545.
(обратно)472
Восстание московских стрельцов. 1698 год: Материалы следственного дела: Сборник документов. М., 1980. С. 113.
(обратно)473
Там же. С. 128.
(обратно)474
Цит. по: Корб И. Указ. соч. С. 178.
(обратно)475
См.: Хьюз Л. Указ. соч. С. 317, 379. Прим. 41.
(обратно)476
Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 1. № 254. С. 268–269.
(обратно)477
Хьюз Л. Указ. соч. С. 318.
(обратно)478
Цит. по: Забелин И. Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы: В 2 ч. М., 1884. Ч. 1. С. 806.
(обратно)479
Вебер Ф. X. Указ. соч. С. 38–39.
(обратно)480
Цит. по: Хьюз Л. Указ. соч. С. 318, 320.
(обратно)481
См.: Пчелов Е. В. Указ. соч. С. 38–39.
(обратно)

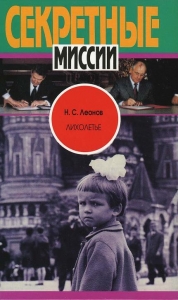



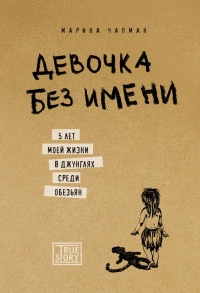



Комментарии к книге «Царевна Софья», Виктор Петрович Наумов
Всего 0 комментариев