Человек из ночи
КАЖДЫЙ БЫВАЕТ ОДНАЖДЫ МОЛОДЫМ
ЧЕЛОВЕК ИЗ НОЧИ
Ночи в августе темны и тихи. Даже большие зеленые кузнечики перестают трещать, как только сгустятся сумерки.
Мы с братом разожгли костерок и, подбрасывая в него сухие ветки тальника и бурьяна, стали варить уху.
Улов был незавидный. Всего несколько ершей и окуньков. Но мы не унывали. Под крутым обрывом поставили удочки-донки — с самодельными колокольчиками на прутиках. Не может быть, чтоб в Дону, под Галичьей горой, не было крупной рыбы. А если она есть, как же ей не попасть? Тем более что предлагались ее вниманию самые замечательные приманки. И поджаренный лягушонок, и крупные черви-выползки, и крутая пшенная каша пополам с ватой, чтобы лучше держалась на крючке.
Но колокольчики молчали. Нас потянуло ко сну. Ведь днем, по жаре, пришлось прошагать километров пятнадцать.
— Виктор, — сказал брат шепотом, — а тут волков нет?
— Они летом не нападают.
— А если бешеный?
— У нас есть копье. — И я вытащил из связки удилищ ореховый дрючок, к одному из концов которого был прикручен проволокой старый круглый напильник.
Брат зябко поежился. Сыростью тянуло от реки. Ее не было видно. Мрак плотной стеной окружал наш бивак. Но еле слышный шепот струй, омывающих берег, говорил о том, что Дон тут, рядом, в нескольких шагах.
Вдруг — почти всегда что-то случается вдруг! — под круто поднимавшимся к звездному небу и, казалось, нависавшим над нами уступом Галичьей горы послышался хруст, покатились и булькнули в воду мелкие камешки. Явно кто-то шел, пробираясь вдоль берега, в нашу сторону.
Откуда-то из глубин души возник страх. Туманящий сознание, он охватил меня.
Какие могут быть здесь звери? Наверно, заблудившаяся корова или лошадь. Эти здравые мысли бессильны были развеять ожидание чего-то ужасного.
Брат испытывал, видимо, те же чувства. Он как-то сжался и сидел не шелохнувшись.
— На… наверно… — Я попытался сказать брату, что бредет в ночи корова или лошадь. И не смог продолжать.
Невидимое существо меж тем быстро приближалось. В колеблющемся отсвете пламени костерка мы скоро увидели, как нам показалось снизу, огромную фигуру человека. Приблизившись еще, войдя в круг более яркого освещения, она несколько уменьшилась. И все же перед нами оказался очень высокий, худощавый человек в короткой куртке, с толстой палкой в руке и странной, большой, плоской сумкой на ремне через плечо.
— Здравствуйте, ребята, — произнес он хрипловатым голосом. — Испугались?
Потом подошедший сбросил сумку, присел, скрестив ноги, усмехнулся и продолжал:
— Я тоже иногда испытывал ужас, оставшись один на один с лесом или в степи во тьме. Это атавизм. Когда-то первобытный наш предок знал, что в такую пору он беззащитен против хищников ночи… Саблезубого тигра… Пещерного медведя… Он скрывался в хижине или пещере, как только наступали сумерки. Защищался огнем. Вот и я к вам на костерок пришел…
— У нас на нем уха… варится, — сказал брат, стряхивая с себя оцепенение. — А что такое атавизм?
— А это, мой молодой незнакомец, так сказать, наследственная память организма гомо сапиенс… — охотно ответил напугавший нас человек.
Что такое «гомо сапиенс», брат тоже не знал, но попросить объяснения не решился, солидно кивнул головой, подбросил в огонь веток и стал помешивать уху.
Теперь я мог как следует рассмотреть человека из ночи.
Немолодой, длиннорукий, сидел он по-турецки и не мигая смотрел на пламя темными, глубоко посаженными глазами. Губы его резко очерченного рта под прямым носом чуть шевелились. Даже при свете костра было видно — на выбритых щеках лежал густой загар, подчеркивая бледность высокого, выпуклого лба с большими залысинами. Мне он показался стариком, хотя на самом деле ему было лет сорок.
«Кто же это такой? — думалось мне. — Учитель? Агроном? А может быть…»
Тут во мне снова шевельнулся страх. Неужели это… Ведь всего два года назад в здешних местах, хотя и недолго, были сначала мамонтовцы, потом деникинцы!
Как бы почувствовав мою тревогу, незнакомец взглянул на меня, сощурился и улыбнулся.
— Что молчите? Стесняетесь спросить у старшего, кто он и что он? Это похвально. И все же любопытство, наверное, вас распирает? Так ведь? — спросил он.
— А вы, наверно, путешественник. Как… как Миклухо-Маклай, — брякнул брат.
Человек из ночи расхохотался.
— Тепло! Но не жарко. Нет, я не путешественник. Хотя в какой-то степени все люди путешественники по земной юдоли. Нет, я ботаник. Биолог.
И, немного помолчав, добавил:
— Изучаю растения и вообще явления органической жизни. Понятно? Зовут меня Борис Михайлович. Утром, если клевать не будет, покажу вам реликты. Согласны? А сейчас поедим ушицы вашей и спать. До рассвета осталось немного… Есть у вас что постелить?.. Есть?.. Отлично.
Вместе с ним мы похлебали из одного котелка неплохой ухи. Потом ботаник лег навзничь и вскоре стал тихо посапывать. Но мы ложиться не стали. Уже не из боязни. Его мы больше не опасались. Как-то сразу и наши страхи улетучились, и у костра стало спокойно и уютно. Спать мы просто не имели права! Ведь на донку могла взять крупная рыба! А наши самодельные колокольчики, мы это знали, звенели не столь громко, чтобы разбудить… И все же скоро и меня, и брата сморил сон.
Нам обоим не было еще и двадцати пяти, если сложить годы вместе…
Я проснулся от пронзительного посвиста долгоногих куличков, пролетевших над нашим биваком. Солнце уже осветило обрывистый правый берег Дона — Галичью гору. Выступы скал и округлых огромных камней на склоне, среди пестрой зелени кустарников и трав, были розовыми. То тут, то там на косогорах чернели пещеры. Звенящий хор кузнечиков приветствовал утро. А внизу, в долине, еще было сумрачно. От воды поднимались и растворялись в густом воздухе клочья тумана.
«Эх, проворонили донки!» — горестно подумал я, вскакивая, и тут только обнаружил, что Бориса Михайловича у затухшего костра нет.
— Ушел он. Ушел… Вставай! — крикнул я встревоженно.
Брат поднялся, протер глаза.
— Никуда он не ушел, — сказал он, оглядываясь. — Вот его сумка. А вот и он сам…
Действительно, из-за выступа берега показалась высокая фигура незнакомца. Ботаник быстро шел к нам с охапкой хвороста и котелком с водой.
— С добрым утром! — произнес он, приблизившись. — Сейчас вскипятим чайку. Ну, а где судаки и сомы?
Мы смущенно переглянулись и побежали к берегу. Донки оказались пустыми. Лишь на одной висел на крючке, растопырив колючки, крошечный ершик. Потом мы пили не морковный, а настоящий чай с настоящим сахаром! Кусочки рафинада казались нам немыслимо сладкими и вкусными по сравнению с самодельной патокой из свеклы.
— Вот что, мои молодые друзья, — сказал Борис Михайлович, когда с завтраком было покончено, — рыба, как видно, клевать не хочет. Пойдемте со мной. Поможете мне собирать образцы для коллекции.
И вот мы лазаем по кручам Галичьей горы над Доном, в диких зарослях трав и кустарников. Солнце палит нещадно. Зловредные слепни атакуют поминутно. Колючки царапают ноги и руки. Но все это ерунда, не стоит на это обращать внимания! Ведь мы помогаем собирать и укладывать между листами серой оберточной бумаги образцы для коллекции. Ведь мы участники таинственного и, несомненно, прекрасного дела науки!
Насвистывая что-то, Борис Михайлович увлечен поиском этих «образцов». То и дело он нагибается и, аккуратно подкапывая длинной лопаточкой корни, вынимает из почвы растение.
— Это тоже реликт, — говорит он. — Положите отдельно… — Или называет растение по-латыни и, отряхнув землю с его корней, поднимает и любуется им: — Какой отличный экземпляр! — И рассказывает нам о растениях.
Теперь мы знаем, что это не обыкновенная глухая крапива, или душица, или колокольчик. Это «реликт» или даже «эндемик».
…Много тысячелетий назад великое обледенение охватило почти всю Европейскую Россию. Гигантский ледовый панцирь сковал ее земли вплоть до южных областей. В верховьях Дона тоже кругом были нескончаемые льды и снега круглый год, много-много столетий. И только этот обрывистый берег Дона, горбом возвышавшийся над мертвой замерзшей равниной, — Галичья гора — остался островом жизни. Здесь продолжали бороться за существование нескончаемую вереницу лет десятки видов растений, насекомых и простейших животных. И они победили. Жизнь победила холодный, безразличный лед. До нашего времени остались расти на Галичьей горе те растения, которые выдержали невероятной суровости испытания. Это и есть «реликты». А среди них есть и такие, которые произрастают только здесь, — это «эндемики».
— Посмотрите, мои молодые друзья, — говорит Борис Михайлович, показывая маленькое, хилое растеньице с трехпалыми листьями. — Посмотрите внимательно на эту лапчатку. Какая она нежная. Беззащитная. А вот поди ж ты, преодолела, превозмогла. Живет. Размножается. Но только здесь, на Галичьей горе… Другие виды «реликтов» сохранились еще в некоторых местах по границе великого обледенения. В Курской губернии есть, например, такое место. Там я тоже собрал хорошую коллекцию. Но вот горе — человек наступает на природу, на растительный мир, и это наступление, думаю, будет похуже нашествия ледников, причем во всемирном масштабе! Вон посмотрите — там на бугре ходят козы. Это же самые страшные враги кустарников. Где они пасутся, мало что растет. К чему я это говорю? А к тому, что Галичью гору и другие такие удивительные места надо охранять. Объявлять заповедными. Слыхали, может быть, Совнарком издал декрет об охране природы?..
После полудня мы забрались в одну из пещер, чтобы отдохнуть и поесть. Летучие мыши маленькими меховыми мешочками висели в глубине грота, за тысячелетия промытого подпочвенными водами в серой скале. Рыжие лишайники лепились на, казалось бы, совсем гладких каменных его стенах. Тоже сила жизни! Ключ — ручеек, который создал эту пещеру, еще не иссяк, и мы смогли наполнить кристальной водой котелок и вскипятить чай. После чаепития Борис Михайлович что-то загрустил, глядя темными своими глазами в широкую даль задонской равнины. Мне показалось, что ему очень не хочется покидать Галичью гору (он сказал, что после отдыха должен двинуться в обратный путь). Неразговорчивым и задумчивым был он и когда мы спустились вниз, к нашему биваку, и, забрав удочки, припрятанные в зарослях тальника, начали прощаться.
Пожимая руки, как взрослым, он пожелал нам доброго пути и сказал странную фразу, совсем невпопад:
— А сумерки все же неотвратимы…
Лишь годы спустя эти его слова стали мне понятны. А тогда я вопросительно взглянул на него. Но он не стал пояснять непонятное, приподнял матерчатую шляпу-панамку, повернулся и зашагал по берегу Дона в сторону Задонска.
Усталые до чертиков, пыльные и потные, под вечер дошли мы до дома. Почти всю дорогу молчавший брат, открывая калитку, вдруг сказал мне почему-то почти шепотом:
— Ты как хочешь. А я биологом, ботаником…
…Брат не стал ботаником. Он стал инженером и впоследствии одним из тех, кто создавал первые атомные реакторы. А я через три года выдержал экстерном экзамен на биологический факультет Воронежского университета. Трудно было, и вот, наконец, у меня в руках студенческий билет. Серая книжечка, на корочке которой замазано «Юрьевский» и от руки выведено: «Воронежский»[1].
Далее на корочке написано: «Биологический факультет, 1 курс». Итак, я, а не брат должен стать биологом, ботаником! И сегодня — первая лекция для всех неофитов всех пяти факультетов университета: биологического, физмата, химического, исторического и медицинского. Пестрая наша была компания! Девчата в кожанках и вязаных кофточках и темных юбках, часто в красных косынках, многие стриженные «под мальчика». Ребята — то совсем юные еще, вроде меня, то уже в годах, в старых гимнастерках и френчах со следами петлиц на воротничках, с ранними морщинками у глаз, бывшие красноармейцы и командиры недавно отшумевшей гражданской войны. Один из таких воинов сел рядом со мной. Он явно «кавказский человек», черноволосый, кареглазый. На его гимнастерке редкий в те времена орден Красного Знамени. Он протягивает мне руку:
— Вакилянц. Был чоновцем, стал студентом. Вот, брат, какое дело. А ты что грызть будешь?
— Ботанику, — отвечаю я, внезапно решив стать исследователем жизни растений.
— Нэплохо… Может, и мне тоже? Окончу курс. Поеду домой, на Севан. Знаешь Севан? Озеро в горах. «Разным сортом травка», как поют, собирать буду…
…Из боковой двери актового зала появился невысокий старик. Седые волосы топорщатся на его крупной голове в разные стороны. Под кустистыми бровями даже через очки видны голубые, яркие, веселые глаза. У старика пухлые, румяные губы. Одет он в косоворотку, на которую накинут серый парусиновый пиджак.
Старик быстро, пожалуй даже стремительно, подходит к кафедре и поднимает руку.
Многоголосый зал затихает. И всем слышно, как кто-то произносит вполголоса: «Келлер». Вакилянц и еще несколько человек вскакивают, руки по швам.
— Товарищи! Дорогие коллеги! — начинает старик звонко, по-молодому. — Да садитесь вы и по возможности внимательно слушайте. Сегодня для вас особый день. Первый день занятий в высшей школе. Я приветствую вас. Я желаю вам успеха. Я надеюсь, что наш университет станет вашей альма-матер в полном смысле этого слова. Живительное молоко знания да поможет вам понять мир в его многообразии, в его многогранности. Материалистическая диалектика научит вас изучать явления в развитии и движении, в их взаимосвязи и конкретной реальности. Причем понять мир не для того, чтобы успокоиться. Застыть благодушно, овладев знанием. Нет. Я зову вас познавать мир, чтобы перестраивать его, делать лучше. В этом мы, марксисты, видим цель человека, задачу науки. Запомните навсегда: всякая жизнь — от жизни простейших существ до нашей с вами — это движение. А применительно к науке — поиск, стремление шагнуть хотя бы на малую ступень вверх по лестнице знания. Это всегда трудно. Это всегда требует желания и самоотверженности, настойчивости и дерзости мысли. Так будет всегда для тех, кто идет вперед. Но не пугайтесь. Поверьте, что идущих сквозь тернии преодоления ждут не только муки. Их ждет высокое счастье самого процесса открытия или творения нового. И запомните еще навсегда: вы сами очень нужны революции, нашей Советской стране в ее движении по новому историческому пути всего человечества.
— Здорово режет, — прошептал мне на ухо Вакилянц. — Старик, видно, партиец.
А профессор Келлер продолжал горячо, вдохновенно говорить о значении науки для народного хозяйства Советской России, о тяжком наследстве царского строя, об огромном уроне, понесенном родиной в интервенцию и гражданскую войну.
Цепкая молодая память моя запечатлела его мысли и вправду навсегда.
Завершил Келлер свою лекцию-речь так:
— Я биолог, ботаник. Буду читать на первом курсе трех факультетов курс общей ботаники и вести лабораторные занятия. Поэтому об этой науке сегодня только несколько слов. Вы, надеюсь, слышали о работах великого русского ученого Тимирязева? Слышали? Отлично. Тогда вы должны знать, что главным направлением его исследований была тайна зеленого листа. Сия тайна не просто тайна. Это великая тайна! Все живое на земле, в сущности, результат одного процесса: чудесного преобразования мертвой материи в живую, преобразования простых элементов под воздействием энергии солнечных лучей в материю органическую. Процесс этот идет в крохотных зернышках хлорофилла. Процесс фотосинтеза. И вот Тимирязев открыл — главным действующим лицом здесь являются красные лучи солнечного спектра. Они порождают тот сложнейший процесс движения материи, который есть сама жизнь. Красные лучи! Красный цвет! Немного более полувека назад французский художник Курбе предложил Парижской коммуне избрать красный цвет символом революции, символом нового мироустройства, провозглашенного Коммуной. Предложил, интуитивно предвидя, что значит красный цвет в мироздании, что все мы — дети Солнца! Теперь красное знамя — наше знамя. И уже не интуитивно мы знаем: оно есть реалистический символ жизни и бесконечного созидающего движения! А по-русски слово «красный» к тому же еще и синоним слова «красивый»! Успеха вам, коллеги, под красным знаменем, в великом и красивом деле познания мира ради его прогресса!
Стоя аплодировали мы профессору Келлеру. Не могла не понравиться нам его необычная лекция. А он, широко улыбаясь, немного постоял за кафедрой, потом поднял руки и быстро пошел к двери.
В тот день лекций больше не было. Я еще потолкался в шумных коридорах, списал расписание занятий и направился в столовку.
Сентябрьский день был ясен и свеж. Столетние липы, в два ряда обрамлявшие бывший кадетский плац перед фасадом университета, роняли на аллею, на булыжник мостовой бурые сухие листья. Ребячья мелюзга с визгом и криками возилась в кучах этих листьев. На широком просторе квадратного плаца бродили коровы и козы.
По улице прогромыхала телега. Потом издалека послышался хриплый, трубный звук автомобильного пневматического клаксона и шум мотора. И снова тишина. Лишь детские голоса и посвистывание синиц в поредевших кронах старых лип звенели в осеннем воздухе. Дышалось глубоко и легко. И возникло чудесное чувство радости и свободы. Казалось, есть у тебя незримые крылья! Стоит взмахнуть ими — и полетишь. Над тихим городом, над миром и узнаешь все его красоты и тайны.
На первом курсе высшей школы студенту всегда трудно. Еще нет опыта в работе над книгой, в усвоении лекций. Мне, почти не учившемуся в средней школе, где все же приобретаются такие навыки, было особенно тяжело. Приходилось много конспектировать и сидеть за учебниками частенько до рассвета. А тут еще общественные обязанности, хотелось участвовать в различных кружках, комиссиях и т. д.
Все же я добывал и читал книги и журналы по ботанике. Решение стать исследователем жизни растений было незыблемым. И я как-то в конце учебного года сказал об этом профессору Келлеру, остановив его в коридоре после лекции.
Борис Александрович выглядел утомленным. Ему приходилось читать очень много и в университете, и в Сельскохозяйственном институте, где он заведовал кафедрой. Часто выступал он также в клубах с докладами, лекциями на общенаучные темы.
— Превосходно, коллега, — сказал профессор, выслушав мое сбивчивое признание в любви к его науке. — Напишите на бумажке вашу фамилию. Иначе могу позабыть — годы… И приходите на практикум в СХИ. Во вторник к девяти…
Я поблагодарил и сказал, что приду обязательно, хотя и недоумевал: почему мне надо явиться в Сельскохозяйственный институт? Ведь я же студент университета.
СХИ располагался за городом, километрах в четырех, на лесистом берегу реки Воронеж. Место это чудесное. Там студенты любили устраивать маевки. Туда, за Лысую гору — крутой обрыв над рекой, — мы с братом не раз ходили рыбачить.
В назначенный день и час не без труда разыскал среди нескольких корпусов института помещение ботанической лаборатории. Келлера там не было.
— Профессор читает сегодня в городе, — сказал мне служитель. — Приходите завтра.
Вот те и раз! Очевидно, Борис Александрович все же забыл о том, что пригласил меня. Что ж, надо топать обратно.
В это время в дверях лаборатории показалась невысокая, худенькая женщина. Длинное серое платье с белым отложным воротничком и такими же манжетами делало ее похожей на курсисток дореволюционного женского института Шанявского. Бывших его воспитанниц в двадцатые годы еще можно было иногда встретить в такой одежде. Я вспомнил, что уже видел однажды эту худенькую женщину с милым и бледным лицом рядом с профессором Келлером в экипаже, в котором он приехал на лекцию.
— Вот, спроси у профессорши, — кивнув в сторону женщины, сказал служитель.
Она услышала эти слова и подошла.
— Профессор Келлер приказал… Нет, пригласил…
— Ваша фамилия Сытин? Здравствуйте, — прервала она меня, протягивая руку. — Пожалуйста, проходите. Борис Александрович сказал, что вы любезно согласились помогать мне вести практикум. Вот здесь повесьте пальто.
Помогать вести практикум! Я был так ошарашен, что никак не мог зацепить петелькой на воротнике своего брезентового кожушка за рожок вешалки. Жена профессора чуть иронически следила за моими усилиями. Потом улыбнулась добро и понимающе, взяла меня под руку и повела за собой в светлую длинную комнату.
— Не волнуйтесь… Пока не собрались студенты, я вам все объясню. Вы справитесь. Я попрошу вас только готовить препараты. Срезы бритвой и на микротоме вы делать умеете?
— Приходилось…
— Ну вот и чудесно. Сначала подготовите несколько препаратов. Потом будете помогать их делать другим. Сегодня нам нужно будет показать структуру стебля растений. Вот здесь ваше место. Срезы пока делайте бритвой. И… спокойнее. Спокойнее…
Комната, куда мы вошли, была заставлена в два ряда столиками с микроскопами и бинокулярными лупами. На крайнем слева, побольше, помимо лупы и микроскопа лежали коробочки с предметными и покровными стеклышками, бутылочки с окрашивающими жидкостями, бритва, пинцеты, иглы и всякое другое мелкое «оборудование», а также стояла корзиночка с первыми весенними растениями — мать-мачехой, крапивой, медуницей, лютиками.
После нескольких неудач мне все же удалось сделать достаточно тонкий срез сочного стебля мать-мачехи, с помощью иглы уложить его на предметное стеклышко и на столик бинокуляра и… Как я ни вращал кремальеру наводки, поднимая тубу лупы то вверх, то вниз, ничего, кроме очень темных зеленых разводов, в окуляре не увидел!
— Вы забыли навести зеркало, — послышался у меня за спиной тихий голос жены Келлера. — Не волнуйтесь.
Как же это я действительно запамятовал направить лучик света на препарат снизу!
Зеркало повернуто как надо. Просвеченный срез сразу стал светлым. На нем четко обозначилась сложная, похожая на искусное кружево, ячеистая сетка сосудов стволика растения. В центре ячейки сетки были более крупными. Вокруг них концентрически, по строгой системе, располагались более мелкие. Как в паутине, только наоборот. Это было красиво необычайно.
В лабораторию стали заходить студенты. Они тоже готовили себе препараты из срезов, а мне пришлось помогать им. Потом каждый должен был сделать зарисовки «кружев» и постараться объяснить назначение тех или иных сосудов стебля растения: какие из них подают под воздействием осмотического давления воду с питательными солями из почвы вверх, к листьям, какие служат для транспортировки к корням органических веществ, созданных хлорофиллом.
Более двух месяцев, дважды в неделю, я прибегал в СХИ на практикум по курсу общей ботаники. Вела его почти всегда жена профессора. Сам Борис Александрович приезжал редко и ненадолго. И совсем не для того, чтобы контролировать ход занятий. Обычно он стремительно входил, почти вбегал, в лабораторию, приветственно поднимал руку, улыбался и спрашивал, с чем мы сегодня знакомимся. А затем, взглянув на два-три препарата, начинал шагать по лаборатории, читая короткую импровизированную лекцию, или, лучше сказать, беседовал с нами. Почти всегда начинал он эту беседу, отталкиваясь от того, что увидел на препаратах, а затем переходил к широким обобщениям. Например, когда мы знакомились с «конструкцией» зеленого листа и органами дыхания растений — «устьицами», Келлер рассказал нам о планетарном процессе обогащения атмосферы кислородом.
— Вы знаете, — говорил он, — растения вырабатывают оксигенум в зернах хлорофилла. Через «устьица» — изумительный по конструкции прибор-автомат — листья поглощают из воздуха це о два — углекислоту — и выделяют кислород. В атмосфере издавна образовался известный баланс этих газов. Но появился человек. Наступил промышленный век. На фабриках и заводах сжигается все больше кислорода. И будет сжигаться еще больше. Следовательно, можно предполагать, что наступит время, когда воздух обеднеет живительным газом. И — тогда что же? Смерть всему живому? Нет, так механически рассуждать нельзя! Ведь при сжигании угля, нефти, дров в атмосферу поступает огромное количество углекислоты, столь необходимой растениям. Поэтому, анализируя этот процесс диалектически, в движении и развитии, мы должны сделать вывод: одновременно будет идти процесс обогащения воздуха кислородом за счет развития растительности, или, другими словами, его убыль будет пополняться в результате человеческой деятельности. Но в какой мере? Вот и встает вопрос, кардинальный вопрос для исследователя природы! Ответить на него сейчас наука не может. Нужна, очень многое еще познать, и прежде всего в жизни самого растения. Но ответить на него надо будет обязательно! Может быть, этот ответ кроется в тайне фотосинтеза, в зерне хлорофилла… Однако очевидно — не только. Во всяком случае, как одно из возможных решений, — подчеркну: как одно лишь, — это охрана растительного царства нашей планеты. Рациональное использование лесов прежде всего. Ведь именно леса поставляют в атмосферу Земли наибольшее количество кислорода…
…В конце мая было последнее занятие практикума по ботанике. Было оно коротким. Анастасия Ивановна Келлер всем нам поставила зачет. А затем поразила новостью: профессор Келлер переводится в Москву и скоро уезжает. Сдавать зачет по курсу общей ботаники нам придется профессору Козо-Полянскому…
Профессора Козо-Полянского, также биолога и ботаника, я никогда не видел. Он читал морфологию и систематику растений на старших курсах. Однако знали мы о нем многое. Его лекции студенты называли блистательными. И слушать их валили валом. Говорили также, что это сухой человек, «застегнутый на все пуговицы», и с ним запросто не поболтаешь.
С грустью мы попрощались с Анастасией Ивановной. Она тоже не скрывала, что не хочется ей покидать Воронеж.
— Москва. Это, знаете, не для меня, — говорила она. И нам казалось, что действительно эта тихая, скромно одетая, худенькая женщина там, в столице, будет одинокой.
Скоро пришло трудное время сдачи зачетов по основным дисциплинам.
Мы с Артемом Вакилянцем то у него в каморке в домике над рекой, то в аудиториях сидели над учебниками и конспектами с утра и до вечера.
Первым был зачет по химии профессору Думанскому. Сдали. Второй — по зоологии, профессору Сент-Илеру, — тоже. Труднее дался зачет по анатомии человека, профессору Остроумову. Но и этот рубеж мы перевалили благополучно. Осталось сдать зачет по курсу общей ботаники неизвестному Козо-Полянскому. Этот экзамен страшил нас больше всего. Может быть, именно потому, что мы не знали Козо-Полянского.
За день до зачета я пришел заниматься к Вакилянцу. Он мрачно сказал:
— Ты как хочешь, а я больше нэ могу. Голова не варит. Идем гулять. А потом — он, этот профессор, знаешь, реакционер! Зачем мне к нему? Вот посмотри…
И он протянул мне маленькую книжечку. На обложке значилось: «Профессор Б. М. Козо-Полянский. «Сумерки жизни».
Я раскрыл книжечку, пробежал глазами первую страничку и уже не мог оторваться.
Артем ушел. А я остался сидеть на его покрытой ковром койке, под видавшей виды шашкой на стене, до тех пор, пока не прочитал последнюю фразу. Она помнится мне всю жизнь: «Сумерки животного мира наступили — близится вечер».
Страшная это была книжка!
На ее страницах ученый размышлял над проблемой развития жизни на Земле. Жизнь зародилась миллионы лет назад. Прошла много ступеней развития, от простейших форм ко все более и более сложным. Но чем удивительней и усложненней по своей структуре и функциям становились биологические типы, тем труднее им было существовать. Поэтому отмирали, отпадали от генетического древа жизни отдельные его ветви. Например, исчезли гигантские ящеры. И в конце концов жизнь, делал страшный вывод автор, должна исчерпать самое себя!
Книжка написана была очень убедительно и ярко. Это усиливало впечатление от высказанных в ней мыслей.
«А как же человек? Он ведь тоже биологический тип и должен вымереть сам по себе? — думалось мне. — А как же с прогрессом человечества? Мировой революцией? Нет, он, этот Козо-Полянский, и вправду реакционер!»
Когда я пришел домой, брат взглянул на меня и сказал:
— Ты даже почернел от своих занятий. И глаза у тебя дурные. Пойдем вечером на лещей, за Лысую гору.
Я согласился.
За Лысой горой, под крутым, заросшим кустарником и лесом правым берегом реки Воронеж, было несколько глубоких заводей. Одну из них, с камышами у кромки воды и черной корягой сбоку, мы и выбрали для ловли. Когда свечерело, воздух посвежел и ласточки перестали чертить крыльями ставшую глянцевитой и темной поверхность омута, на удочку у брата взял хороший лещ. Потом и мне удалось подсечь широкую розовато-оловянную рыбину. Совсем стемнело. Клев кончился. Мы решили не уходить. Ночи июня коротки, скоро придет утренняя заря, и снова, наверное, будет клев. Глубокая тишина окружила нас. Поздний соловей лениво пощелкивал в зарослях по овражку, но и он скоро смолк. Теперь лишь иногда издалека, с лугов левобережья, доносились девичьи песни.
Я сидел над своими удочками в двух шагах от черной коряги. Силуэт ее сначала четко отпечатывался на поверхности воды. Вскоре, когда погасли на небе последние облака-перья, он как бы потонул. Пришел час глухой ночи.
Снова лениво защелкал соловей. Стало бледнеть небо. Коряга выплыла из омута. Одно из моих удилищ дернулось и стало гнуться к воде: на крючок сел небольшой сомик. Вскоре была вторая поклевка. Потом еще. И к восходу солнца у меня да и у брата на куканах возилось по нескольку вполне приличных лещей и пара сомиков.
Что значит бессонная ночь в восемнадцать лет на рыбалке или охоте? Никакой усталости. Наоборот, весело обсуждая перипетии утренней ловли, мы бодро зашагали домой по просыпающимся улицам. И экзамен, и Козо-Полянский мне теперь не были страшны.
…Весьма строгого вида молодая женщина в черном платье, ассистентка профессора, встречала студентов в зале на втором этаже биофака.
— Ваша фамилия? Курс? Факультет? — спрашивала она и отмечала в журнале явку. Некоторых отправляла восвояси. — Придете послезавтра к десяти. Вас в списке деканата нет.
В этом списке я оказался четвертым. А всего в нем было внесено только десять человек. И все старшекурсники, мне незнакомые. Они сгрудились и, вполголоса что-то обсуждая, листали учебники и конспекты. Я присел на подоконник и огляделся. Зал был довольно большой. Стены и простенки между окнами занимали высокие ореховые шкафы с папками, видимо гербариями, книгами и комплектами ботанических журналов на разных языках.
Напротив входной двери была другая, обитая черной клеенкой, с латунной табличкой: «Профессор Б. М. Козо-Полянский».
Весьма строгого вида женщина скоро прошла в нее и, вернувшись, вызвала первого из ожидавших. Когда он скрылся за дверью профессорского кабинета, его товарищи замолчали.
«Ну и нагнал страху на них этот реакционер, крыса научная!» — подумал я. Но, по правде сказать, и у меня заныло сердце.
Первый экзаменующийся провел за черной дверью, мне показалось, не много времени. От силы минут десять. Когда он появился, а на смену ему в кабинет вошел следующий, товарищи обступили его.
— Лишайники, — сказал он, предупреждая единственно возможный вопрос: «Что спрашивал?» — Погонял, как всегда. А зачет поставил. — И наконец-то улыбнулся.
Второго студента профессор держал долго. Это было плохим предзнаменованием. Оно и оправдалось. Козо-Полянский парню зачет не поставил, что-то напутал парень, отвечая на вопрос о плотоядных растениях.
Теперь и я заволновался и сделал то, что совершенно напрасно делают, пожалуй, многие на краю экзамена, — вытащил из кармана куртки блокнот с записями лекций Келлера и стал его лихорадочно листать. Никогда от такой последней подготовки большого толку не бывает! Все студенты об этом знают. И все же… Ассистентке пришлось дважды повторить мою фамилию, прежде чем я ее расслышал и ринулся в кабинет профессора.
Козо-Полянский сидел у окна за столом, заваленным образцами растений — живыми и засушенными на листах бумаги.
Большая бледная лысина над загорелым удлиненным лицом. Резко очерченные сжатые губы. Тонкие, длинные пальцы пианиста чуть шевелятся.
— Здра… — начал я и остановился, пораженный. Передо мной был тот человек, тот, кто вышел из ночи к нашему костерку под Галичьей горой.
Он поднял глаза. Мне показалось, что в них тоже мелькнуло узнавание. Мелькнуло и исчезло.
— Здравствуйте. Садитесь. Вы слушали курс профессора Келлера?
Это ему было известно, и, очевидно, спрашивал он потому, что у меня был в тот момент уж очень растерянный, глуповатый вид и ему захотелось привести студента в норму.
— Да.
— Отлично. Прошу вас… Расскажите, как происходит обмен веществ между корнями и листьями.
Вопрос был слишком простой, «человек из ночи» захотел дать мне немного времени, чтобы я оправился от смущения. Начал я все же сбивчиво. Потом отвечал все более и более уверенно. Недаром пришлось сделать сотни препаратов сосудистых систем растений на практикуме в СХИ! На другие вопросы я ответил тоже в общем верно.
Козо-Полянский наклонился над тетрадью со списком экзаменующихся и сделал в нем отметку, потом расписался в моей зачетной книжке. А я, вздохнув облегченно, огляделся.
Кабинет профессора был так же, как и зал, заставлен высокими шкафами с книгами и папками гербариев. Между шкафами и окнами висели карты, портреты Дарвина и Тимирязева, фотографии. На одной из них вид показался мне знакомым. Река, крутой берег, огромные камни и заросли кустарников на склоне. Да это же Галичья гора!
— До свидания. Можете идти, — сказал профессор, приподнимаясь и протягивая мне зачетку.
И тут вдруг вспомнилась мне его книжка «Сумерки жизни», «Ученый, называется, — подумал я. — О реликтах беспокоится, об охране природы, а сам не верит в силу жизни, в прогресс. Наверное, и в советскую власть не верит». Подумал и брякнул, вставая:
— Вы, профессор, наверное, не верите в прогресс. — И ужаснулся своим словам, и почувствовал, что краснею от стыда, от неоправданной невежливости.
Козо-Полянский тоже встал и, видимо подавив в себе естественный гнев, тихо сказал:
— Это на чем же вы основываетесь, предъявляя мне такое обвинение?..
— Ваша книжка «Сумерки жизни», — прервал я его, теперь уже не желая отступать.
— Ах, вот оно что! — Профессор усмехнулся, снова сел, скрестил руки на столе и продолжал: — Сами понимаете, я не обязан давать вам объяснения. Но откровенность за откровенность. Забудьте об этой моей публикации! Забудьте. Это была ошибка. Точнее — ошибочен был мой основной вывод.
Такое услышать от знаменитого профессора! Вот это действительно мужество. А ты, дурак, думал: «Реакционер, крыса…» Ох и дурак, дурак! А Козо-Полянский продолжал спокойно, тихо, хотя, в голосе его и была напряженность:
— Да. Так бывает, и не так уж редко, в науке, когда гипотеза строится только эмпирически, на основе группы фактов, без достаточного учета других данных и теоретического анализа проблемы в целом. В этом случае раньше или позже она опрокидывается. Самим автором или другими исследователями — неважно. Однако думаю, что даже ошибочные гипотезы приносят пользу в науке, хотя и пропагандировать их не следует. Что же касается «Сумерек», то и в этой публикация есть то, что я считаю истинным и важным. Это — убеждение в необходимости бережного отношения к живой природе. Человек должен понять: его деятельность часто приходит в противоречие с установившимися закономерностями природы. И нам, новому обществу, надо уже теперь начинать действовать, хотя бы в малых масштабах. Вот, посмотрите на эту фотографию. Это Галичья гора. Место, где сохранились реликтовые растения доледникового периода. Теперь она объявлена заповедной. Есть реликты в степях Курской губернии. Там — мы добиваемся этого — тоже будут заповедные участки. А на реке Усманке в Графском лесу будет заповедник для защиты вымирающих бобров. По всей нашей стране будут такие охранные зоны природы. Но если говорить о всем процессе влияния деятельности человека на живую природу, этого мало. В будущем эта деятельность должна обязательно соотноситься с необходимостью охраны природы. Иначе, например, если леса будут вырублены, обмелеют все реки. Исчезнут пушные звери. Кстати, такое уже наблюдается…
Козо-Полянский продолжал еще некоторое время говорить увлеченно и страстно, потом усмехнулся и протянул мне руку:
— До свидания, уважаемый товарищ студент. Вы затронули мое больное место. Но я не в претензии. До свидания. Там, за дверью, наверное, решили, что я вас, как это говорят в вашей среде, «замутузил»…
Студенты, ожидавшие очереди, действительно встретили меня сочувствующими взглядами. Мой смущенный вид дал к этому повод. А как тут не быть смущенным?
Идя домой и думая об уроке этики ученого, который дал мне профессор Козо-Полянский, еще я почувствовал, что никогда не стану настоящим ботаником, понял, что есть у меня интерес к этой науке, но нет увлеченности и любви, как у него, у Бориса Александровича Келлера. Мучительно было размышлять об этом. Ведь мне же нравилось работать на практикуме в СХИ, привлекали общие проблемы ботанической науки… Так как же — быть или не быть мне исследователем растительного мира?
Осенью биологический факультет Воронежского, университета был расформирован. Его студентов распределили по другим факультетам, а некоторых направили даже в другие вузы, в том числе пятерых в Первый Московский государственный университет, на биологическое отделение физико-математического. Среди этих пятерых оказался и я. А в Москве меня увлекли лекции профессоров Кольцова по общей биологии, Огнева и Кожевникова по зоологии, знакомство с научным руководителем зоопарка Мантейфелем. И я решил стать зоологом. Бесповоротно и определенно!
ТАЙНА РЕЧКИ УСМАНКИ
Неслышно струятся чистые воды лесной речки. Лишь колышутся в струях камышинки и стебли рогоза у ее берегов.
Майский лес обступил речку, наклоняется над ней, звенит голосами птиц…
Солнце только что село. Порозовели высокие перистые облака. Точно гигантский веер распростерся на небе. Он отражается на глади широкой заводи передо мной.
Лишь изредка ее поверхность рябится кругами — голавль или язь схватил зазевавшуюся стрекозу. Неслышно носятся над заводью длиннохвостые ласточки касатки. Дурманит голову прохладный воздух.
И пела русалка: «На дне у меня Играет мерцание дня; Там рыбок златые гуляют стада; Там хрустальные есть города…»От заводи в чащобу уходит протока. Низко нависла над водой подмытая в половодье старая береза. Нижние ветви ее полощутся в протоке, вздрагивая мелко, как от озноба.
Здесь и должна обязательно появиться русалка… Еще немного стемнеет, над кронами деревьев взойдет луна — и…
Поднялись комары. Зудят, настойчиво атакуют, несмотря на то что я обмахиваюсь пучком полыни.
Вдруг где-то в глубине леса подал голос волк. Он взвыл раз, другой — басовито, коротко и заунывно. И тотчас в Уреме по долине речки, совсем недалеко, ему протяжно ответила волчица. Вслед за ней затявкали, повизгивая, как собачата, несколько волчат.
Перекличка волчьей семьи продолжалась несколько минут. Голос отца с каждым разом слышался все глуше и глуше: он уходил от логова на промысел.
Мне много раз приходилось слышать волков и встречаться с ними. Я их не боялся. И все же, когда они начали перекличку, мне стало неуютно. Слишком уж резким диссонансом врезались голоса хищников в добрый весенний мир, добрый лишь по нашему человечьему ощущению. Ибо не бывает мира в природе. Ибо сущность жизни в биологическом смысле — в борьбе.
Как-то сразу замолкли птицы. Только бессонные соловьи продолжали соревнование между собой.
А вот и луна выбралась на простор небосвода, осветила ствол старой березы над потемневшей протокой, бросила серебристые блики на заводь. Изменились перспективы. Лес по берегам поднялся ввысь. Речка раздалась вширь. Камыши образовали зубчатую стену. И кругом стало так сказочно и таинственно, что даже сердце защемило от восторга.
И тогда там, под березой, появилась русалка, которую я ждал! Сначала послышался тихий всплеск. Потом я увидел над водой ее голову. Темно-каштановую, почти черную. Небольшие волны расходились от нее, как от носа лодки. Плоский хвост, казалось, неподвижно лежал на поверхности.
Она плыла довольно быстро из протоки к заводи.
На самом деле это был он…
Месяц назад мы сидели с Бошко-Степаненко в одной из ниш окон, выходящих на галерею над большим залом Зоологического музея Московского университета. Ниши эти были огорожены деревянными решетками так, что получались крошечные, в два квадратных метра, кабинки. Они выделялись студентам для работы над материалом, который выносить из музея было не положено, — препаратами, шкурками и чучелами животных и т. п. Такой «кабинет» — первый в своей жизни! — я получил, когда профессор Сергей Иванович Огнев, известный орнитолог, поручил мне подготовить реферат о разновидностях пеночек — маленьких серо-коричневых насекомоядных птичек наших лесов.
— Хотите стать зоологом — начинайте с углубленных занятий систематикой и морфологией, — сказал, давая это задание, профессор. — Зоолог должен прежде всего до тонкостей знать морфологические отличия объектов изучения. Будь то слон или мышь землеройка. Возьмите в коллекции шкурки пеночек разных подвидов и модификаций и сделайте их описание.
В свободное от лекций и практических занятий время я забирался на галерею, раскладывал на столике шкурки птичек и стремился обнаружить отличие их одной от другой по форме оперения и его окраске, конфигурации клювика, количеству щетинок-усиков и т. д., а затем делал описание и зарисовки «объектов».
Поначалу мне это нравилось. Ведь это было если не в полной мере научное исследование, то, во всяком случае, подступы к нему, попытка разобраться в том, что еще не уточнено орнитологами, и «описать» это. Но когда пришла весна, все чаще поднимал я глаза от бинокулярной лупы, с помощью которой считал усики или срисовывал форму клювика очередной разновидности пеночки, и бездумно смотрел на посветлевшее небо над крышами, на капель с сосулек. Поэтому работа моя стала продвигаться плохо и в душе появилось беспокойство. В конце концов я честно сказал профессору, что его поручение, наверное, до каникул не выполню и вообще пеночки мне осточертели.
Профессор был недоволен. Однако, как человек умный и добрый, сказал, что подумает над другим заданием, «если вы действительно хотите стать зоологом». Другими словами — он обнадежил меня.
Тогда-то мы с Бошко-Степаненко и встретились, чтобы обсудить проблему, как мне быть дальше.
— Ты не можешь стать кабинетным ученым. У тебя даже в шахматы играть недостает выдержки, — категорически заявил приятель. — Я придумал тебе сто́ящее дело. Сам бы взялся за него, да здоровье у меня хлипкое. Тут нужны бугаи такие, как ты.
Бошко-Степаненко вытащил из старенького портфеля номер журнала «Природа».
— Вот смотри. В «Хронике». Пишут. Ценнейший пушной зверь России, кастор фибер, то есть бобр, исчезает. Осталось их совсем мало, а сколько — неизвестно, к Графском лесу под Воронежем и на реке Тетерев на Черниговщине. Поезжай, исследуй их жизнь, подсчитай, сколько их еще есть. Потом напишешь статью. Ее наверняка опубликуют…
— А на какие шиши ехать?
Бошко-Степаненко задумался. Действительно, кто даст командировку студенту, ничего еще не сделавшему в науке, а на стипендию, конечно, далеко не уедешь.
Но приятель мой обладал хорошим комбинационным мышлением, — во всяком случае, при игре в шахматы. А тут он не был в цейтноте и, спокойно подумав немного, предложил выход:
— Иди к профессору Мантейфелю. Он каждый год посылает наших ребят, знаешь, старшекурсников Спангенберга, Наумова, Вяжлинского, ловить всякую живность для зоопарка. Вот и ты возьмись поймать бобренка…
Петра Александровича Мантейфеля студенты нашего университета любили. Он был крупным специалистом по млекопитающим, охотоведом, путешественником и читал превосходные лекции о жизни зверей и зверушек. Одновременно с преподаванием он заведовал научной частью Московского зоопарка.
Предложение приятеля мне понравилось, и в тот же день я отправился к профессору. До того мне видеть его не доводилось — читал он на старших курсах.
Я разыскал его в одном из служебных помещений зоопарка и, как это, к сожалению, нередко бывает у молокососов, чтобы преодолеть смущение, повел себя довольно нахально.
Когда навстречу мне из-за стола поднялся высокий, чуть сутулый человек с большой каштановой бородой с проседью, я первый сунул ему руку, сжал его пальцы изо всей силы и сказал:
— Могу ловить, а если хотите — стрелять, для вас бобров, товарищ профессор.
На его лице мимолетно появилась гримаса боли, а в светлых глазах удивление. Однако, высвободив руку, он спокойно сел за стол и некоторое время молча смотрел на меня.
Мне стало стыдно, и я покраснел.
Наконец Мантейфель заговорил так, как будто и не заметил моей выходки. По существу, он прочитал мне небольшую лекцию об… охране природы! Он говорил о том, что в нашем веке везде происходит истребление многих пород зверей, особенно пушных, обладающих ценней, шкуркой. Соболя, куницы, выхухоля, нутрии, шиншиллы, норки, выдры. Даже белка под угрозой. Поэтому в Советском государстве наука ставит вопрос о создании заповедников для сохранения ценных пушных и иных зверей. И под Воронежем уже создан специальным декретом правительства заповедник на реке Усманке для охраны сохранившихся там бобров. Кроме того, есть реальные проекты создания звероводческих ферм для разведения, соболей, лис и норок. А в Московском зоопарке изучается жизнь этих и многих других полезных животных в неволе, чтобы потом полученные сведения можно было использовать в практике работы таких ферм.
Заключил свою речь профессор Мантейфель неожиданным согласием послать меня в Воронежский заповедник.
— Денег у нас мало, — сказал профессор. — Дадим рублей тридцать на дорогу, клетки и т. д. И письмо-разрешение на отлов двух-трех бобров с просьбой зачислить вас на лето на какую-нибудь должность в заповеднике. Ну, например, практиканта или младшего егеря. Не возражаете?
Я пролепетал слова благодарности. А потом черт меня дернул заявить, что поймать двух или сколько будет нужно бобров для меня не составит особого труда, потому что с детства я охотничал, лес знаю.
И снова профессор Мантейфель не рассердился, не погнал самонадеянного юнца прочь, а лишь усмехнулся.
— Цыплят по осени, знаете ли, товарищ студент, считают… А бобры хитрющие звери… Увидите. Они, как русалки, влекут и обманывают.
Он плыл по заводи в двух десятках метров от меня неслышно и быстро. Иногда я видел лунные отблески в маленьких его глазах.
Это был старый, крупный бобер. Я наблюдал его с тех пор, как начались лунные ночи, уже несколько раз. Про себя называл я его почему-то Егором и именно его хотел поймать. Егор выплывал обычно из протоки под березой, пересекал заводь, вылезал на берег то в одном месте, то в другом и, прошуршав в зарослях трав, удалялся. В осиновой роще на правом берегу Усманки затем некоторое время слышались шорохи, какой-то хряск. Потом Егор снова появлялся на берегу заводи. В зубах у него всегда была либо осиновая ветка, либо кусок ствола этого дерева, в метр примерно. Он сталкивал свою добычу в воду, плюхался сам и сплавлял в протоку. Я знал куда. От протоки в пойму речки уходил ручеек. Пробравшись через заросли по его руслу, я обнаружил плотину из веток и бревнышек, сцементированных илом. За плотиной образовалось небольшое водохранилище, на краю которого возвышалась «хатка», жилище Егора и, очевидно, его семьи. Вход-лаз в нее прощупывался под водой. Там поначалу я и решил поймать зверя с помощью сетки, поставленной у входа в его жилище. Но потом меня увлекло наблюдение ночной жизни Егора, его еженощных рейсов за любимой бобрами пищей — осиновой корой. Я изучил его маршрут, тропки, от берега заводи ведущие к осиновой роще, и его «лесоразработки». Да, настоящие лесоразработки!
В осиннике Егор и, очевидно, другие бобры, становясь на задние лапки и опираясь на плоский чешуйчатый хвост, сильными резцами обгрызали ствол дерева по окружности. В конце концов дерево падало, и тогда звери-лесорубы отгрызали ветки или чурбаки и тащили их к воде, а затем переплавляли к своему жилищу, запасая корм на зиму, или к плотине, если ее надо было ремонтировать.
В осиновой роще не менее половины деревьев было «спилено» бобрами. Причем даже деревья толщиной у комля более полуметра!
Вот здесь, на «лесоразработках», мне и пришло в голову поймать Егора, именно его самого. В «хатке» ведь в сетку могли попасться и бобриха, и бобрятки. Да и сам он мог не оказаться дома во время операции. Неподалеку было еще одно бобровое жилище, поменьше, «дача», что ли.
В тот вечер, убедившись еще раз, что Егор пробирается к осиновой роще от берега по правой тропинке-лазу, я и разработал план действий.
Неподалеку от выхода этой тропинки в рощу, куда я ходил днем, стояла здоровая осина, которую бобер решил свалить и начал обгрызать. В одну ночь закончить свое дело он, конечно, не успел. И я решил вокруг этой осины на прутиках растянуть петли: подойдет он к дереву и попадется. Останется — поскорее (иначе он перегрызет силок) схватить его руками в рукавицах — и в мешок. Конечно, для этого надо просидеть недвижно поблизости полночи и вдоволь накормить комаров. Ну да их атаки вытерпеть можно.
На следующий день я поставил петли, а как только стало смеркаться, окружным путем пешком, через болотины и чащобы, добрался до осиновой рощи и затаился с подветренной стороны в нескольких шагах от Егоровой тропинки и основательно подгрызенного им довольно толстого дерева.
Перед вечером прошумела короткая майская гроза. Воздух в лесу был густой, влажный, одуряющий ароматами смол, цветов и листьев. Я закрыл лицо марлевой косынкой, надел рукавицы, уселся поудобнее, привалившись к пеньку, и стал ждать. Стемнело. И я задремал… Разбудил меня характерный треск и шорох отгрызаемых падающих щепок, пыхтенье. В пестрых бликах лунного света на задних лапках, оперевшись на хвост, спиной ко мне стоял у осины Егор и самозабвенно «работал». Маленькими передними лапками он полуобнял толстый ствол. Голова его ритмично рывками двигалась вверх-вниз, вверх-вниз, в такт ударам врезавшихся в древесину могучих резцов.
«Кажется, он пока не запутался в мои петли, — подумал я. — Вот будет поворачиваться…»
Ветер прошумел в вершинах. И вдруг послышался резкий треск. Егор метнулся в сторону, и я с ужасом увидел, что осина наклоняется и падает прямо на меня! Я тоже метнулся в сторону. И все же дерево накрыло меня, придавило к мокрой, мягкой земле. К счастью, пеньки бобровой лесосеки приняли основную тяжесть осины на себя. Но ушибло меня сильно, а шею распорол какой-то сучок.
С трудом добрался я до усадьбы заповедника, хотя до нее было всего километра два. Собственно, это была не усадьба, а несколько зданий маленького бывшего монастыря, окруженных облупленной кирпичной стеной. С одной стороны к ней подступал старый бор. Его называли «корабельным». Столетние ровные сосны вздымали свои вершины метров на сорок. Из таких когда-то по приказу царя Петра здесь строился флот для похода на Азов. А справа стены монастыря смотрелись в зеркало широкого плеса Усманки. Я вошел во всегда открытые ворота и стал подниматься на второй этаж в свою комнату-келью. Ведь нужно мне было прежде всего наложить на рану повязку, остановить довольно сильно текущую кровь.
Видимо, я поднимался по старой, скрипевшей лестнице довольно шумно. И когда добрался до верхней площадки ее, там меня встретил с лампой в руке директор заповедника Зимин. Это был большой, полный человек с коротко остриженной седой головой. На его немолодом, обрюзгшем лице прежде всего бросались в глаза широкие черные брови вразлет. Зимин еще до революции учительствовал, потом воевал в гражданскую, после нее занимал разные небольшие административные должности, под старость недавно был назначен директором бобрового заповедника. Кроме него в штате заповедника было всего четверо служащих. Старший егерь Сидоров, лесник еще при монахах, и просто егерь, жившие на «главной усадьбе», в домиках за оградой, и два егеря-лесника на кордонах в глубине Графских лесов.
Увидев меня, окровавленного, шатающегося, Зимин засуетился, закричал:
— Кулаки? Кулаки тебя стукнули?
Потом помог пройти в комнату и, осмотрев рану, туго замотал мне шею полотенцем.
— Немного полевее — и амба… Сонную артерию повредили бы. А это заживет. Лежи тихо. Потом расскажешь, как это было.
И, схватив берданку, выпалил в окно, в небо и закричал:
— Сидоро-о-ов! Сидоров! Живо запрягай! Студента в больницу надо. Живо!
Лотом он ушел в свою комнату и вернулся с бутылкой водки. Налил мне полстакана и заставил выпить. Мне стало легче. Голова кружилась, но туман, стоявший в глазах, рассеялся и боль приутихла.
— Это не кулаки. Это меня осиной накрыло. Егор, старый бобер, ее подгрыз и…
В это время в комнату ввалился старший егерь:
— Чо? Чо деется?
Увидев меня в крови, он мелко закрестился.
— Без паники, Сидоров, — сказал Зимин, с трудом удерживая смех. — Вот нашего студента бобер… ха-ха-ха!.. бобер с катушек сбил.
Я рассказал Сидорову, что со мной произошло на осиновой лесосеке.
Старший егерь реагировал на невероятную историю совсем по-другому. Он поджал губы, помотал головой и, отвернувшись в угол, где должны были висеть иконы, снова мелко-мелко несколько раз перекрестился. Тогда я подумал, что он благодарит бога за то, что человек остался жив. Могло бы, конечно, придавить его насмерть.
Потом оказалось — совсем не то думал Сидоров, осеняя себя крестным знамением.
От усадьбы заповедника до станции и небольшого поселка Графская, где была маленькая железнодорожная больничка, всего километров пять. Но дорога лесная, малоезженая, и ехали мы на телеге с Сидоровым более часа.
Раскинувшись на сене, я, несмотря на тряску, чувствовал себя все лучше и лучше. И снова стал рассказывать мрачно сидевшему, свесив ноги, старшему егерю о том, как я выслеживал Егора, как решил его поймать в силки около еще не сваленной им осины.
Сидоров изредка прерывал меня короткими вопросами:
— Около березы на протоке он выплывал?
— В луну?
— К тебе, говоришь, спиной у лесины стоял?
А когда я закончил свою историю, он вдруг повернулся ко мне лицом, и я увидел в его глазах беспокойство.
— Ну, парень, счастлив ты, — хрипло оказал он. — Бог тебе помог, хоть ты и не веруешь… То ведь он был…
— Да я знаю, что он, — Егором я его прозвал.
Сидоров досадливо махнул рукой.
— Какой там Егор… Егор! Оборотень то был… Монах утопший, как считают, а на самом деле он… в бобра перевернутый русалкой.
Я рассмеялся. Сидоров снова махнул рукой. Помолчал немного. Вздохнул, отвернулся. И под стук колес и поскрипывание старой телеги в пронизанном голубыми лунными лучами лесу я услышал от него такую историю:
— Может, двести, может, больше годов назад то было. На верховье нашей речки жила в поселке красавица-раскрасавица. Дочка чи князя какого, чи графа. Из татар. Звали ее Усма. Отец замыслил отдать дочку за сына своего дружка какого-то. Она ж глядела в другую сторону. Кто-то иной ей полюбился. Однако отец отдал. Свадьбу сыграли. В ту же ночь, так и непочатая, пропала Усма. Видели ее старые бессонные люди — бежала она телешом из мужьего дома к речке. С тех пор и речка прозвана Усманкой. И когда луна восполнится, бают, стали видеть, кто когда, ее, ту красавицу, на Усманке. Выйдет она из леса-чащобы и купается, плещется, плавает. Кто один раз увидит, покой потеряет, бегает на речку кажну лунну ночь, высохнет и помрет или бежит отсюдова в другие края.
Вот и монах тот, здешнего монастыря, парень молодой, видный, увидел ее. Однако решил он эту нечисту силу отсюдова изгнать. Стал ходить на лодке к той березе на протоке. Святу воду с собой брал в бутылочке, чтобы, значит, обрызгать русалку с молитвою и спасти душу неприкаянну. Ходил-ходил и в одно утро не вернулся. Стали его искать. Нашли на берегу там, на том плесе, рясу его, хрест, а тело — нет. Все кругом шестами и граблями прощупали. Пропал он насовсем и без следа, монах этот. А на плесе проявился огромный бобер. Стало быть, обратила она того монашка-человека в зверя, себе в пару. Для людей он бобер, для нее парень. И с той поры она никому в обличье девки себя не показывает. Вот как бывает. А ты ловить его задумал, дурья голова… Хорошо еще, живой остался…
Сидоров стегнул прутиком перешедшую на шаг кобылку. Дорога стала лучше. Станция была недалеко.
— Таких историй много рассказывают, — сказал я. — В литературе они тоже есть. Лорелеи, например…
Сидоров снова стегнул кобылку, сплюнул.
— Тьфу на тебя… Кака така Лелея? Не слыхал. А Усманка есть. И бобер заместо монашка тоже.
— Ну, что тело его не нашли, не доказательство… Раков в речке много. А может, и волки…
Сидоров совсем рассердился.
— Молод еще ты спор такой заводить, — проворчал он. — Хоть и образованный, студент! Раки! Да разве они в одну ночь человечье тело сожрать могут? Волки! Ты не знаешь, что ли, они около своих гнезд не добычат? А там, в крепях по берегу, всегда у них логова были. Точно — он тебя самого чуть не изничтожил. Может, надоел ты ему, подглядыватель, может, приревновал он. А почему нет? Может, он ей надоел и она тебя на прицел взяла, не дай осподи…
Я рассмеялся.
— Тоже, нашла героя!
Но все ж, честно говоря, мне было приятно высказанное Сидоровым фантастическое предположение!
В заповедник я вернулся дней через десять. Ранку на шее залечили, но шрам от нее остался у меня на всю жизнь. Лунные ночи к тому времени отошли, и продолжать наблюдение за Егором я не стал. Решил — буду вскрывать большую хатку, где он, очевидно, проводил дневные часы, а вход в нее загорожу сеткой. Посчастливится — поймаю хозяина, нет — на худой конец привезу Мантейфелю бобриху. И назову ее Русалкой.
Зимин сначала не разрешал мне порушить обиталище бобровой семьи. Я обещал ему статью в каком-нибудь журнале о его заповеднике, и он согласился.
— Очень нужна такая статья. Поможет штаты получить. Деньги на ремонт. Только людей в помощь не дам. Все заняты.
Пришлось снова отправиться на отлов одному. Осмотрев большую хатку Егора за плотиной, я убедился, что у подводного лаза в нее есть свежие следы зверей. Плавали зеленые листья осины, на донном иле не размылись еще отпечатки лапок и борозды от хвоста. Я укрепил между двумя кольями сетку и стал вскрывать крышу хатки. Это оказалось нелегким делом. Бобровый домик был сложен из метровых чурбаков в руку толщиной, кусочков ветвей и стеблей куги, плотно сцементированных подсохшим, утрамбованным илом. Все же, обливаясь потом, за полчаса напряженного труда я пробил вверху хатки «окно», просунул туда палку и стал шуровать ею, рассчитывая напугать и выгнать ее обитателя или обитателей в сетку.
— Вот теперь ты попадешься, дружок! А ну, давай, давай, вылезай по-хорошему.
И Егор вылез из своего дома. Увы… в другую дверь. За спиной я услышал глухой всплеск и пыхтение, а когда обернулся, увидел от загороженного сеткой лаза поднявшуюся со дна заводи муть и лоснящуюся спину огромного бобра, который быстро уплывал вдаль, в сторону непролазного, заросшего кустарником и камышами болота.
Увы, в хатке Егора оказалось два подводных входа. Снова он «объегорил» меня, этот чертов оборотень!
Профессор Петр Александрович Мантейфель встретил меня с довольно ехидной (а может быть, мне это показалось?) улыбкой. И, здороваясь, сжал мою руку так, что у меня перехватило дыхание. Он был очень сильный человек и не простил мне моего ребячьего поступка тогда, при первом знакомстве, когда я вздумал продемонстрировать свою «мощь».
— Значит, не поймали? Все же расскажите, как пытались поймать, и вообще о своих наблюдениях. Да садитесь же, садитесь.
Я поведал профессору о своих неудачах, о Егоре и легенде про русалку, о других семьях бобров, жилища которых и места кормления разыскал на Усманке, пройдя ее почти до верховьев, до тех мест, где она входит в Графские леса.
Профессор слушал внимательно, изредка оглаживая свою большую, чуть седеющую бороду.
— Ну что ж, — сказал он, когда я закончил рассказ, — неудачи бывают у всех звероловов. А этих умнющих зверей ловить действительно трудно. По правде сказать, я и не надеялся, что вам удастся привезти нам бобров. Так что очень не расстраивайтесь. Тем более — у вас есть интересные наблюдения. Напишите о них. В журнал «Охотник», например. И легенда о речке Усманке, о вашем оборотне Егоре и русалке занятная. Что-то есть в этой русалочьей теме всегда волнующее душу. Все мы встречаем «русалок»! В науке это манящие проблемы, ради которых жизнь положить не жалко. Может быть, и вы встретились с такой там, на Усманке? Жизнь бобров таинственна. Может быть, вы станете продолжать изучение обитателей заповедника? Приходите будущей весной, поговорим об этом…
Я написал в журналы несколько заметок о чудесных зверях — бобрах. И даже подготовил и опубликовал в специальном краеведческом сборнике в Воронеже первую в своей жизни научную статью о них. Но на этом моя «карьера» зоолога закончилась.
Вскоре после возвращения из заповедника в Москву я как-то шел по нынешнему Ленинградскому проспекту вдоль забора, за которым был аэродром. Ходынка. На аэродроме урчали моторы. Время от времени взлетали самолеты. У ворот, там, где теперь высятся зеленоватые здания Московского аэровокзала, на заборе висела написанная от руки афиша: «Добролет» приглашал желающих за два рубля совершить «незабываемый полет над столицей».
В кармане у меня было несколько рублей, и я вошел в ворота, купил в будочке синий билетик…
На поле, покрытом порыжевшей осенней травой, стоял одномоторный, горбатый, из гофрированного, мутно поблескивающего металла самолет. На фюзеляже его черной краской было выведено: «Добролет». «Ю-13»[2].
Важничающий молодой парень в летном шлеме провел к машине меня и еще пятерых «желающих», помог взобраться по стремянке в кабину, захлопнул снаружи дверь и что-то прокричал пилоту.
Пилот скомандовал другому парню, возившемуся у мотора: «От винта». Мотор заработал. Самолет наполнился гулом и затрясся.
В окне сдвинулись в сторону аэродромные постройки. Рыжая земля пошла полосами. Потом кресло подо мной стало как бы приподниматься. Сердце ухнуло. И вот уже крыши и крыши домов внизу, река Москва, далекие дали простора земли в не виданной никогда сиреневой дымке, просторы неба. Всего-то минут пятнадцать продолжался этот мой первый и действительно незабываемый полет.
А когда с гудящей головой, ошалевши от неизведанных ощущений, я выбрался из кабины на покачивающуюся землю в осенней траве, я почувствовал не испытанный никогда до того восторг летавшего. Вот она, сизокрылая, горько пахнущая бензиновой гарью и маслом, горбатая, ребристая, встала передо мной… «русалка» двадцатого века по имени Авиация… И пленила.
Каждый бывает однажды молодым!
Я ЛЮБИЛ ЕГО
К вечеру мы вышли к речке Хушме, где у широкого плеса был резервный лагерь нашей экспедиции.
Мы — это Леонид Алексеевич Кулик, начальник экспедиции, двое рабочих, Константин Сизых и Алексей Кулаков, и я, помощник начальника.
— Здесь ночуем. Завтра с рассветом дальше, — сказал Леонид Алексеевич, снимая понягу — сибирский заплечный мешок на доске с лямками.
Я тоже скинул понягу и без сил опустился на обрубок у двери небольшой хижины на берегу, построенной нами весной. У ног моих, тяжело дыша, привалился пес Загря.
В нескольких шагах от хижины тогда же мы на двух столбах соорудили «лабаз» — маленькую «избушку на курьих ножках» — метрах в трех от земли. Там хранились резервные запасы муки, масло и некоторое снаряжение, недоступное для медведей и росомах.
Кругом, насколько хватал взгляд, склоны невысоких сопок покрывал мертвый лес. Бесконечные ряды таежных гигантов лежали вершинами в одну сторону. Молодые березки и осины тянулись меж ними к солнцу. Тайга залечивала свою рану. Двадцать лет назад здесь, как считал Кулик, прогремел взрыв гигантского метеорита. Лес был опален и свален. Та же мрачная картина была вокруг нашего базового лагеря километрах в пятнадцати отсюда, за грядой невысоких холмов, в болотистой долине меж более высоких сопок. Там у нас стояли построенная весной избушка, склад, сарай для лошадей. Там, у Большого болота, мы провели лето.
В отблесках зари по водной глади Хушмы расходились круги — играли хариусы.
«Надо бы попробовать поймать рыбы», — подумалось мне, но эта мысль сразу же ушла, растворилась в странной апатии. Я закрыл глаза и точно поплыл в туманных волнах безбрежного и неясного пространства. К концу лета комары сошли и не мешали сидеть неподвижно. Уже несколько дней я часто испытывал такое же странное состояние. Мне ничего не хотелось. Меня ничто не интересовало. Только лежать или сидеть вот так, неподвижно, смежив веки… Я знал, что болен цингой. Знал, что самое страшное в этом недуге именно апатия, подавленность. Не сам недуг, а именно эта его особенность приводила к гибели многих путешественников, золотоискателей и бродяг в пустынных северных краях. Они могли бы добыть зверя, птицу или рыбу, разыскать съедобные корни. Но не делали даже попыток покинуть свой лагерь и медленно умирали. От голода. Я знал, что бороться с недугом надо своей волей. И мне удавалось это иногда самому, а чаще с помощью другой, более сильной воли — Леонида Алексеевича.
Цинга схватила не только меня. Плохо в последнее время стал чувствовать себя двадцатилетний богатырь Кулаков. И жилистый, опытный таежный охотник-ангарец Сизых тоже жаловался на головную боль и часто, как я мы, плевался кровью. Зубы у нас всех шатались. Вероятно, цинга подкатывалась и к Леониду Алексеевичу. Однако он и виду не показывал. С рассветом поднимал нас на работу, взваливал на плечи теодолит с треногой и шел как ни в чем не бывало по колышущимся кочкам Большого болота или крутым склонам окружающих его гор, перешагивая длинными ногами через трупы деревьев. Мы вели геодезическую съемку местности.
Я очнулся от забытья, почувствовав удар по плечу. Надо мной стоял Леонид Алексеевич. Высокий, в длинной фланелевой рубахе, отороченной по-эвенкийски разноцветными ленточками, в охотничьих сапогах, с шарфом на голове, завязанным на затылке узлом. Он наклонился и еще раз тронул мое плечо. На его очках блеснули сполохи огня.
— Вставайте, Витторио! Будем ужинать. Потом поговорим. Есть у меня одна идея…
Сумерки уже спустились на землю, и поэтому костер, разведенный Сизых на берегу, показался мне особенно ярким. Сизых подбрасывал в него лиственничные поленья, они сразу вспыхивали жарко и разбрасывали стреляющие искры.
Ужин, увы, был стандартным, как, впрочем, и обед, почти за все время экспедиции — «заваруха», то есть круто замешенная кипятком в ведерке пшеничная мука с соленым маслом, и чай с черными сухарями.
Эта однообразная пища и довела экспедицию до авитаминоза. Там, в нашем основном лагере в болотистой долине меж гор, где, как считал Кулик, был центр падения Тунгусского метеорита, мы работали почти три месяца. В «стране мертвого леса» на многие километры кругом дичи, на что мы рассчитывали, совершенно не было. Лишь однажды мне удалось подстрелить трех глухарят. А за рыбой нужно было идти от базы на Хушму буреломом и болотом почти целый день, и Леонид Алексеевич разрешил такую вылазку лишь один раз. Ягоды же в этом году здесь не уродились.
Мы жевали молодую хвою. Грызли сладковатые, маслянистые луковицы лилий-саранок. Но это не помогало восполнять недостаток нужных организму веществ.
Именно потому начальник экспедиции и принял решение свернуть ее и выйти напрямик пешком (Хушма обмелела, и плыть по ней, как мы это сделали весной, было невозможно) к фактории Ванавара на Подкаменной Тунгуске. А потом, после отдыха, добраться до Кежмы на Ангаре и по ней сплавиться к Енисею, до пароходной пристани на Стрелке.
Есть мне совершенно не хотелось. Я с трудом заставил себя проглотить несколько ложек «заварухи».
— Однако, паря, ты так, не емши, не доступаешь до Виноварки, — сказал мне Сизых.
Леонид Алексеевич вдруг вскочил и быстро пошел к лабазу, приставил лестницу, влез в него и зажег свечу. Скоро он вернулся, похохатывая своим характерным горловым, хрипловатым смешком.
— Забыл, понимаете, товарищи… Там у меня в запасе на черный день лук, какао, баночка варенья. Сейчас пир устроим!
Луковиц было всего две. По половинке на человека. Но и это как-то сразу улучшило самочувствие. Да еще какао с вареньем!
— А теперь полезем, Витторио, в лабаз. Поговорим. Остальным спать!
Кулик встал, потянулся так, что хрустнули суставы, и пошел от костра.
Мы сели, согнувшись, в «избушке на курьих ножках». Леонид Алексеевич, скрестив ноги, устроился около большого, окованного железом по углам сундука, где хранились инструменты и личные его вещи. Крышка сундука плоская. На ней свеча. Я присел на кадочку с маслом, недоумевая, о чем будет беседовать со мной Кулик ночью, когда нужно было бы отдыхать. Ведь завтра снова идти и идти по тайге. Без дорог. Напрямик.
А Кулик молча раскрыл журнал экспедиции, достал баночку чернил и стал писать.
Звенящая тишина была крутом. Лишь изредка позвякивали путы наших коней да поскрипывало перо.
После кружки какао да еще таблетки аспирина голова стала ясной, и спать мне совсем не хотелось. Я смотрел на могучие плечи склонившегося над сундуком человека. Резкие морщины у рта говорили о том, что и он очень, очень устал.
«Зачем же он позвал меня для разговора? — думалось мне. — Ежедневная запись в журнале экспедиции — это, конечно, закон. Ну, а побеседовать он мог бы, отдохнув, завтра, в пути или когда доберемся до Ванавары…»
Однако сомнения в правильности поступка Кулика не вызывали ни малейшей к нему неприязни. Я давно уже восхищался им. Все, все в нем — его жизнь, его настойчивость в достижении задуманного, его убежденность в своих научных догадках и выводах, его доброта и веселость в обращении, наконец, его могучее, выносливое тело, — все, все необычайно импонировало моему юношескому самосознанию. Он мне представлялся недосягаемым образцом настоящего человека-борца.
Всего полгода назад он сам пришел познакомиться со мной в Плотников переулок на Арбате. Пришел после того, как я написал ему в Ленинград, в Академию наук, открытку. Прочитав в «Вечерней Москве» заметку о его первом путешествии за Подкаменную Тунгуску в поисках места падения метеорита 1908 года, я попросил ученого взять меня в свою следующую экспедицию.
И вот… В дверях стоит высокий, очень высокий человек в очках с толстыми стеклами. На нем куртка мехом наружу, меховая шапка, сапоги. Похохатывая, он хлопает меня по спине, по плечу… нет, не панибратски, а явно желая проверить мою «прочность». И весело объявляет появившимся в коридоре родственникам, что хочет забрать в дальние сибирские края сего молодого человека. Потом он мне говорил, что решил взять меня с собой в экспедицию лишь после того, как увидел, что я «не хлюпик какой-нибудь или маменькин сынок».
Но тогда еще никаких реальных возможностей для новой экспедиции не было! Он честно сказал об этом за чаем.
— Академики мне не верят… Только Владимир Иванович Вернадский обещал подумать, как помочь нашему (он так и сказал «нашему») делу. Предстоит борьба. Я нависал в Совнарком. Мы убедим его отпустить средства на экспедицию…
Всю зиму Леонид Алексеевич потратил на борьбу за экспедицию. В конце концов Академия наук разрешила организовать ее. Правда, после того, как Совнарком СССР с помощью управляющего делами товарища Воронова выделил Академии дополнительно немного денег.
Кулик «воевал» в Ленинграде. Мне же он поручил «представительствовать» в Москве, зачислив, как только состоялось решение Академии, в состав экспедиции своим помощником. Я должен был покупать снаряжение, некоторые продукты, организовать их упаковку и т. д. Удалось мне «провернуть» и еще одно дело — договориться с директором киностудии Трайниным о посылке вместе с нами за счет студии кинооператора Николая Струкова.
14 апреля 1928 года мы с Леонидом Алексеевичем погрузили багаж в вагон экспресса Москва — Маньчжурия. Путешествие началось[3].
…Загибается черный фитилек свечи. Она потрескивает, оплывает с одного бока. Леонид Алексеевич отрывается от журнала, обрывает пальцем фитилек и, блеснув в мою сторону очками, снова наклоняется над сундуком и продолжает писать. А в моей памяти снова бегут мысли об этом человеке.
В долгие дни, проведенные в вагоне экспресса, он рассказывал мне о своей жизни.
— …Вы начинаете жить в счастливое время, Витторио. Удивительное время полной перестройки человеческого общества. Наука будет играть в нем огромную, главную роль. В том числе и метеоритика. Поймите — только метеориты безусловно доказывают единство материальной сущности мира, вселенной. Они попадают к нам на Землю из бездны космического пространства и, оказывается, состоят из тех же веществ, что и горные породы нашей планеты. Откуда они прилетают, эти скитальцы космического пространства? Что они собой представляют? Осколки погибших планет солнечной системы? Или достигли Земли через биллионы лет полета в межзвездном пространстве? Как важно найти ответы на все эти вопросы! Важно для астрономии, космогонии, материалистической философии. А в будущем — для тех, кто полетит на Луну, на Марс. Вы слышали о Циолковском? Да?.. Даже читали его повесть «Вне Земли»? Циолковский, конечно, мечтатель. Но, по-моему, он человек реальной мечты. И я преклоняюсь перед его мечтой. Я уверен, что человек будет летать вне Земли. И тогда ему будет особенно необходимо все знать о метеоритах. Ведь они будут для него одной из главных опасностей. Крошечный кусочек вещества, обладающий скоростью двадцать — тридцать километров в секунду, то есть космической скоростью, как иголка, пронижет не только оболочку межпланетного корабля, но и любую броню!
О метеоритах Леонид Алексеевич может говорить бесконечно. Они владеют его душой, умом. Но, рассказывая о своей научной работе, посвященной поискам и изучению «небесных камней», созданию отдела метеоритов в Минералогическом музее Академии наук, он приоткрывал передо мной и другие стороны своей жизни.
— Знаете, Витторио, я ведь не со школьной скамьи стал заниматься наукой. Учительствовал. Участвовал в работе РСДРП. Мне приходилось выполнять разные поручения. Особенно трудно было одно. Дали задание помочь бежать из тюрьмы на Южном Урале одному товарищу. Причем срочно. Приехал в тот город. Мне говорят: «Товарища надо выкрасть!» — «Как это — выкрасть?» — «А вот как…»
Раз в неделю в тюрьме заключенным давали свидание. Выводили их к воротам, которые перегораживались барьером высотой по грудь. В назначенное время со двора тюрьмы охранник приводил заключенного, и можно было с ним разговаривать через барьер, под охраной двух солдат, стоявших с ружьями у ворот со стороны улицы.
«Ты пойдешь на свидание, — сказали мне. — Вот револьвер. Обезвредишь охрану. Один из нас будет тебя страховать. Затем поможешь выбраться за барьер нашему товарищу — и быстро направо, к углу. Там будет ждать извозчик».
Предприятие было явно фантастическим. И все же оно удалось! Я подошел к воротам. Один из солдат крикнул кому-то: «Веди!» — и с полным безразличием оперся на винтовку. Другой, позевывая, подошел к нему: «Дай закурить». Нравы здесь были провинциальные!
Наконец к воротам в сопровождении охранника приблизился заключенный — фотографию его мне показали. Я схватил солдат за шиворот и стукнул головой об голову. Потом выдернул, как морковку, товарища из-за барьера и побежал, волоча его, к парному извозчику, выехавшему из-за угла. Мы уже настегивали лошадей, когда ошарашенный охранник выхватил из кобуры револьвер и выпалил нам вслед. А солдаты так и не успели очухаться.
В общем, все удалось отлично! Мы свернули в тихую улочку, бросили экипаж и разошлись в разные стороны. И я даже не знаю имени того, кого «выдергивал»[4].
…Еще один рассказ Леонида Алексеевича я запомнил — рассказ о поездке на Алтай сразу же после окончания гражданской войны.
— Владимир Иванович Вернадский, дай бог ему здоровья, взял меня на работу в Минералогический музей и сказал: «Вы интересуетесь метеоритами. Собирайте их, где только возможно, систематизируйте, описывайте. Изучайте их химический состав и физическую структуру».
Вскоре я прослышал, что на Алтае, в восточной его части, наблюдалось выпадение «каменного дождя» и что кто-то собрал там несколько метеоритных осколков. Поехал. В теплушке. Поколесил по деревням, все больше пешком, и нашел в одном селе учителя, который подобрал в поле несколько «метеоритиков». Я тоже нашел еще несколько. А тут выпал снег, завернули морозы. Пришлось возвращаться. Местная власть дала мне подводу до станции железной дороги. Ехать нужно было дня четыре. В хорошей одежде это чепуха. А на мне лишь легкое демисезонное пальтецо. В общем, заболел я на второй день воспалением легких. Температура под сорок. Сознание мутится. Возница говорит мне: «Давай, гражданин хороший, я тебя на том вон хуторе оставлю. Помрешь на моих санях — мне неприятности будут». Я — нет: «Вези. Соломки только на хуторе попроси». Он в ответ: «Кержаки не дадут». А у меня денег нет. Впрочем, в то время деньги теряли цену. Миллион стоила коробка спичек. А для обмена я тоже ничего не имел в запасе. Все же на хуторе соломы нам дали. Поехали дальше. Я зарылся в нее, дрожу. Снова сознание теряю. А когда оно проясняется, твержу сам себе одно: надо выдюжить, надо доехать.
И вот видите, Витторио, выдюжил!..
* * *
Леонид Алексеевич, аккуратно вытерев перо, прячет ручку в матерчатый футлярчик, закрывает журнал, потягивается, стукается головой о крышу «лабаза» и, чертыхнувшись, наконец обращается ко мне:
— Я решил остаться здесь. — Он снимает очки, и его небольшие темно-серые глаза неожиданно прямо смотрят на меня.
— То есть… как это?.. — лепечут мои губы.
— А вот так, — звучит его голос, сухо, жестко.
Я никак не могу понять и принять такое. Ведь мы все невероятно устали. Больны. Вести раскопки круглых ям на болоте, которые Кулик считает кратерами, порожденными осколками метеорита, мы до заморозков не сможем. В этих ямах очень высоко стоят грунтовые воды. Мы пробовали откачивать их самодельным насосом — ничего не вышло.
— Я останусь здесь один, — говорит Леонид Алексеевич. — Вы же раскисли, Витторио. Наши рабочие тоже теперь не работники. Вы вернетесь. И…
— Нет! — прерываю я его. Обида охватывает меня. — Нет, тогда и я останусь…
— Вы вернетесь в Ленинград, — не обращая на мои слова внимания, продолжает Кулик, — расскажете академику Вернадскому, что мы сделали. Я дам официальное письмо в Академию с просьбой… нет, требованием ассигновать дополнительные средства. Вы их получите и переведете в Кежму. В местный исполком. Я им тоже напишу, чтобы они прислали сюда людей, продовольствие. Я…
— Леонид Алексеевич, я не уйду, — твердо сказал я. — Или вернусь.
Жесткое выражение на лице Кулика исчезло. Он улыбнулся, хохотнул. Протянул руку, схватил меня за плечо, как клещами, притянул к себе. Крепко обнял.
— Этого я не мог предложить вам, Витторио, — тихо сказал он. — Это могли предложить только вы сами. Итак, решаем… Отправляйтесь и возвращайтесь. От Кежмы лучше плавьтесь на лодке до Стрелки на Енисее. Оттуда — пароходом до Красноярска, далее на «чугунке». В Ленинграде расскажите все Вернадскому.
Он отпустил меня, и я увидел, что на его лице снова появилось жесткое выражение.
— Но вы добивайтесь ассигнований, чтобы можно было нанять в Кежме несколько человек для раскопок после первых морозов и купить минимум четырех лошадей. И продуктов на полгода. В случае чего идите в Совнарком, к Воронову. Буду ждать. Сейчас начало августа. Два месяца должно вам хватить. Буду ждать до… начала октября. А теперь идите ложитесь спать.
Несмотря на усталость и недуг, спать мне совершенно не хотелось.
— Постараюсь выполнить поручение, Леонид Алексеевич, — сказал я. — И обязательно, обязательно вернусь.
* * *
Долго мы еще сидели в «лабазе». Кулик писал письма академику Вернадскому, непременному секретарю Академии наук Ольденбургу, исполкому в Кежме, родным, удостоверение для меня.
А я прикидывал в блокноте примерные расходы по путешествию и его график. Потом снова и снова, глядя на человека, который решился добровольно стать робинзоном «страны мертвого леса», думал о его мужестве, великой одержимости, самоотверженной преданности науке. Нас, его сотрудников, людей крепких и выносливых, все ж сломили трудности экспедиции. Этот неудержимый «марш-бросок» в полтыщи верст на подводах от Тайшета до Кежмы в апреле, когда надо было «обогнать весну», и далее от Ангары до Ванавары на Подкаменной Тунгуске полтораста верст пешком в распутицу по тайге… Потом двухнедельный поход на лодках против бурных полых вод извилистых речек Чамбы и Хушмы. Более двух месяцев работы почти от зари до зари, в жару и ненастье, на сопках, покрытых погибшим, поваленным лесом, и колышущихся болотах, под неумолчный комариный стон…
А ведь он всего только год назад совершил такое же трудное путешествие. Тогда он добрался до Ванавары, как и мы в этот раз, а затем пытался пройти на север от этой фактории, напрямик к району, где, по словам эвенков, на землю спустился бог грома и огня Огды и свалил и спалил лес. Не прошел! И тогда по таежным тропам перебросил продовольствие на речку Чамба в ее верхнем течении и с двумя рабочими-охотниками построил плот и на нем сплавился по этой речке до впадения в нее Хушмы. А затем все же добрался до места, где в тайге произошла огненная катастрофа, до «страны мертвого леса», обошел ее и определил, что в окружении шатровых, конических гор лежит Большое болото и именно отсюда вихрь, порожденный взрывом метеорита, разметал во все стороны вековые леса. Тогда Кулик и решил, что здесь упали осколки «небесного скитальца», что здесь его надо искать. Но искать уже больше Кулик был не в силах, ни он, ни его спутники, да и продукты кончились. И он вернулся в Ленинград, чтобы снарядить новую экспедицию.
…Все же я задремал. Разбудил меня злобный лай Загри. Испуганно храпели лошади.
Я оглянулся на Леонида Алексеевича — он крепко спал. Тогда я высунулся из дверцы «лабаза». Мутный рассвет вставал над сопками. Из домика, где спали рабочие, вышел Алексей Кулаков с ружьем. Свистнул в два пальца. Ощетинившийся Загря подбежал к нему, повилял хвостом и снова с лаем бросился в сторону реки. Там, наверное, бродил мишка-рыболов.
Через час, попив чайку с той же «заварухой», мы двинулись дальше на Ванавару, напрямик через тайгу, по компасу.
Леонид Алексеевич вдруг решил провожать нас. Он был весел и бодр.
— Добегу с вами до фактории, Витторио, — сказал он. — Там попарюсь в баньке. Может быть, луком разживусь. И обратно.
Но мне показалось, что решение дойти с нами до Ванавары и потом вернуться, чтобы продолжать поиски осколков метеорита, родилось у него много раньше.
На второй день тяжкого пути по бурелому, каменистым холмам и болотам в распадках я да и Алексей Кулаков почувствовали, что встать после привала и дальше идти мы не можем. Сизых подошел ко мне, покачал головой.
— Однако, паря, тебе не добежать. Полежи тут с Алексисом аль один. Лексеич в оборот пойдет, тебя найдет, проводника-тунгуса сговорит с собой, он приведет…
Остаться одному? Или с Алексисом? Здесь, у ручья, огибающего одну за другой невысокие сопки-пирамиды, уходящие в зеленую даль, в полусотне километров от жилья? Эти вопросы меня не беспокоили. Мне было абсолютно все безразлично. Сознание туманилось, и хотелось только одного — недвижно лежать. Даже отмахиваться от поздних комаров и слепней сил не было. Да и не чувствовались их укусы.
Кулик шагах в двадцати завьючивал лошадь. Покончив с этим делом, он обернулся к нам и крикнул:
— Подъем! Тронулись!
Алексей Кулаков сделал попытку подняться. Встал, пошатываясь, и снова сел.
— Однако они притомились, — сказал Сизых. — Пусть лежат. А мы…
Он не успел договорить. Непостижимо огромными шагами подбежал Леонид Алексеевич, оттолкнул в сторону Сизых и, возникнув надо мной, огромный, как памятник, заорал:
— Встать! Встать! Куры щипаные! Брандахлысты! Встать немедля — и за мной!
И пошел не оглядываясь, широко шагая, в сторону обрамленного черными пихтами распадка. А мы вскочили как встрепанные. И пошли следом за ним, спотыкаясь сначала и пошатываясь, но с каждым шагом чувствуя себя крепче на ногах. Откуда силы взялись! Но горечь обиды ела глаза.
Примерно через полчаса, поднявшись на гребень очередной волнистой гряды, Кулик остановился, дождался нашего приближения. Он улыбался.
— Здесь я уже был. Прошлый год! — воскликнул он. — Вот мои затесы. — И добавил, обращаясь ко мне, таким тоном, как будто продолжал спокойный разговор: — Обернись, Витторио. С этой точки в последний раз можно увидеть вершины гор, что вокруг Большого болота. И полюбуйтесь на долину речки Макирты. Какая красота эти конические сопки-пирамиды вдоль нее! Кстати, они безымянны. Давайте дадим им названия… Предлагайте.
Нет, невозможно было обидеться серьезно и надолго на этого человека!
А по сути дела лишь много лет спустя, на фронте, я до конца понял великую психологическую силу приказа командира, который по воинскому уставу положено выполнять, а не обсуждать. Тогда же, оглядывая таежные зелено-сизые дали, — долина Макирты не была затронута метеоритным огневым ураганом, и лес здесь зеленел, — я лишь подумал о том, что Леонид Алексеевич решил «провожать» нас до человеческого жилья неспроста, что он, наверное, беспокоился о нас — дойдем ли мы одни, больные, благополучно.
А потом, как-то внезапно, у меня родилось название для невысоких гор вдоль долины:
— Можно назвать эту цепь холмов «Ожерелье Макирты».
Кулик преувеличенно восторженно вскинул руки.
— Прекрасно! Ожерелье Макирты! Звучит даже поэтично. Так и внесем его в синодик данных нами географических названий на белом пятне карты этого края. А теперь в путь!
Очень трудно было идти по бурелому от Хушмы, перешагивая или переваливаясь через лежащие деревья, цепляясь ежеминутно за сухие, мертвые сучья, перебираясь через болота и ручьи в каждом распадке.
В живой тайге, которая началась от долины Макирты, мы шли старыми оленьими тропами. Приходилось нередко прорубаться через переплет ветвей и стволов молодняка, сжимавших и без того узкие тропы.
Много раз, снова и снова, я слабел, и дурнота охватывала меня. Видно, тяжко было и Алексею Кулакову. Однако такого приступа апатии и бессилия, какой пережили мы с ним там, в долине Макирты, уже не повторялось. Наверное, пришло то, что называют «вторым дыханием».
Через двое суток на третьи мы вышли к устью Чамбы, к Подкаменной Тунгуске, и к вечеру добрались до фактории Ванавара…
Теперь тот путь — напрямик от «страны мертвого леса» до первого жилья — вошел в историю многих экспедиций, побывавших там, под названием «тропа Кулика».
Четыре небольших бревенчатых домика, магазин, склад-сарай и банька — вот и вся фактория Госторга Ванавара. Население ее, когда не подкочевывают эвенки, — семь человек. Только после начала крепких заморозков она имеет по вьючной дороге постоянную связь с Кежмой на Ангаре. Тогда оттуда идут караваны с товарами для магазина фактории и обратно с пушниной. Пушнину иногда сплавляют больше тысячи километров вниз по Подкаменной Тунгуске, к Енисею.
В Кежме есть почтовая контора, фельдшерский пункт, школа. Но не было тогда еще ни телеграфа, ни постоянного, регулярного сообщения по реке или посуху с Транссибирской железнодорожной магистралью или Енисеем с его пароходными линиями.
Тихая жизнь фактории нарушена нашим приходом. Заведующий и его сотрудники топят баньку, готовят уху, пекут шаньги, тащат к столу банки с вареньями и соленьями. Закон сибирского гостеприимства — сначала помыть и накормить гостя с дальней дороги, а потом уже посидеть с ним за чайком и всласть наговориться.
Трое суток мы отдыхаем. Но приходит время расставания. Кулаков, Сизых и я заводим коней в большую, лодку, чтобы переправить их на другой берег, грузим нехитрый багаж. Леонид Алексеевич, похохатывая по своему обыкновению, обнимает нас так, что кости трещат.
— В добрый час, Витторио! Поклон всем! Жду в нашей заимке на Большом болоте. В начале октября.
Настроение у него отличное. Ему не придется быть одному два месяца там, в «стране мертвого леса». На фактории оказался пришедший сюда в поисках заработка житель какого-то ангарского селенья Китьян Васильев. Он и согласился сопутствовать Кулику. Щуплый, белобрысый, вялый, этот парень мне не понравился. Но, как говорится, «на безрыбье…». И когда мы с Леонидом Алексеевичем, сговорив Китю, беседовали на прощанье вдвоем и я высказал свои опасения, не будет ли он слабоват, Кулик понимая, что новый рабочий вряд ли станет ему хорошим помощником, сказал:
— Главное — чтобы душа живая была рядом. Будет готовить «заваруху» и носить инструменты — и то ладно. На большее не рассчитывал.
Не рассчитывал? Услышав это, я понял, что Леонид Алексеевич, решив проводить нас до Ванавары, задумал убить двух зайцев: нам помочь в пути и найти себе на фактории Пятницу для робинзонады. Но так или иначе и у меня отлегло от сердца. Все же этот замечательный человек будет не один.
Отплываем к тому берегу, чтобы встать на тропу в Кежму.
Пес Загря волнуется в последнюю минуту не меньше нас. Он никак не может понять: почему его не пустили в лодку, почему один из тех, с кем он был в тайге много дней, остается на берегу? Загря носится у кромки воды, повизгивает, хочет плыть за лодкой. Леонид Алексеевич подзывает его и берет за ухо. И долго стоит так, до тех пор, пока мы не высаживаемся и, помахав шапками, не уходим в темный лес…
* * *
Снег. Снег. Снег. Горы по долине Хушмы — белые горбы. Серое, унылое небо. Щетинится черными стволами почти без сучьев небольшая роща сухих деревьев. Наконец домик нашей базы на реке.
Леонид Алексеевич дает команду расположиться здесь на ночь.
— А вас, Витторио, попрошу, как бывало, в «лабаз». Побеседуем.
В «избушке на курьих ножках» нам теперь тесновато в наших зимних одеждах. Но раздеться, конечно, нельзя. Мороз забирает уже крепко, по-зимнему. Градусов под двадцать.
Снова горит свеча на большом сундуке. Кулик облокотился на него устало. Он похудел. В отросшей бороде сильно пробивается седина.
— Рассказывайте, Витторио, обо всем по порядку и поподробнее. Как добрались до Ленинграда, как все дальше шло. С вашим прибытием в сутолоке этих дней ведь толком и поговорить не удалось.
И я начинаю рассказывать:
— …До Кежмы дошли без особых приключений. Лето было сухое, переправы через болота и речки не очень мучали. В Кежме плавиться до устья, до поселка Стрелка на Енисее, сговорил нашего Константина Сизых. Он купил шитик, взял с собой младшего сына. Мы благополучно прошли все двадцать порогов и шивер. Пожалуй, самым неприятным оказался первый — Аплинский. Чуть было шитик не зарылся носом в волны — «толкунцы» — после спуска с главного перепада порога.
На пристани Стрелка сел на пароход до Красноярска, там — на московский скорый. Очень косились на меня пассажиры. Выцветшая тунгусская рубаха, латаные-перелатаные брюки, порыжевшие сапоги и… бородища! В Ленинграде мать не признала, когда открыла дверь! Ваши домашние тоже не узнали. Из письма вы знаете — у них все благополучно.
В Академии наук пошел сразу к Вернадскому. Передал бумаги…
Тут Леонид Алексеевич прервал меня:
— Об этом поподробнее. В деталях. Как вошли. Как Владимир Иванович реагировал…
…В Ленинграде был обычный серенький, сентябрьский денек. Ветер дул вдоль Невы, с залива, и она рябилась крупной волной. Все было пропитано сыростью. В передней здания Минералогического музея я спросил у служителя, где мне найти академика Вернадского. Он показал пальцем вверх: «Там скажут…»
Я остановился перед массивной, высокой дверью из коридора, во всю длину которого стояли шкафы темного дерева с образцами горных пород и минералов на полках. Постучал и вошел в мрачноватый кабинет. Темные шкафы по стенам, высокие окна с тяжелыми драпри, стол с книгами и лампой под большим абажуром. Незнакомые портреты. Хорошо одетый старик с небольшой седой бородкой и усами, в очках сидел в кресле у окна и что-то разглядывал через квадратную лупу.
Он обернулся. Я представился и протянул конверт с письмами Кулика.
— Вернадский, — тихим голосом сказал академик, неторопливо положил на подоконник лупу и какой-то кристалл, взял конверт и предложил сесть напротив на стул.
Мне он показался очень утомленным и чем-то недовольным.
Несколько минут Вернадский читал письма, затем откинулся на спинку кресла и так же тихо сказал:
— Упорный человек. Но зачем уважаемый Леонид Алексеевич так все усложняет? Остаться одному там! А если мы не найдем денег, чтобы послать туда вас?
— Тогда я поеду сам!
Очки Вернадского блеснули, он поднял голову и впервые внимательно поглядел на меня.
— Да, поеду. Я обещал вернуться в начале октября.
— Вы говорите бессмыслицу, милостивый государь. Сущую бессмыслицу! Чем вы можете помочь в одиночку?
Да мне и самому было ясно, что нет у меня никаких возможностей собрать денег на железнодорожный билет до Тайшета и лошадей, чтобы добраться до Кежмы и Ванавары.
Вернадский меж тем пожевал губами и продолжал, как бы размышляя вслух:
— Леонид Алексеевич пишет, что он убежден: круглые ямы в торфяниках в долине и на Большом болоте — это кратеры, образованные осколками метеорита. Он хочет произвести магнитометрические замеры. Впрочем, последние могут ничего не дать, если метеорит был каменным, как многие. Следовательно, нужно производить раскопки, когда почва замерзнет. Это очень трудоемкая работа. Надо много рабочих, шанцевый инструмент. Вероятно, несмотря на мерзлоту, там есть обильные подпочвенные воды. Следовательно, нужны моторы и насосы…
— Владимир Иванович, — прервал я академика, — мы сделали насос сами. Трубу из березовой коры и…
— И ваш насос мог поднять воду аршина на два? И не помог осушить раскоп? Так ведь?
— Так.
— Ну вот, видите. Кустарными средствами здесь не обойдешься.
— Мы будем вымораживать грунт!
Вернадский вздохнул, точно хотел сказать? «Что с вами поделаешь!» Потом встал и протянул мне руку.
— До свидания. Я переговорю с непременным секретарем Академии Ольденбургом и академиком Ферсманом. Попробую убедить их выделить дополнительно денег. Но не много. На месяц работы примерно. Только на то, чтобы Леонид Алексеевич провел раскопки одного, максимум двух «кратеров» и смог вывезти собранные вами образцы горных пород, снаряжение. Прошу вас, милостивый государь, позвонить мне через три дня.
Ни через три дня, ни через неделю академик Вернадский не мог ответить мне определенно, будут ассигнованы дополнительные средства на экспедицию Кулика или не будут. Меня охватило отчаяние. Уже середина сентября. На дорогу в «страну мертвого леса» нужно самое малое три недели. Что же делать? Как быть?
Я снова поехал в Минералогический музей, но академика Вернадского не застал. Пошел в президиум Академии, решив попытаться увидеть непременного секретаря. Его тоже не застал.
В приемной, услышав мой разговор с секретаршей, ко мне подошел молодой человек и сказал, что он сотрудник «Вечерней Красной газеты». Я рассказал ему историю нашего путешествия в поисках Тунгусского метеорита. И на следующий день в ленинградской «Вечерке» появилась статейка, под хлестким заголовком «Один в тайге»…
С этого момента все «закрутилось».
Академик Вернадский сам вызвал меня, вежливо поругал «за обращение к прессе» и сообщил, что Академия дает мне командировку и немного денег. Только на то, чтобы добраться до Кулика и вывезти его самого, собранные материалы и снаряжение.
— Вопрос о дальнейшей работе Леонида Алексеевича по разведке падения метеорита 1908 года Академия наук решит потом, заслушав его отчет, — сказал в заключение Вернадский. — Передайте ему привет и пожелания благополучного возвращения.
…Леонид Алексеевич выслушал мой подробный рассказ не прерывая. Но сжатые, сухие губы говорили о том, что он напряжен, взволнован, возмущен.
— Так, — наконец сказал он. — Так. Значит, трудно пришлось вам, Витторио. Значит, опять пытались дать нам подножку! Если бы не Владимир Иванович!.. Ну, а почему ваше путешествие объявили «спасательной экспедицией»? Иннокентий Михайлович Суслов мне говорил, что его мобилизовали, что шум поднялся на весь свет. Даже корреспонденты сюда пожаловали…
— Я же вам говорю, все «закрутилось» после статьи в ленинградской «Вечерке». Во многих газетах написали о нашей экспедиции, о том, что вы остались в тайге. Когда я приехал в Новосибирск, там в крайисполкоме была создана даже особая комиссия для организации экспедиции сюда. Беспокоились о вашей судьбе.
Иннокентию Михайловичу Суслову — он много путешествовал по Якутии и в краю эвенков — поручили организовать все от имени исполкома. К нему прикомандировали сотрудника красноярского Госторга Вологжина, чтобы он помог через отделение Госторга в Кежме снарядить вьючный обоз. В Новосибирске же к Суслову присоединились корреспонденты Смирнов-Сибирский и Дима Попель. Все они должны были доехать поездом до Тайшета и затем нашим путем на лошадях добраться до Ангары и водой до Кежмы. А мне предложили лететь туда же гидросамолетом из Иркутска вдоль Ангары и в Кежме подготовить отправку всей группы дальше. Если бы Суслов с товарищами застрял в пути, мне предоставлялось право идти к вам, их не дожидаясь. Но в Иркутске «Доброфлот» мог дать гидросамолет только до Братска. Дальше у них не были разведаны плесы для посадок и не было баз с горючим. Все же я полетел. Опытный летчик Демченко провез меня дальше Братска, до села Дубинино. Уговорили его. Приказали ему долететь лишь до Братска. Отсюда пришлось плавиться на лодках. На участках, где не было порогов, плыли ночами. А пороги там, знаете, страшноватые. Особенно Дубининский, Ершовский. Да еще Сосун есть недалеко от устья Илима.
В Кежму я добрался на пятый день. Через два дня пришел на лодке от поселка Дворец Иннокентий Михайлович с товарищами. Ну, а потом вьючным обозом мы шли до Ванавары и сюда…
…Уж свеча наполовину сгорела, когда я закончил рассказ о «спасательной экспедиции».
Снова не прерывая слушал Леонид Алексеевич. Потом протянул руку и, как в ту памятную августовскую ночь, привлек меня к себе, обнял крепко.
— Спасибо, дорогой Витторио. Однако плохо, что шум этот поднялся… «Спасать» меня было не надо. Но нет худа без добра! Теперь, может быть, нам легче будет бороться за наше дело. Готовить на будущий год новую экспедицию. Здесь нужно глубже вести раскопки. Нужно бурение на Большом болоте. Вы знаете, я прихожу к убеждению, что основная масса нашего метеорита врезалась именно в Большое болото. Вы обратили внимание, что поверхность его покрыта, как волнами, складками? Дугообразными. Это, очевидно, следствие внедрения в него крупных осколков, возмутивших поверхность молодых торфяников зыбуна. И мы найдем эти осколки, дорогой Витторио! И это будет большой победой метеоритики, нашей новой науки.
Я слушал исполненные веры в правоту своих идей слова Леонида Алексеевича, и мне было… тяжко! С некоторых пор в моей душе сидела заноза. Собственно, не с некоторых пор, а точно с первого октября, немного более месяца назад. В тот день я влез в кабину старенького самолета «Юнкерс-13» на поплавках. Александр Степанович Демченко покрутил ручное магнето, какими в то время заводили мотор, и, дав прогреться двигателю, повел машину на взлет по широкому плесу Ангары. Внизу открылась панорама Иркутска, затем раскинулась до края неба необъятная тайга. Она была похожа на черно-зеленый ковер, украшенный затейливой вязью ярко-желтого рисунка. Лиственницы уже окрасились в цвет осени.
В девственной тайге нет открытых, безлесных пространств. «Поляны» там — это либо «гольцы», вершины высоких сопок, либо пожарища, или болота. Уже в районе Братска, когда сверкающая лента Ангары у горизонта вспенилась бурунами знаменитого Падуна, крупнейшего порога на этой реке, слева, в распадке, между грядами покрытых чащобой холмов, я увидел обширное продолговато-овальное болото. Поверхность его была буро-рыжая и волнистая — совсем как Большое болото в «стране мертвого леса». А в одной его части совершенно четко проступали округлые пятнышки, очень похожие на «кратеры» от падения осколков метеорита.
Поспешность выводов, как известно, характерная черта молодости, недостаточности знаний…
«Здесь тоже упал метеорит, — подумал я сначала. Затем мысль моя повернулась, как говорят, на все сто восемьдесят градусов: — Нет… Наверное, Кулик ошибается. Наверное, он принял обычные для таежных болот ямы, выжженные в торфе подсохшего болота вокруг пней, за кратеры — воронки от падения осколков метеорита. А лесовал вокруг — следствие вихря, торнадо, повергнувшего уже мертвые, обожженные большим таежным пожаром деревья. Ведь таких пожарищ немало в тайге. Стало быть, — пришел я к выводу, — Тунгусский метеорит надо искать не в том месте, где его ищем мы. Он, может быть, пролетел дальше. И где-нибудь лежит себе в бескрайних и безлюдных просторах на севере, у Хатанги».
Этот вывод и был той «занозой»… А тут еще новые «доводы» в пользу еретической моей мысли.
Добравшись до заимки у Большого болота, все мы, участники «спасательной экспедиции», и в том числе корреспонденты, почти две недели с утра дотемна рыли по указаниям Леонида Алексеевича траншеи и шурфы в «кратерах» и… ничего не обнаружили. Ни малейших остатков метеорита не было найдено и на каменистых склонах гор вокруг, где мы их высматривали. А там ведь они не могли «зарыться» в породу! Ничего не дали и магнитометрические наблюдения. В одной из больших воронок, «кратере Суслова», Иннокентий Михайлович пролежал немало часов, опустив голову над котелком магнитометра. Ничего не сказала ему магнитная стрела прибора…
И я выдернул занозу.
— Леонид Алексеевич, — сказал я тихо, — Леонид Алексеевич… А может быть, метеорит упал не тут, а пролетел дальше? Я видел с самолета болота…
Продолжать мне не пришлось. Кулик резко отодвинул, вернее — оттолкнул меня. Отклоняясь к противоположной стенке лабаза, я задел рукой за свечу, она упала и погасла. И в полной темноте я услышал чужой, жесткий голос:
— Предатель… Как я мог вам верить, старый дурак! Я должен был предвидеть, что академики вас убедят… не верить мне! Уходите…
Сраженный несправедливым обвинением в предательстве, я не нашел никаких слов в ответ. Да и, наверное, Кулик их не услышал бы…
Поутру мы выступили из лагеря на Хушме и, несмотря на сильные морозы, в четыре дня дошли до Ванавары, а после отдыха на фактории еще через четыре дня добрались до Кежмы.
Здесь пришлось пробыть дней десять, дожидаться, пока станет Ангара, чтобы уже по льду ехать на подводах до Дворца и потом до Тайшета. Весь этот путь для меня, да и пребывание в Кежме были мрачными. Леонид Алексеевич расхворался. Целые дни лежал и почти ни с кем не разговаривал. Болел также Иннокентий Михайлович — он сильно обморозил лицо и руки на последних переходах. От Кежмы ехали в санях.
Однажды на ночевке в селе Неванка, где мы остановились в доме родителей Алексея Кулакова, я попробовал объясниться с Леонидом Алексеевичем. Из разговора ничего не вышло. Кулик сослался на головную боль и отказался беседовать. В Тайшете, в ожидании поезда, я решил поведать о тяжелом разговоре с ним на базе Хушмо Суслову. Мы уединились за столиком в углу буфета. Выслушав мою исповедь, Иннокентий Михайлович как-то грустно поглядел на меня, вздохнул, похлопал по плечу и сказал:
— Дело ваше дрянь. Думаю, однако, паря, не скоро у вас с Куликом наладятся отношения. Ему трудно. А человек он бескомпромиссный. Да или нет. Противник его дела — его личный враг.
— Но ведь я высказал только предположения…
— Вы засомневались, — прервал меня Суслов, — для Леонида Алексеевича этого достаточно! Слишком много, однако, ему пришлось воевать с сомневающимися. Наверно, это и ожесточило. Так, например, считает он, и нельзя его переубедить, что один известный академик его самый главный недруг. А ведь тот высказал всего лишь тоже предположения. Да к тому же — и, наверное, то главное — натура у Кулика такая, характер такой. Да или нет…
…Вот так и получилось — одна заноза была выдернута, и сразу же засела во мне другая, поглубже, покрепче, поострее. Очень было горько. Особенно потому, что не чувствовал я себя по-настоящему виновным.
Новая заноза сидела очень долго — более десяти лет!
Нет, Леонид Алексеевич не «раззнакомился» со мной. По-прежнему, приезжая в Москву, он всегда заходил к моим родственникам «попить чайку» и, когда встречал меня, был любезен. Но и только. Былым, почти отеческим отношением и не пахло. А по своим «метеоритным делам» он заговорил со мной лишь однажды — вскоре после возвращения из Сибири. Он всего-то попросил меня написать свои соображения для отчета об экспедиции о возможности посадки гидросамолетов на Подкаменной Тунгуске, в районе Ванавары.
Дело в том, что «прикинуть на местности» такую возможность мне поручили еще весной в Инспекции Гражданского Воздушного Флота. Ведь у меня уже было некоторое знакомство с авиацией. За год до того я участвовал в авиационной экспедиции в Казахстане и вообще очень интересовался авиацией.
Я набросал кроки плесов Подкаменной Тунгуски и написал короткую к ним экспликацию с выводом, что на некоторых плесах там можно устроить гидроаэродром для самолетов типа «Юнкерс-13». Эту справку я послал ему почтой.
Леонид Алексеевич, вернувшись, сразу же начал готовить новую экспедицию в «страну мертвого леса» и намеревался добиться получения самолета для аэрофотосъемки района Большого болота.
Новую экспедицию ему удалось организовать через год, — правда, без авиации. Конечно, участвовать в ней меня он не пригласил. С ним поехал молодой ученый, впоследствии ставший известным исследователем в области метеоритики, — Евгений Кринов.
Новое путешествие Кулика, несмотря на то что в «кратерах» пробили глубокие шурфы и производилось бурение, не увенчалось находкой осколков метеорита… В середине тридцатых годов еще дважды Кулик совершил походы на Хушму и тоже ничего не нашел.
С годами в конце концов отношение ко мне у него переменилось. Что послужило поводом, не знаю. Но как-то уже в сороковом году Леонид Алексеевич позвонил мне и сказал, что, если я не возражаю, он придет на «чашку чая». Когда я открыл дверь, он, похохатывая, полуобнял меня. И обратился он ко мне по-прежнему, интимно произнося мое имя на итальянский манер:
— Витторио! Здравствуйте. Читал вашу книжку для ребят «Завоеватели высот». Рассказывайте, как живете, как трудитесь?
Борода и усы Леонида Алексеевича совсем поседели, резче обозначились морщины у рта. И вокруг глаз тоже были бороздки, и очки не могли их закрыть. Он казался безмерно усталым и в то же время как-то излишне возбужденным, нервным. Однако руки его, обнявшие меня, были по-прежнему железными и голос бодрым.
Чай Леонид Алексеевич всегда пил вприкуску и с явным удовольствием, если не сказать — с наслаждением. Особенно если чай был крепким!
Мы говорили долго. Впрочем, если быть точным, говорил главным образом мой дорогой гость. Он рассказывал о том, что теперь в Минералогическом музее создан большой отдел метеоритов и в нем собраны сотни «небесных скитальцев», что помогало создавать этот музей множество самых разных людей, присылавших сообщения о падении метеоритов, а иногда и найденные их осколки.
— Теперь уже никто не сомневался в нужности для науки нашего дела, — говорил ученый. — Теперь все поняли, что изучение вещества из космического пространства играет большую роль в дальнейшем развитии астрономии и космогонии. И мы идем в этом деле впереди всех стран.
Сначала он ничего не рассказывал о своих последних экспедициях в «страну мертвого леса». Все же потом заговорил о «тунгусском диве», поискам которого отдал почти два десятилетия.
Раскопки, бурение, магнитометрические измерения, внимательнейшее «прочесывание» склонов сопок — все было сделано. И — ни одного осколка!
Однако уверенность в том, что именно там, где он искал, и есть конечный пункт траектории полета гигантского метеорита, встретившегося с Землей, его не покинула. Теперь Кулик выдвигал гипотезу: метеорит не распался над землей на осколки, которые вонзились в землю, а рассеялся на мельчайшие частицы при взрыве.
— От нашего (он опять говорил «нашего»!) метеорита обязательно что-нибудь осталось. Основная масса его, наверное, превратилась в пыль. Но эти мельчайшие частицы его вещества все же там должны быть! И я их добуду. Обязательно, Витторио, обязательно!
Потом Кулик стал допытываться у меня, насколько надежны новые летательные аппараты-автожиры (теперь они называются вертолетами) инженеров Камова и Миля.
Я обещал познакомить Леонида Алексеевича с изобретателями этих замечательных машин. На автожире можно было бы из Кежмы прямо долететь до нашей заимки у края Большого болота, под сопкой имени Стойковича, и там высадиться. Неугомонный ученый, очевидно, вынашивал такую мысль.
…Захлопнулась дверь за Леонидом Алексеевичем. Мне было грустно. Может быть, потому, что десять лет разрыва с ним — это моя личная большая потеря? Теперь уже, в пору зрелости, немало повидав разных людей, и среди них тоже по-своему замечательных, я совсем по-иному понимал тех, кого называют одержимыми в науке, да и в любом другом творческом деле и на производстве. На основе жизненных фактов теперь я знал, что такие люди почти всегда трудны для окружающих, и, пожалуй, особенно для своих коллег и сотрудников. Они часто нетерпимы к инакомыслящим и выглядят поэтому со стороны даже какими-то ограниченными или консервативными.
Но они ведь такие потому, что увлечены! Слишком любят свое сделанное и обычно намного больше знают в своем деле, чем тот, кто высказывает сомнение в их заключениях, выводах, идеях.
Думается мне, к нетерпимым нельзя проявлять нетерпимость. Оставим за ними человеческое право быть принципиальными, бескомпромиссными и будем уважать это.
Что же, значит, таких людей нельзя или не надо критиковать, спорить с ними? Надо, конечно. Но на уровне их знаний. И, пожалуй, не столько и тем более не только критиковать, а доказывать свое видение проблемы, свое ее решение. Будь то теоретическая гипотеза или техническая конструкция.
* * *
Больше Леонида Алексеевича я не видел.
В конце июля сорок первого он вступил в народное ополчение, в Московскую дивизию Ленинского района. Она вскоре ушла на фронт.
По пути к огневым рубежам, в районе Спас-Деменска, штаб дивизии получил письмо из Академии наук с просьбой на основании такого-то предписания Наркомата обороны вернуть в Москву бойца Л. А. Кулика. Советская власть не хотела даже тогда рисковать своими учеными.
Леонид Алексеевич отказался покинуть часть. «Я советский гражданин. И никто не может лишить меня права защищать свою родину», — заявил он в штабе.
Когда мне рассказали об этом, я подумал: что ж, такие люди остаются верны себе — да или нет.
…Немецко-фашистские самолеты бомбили передний край и ближние тылы нашей обороны в районе Мясного Бора на Волхове с рассвета и дотемна. А ночь наступала поздно. Кончался май сорок второго. Уже много дней 59-я армия, где я служил, вела бои, сдерживая врага, стремившегося закрыть коридор в лесах и болотах, через который выходили из окружения остатки Второй ударной армии, преданной ее командиром Власовым. В эти тяжкие для всех нас дни меня постигло еще и личное горе. Из Москвы, из Союза писателей, мне переслали письмо от брата, из осажденного Ленинграда. Он сообщал, что вслед за отцом, зимой, умер после ранения наш младший брат. В конверте было и второе письмо — треугольник, сложенный из листка школьной тетради. В нем всего несколько карандашных, плохо разборчивых строк. Писал Леонид Алексеевич:
«Витторио! Если мое послание дойдет до вас, сообщите свой номер полевой почты. Уверен, что вы где-нибудь летаете и бомбите фрицев. Может быть, и поблизости? Желаю полного успеха. Моя болотная полевая почта… Обнимаю. До Победы!»
…До Дня Победы Леонид Алексеевич не дожил. В бою в районе деревни Митяево на Северо-Западном фронте он был ранен в ногу. Его часть попала в окружение. Товарищи пытались вынести ученого. Он настаивал: «Оставьте меня в укромном месте, в какой-нибудь лесной сторожке. Иначе сами не выберетесь». И настоял.
Прочесывая оставленный нашими войсками район, фашисты обнаружили раненого ученого. Сначала его поместили в лагерь-лазарет в местечке Всходы, потом около Спас-Деменска. Там наших воинов почти не лечили, кормили впроголодь. Сила воли все же подняла Леонида Алексеевича на ноги. Он связался с партизанами, стал готовить побег группы своих товарищей по лагерю. Но, видимо, был в лагере предатель. Ученого потащили на допрос, избили и бросили в холодный подвал. И здесь 14 апреля 1942 года оборвалась жизнь этого человека.
Много уже лет прошло с тех пор. Дело Леонида Алексеевича Кулика продолжали его сотрудники. Они снова и снова путешествовали в далекую «страну мертвого леса».
Известный астроном, академик Фесенков выдвинул новую теорию феномена Тунгусского метеорита. По этой теории над тайгой за Подкаменной Тунгуской 30 июня 1908 года приблизилось к земле ядро небольшой кометы, которое взорвалось от динамического удара в плотных слоях атмосферы и распылилось в воздухе. Эта теория сейчас признана большинством ученых.
Недавно академик Г. И. Петров подтвердил ее и показал, что ядро кометы должно было состоять из льда и снега…
Однако есть и не согласные с ней.
Феномен Тунгусского метеорита привлек внимание молодых научных работников и студентов в Томске и Уфе, Свердловске и Ленинграде. Благодаря современным средствам сообщения, и прежде всего авиации, район падения метеорита стал доступнее. Десятки экспедиций, нередко самодеятельных, побывали там в пятидесятых и шестидесятых годах. Они конечно же искали осколки, как и мы когда-то, или вообще крупицы вещества «небесного скитальца», будь то метеорит или комета. Они исследовали весь район Большого болота и сопки вокруг. И тоже ничего не нашли…
Одна из групп молодых ученых из Уфы, обнаружив в годовых кольцах на срезах стволов немногих оставшихся в живых деревьев повышенную радиоактивность, относящуюся по времени к 1908 году, выдвинула гипотезу об атомном взрыве как причине, породившей «страну мертвого леса». Интересно, что на много лет раньше писатель Александр Казанцев в научно-фантастическом рассказе «Гость из космоса» высказал предположение, что этот взрыв произошел в результате аварии… инопланетного космического корабля!
Многие иностранные ученые также пытались найти объяснения катастрофы в таежном сибирском краю.
Есть гипотеза, утверждающая, что взрыв, равный по мощности действия 20-мегатонной атомной бомбы, породил кусочек антивещества, проникшего в атмосферу Земли и здесь аннигилировавшего.
Есть и еще более фантастическая, но подкрепленная математическими расчетами гипотеза техасских ученых Альберта Джексона и Майкла Рейна. Гипотеза эта утверждает: за Хушмой в земной шар врезалось космическое тело — «черная дыра». Оно — концентрат вещества немыслимой плотности (миллион миллиардов тонн в одном «кубике»!) — пронизало нашу планету, как игла, а сопутствующие явления — плазменный огненный шнур, наблюдавшийся в небе, и ударная волна воздуха — были причиной пожара и вихря, опалившего и свалившего тайгу.
Впрочем, уже в середине семидесятых, через полвека после первых путешествий в «страну мертвого леса», очередные научные экспедиции обнаружили там в почве микроскопические пылинки, которые по всей видимости имеют внеземное происхождение. Это открытие подкрепляет теорию распыления космического тела при взрыве. И все же… Еще спорят ученые, каким оно было. Ядром кометы? Гигантским метеоритом? Откуда примчалось?
Итак, не будет слишком дерзким считать, что тайна Тунгусского метеорита остается еще не до конца рассказанной тайной.
Высокий лиственный лес шумит теперь на сопках вокруг Большого болота и в долине Хушмы. Теперь это уже не «страна мертвого леса». Но стоят там до сих пор потемневшие от времени и дождей маленькие избушки и «лабазы», построенные руками Леонида Алексеевича Кулика и его спутников, волей, мужеством, стремлением к познанию природы этого нашего современника, человека трудного и замечательного.
Я любил его.
НАУКА ИМЕЕТ МНОГО ГИТИК
В каждом городе всегда есть дома безликие, скучные. Они совершенно не запоминаются. Как копны сена или будки железнодорожных путевых обходчиков, их трудно отличить друг от друга. В современных застройках окраин таких строений особенно много. В Париже и Москве, Кабуле и Буэнос-Айресе, в разных странах, во всех концах света. Но и в старых районах этих и других городов на некоторых улицах они тоже есть, такие дома, одно- или двухэтажные и большие «доходные», свидетели конформистского мышления архитекторов и заказчиков-хозяев или суровых требований экономики.
Почти полвека назад, в позднеосенний день, я с трудом разыскал у дверей одного из подобных зданий в районе Бронных улиц небольшую табличку с довольно-таки устрашающим текстом: «Научно-исследовательская лаборатория отравляющих веществ (НИЛОВ). Наркомзем СССР».
Дверь была заперта. Я постучал раз, другой. Наконец она открылась и усатый коренастый дядька в синем халате спросил, кого мне надо.
— Коротких или Несмеянова.
— Пройдите на второй этаж, прямо в лабораторию.
На втором этаже сильно и специфически пахло, как и в университетской «химичке», смесями запахов кислот и сероводорода. Где-то тихо гудел вентилятор. Короткий коридор вел к застекленной матовым стеклом двери с надписью на листке печатными буквами: «Без дела не входить». Под этими словами были пририсованы череп и скрещенные кости.
Я открыл дверь и вошел в довольно большую комнату с обычными для всех «химичек» столами, загроможденными термостатами, полочками для колб и пробирок, горелками и т. д. В дальнем углу на письменном столе сидел блондин в белом халате, видимо, высокий и статный человек, лет под тридцать. Усмехаясь немного иронически, он слушал другого, знакомого мне, расположившегося на стуле черноволосого, темноглазого, с припухлым ртом, инженера Григория Ивановича Коротких. С ним прошлым летом мне довелось быть в авиационной экспедиции в Казахстане. Там, в заросших камышами плавнях Сырдарьи, ставились опыты по истреблению саранчи путем опыления служащей ей пищей растительности препаратами мышьяка.
Григорий Иванович мне нравился — живостью характера, склонностью к шутке, всегдашней веселостью. Помимо того импонировала его увлеченность новым делом — применением авиации для борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Вместе с инженерами Вячеславом Степановым и Яковом Михайловым-Сенкевичем они создали конструкции первых аппаратов для распыления порошкообразных ядохимикатов — «аэропылов» — и средств, необходимых для охраны здоровья работающих с такими отравляющими средствами, — «респираторов», специальных костюмов, а также загрузочных приспособлений и другого оборудования авиахимэкспедиций.
После возвращения из экспедиции Коротких-то и предложил мне поработать зиму в НИЛОВ с перспективой на следующее лето снова попасть в одну из авиаэкспедиций, которые будут продолжать отработку «авиаметода». Он знал о моей большой тяге к авиации и желании кем угодно, но работать там, где совершаются первые шаги использования летательных аппаратов в различных областях народного хозяйства.
— А вот и наш «всадник» пожаловал! — прервав свой рассказ, воскликнул Коротких, завидев меня в дверях. — Идите сюда, представлю магу и волшебнику, самому ядовитому человеку.
— Несмеянов, — сказал блондин, вставая.
— А «всадником» мы его прозвали, — продолжал Коротких, — потому, что пришлось ему целый месяц каждый день скакать на кобылке за двадцать километров от базы нашей экспедиции до участка опыления. Туда и обратно. Туда — на рассвете, обратно — в жарищу. Выдержал! И, смею думать, подготовил свой зад, чтобы просиживать табуреты в твоей «химичке», Александр свет Николаевич.
На губах Несмеянова снова появилась чуть ироническая улыбка.
— Мы здесь занимаемся наукой, — сказал он после небольшой паузы и совершенно серьезно. — А наука, знаете, имеет или умеет много гитик.
«Тоже шутник, — подумалось мне, — но парень, видно, серьезный».
— Я не шучу, — продолжал, точно угадав мои мысли, Несмеянов. — Фраза эта считается бессмысленной. Однако аз неразумному представляется — имеет она что-то этакое, интересное внутри. В науке нужно уметь найти, рассмотреть, понять вот то самое… пусть будет гитик…
Коротких захохотал.
— Гитиковедение — очередное твое гениальное открытие.
— Я серьезно говорю, Гриша! Здесь наукой занимаются, а не изобретают твои самовары. Так «аэропылы» мы называем. Они действительно внешне похожи на украшение чайного стола, — огрызнувшись на реплику Коротких, пояснил мне Несмеянов и продолжал: — Так вот, ваше рабочее место будет в экспериментаторской. Вам предстоит проверять действие ядов на насекомых. Высшими животными занимаются другие сотрудники. Первое задание — добудьте материал. Второе — изучите инструкцию обращения с пылевидными ядами и растворами, ознакомьтесь с термостатами и другим оборудованием. Как проводить сами опыты, я дам вам указание потом. А теперь пойдемте, провожу.
— Александр Николаевич! Но ведь на дворе ноябрь. Каких насекомых можно сейчас наловить?.. Разве только муравьев?
— Клопов и тараканов! — воскликнул, ухмыляясь, Коротких.
— Да, именно, — вполне серьезно подтвердил Несмеянов. — Эти шестиногие сейчас, пожалуй, единственный материал, который можно раздобыть. А как добыть, то ваша забота…
О том ли я думал, когда, по совету Григория Ивановича, оформился в Наркомземе на работу в НИЛОВ, научным сотрудником! Эта лаборатория со страшным названием была первым и основным центром, где готовились программы опытных авиационных экспедиций и осуществлялась их организация, в том числе и той, в Казахстан минувшим летом. Мне и мечталось, что я буду тоже готовить экспедиции, что-то там делать вместе с инженерами-конструкторами по оборудованию самолетов. Новых самолетов, которые должны были поступить вместо старых «коньков-горбунков». Или на крайний случай, думал я, мне поручат поехать разведывать площадки под временные аэродромы для них, чем пришлось уже заниматься в Казахстане. Но теперь делать было нечего. Специального инженерного образования я не имел, а в авиации — лишь опыт практической работы в одной экспедиции да еще навыки летчика-наблюдателя, приобретенные в авиахимовской школе «без отрыва от производства» — от учебы в Московском университете.
Я понимал, что Несмеянов и другие руководители НИЛОВ правильно решили использовать нового молодого сотрудника, биолога по университетской специальности.
Несмеянов провел меня в одну из комнат лаборатории, познакомил с ее «обитателями», двумя молодыми женщинами, и определил, за каким столом будет мое рабочее место.
Итак, надо было начинать с поисков «материала».
Итак, будь они трижды прокляты, клопы и тараканы! Где и как их добыть? Никто толком ответить на этот вопрос не мог. Кто-то из знакомых, посмеиваясь чрезвычайно обидно для меня, посоветовал развесить в подворотнях объявления. Другой — обратиться к старушкам, всегда околачивающимся около действующих церквей.
В конце концов тот усатый дядька, кто открыл мне дверь в день первого прихода в лабораторию, — все всегда звали его Егорыч, — предложил дельное:
— Езжай, парень, на транвае в Карачарово или Алексеевское и походи по домишкам деревенским. У них там «они» есть.
На следующий день, запасшись коробочками, я отправился на промысел мерзких тварей. На трамвае доехал до Рижского вокзала — дальше он не ходил — и пошел в Алексеевское знакомой, раскисшей обочиной разбитого шоссе. В этом селе одно время жил — снимал угол — мой товарищ по университету, и я к нему, бывало, наведывался.
В первом дворе старой хибары меня встретил бородатый здоровяк, похоже, извозчик… да конечно же извозчик — вот и пролетка стоит под навесом, и лошадь всхрапывает…
— Уважаемый, — начал я, — мне нужны тараканы. И клопы…
Бородатый осклабился, гмыкнул, оглядел острыми глазками стоящего перед ним юношу в старом драповом пальтеце и кепке, заломленной назад, и сказал:
— А каких тебе? Поболе? Али мелочь возьмешь?
Не без юмора он был. Однако когда я вынул коробочку и протянул ему, он заорал и схватил то ли палку, то ли кнут.
— Да иди ты… Ходют тут всякая… шпана. Иди, а то!..
В другом дворе маленькая старушка внимательно и, показалось мне, доброжелательно выслушала мою просьбу, зачем требуется мне такая живность. Расспросив меня, кто я да откуда, она повздыхала, перекрестилась.
— Ну што-ш… Мори их, миленький! Проходи в дом и мори, только штоб вони не было. Для науки, говоришь? Я согласная… Много не возьму.
Вот тебе и поняла она мою просьбу!
Все же из упрямства зашел я в третий двор. Здесь молодой парень колол дрова, а девчушка лет семи таскала их в сенцы.
Выслушав меня, он согласно кивнул головой и сказал девчушке:
— Мань, а Мань… Проводи товарища научного сотрудника на кухню. Пусть он там тараканов аль прусаков наловит.
Ну, уж нет… Чаша моего терпения, как говорится, переполнилась. Самому в чужом доме собирать «материал» было свыше моих сил. И, поблагодарив парня, я пошел со двора и выбросил свои пустые, увы, коробочки в кювет.
В конце концов, выручил тот же Егорыч.
— Дай трешку дворничихе, она сообразит, — сказал он, выслушав скорбную повесть о походе в Алексеевское.
Через несколько дней в сетчатых садочках на моем столе в экспериментаторской обитало несколько десятков всегда оживленных черных тараканов, а в деревянной плотной коробочке копошились клопы.
Я не был брезгливым. Детство в деревне, на природе, страсть коллекционировать жуков и бабочек в юные годы не способствовали развитию у меня этого чувства. И когда Александр Николаевич наконец дал мне программу испытаний действия ядов на насекомых, я спокойно вылавливал в садочках пальцами тараканов, рассаживал их по отдельности в специальные пеналы и давал им кусочки хлеба в точной дозировке по нескольку миллиграммов, смоченные растворами или посыпанные порошком ядовитых веществ. Затем отмечал в журнале время опытов и следил за скоростью действия различных препаратов.
В общем, с тараканами все эксперименты прошли хорошо. Только скучны были они, эти опыты. Изо дня в день все то же самое: яд такой-то, дозировка такая-то, гибель стольких-то насекомых наступает через час, два, три…
Несмеянов изредка наведывался в экспериментаторскую, проверял записи в журнале, давал указания, как составлять сводные таблицы эффективности действия тех или иных отравляющих веществ, и, уходя, повторял одно и то же: «Продолжайте в том же духе…»
И я продолжал отмеривать на точнейших аптекарских весах крошечные дозы различных ядовитых препаратов, главным образом соединений мышьяка. Иногда даже не надевал предохранительной маски — «респиратора». В авиаэкспедиции прошлым летом нередко приходилось попадать под опускающееся на камыши облако ядовитой пыли, развеянной с самолета. И ведь не отравился ни разу, только чих иногда нападал. А здесь приходится работать с дозировками значительно меньшими. Думал, не отравлюсь, и не отравился ни разу.
Вообще о работе в авиаэкспедиции вспоминалось мне часто. Просторы казахстанских степей. Мутный поток Сырдарьи. В нем даже купаться было противно. Бескрайние заросли камышей по берегам реки и ее протокам. Охота на уток…
Однажды с летчиком Николаем Комарницким и бортмотористом Михаилом Водопьяновым мы забрались в поисках дичи в такие дебри, что еле выбрались. А мне удалось «дуплетом», двумя выстрелами подряд из двустволки, красиво сбить двух пролетающих селезней. Комарницкому «дуплеты» никогда не удавались, и он шумно завидовал мне, а я был счастлив…
Большую радость испытал я и тогда, когда, проверяя после первого опыления с самолета участки камышей, где тысячи саранчуков грызли его листья и в воздухе стоял характерный скрежещущий шелест, увидел на сырой земле бесчисленные трупики прожорливых насекомых.
За долгие часы опытов с тараканами, однообразных и скучных, мечталось о новых экспедициях. Я знал, готовились испытания «авиаметода» борьбы с вредителями-насекомыми хлопчатника, хвойных лесов, а также истребления личинок малярийного комара, обитающих в водоемах. Я понимал, что изыскания Несмеянова, его поиски новых, более эффективных ядов имеют очень важное значение для будущего применения «авиаметода».
Воспоминания об авиаэкспедиции и размышления о небольшой, но все же полезности моей работы в лаборатории как-то скрашивали однообразные, скучные эксперименты…
«Но где же этот самый гитик науки?» — иногда задавал я себе вопрос. Александр Николаевич комбинирует химические вещества, составляет новые препараты. У него все время есть возможность изобрести такой, который при совсем маленькой дозе будет действовать на насекомых быстро и безотказно, и это откроет новые возможности применения авиации в борьбе с сельскохозяйственными вредителями. Ведь более эффективный препарат можно будет применять в меньшем количестве, и это позволит одному самолету опылять огромные площади камышей, полей и лесов: таким образом, «авиаметод» станет более экономичным.
Думал я и о том, что этот метод впервые в мире начинает использоваться в нашей стране. Огромные потери урожая хлебов, хлопчатника, садов, гибель сосновых лесов можно снизить, если сотни самолетов станут сельскохозяйственными машинами, как тракторы и комбайны. В то время партия и правительство осуществляли грандиозный план перестройки земледелия на основе коллективизации и создания совхозов. И было ясно, что когда завершится этот процесс, именно на больших площадях будет выгодно применять не только тракторы и комбайны, но и самолеты. Ведь «авиаметод» не пригоден для обработки мелких земельных крестьянских наделов. Авиации нужен простор. Только она в будущем позволит покончить с потерями урожая от сельскохозяйственных вредителей! А это немало для экономики народного хозяйства — десятки миллионов тонн зерна!
Примерно через месяц, приняв от меня отчет об очередной проверке действия на тараканов одного из ядов, а именно мышьяковокислого натрия, Несмеянов вдруг вспомнил о… клопах.
— Теперь надо заняться сосущими насекомыми, — сказал он. — С грызущими все более или менее ясно. А вот как убивать, скажем, тлю, хлопкового паутинного клещика или черепашку? Вы должны знать, что этот клоп зловреден для ржаных полей. Где его родственники — ваши домашние клопы?
Я всполошился. По правде говоря, забыл об этих тварях. Коробочки с ними были засунуты в дальний угол термостата. Не подохли ли они? Но нет, они были живы, хотя основательно похудели.
Несмеянов недовольно поморщился:
— Такие не годятся. Подкормите их.
— Александр Николаевич! Как «подкормить»?.. Они же…
— Ваше дело, — отрезал Несмеянов. — Придумайте… Дать насосаться клопам собственной крови? Этого я не мог! Не мог преодолеть неожиданно появившееся, казалось бы, не существовавшее чувство брезгливости. Что же делать? Прикидывал я и так, и этак… Посадить паразитов в коробку побольше и пустить туда кролика или белую крысу, позаимствовав их на время у «соседей»? Явно ничего не выйдет. Крысы просто не дадут себя кусать, кролики имеют мех да еще густой подшерсток. Я попробовал взять у себя из пальца кровь, накапал на стеклышко и предложил кровососам. Не тут-то было! Не «захотели» твари даже пробовать угощение…
Два дня я мучился «проблемой» борьбы с похудением клопов и все же нашел ее решение. Стал заворачивать белую мышь в картонную трубочку так, чтобы из нее торчал голый хвостик грызуна, и предлагал его кровососам. Как только хвостик опускался в коробочку с ними, они с увлечением начинали «обедать». Мышке, конечно, такая экзекуция была неприятна. Но что поделаешь!
Когда «материал» для опытов пришел в норму, Несмеянов поручил мне снова изучать действие ядов на этих сосущих насекомых. Но теперь я уже не предлагал им отравленную пищу, а опылял их различными препаратами. Через несколько дней, когда первые записи эффекта действия ядов были сведены в таблицу, стало ясно, что от мышьякового натра клопы дохли через час-два, а от целого ряда других препаратов, содержащих тот же мышьяк и отлично убивавших тараканов, не погибали!
— Александр Николаевич, — сказал я, показывая таблицу Несмеянову, — ничего не понятно! Не дохнут от многих препаратов — и все. А я все делал аккуратно по программе.
Несмеянов некоторое время раздумывал, потом поднял на меня свои светлые, ясные глаза, прищурился и пробормотал:
— Хорошо… Очень хорошо. Повторите все сначала! Тут-то как раз и сидит эта самая гитик науки. Маленькая-маленькая гитик…
— Да я же все точно, честное слово, по программе… Стоит ли повторять? Я думаю…
— Нет, повторите все сначала, — прервал меня Несмеянов уже жестким тоном. — И подумайте лучше о том, почему получился такой результат опыта, а не иной.
Мне ничего не оставалось, как отправиться на свое рабочее место и, проклиная сосущих, снова кормить клопов, опылять их, наблюдать за смертностью, подсчитывать, сколько погибло за такое-то время и т. д. и т. п.
С тех пор я особенно остро ненавижу этих «зверей»…
Данные новой серии опытов почти полностью повторяли предыдущие. С торжеством понес я свои записи и вторую таблицу Несмеянову. Он внимательно просмотрел ее, сравнил с первой и, откинувшись в кресле, спросил:
— Ну, и что же вы думаете о причине? О том, почему от одного химиката они гибнут, от другого — нет? Ведь токсичность, ядовитость этих препаратов для всех насекомых примерно одинакова.
Действительно, почему? Этот вопрос я уже ставил перед собой, когда после опыления во второй или третий раз подсчитывал смертность насекомых.
Во-первых, сначала казалось странным, что сосущие вообще дохнут. Но объяснение такому явлению нашлось простое: какие-то пылинки яда все же попадали на колющий хоботок клопа, отсюда проникали внутрь и отравляли. Однако почти всякий слишком простой, слишком «на поверхности» вывод из научного эксперимента обычно неверен. И мое такое логическое умозаключение после размышлений уже не представлялось правильным. Оно опрокидывалось другим показателем опыта: насекомые погибали только в том случае, когда я припудривал их тончайшим слоем мышьякового натрия, и оставались живыми-здоровыми, если они опылялись другими препаратами. Поэтому можно было думать, что тут проявлялось так называемое «контактное» действие отравляющего вещества, то есть оно проникало к жизненным центрам насекомого через покровы его организма.
«Ну, хорошо, — рассуждал я, — стало быть, контактным действием обладает лишь мышьяковый натрий. Он проникает, а мышьяковистый кальций, например, или парижская зелень не проникают. Отчего же, черт возьми, так получается? Может быть, для подопытного насекомого вообще смертельно ядовито только первое отравляющее вещество, а к другим оно не восприимчиво? В природе организмов такая реакция иногда наблюдается. Лоси, например, едят ядовитые грибы мухоморы, и ничего им не делается».
— Александр Николаевич, — сказал я, — думаю, что сосущие, то есть клопы, погибают от контактного действия. Только не могу понять…
— Конечно, от контактного! — воскликнул Несмеянов. — Тут все ясно. Я так и предполагал. Закавыка в другом: не понятен механизм проникновения внутрь тела сосущих насекомых натра да и любых других наших ОВ. Здесь гитик и сидит… Вероятно… Впрочем, ищите его сами. Вы с микроскопом работать умеете? Тонкие срезы на вашем биологическом вас научили делать? Да? Отлично! Возьмите бинокулярную лупу, она дает достаточное увеличение. Сделайте несколько десятков срезов препаратов брюшка ваших «зверей» в парафине… нет, две-три сотни лучше… и так, чтобы можно было бы проследить, проникают ли пылинки яда внутрь через дыхальца или ткань сочленений хитиновых сегментов насекомого. Препараты готовьте сериями в определенное время после опыления: через пять, десять, двадцать минут. Через час…
«Опять возиться с этими тварями», — подумал я, и, очевидно, явное неудовольствие выразилось на моем лице. Во всяком случае, Несмеянов заметил мою реакцию на его слова.
— Поймите, коллега, — он впервые обращался ко мне так по-товарищески тепло, — поймите, что все ваши данные дешево стоят для науки, если не докопаться до их причины. Не выявить ту самую гитик. Так что возьмите себя в руки и займитесь, пожалуйста, проверкой моего предположения… Впрочем, о моем предположении потом. Есть у вас еще «материал»?
— Есть.
— Ну, тогда пускайтесь в плавание.
В это время в комнату Несмеянова вошел Григорий Иванович Коротких. Он услышал последнюю фразу.
— Куда вы его посылаете? Опять кровососов ловить? Этак нашего «всадника»-авиатора ваша царица-химия переделает в клопомора.
Как всегда, Коротких начинал шутливо. Однако настроение в тот день было у него, видимо, неважное. Вроде моего. Он начал рассказывать Несмеянову, что ни Степанову, ни ему никак не удается решить «распростейшую задачку»: как заставить высыпающийся из «аэропыла» порошкообразный яд до время полета пошире рассеиваться в воздухе и тем самым более равномерно покрывать землю и растительность.
— Никак не удается сделать под фюзеляжем хорошее приспособление, рассекающее струю порошка, — жаловался Коротких. — А при старом «аэропыле» мы теряем много химиката зря, — говорил он. — По самой линии полета на земле получается густо, а по бокам полосы опыления иногда оказывается недостаточная концентрация яда. Если саранчу на камышах травить, этим недостатком можно пренебречь. Но ежели хлопчатник, то по линии полета может образоваться ожог его листьев. А когда будем удобрения рассеивать на поля, получится вообще ерундово. Полоса хорошей пшеницы вырастет, полоса хилой. Полосатая нива. Агрономы такого не простят, погонят нас с нашим «авиаметодом» к бабушке в гости…
Несмеянов терпеливо выслушал инженера, усмехнулся каким-то своим мыслям, провел ладонью по высокому лбу.
— Первый раз вижу тебя, Гриша, в паническом состоянии. — Кивнул в мою сторону: — Молодежи постыдись (а старше они были меня всего лет на пять-шесть). И… начни все сначала, оттолкнувшись от гидродинамики. Она идет еще впереди аэродинамики. Вспомни, например, закон истечения жидкостей Бернулли…
Коротких немного оторопело уставился на него своими темными выпуклыми глазами.
— Бернулли, говоришь? А пожалуй… А действительно собачка зарыта где-то поблизости. Чую… — Он повел носом.
— Вот и хорошо, что учуял, — улыбнулся Несмеянов. — Собачку ли, гитик ли, как мы тут с коллегой рассуждаем, проявить можно, только совмещая опыт и теорию науки.
Коротких фыркнул — мол-де, прописи проповедуешь. Однако то, что сказал Александр Николаевич, явно засело в его сознании. Вероятно, он уже думал над тем, чтобы ориентироваться на законы гидродинамики. И может быть, этот разговор послужил толчком для инженерной мысли конструкторов «аэропылов». Во всяком случае, вскоре они создали приспособление, улучшающее разброс порошкообразных веществ, ядов и удобрений с самолета, применив принцип так называемой сужающейся в середине «трубы Вентури», теоретическая основа действия которой лежит в законе Бернулли, сущность которого в том, что поток жидкости, протекая через отверстие меньшего сечения, ускоряется.
…Более месяца полные рабочие дни я занимался изготовлением препаратов со срезами, внимательно изучал их в бинокулярную лупу при стократном увеличении и делал зарисовки. Специальной фотоаппаратуры у нас в НИЛОВ не было. В конце концов у меня накопилось более сотни рисунков, и они показывали…
…В очень морозный январский день, запомнился он мне потому, что, идя на работу, я здорово замерз в своем драповом пальтеце и, добравшись до лабораторного стола, долго не мог работать с микротомом — пальцы не слушались, — и еще потому запомнил, что впервые в тот день увидел эту самую гитик!
Испортив несколько препаратов, я наконец получил приличный, положил его на предметный столик лупы и прильнул к ее окулярам. Знакомый в общем рисунок возник у меня перед глазами. Поперечный срез брюшка насекомого проходил через дыхальце — щелочку в хитиновом его покрове. Около дыхальца снаружи, на хитине, ясно были видны налипшие крошечные белые зернышки мышьякового натрия. Несколько крупинок находились у самого края щелочки, а некоторые прямо у меня на глазах растворялись в жидкости еле заметной капелькой, заполнявшей дыхальце.
«Ну и что?» — может задать мне вопрос читатель. И я его себе задал, а потом в памяти возникли подобные мои препараты, те, где «материал» был припудрен другими ядами. В тех препаратах крупинки отравляющего вещества не растворялись! Поспешно я разыскал свои прежние зарисовки и убедился, что зрительная память меня не подвела. Да, именно так — другие яды не растворялись в щелочках-дыхальцах, очевидно, потому, что не обладали гигроскопичностью, как мышьяковый натрий.
Даже самое маленькое, незначительнейшее раскрытие ранее неизвестного или самое мельчайшее изобретение приносит особую, ни с чем не сравнимую и удивительную радость преодоления, победы! Вероятно, оно, это чувство особой радости, наряду с пониманием важности, целесообразности или нужности проводимого поиска, желанием и стремлением понять и разобраться в окружающем мире или внести в любое дело новое, лучшее, служит эмоциональным стимулом, духовным рычагом акта творчества.
Радость эта, снова скажу, особая. Как в детстве, все солнечно становится вокруг! На небе ни тучки. Пахнет яблоками. И нет никаких перед тобой преград, и нету тебе забот. Одно чистое ощущение счастья охватывает все твое существо, хотя и не знаешь тогда, по правде говоря, что это именно счастье. Что оно тогда пребывало с тобой, понимаешь потом…
Впервые мне пришлось испытать особую радость «открытия» еще в юности… Мне было шестнадцать, я служил в совхозе «Никольское» под Воронежем-на-Дону «подсобником» и готовился к экзаменам в университет, намереваясь поступить туда экстерном. Работы на поле и огородах иногда было много, иногда бывали легкие дни. Тогда с учебником я уходил обычно в заросли тальника над рекой или на луга, к озерам в пойме Дона, заросшим кувшинками, рогозом и кугой.
Однажды, прислушавшись к беседе агронома с недавно назначенным к нам в совхоз бригадиром-полеводом, узнал такую историю.
— Прошлый год, — сказал агроном, — почти все участки подсолнечника у нас погибли. Появились гусеницы бабочки шашечницы, по-латыни «Мелитея Дидима». Откуда появились — неизвестно. На всходах их не было. Появились и все пожрали!
— Откуда же они прилезли? — спросил бригадир. — Может быть, и теперь нападут?
— В том-то и дело, что никто не знает — откуда. Энтомолог один приезжал из Петрограда, сказал, наверное, они размножаются на каком-то другом растении — «хозяине», а потом переползают на подсолнечник. Как саранча, — она сначала жрет степную растительность или камыши, а затем летит на поля.
— Стало быть, надо найти этого «хозяина»?
— Конечно. Тогда можно было бы принять меры. Выкосить, например, зараженные угодья.
Бригадир повертел головой и вздохнул:
— Я найти не берусь.
Мне часто приходилось наблюдать кирпично-красных в черных шашечках (отсюда и название — шашечница) красивых бабочек на лугах.
«Может быть, попробовать самому найти «хозяина» — растения, на которые эта бабочка откладывает яички?» — подумалось мне.
И в ближайшее воскресенье я пошел в луга левобережья Дона. Стояли тихие, жаркие июньские дни. Над лугами мерцало марево. Белые кувшинки россыпью покрывали зеленоватую, туманную поверхность озер поймы. Голубые и зеленые стрекозы, гоняясь за мошкарой, резво чертили воздух. Везде порхали и бабочки. Голубянки, капустницы, крапивницы. Изредка, плавно взмахивая большими черно-желтыми крыльями, пролетали махаоны — короли царства бабочек. Приметил я и ту, которую так звучно и немного таинственно, точно королеву какую-то, назвал агроном: «Мелитея Дидима». Но на лугах шашечниц летало мало, их явно было больше там, где на границе с поймой реки начинались песчаные полевые угодья с большими участками пустырей, заросших сухолюбивыми травами. Полевые угодья были засеяны просом и подсолнечником, заняты бахчами.
На пустырях шашечницы кружились, присаживались на цветы и снова летали, летали оживленно в одиночку и парами, казалось, беззаботно радовались теплу и золотистому свету, рассеянному в воздухе.
Я присел на бугорок, может быть, старый холмик земли, выброшенный когда-то из норы сурком, застыл в неподвижности и стал наблюдать. Солнце, пробив ткань рубашки, казалось, прожигало меня насквозь, мошкара липла к глазам. Вскоре нестерпимо захотелось пить. А ничего особенного в поведении шашечниц не обнаруживалось. Прошел час, другой, а бабочки эти все так же танцевали, изредка присаживаясь на цветы. Ни одна не опустилась на какой-нибудь листок, чтобы, как можно было бы предположить, оставить там свои яички.
Когда от усадьбы совхоза донеслись удары по куску рельса — сигнал на обед, — вконец измучившись от жары, я побрел домой. Клял себя за зря потерянное время: лучше было бы заняться тригонометрией!
Но на следующий день, проработав на огородах с шести до полудня и освободившись до вечера, я внезапно решил, — в душе царапалось неприятное ощущение, точно чего-то я не доделал, — снова пойти на свидание с «Мелитея Дидима». По дороге мне встретилась девчонка-дачница, смешливая и заносчивая горожанка. Казалась она интересной и привлекательной.
— А кувшинки мне будут? — спросила она, когда я предложил ей интересную охоту за красивой бабочкой «Мелитея Дидима».
— Сколько угодно.
— Тогда, пожалуй, пойду. Только сидеть на одном месте и глазеть на твоих дидимок не собираюсь.
Она повязала голову косынкой и, напевая что-то, пошла впереди.
«К черту шашечниц, — подумалось мне. — Вот нарву ей цветов охапку. Позову потом вечером на Дон купаться».
Кувшинок я нарвал, вымок по пояс и повел спутницу все же посмотреть на моих «дидимок».
Девчонка некоторое время веселилась. Пыталась поймать бабочку, потом скисла — день снова был жаркий — и заканючила капризно:
— Домой пойдем. У меня нос обгорел… Пойдем…
А я разозлился:
— Ну и иди, если хочешь.
— Ах, так! — Девчонка швырнула кувшинки и, разобидевшись, наверное, по праву, побежала к усадьбе совхоза.
Пестрые, кирпично-красные с черными шашечками бабочки продолжали кружиться парами и в одиночку над дышащим зноем пустырем. Снова я клял себя за глупую несдержанность и даже грубость в своем поведении с девчонкой, за потерянное для учебы время. Клял и сидел на облюбованном холмике и смотрел, как танцуют шашечницы. Что-то неосознанное не отпускало меня. Упрямство? Или то самое, что толкает вообще на поиск?
Уже солнце стало клониться к холмам правобережья Дона. Защелкал кнутом пастух, сгоняя стадо в лугах. И тогда я увидел… Одна из шашечниц, покружившись как-то медленно, лениво, отягощенно над бледно-зеленым с голубоватым отливом растением — мыльнянкой, села на длинный сочный листик его и замерла на минуту-другую. Потом поднялась и, как-то неуверенно взмахивая крыльями, полетела в луга. Она выполнила свой жизненный долг. На листке мыльнянки приклеилась кучка зернышек, величиной с маковое, опаловых яичек бабочки!
Обнаружив их, я стал искать такие же кучки на других мыльниках. И нашел! Почти на каждом втором растении были кладки. Из некоторых уже вывелись крошечные гусеницы. Так вот он, «хозяин», растение, где начинают свою жизнь гусеницы шашечницы, пожиравшие потом, уже взрослыми, подсолнечник! Он найден, обнаружен, открыт! Все было забыто в тот час. Капризная девчонка, учебники…
Дотемна пробыл я на пустыре, а ночью стал писать «статью». Ох, как трудно дались мне несколько страничек — описание пустыря, состав растительности, поведение бабочек шашечниц, характер кладки их яичек и т. д.! Извел я множество бумаги, прежде чем, как мне казалось, более или менее связно рассказал о своих наблюдениях на пустыре. Утром я передал написанное агроному. Он прочитал, похвалил и сказал, что пошлет «статью» петроградскому энтомологу, приезжавшему к нам в совхоз прошлым летом, а пустыри прикажет выкосить немедленно.
История эта имела для меня горький конец…
На другой год весной, уже будучи студентом Воронежского университета, я просматривал новые журналы по биологии. Среди них «Энтомологическое обозрение». И в нем в разделе «Хроника» увидел публикацию на страничку, рассказывающую, что автор обнаружил: гусеницы вредной бабочки «Мелитея Дидима» начинают свой жизненный путь, питаясь сорняком мыльнянкой, а затем переползают на культурные поля и вредят подсолнечнику и бахчевым. В заключение автор давал рекомендацию агрономам в целях борьбы с этими вредителями выкашивать пустыри и межи.
Подписана заметка в «Хронике» была: «Энтомолог Н. Преображенский».
Я читал и перечитывал публикацию с возмущением, с чувством обманутого. Ни намека не было в ней, что это мои наблюдения изложены автором, хотя некоторые фразы он дословно взял из той ночью написанной мной «статьи».
Горечь, испытанная тогда, врезалась в мою душу на всю жизнь. Именно в те минуты я впервые понял, что ученые тоже люди, как все, и обладают иногда не очень высокими моральными качествами. И все же теперь, через десятилетия, я могу сказать, что та горечь была намного, на порядки, как теперь говорят математики, слабее, чем испытанная особая радость открытия нового, пусть крошечного, пусть в размерах пылинки на склоне горы, но открытия.
— Александр Николаевич! Александр Николаевич! — почти крича, я ворвался в комнату Несмеянова и протянул ему новые и старые зарисовки препаратов. — Вот, посмотрите! Мышьяковый натр растворяется и проникает внутрь. Другие ОВ нерастворимые, не проникают и не дают контактного действия.
Несмеянов не спеша просмотрел зарисовки и спросил:
— На скольких препаратах наблюдали?
— Двух-трех…
— Мало… — Казалось, Несмеянов ни удивлен, ни обрадован. Голос у него всегдашний, спокойный. — Проверьте еще на десяти — пятнадцати, дружище.
Вот оно, наконец, слово, в котором звучит одобрение! И только что было затуманившаяся радость снова овладевает мной.
— Александр Николаевич! — говорю я. — Проверю, обязательно проверю. Но убежден, что все точно так и есть: механизм контактного действия яда на сосущих теперь ясен!
Несмеянов поднял голову, посмотрел пристально.
— Теоретически это для меня ясно давно. Но знаете, теория без практики мертва. И я разделяю вашу радость. Она обоюдна. Я не ошибся, вы, дружище, своими наблюдениями, пока, правда, предварительно, но подтвердили предполагаемое теоретически. Если в новой серии препаратов данные повторятся, надо будет предложить вынести эксперимент в полевые условия. Попробовать, например, эффективность контактного действия ОВ на степной саранче в Азербайджане. Там, в сухих степях, корму для нее мало, и бороться «авиаметодом» с ней, если рассчитывать на обычную методику опыления растительности, вероятно, нельзя. Поедете весной туда проводить опыты на земле… Пока? Знаю, знаю, вы хотели бы работать в авиаэкспедиции. Это от вас не уйдет. А сейчас нехорошо оставлять дело недоделанным. Всегда и везде нельзя, а в науке особенно. Так что соглашайтесь.
…В апреле я поехал в Азербайджан, в Мильскую степь. Там с двумя подсобными рабочими-парнями два месяца жил на хуторе у заброшенного древнего канала Гяур-Арх, собирал корзинами степную саранчу, сначала маленьких прыгунчиков, потом почти взрослых особей, и, разместив в проволочных садках, опылял различными видами ОВ. Этот эксперимент подтвердил данные, полученные зимой в НИЛОВ. Саранчуки гибли от контактного действия мышьякового натра. А когда ночами на степь опускалась роса, также от контактного действия других ядов. В этом случае крупинки их проникали в организм вместе с засасываемой дыхальцами влагой.
Через год мне доверили уже опытную авиационную экспедицию в ту же Мильскую степь. Там мы опыляли скопления степной саранчи с новых самолетов «У-2», вооруженных новыми «аэропылами» Коротких — Степанова и Михайлова-Сенкевича. Саранча гибла. Десять тысяч гектаров было освобождено от нее! Причем у нас было всего три самолета! А еще через год в специальном сборнике поместили мою статью об этой авиаэкспедиции, об удавшейся проверке на практике еще одного средства борьбы с вредителями сельского хозяйства…
…И еще пролетела вереница лет. Александр Николаевич Несмеянов сделал много важных открытий по своей специальности, стал выдающимся химиком, академиком, в пятидесятые годы возглавил Академию наук СССР.
Мне мало приходилось встречаться с ним. Пути наши в жизни были совсем разные. И все же этот человек остался в моем сердце. Как один из тех наставников, которые незабываемы. Как подлинный ученый, он бескорыстно учил своих сотрудников, может быть, главному — основам научного поиска! Требовательности к себе, настойчивости, бескомпромиссности, столь нужных на путях-дорогах исследования незнаемого.
И еще несколько слов о том, чему вообще положили начало люди, работавшие полвека назад в лаборатории со «страшным» названием «Научно-исследовательская лаборатория отравляющих веществ (НИЛОВ)». Бесспорно, Несмеянов, Степанов, Коротких, Михайлов-Сенкевич, химик Спицын и другие сотрудники ее заложили фундамент нетранспортных применений авиации в нашем народном хозяйстве.
Вот некоторые итоги такого применения.
Давно покончено у нас с угрозой уничтожения плодов труда земледельцев стаями саранчи, гусеницами лугового мотылька и многих других вредителей, покончено главным образом с помощью «авиаметода». Авиация внесла также огромный вклад в победу над малярией в южных районах нашей страны путем уничтожения в болотах и плавнях личинок комара анофелеса. Авиация спасла от гибели тысячи гектаров ценных лесных угодий, поражаемых гусеницами «соснового шелкопряда», и участвуя в борьбе с лесными пожарами.
Сейчас тысячи самолетов, специально приспособленных для опыления, разбрызгивания жидкостей или аэрозолей, круглый год работают на просторах нашей земли. Круглый год? Да, потому что одни из самых главных применений «авиаметода» в сельском хозяйстве теперь — подкормка посевов и плантаций удобрениями. Массивы колхозных и совхозных полей дают возможность с огромной производительностью использовать авиацию для повышения урожайности.
Трудно, конечно, подсчитать, сколько зерна и других продуктов сельскохозяйственного производства спасли наши летчики и от вредителей. Во всяком случае, сотни миллионов тонн. И когда мне в газетах и журналах иногда попадаются модные рассуждения, подводящие к выводу о том, что, дескать, напрасно рассеивали яды, борясь с саранчой, хлопковой совкой или личинками малярийного комара, что это принесло вред «природе», я испытываю чувство недоумения. Неужели авторам таких рассуждений в защиту «прав природы» не понятно, что каждая лишняя тонна зерна, например, прокармливает одного человека, а миллионы тонн, следовательно, спасли от недоедания и голода множество людей? Людей!
Конечно, способы борьбы с вредителями растений совершенствуются и будут совершенствоваться. Вполне возможно, и к этому надо стремиться, что ядохимикаты полностью заменят иные способы и методы защиты плодов труда земледельцев, садоводов и лесоводов, способы и методы такие же эффективные, как «авиаметод», но не нарушающие экологическое равновесие в природе. То будет другой, высший этап использования человеком ее богатств. Процесс этот бесконечен. «Наука имеет много гитик», бесконечно много. И совсем не умно, исходя из возможностей будущего, бросать тень на сделанное ранее и уже давшее народному хозяйству, людям многое. Ведь, повторю, миллионы тонн продуктов питания, уже спасенные, скидывать со счетов нельзя и нечестно с позиций гуманизма.
И уж совсем нехорошо, когда иной раз выражаются сомнения в целесообразности использования химических удобрений вообще и «авиаметода» их внесения на поля. Неужели авторы этих высказываний не понимают, что авиация дала возможность применять удобрения тогда (например, зимой) и там (например, на поливных плантациях), когда земная техника недейственна, и к тому же в оптимальные сроки? И что в результате использование авиации в сельском хозяйстве дает уже не миллионы, а десятки миллионов тонн прибавки к урожаю в каждом году! И это не криминальный «сиюминутный эффект»! Это необходимость определенного этапа использования природных богатств в истории человечества на пути в будущее.
ДВА НЕСОСТОЯВШИХСЯ ОТКРЫТИЯ
ТАИНСТВЕННЫЕ ОАЗИСЫ
Серая, коричневатая, лупоглазая саранча летела и летела с юга, из пустынь Ирана и Афганистана. Многие дни, когда раскаленное солнце поднималось над полями и садами Туркмении, в тихом воздухе слышался шелест, бумажное шуршание мерцающих крыльев множества насекомых. И тогда над холмами предгорий Копетдага, над оазисами и такырами низменностей как бы стелился, клубясь, странный желтоватый туман.
К вечеру бесчисленные стаи пустынной саранчи шистоцерки опускались, облепляли деревья и кустарники, гроздьями повисали на стеблях растений, пригибая их долу. И там, где сели стаи, зловещий хруст оповещал о том, что гибнет урожай, выращенный немалым трудом на сухой и горячей туркменской земле.
Для борьбы с этим стихийным бедствием в Туркменской республике был создан чрезвычайный штаб. «Чусары» — чрезвычайные уполномоченные по борьбе с шистоцеркой — вместе с местными советскими и партийными организациями выводили на бой с крылатым противником все взрослое население городов и кишлаков. Чтобы преградить путь переползающим насекомым, поля окапывались канавами, и по мере накопления там саранчу сжигали, полив керосином. С деревьев ее стряхивали и давили чем придется. Опрыскивали посевы ядовитыми растворами. Со всей страны в эти края, прицепляя товарные вагоны к пассажирским поездам, свозили необходимую аппаратуру и химикаты. Ночью и днем шел бой с крылатой напастью.
К сожалению, в том яростном сражении не было возможности применять авиацию. Специально оборудованных для опыления растений ядохимикатами самолетов тогда в Советском Союзе было… лишь шесть! И они уже использовались для истребления другого вида саранчи — зеленой, «азиатской», тоже очень опасной — на Кубани и на Сырдарье и в опытах по борьбе с вредителями хлопка в Армении. Все же в Туркмению был переброшен авиаотряд самолетов-разведчиков бипланов типа «Р-5».
Два или три из них, точно не помню, в Ашхабаде стали срочно переоборудовать под аэроопыление. Во вторую кабину летчика-наблюдателя устанавливали металлические баки с устройством для выбрасывания ядовитого порошка. Но этим самолетам так и не пришлось активно поработать. Когда переоборудование было закончено, лёт шистоцерки уже прекратился.
Другие машины авиаотряда получили задание вести разведку саранчовых стай, особенно в безлюдных местностях, в том числе в пустынях Каракум и Кызылкум. Там, в оазисах или в предгорьях, конечно, саранча осенью погибла бы. Но, завершая свой жизненный цикл, отложила бы в почву миллионы яичек. И тогда следующей весной здесь снова нужно было бы ожидать очагов ее размножения. Поэтому и нужна была разведка.
Звено отряда «Р-5» для разведки саранчовых стай в восточной Туркмении базировалось в городке Чарджоу. Под аэродром здесь приспособили луг на берегу Амударьи, недалеко от железнодорожного моста. Я был назначен в это звено старшим летнабом-инструктором, ибо уже знал повадки саранчи, участвовал два года назад в одной из первых опытных авиационных экспедиций по борьбе с ней в пойме Сырдарьи, а за месяц до нашествия шистоцерки в Туркмению руководил опытами по истреблению еще одного вида саранчи — степной — в Азербайджане.
Мы вылетали утрами, пораньше. Ночью саранчуки обычно собираются на земле плотными массами, «скулиживаются», и такие скопления бывают хорошо видны с воздуха.
В течение первых трех-четырех дней мы прочесали левое побережье Амударьи от Чарджоу к югу, углубляясь в юго-восточную часть Каракумов, до границ с Афганистаном. Кое-где обнаружили осевшие стаи «кулиги» шистоцерки, сообщили об этом телеграммами в республиканский штаб «Чусара» и нанесли их месторасположение на карту.
Потом из штаба пришло распоряжение произвести разведку к северу от Чарджоу и, в частности, в междуречье Амударьи и Сырдарьи, к северу от города Бухары. Там, в южной части пустыни Кызылкум, на картах не было обозначено ни одного оазиса. Местные старожилы говорили, что по правому берегу Амударьи, ниже по ее течению, сразу же за железнодорожным мостом Чарджоу, начинаются непроходимые барханные пески, которые вширь и вглубь простираются на сотни километров.
«Эти пески называются «адам-крылган», что значит «гибель человека», — говорили нам. — И никто не помнит, чтобы через них благополучно проходили караваны. Пути через ту пустыню нет».
Самолеты «Р-5» обладали по тому времени довольно большим радиусом действия — километров до четырехсот. Но они были не очень-то надежны. Особенно «строги» при посадке. Тяжелый мотор, чуть что, тормозил пробег или, при неточности касания земли, «перетягивал» легкий фанерный корпус самолета, и он капотировал, то есть становился на нос. Потому при вынужденной посадке в пустыне, даже на такыре, обычно очень гладкой солончаковой тарелке, можно было ожидать неприятностей.
Старший пилот звена Родион Павлович Попов, человек, видавший виды, боевой летчик времен гражданской войны, естественно, решил, что в пустыню «адам-крылган» он полетит сам. А я летал в разведки в паре с ним.
…Часов около шести утра — солнце только что поднялось над высокими тополями и карагачами в пойме Амударьи — мы взлетели с нашего импровизированного аэродрома, сделали над ним положенный круг, чтобы проверить работу мотора, и пошли над великой среднеазиатской рекой вниз по ее течению.
Сводка погоды была благоприятной. Наш метеоролог сообщил нам, что днем, как обычно, будет 35—40°, ветер слабый, ясно. Однако, когда «Р-5» набрал высоту метров пятьсот, по южному горизонту за нашей спиной появилась желтовато-серая дымчатая полоса. До этого мы такой облачности здесь еще не наблюдали. Она стала еще более отчетливо видна, когда Родион Павлович резко изменил курс и повел машину перпендикулярно широкой ленте реки кофейного цвета, на восток — в пустыню Кызылкум.
Сразу же за Амударьей под нами начались барханные пески. С птичьего полета они были похожи на недвижные желтые волны, изрябившие поверхность земли от края ее… и до края. И вскоре мы точно висели над медленно проплывающим назад бесконечным, бескрайним мертвым пространством.
Я внимательно вглядывался в однообразное, плоское лицо пустыни. Лишь кое-где барханы-волны немного сглаживались, и тогда на них были видны, как серые мелкие оспинки, заросли саксаула. Оазисы нигде не появлялись.
— Ну зачем сюда лететь этой чертовой саранче? Ей же здесь поживиться нечем, — сказал Родной Павлович. — Давай, Виктор, еще километров пятьдесят пройдем — и обратно. К тому же не нравится мне вон то… Да посмотри ты направо.
Я оторвался от своих наблюдений и взглянул на юг. Та желто-серая дымчатая полоса над горизонтом как бы вспухла и теперь довольно высоко висела над краем земли. Точно дым огромного пожара, который бушевал где-то далеко-далеко, поднялся в небо.
— Что это, как ты думаешь? — спросил я.
— А кто его знает! Одно скажу — погодка меняется… Ветер усилился. Бьет в правый борт. Видишь, как сносит с курса?
И вдруг впереди сквозь мерцающий круг пропеллера я увидел темную на желтом фоне барханных песков продолговатую тень. Родион Павлович тоже увидел ее.
— Что-то там есть! — крикнул он. — Вроде какой-то оазис…
Скоро мы оказались над неширокой, плоской долиной. По своим очертаниям она походила на лист ивы. Сжатая барханами долина была живой в этом царстве мертвого песка. Редкие по окраинам, густые к осевой линии «листа», там зеленели кустарники и травы. В нескольких местах, в особо густой, седоватой зелени, — видимо заросли камышей, — поблескивала вода!
Попов заложил вираж, самолет снизился и пошел над долинкой, вдоль нее. С небольшой высоты стали явственно видны и заросли, и луговины, и небольшие зеркальца воды. Какие-то птицы взлетали и метались, суетились. Два сайгака стремительно помчались в сторону песков.
Жизнь, жизнь была здесь, среди песков. Но долина была безлюдной. Ни человека, ни жилья…
Внимательно осматривая растительность, я нигде не обнаружил характерных пятен саранчовых «кулиг». Не было видно нигде и съеденных участков камыша или кустарников.
— Здесь как будто чисто, — сказал я Родиону Павловичу. — Облетать еще раз не будем.
— Значит, домой… — ответил он.
Но, поднявшись немного, в нескольких километрах за этим оазисом мы увидели другой точно такой же, потом третий, четвертый и поменьше и конечно же повернули туда и их обследовали.
— Давай все же домой, Виктор, — сказал минут через двадцать Попов как-то тревожно. — Ты что, не видишь, что начинает твориться?
Я оторвался от изучения очередной долины. Они одна за другой, цепочкой, лежали на груди пустыни зелеными островками. Понятно, что нужно было осмотреть их все. Оглянулся, и мне стало не по себе. Солнце висело в какой-то желтой мути. Линия горизонта просматривалась лишь на севере. А с других сторон небо слилось с пустыней.
— «Афганец»! — воскликнул я, вспомнив о песчаных бурях с таким названием.
— Видно, так. Черт бы побрал твою саранчу! — ответил Попов и резко сменил курс.
Прошло, думаю, не больше получаса с этого момента, как солнце скрылось совершенно и мы оказались в плену «афганца».
Сквозь ровный, привычный шум мотора теперь прорывался свист ветра в расчалках плоскостей биплана и шуршание мелких песчинок, струившихся по плоскостям крыльев, по фюзеляжу машины. И ничего невозможно было различить вокруг! Все было желто-серым, однотонным, беспросветным. Лишь иногда под крылом проглядывались дымящиеся гребни барханов.
Попов снизился почти до высоты бреющего полета, если можно назвать «высотой» расстояние до земли метров двадцать — тридцать. «Р-5» бросало из стороны в сторону. Ветер усилился до штормового.
— Смотри лучше. Как бы нам не пропереть через речушку в Каракумы. Тогда амба. Смотри. Мне надо с конем управляться.
Попов сказал это спокойно. Впрочем, как уже не раз до того в минуты опасности, я тоже чувствовал себя, довольно спокойно. Точно срабатывал какой-то особый механизм самозащиты мозга. Сознание было ясным. Глаза подмечали малейшие детали. Сердце билось лишь чуть более учащенно, чем обычно, а мышцы были напряжены, точно перед прыжком, и руки непроизвольно крепче сжимали борта при очередном рывке самолета в сторону.
Я высунул голову за борт кабины, чтобы лучше видеть землю.
Впрочем, не землю, а клубящийся, мечущийся во все стороны, сошедший с ума песок… Скоро, а может быть, и не скоро, мне показалось, что он почему-то потемнел. Затем снова «земля» внизу обрела тот же монотонный серо-желтый цвет. Я оглянулся назад. Все же почему таи только что было темнее? И увидел, как говорят, косым зрением глянцевитые взблески поверхности коричневой воды…
— Мы прошли Амударью! — заорал я. — Давай поворачивай…
Попов осторожно, «блинчиком», развернулся на сто восемьдесят градусов и еще больше снизил высоту полета.
Да, это была та его «речка», которую мы только что пересекли. С пяти-шести метров потерять ее было уже невозможно, и мы полетели над какими-то мелкими, в белых длинных прожилках волнами на юг.
— Мост скоро… Смотри его-то не прозевай, Виктор!..
Мост мы увидели одновременно метрах в ста перед носом самолета. Попов сделал горку, «перепрыгнул» через него и вскоре плюхнулся на аэродром. Пожалуй, лишь из-за сильного встречного ветра «прыжок» да и приземление сошли благополучно. При посадке машина не скапотировала…
Родион Павлович вылез из кабины, спрыгнул на землю и погрозил мне кулаком. Но глаза его, светлые и пронзительные, светились радостью: все кончилось благополучно.
«Афганец» утих только через двое суток и так же внезапно, как и начался. Из штаба «Чусара» к этому времени пришла телеграмма, ответ на наше сообщение об обнаруженных в Кызылкумах оазисах. В телеграмме предлагалось «не рисковать больше самолетом». А для разведки направить туда наземную группу с участием летнаба Сытина для проверки его утверждения, что саранчи в этих оазисах нет.
…Приказ — есть приказ. Пришлось его выполнять, хотя и очень не хотелось отправляться в путь в безводные песни «адам-крылган».
Чарджоуский штаб по борьбе с саранчой поручил агроному Хаджибаеву, хорошо знавшему пустыню, возглавить небольшую экспедицию. В состав ее помимо его и меня вошел еще и молодой парень Миша, энтомолог.
Из Чарджоу мы отправились в путь на большой плоскодонной лодке с тракторным двигателем, который вращал два колеса с широкими лопастями по бортам. Такие лодки здесь называли «тракторными баржами». На ней экспедиция спустилась вниз по Амударье до районного центра Дейнау. Там местные власти помогли Хаджибаеву нанять пять верблюдов и несколько ишаков, пригласить трех погонщиков и закупить продовольствие и корм для животных на неделю.
Переправившись через реку на такой же «тракторной лодке» (поселок Дейнау расположен на левом берегу Амударьи), ранним утром мы вышли в поход. Уже в километре от реки наш небольшой караван вступил в царство сыпучих песков. Многометровые неподвижные волны барханов и мутное голубое небо над нами. Ни деревца, ни кустика, ни травки… Кивая головами, верблюды спокойно месили песок, поднимаясь на крутые подветренные склоны барханов и спускаясь затем по покрытым мелкой рябью пологим, наветренным. Вверх-вниз, вверх-вниз… Ишакам было труднее, их копытца глубже тонули в песке. Но и они семенили бодро один за другим, поднимая тонкую пыль.
Когда солнце поднялось, стало нестерпимо жарко. На горизонте, в колеблющихся струях раскаленного воздуха, замерцали миражи — голубые озера, причудливые горы, купы деревьев.
Хаджибаев приказал остановиться на отдых. Я лег под гребень бархана, глотнул немного воды. Она была уже теплой и не утолила жажды. Но много пить в таких походах днем нельзя. Надо терпеть до вечера.
Я лежал и думал о том, какие огромные пространства земли на нашей планете вот так же безжизненны и никчемны. Сахара — больше Европы. Каракумы и Кызылкумы — больше половины европейской части Советской страны. А еще есть Гоби, Калахари, огромные пустыни Австралии… Лишь на Американском континенте нет таких обширных пустынь.
Вероятно, я задремал, потому что не заметил, как ко мне подошел Хаджибаев.
— Трудно? — спросил он.
— Терпеть можно, — улыбнулся я в ответ.
— Мы прошли километров пятнадцать. К ночи, иншаллах, пройдем еще не более десяти. Стало быть, трое суток будем в пути. Ведь вы говорили, до тех оазисов километров семьдесят — восемьдесят?
— Да, потому что мы летели туда около получаса.
— Если вы ошиблись и через трое суток не выйдем к оазисам — вернемся… — сказал Хаджибаев. — И пусть ваше «открытие» потом проверяют специалисты географы! — Он усмехнулся. — А я рисковать не хочу. Дальше двинемся в шестнадцать ноль-ноль.
Хаджибаев был в недавнем прошлом кавалеристом и в погонях за басмачами не один раз углублялся в Каракумы. Он любил выражаться по-военному…
…О путешествиях в пустынях рассказывалось много. Поэтому я не буду описывать дальше нашу экспедицию в пески «адам-крылган». Скажу только, что продолжалась она восемь дней; что мы добрались до зеленых долинок среди сыпучих песков, увиденных мной и Родионом Павловичем Поповым во время памятного полета и встречи с «афганцем», в существование которых никто не поверил, в том числе и Хаджибаев; что обратный путь был тяжек для людей и особенно вьючных животных, хотя шли они налегке, — два ишака погибли.
В обследованных оазисах саранчи мы не обнаружили. Но жизнь там кипела вовсю. Там гнездились утки, было много фазанов и разных мелких пичужек, и сочная трава, и заросли кустарников.
Откуда же взялись в барханных песках вода и благодаря воде жизнь?
Лишь вернувшись в Москву, я догадался, откуда. Но об этом после. А сейчас еще об одной истории.
ЭХО СТОЛЕТИЙ
Из Чарджоу наше звено «Р-5» вызвали в маленький городок Мерв[5] и дали поручение вести авиаразведку саранчовых «кулиг» по долине реки Мургаб.
Вечером в день прилета в Мерв в школу, где мы разместились, пришел московский профессор Николай Сергеевич Щербиновский, главный энтомолог республиканского штаба. Высокий, сухощавый, с немодной тогда округлой «шкиперской» бородой, одетый в парусиновый костюм, в брезентовых сапогах и тропическом шлеме, с планшетом через плечо, он имел вид «настоящего» путешественника.
Впрочем, Щербиновский и был таковым. Крупнейший специалист по насекомым-вредителям, и особенно саранчовым, он объездил Среднюю Азию и Закавказье, несколько раз побывал в Афганистане, Персии, Турции… О своих приключениях в экспедициях в труднодоступные районы, — а именно там он изучал гнездовья саранчовых, — Николай Сергеевич рассказывал красочно и увлекательно. И может, именно его рассказы студентам в научном биологическом кружке Московского университета побудили меня попроситься два года назад на работу в опытную авиаэкспедицию по борьбе с азиатской саранчой в плавнях Сырдарьи.
На этот раз профессор Щербиновский не предавался воспоминаниям. Он придирчиво выспросил у нас обо всем увиденном во время полетов в восточной Туркмении, а потом осведомил о положении на «саранчовом фронте» в республике.
Он сообщил, что к концу августа борьба с залетевшими в Туркмению стаями шистоцерки, как говорят, «в основном» была закончена и увенчалась успехом. Большого урона посевам и садам налет не принес. Победили организованность, широкое участие населения.
— Теперь, — сказал в заключение Щербиновский, — очень важно найти не обнаруженные еще стаи шистоцерки в малонаселенных местах, потому что скоро она начнет откладывать кубышки. Поэтому ваша задача — обследовать окраины Мургабского оазиса до афганской границы. Начинайте полеты с завтрашнего утра. На одной из машин и я полечу наблюдателем.
С восходом солнца мы зашагали на аэродром. Улицы городка были еще пустынны и тихи. Слышалось даже журчание воды в арыках. За последними домиками окраины открылось поле, поросшее чахлой полынью и кустиками злаков. На этом поле и стояли два наших «Р-5», привязанные расчалками к штопорам. Серая, растрескавшаяся земля то тут, то там скрывалась песчаными наносами. Длинными языками они тянулись с северо-востока, где пески заполнили все. Пустыня наступала оттуда.
Рогатые ящерицы, выползшие погреться, при нашем приближении, мелко-мелко задрожав, топили себя в песке.
Щербиновский шел молча. Потом показал рукой на коричнево-желтые холмики в двух-трех километрах от «аэродрома». Они четко выделялись на фоне песчаного раздолья.
— Развалины древнего Мерва, — сказал он. — Давным-давно это был огромный город. Видимо, самый крупный во всей Средней Азии. Важнейший торговый центр. Почти миллион обитателей. А вокруг расстилались плодородные поля. Чингисхан взял город и отдал его на разграбление. Все жители были уничтожены. Все! Миллион… Дома сожжены или разрушены. Оросительные системы повреждены. И тогда сюда пришла пустыня…
Щербиновский помолчал немного и продолжал:
— И может быть, именно потому, что здесь, на Мургабе, и по всей Южной Туркмении, вдоль горной системы Копетдага, на востоке по Амударье и Кашкадарье, в Узбекистане по Зеравшану и Сырдарье, — везде испокон веков, столетия — нет, тысячелетия, было развито земледелие, было много зелени, — сюда и привыкла лететь саранча из голодных иранских и афганских нагорий! Своим инстинктом она «знала», где есть пища.
…Самолет со Щербиновским стартовал первым и взял курс на юг, к Иолотани. Мы с Родионом Павловичем Поповым получили задание облететь северную часть Мургабского оазиса по границе его с Каракумами.
Ранним утром панорама земли с птичьего полета выглядит особенно рельефно. Косые лучи солнца выявляют тенями все неровности. Заметны даже малые кочки и бугорки, канавки и заросли кустарников. И когда мы взлетели и набрали высоту метров двести, я удивительно отчетливо увидел под крылом грандиозные останки древнего Мерва. Они занимали огромную площадь, ограниченную мощными стенами, во многих местах еще хорошо сохранившимися. Стены образовали правильный квадратный четырехугольник. Внутри его был хаос развалин, полузасыпанных светлым песком. И все же в этом хаосе можно было увидеть следы нескольких прямых улиц, идущих, очевидно, от ворот в стенах, площади, остатки больших зданий…
— Да, городок был не маленький! — сказал Родион Павлович, когда мы сделали над развалинами круг. — А вот там, посмотри, еще есть…
В нескольких километрах от древнего Мерва я увидел еще более поглощенные песками пустыни останки другого древнего поселения. Вообще, вглядываясь в панораму земли, я вдруг стал различать под ребристой поверхностью молодых, невысоких барханов то, что здесь когда-то было. С поверхности земли этого я никогда не замечал.
Легкой, но все же совершенно ясной синеватой тенью чертили пространство под крылом давно уже сухие магистральные каналы древней оросительной системы. От них ниточками тянулись арыки. Они покрывали зыбкой мозаичной сеткой нескончаемые пески, под которыми лежали погребенные ими поля. Следы оросителей уходили далеко к горизонту, в пустыню. То тут, то там солнечные тени выявляли неправильной формы холмики — руины отдельных строений. Среди них попадались округлые бугорки, и я подумал, что это, наверное, засыпаны мусульманские надгробия — мазары, часто венчавшиеся куполами.
Когда-то цветущая земля, как старая, потрескавшаяся картина, лежала внизу. Прошлое ее сигнализировало солнечными тенями. Это было эхо истории…
Взирая на эту удивительную картину, я как-то невольно продолжил свои размышления, начатые там, под гребнем бархана пустыни «адам-крылган», раздумывая о пустынях Земли вообще, об их агрессии в отношении человека. Ведь и Сахара когда-то была меньше. Во времена фараонов там было множество плодородных оазисов, была живая жизнь, а не камень и песок.
И мне вспомнилась книжка, изданная в Калуге мало кому известным тогда изобретателем Циолковским. Мне дал ее его друг Владимир Васильевич Ассонов. В книжке были очень интересные мысли и проекты борьбы с пустынями.
— Ты что, спишь, Виктор? — оторвал меня от дум Попов. — Смотри, вот на этих зарослях, по-моему, сидит эта чертова саранча!
Я и не заметил, как Попов развернул наш «Р-5», и теперь самолет шел над окраинами Мургабского оазиса. Внизу, по протокам небольшой реки Мургаб, встречались небольшие болотца, заросшие камышом, и заросли голубоватого кустарника — джиды и колючника. На одном болотце камыши были точно выжжены или выкошены пятнами. А по краям этих пятен на зелени выделялись коричневатые потеки.
Попов снизился и сделал круг над болотцами. Теперь сомнений быть не могло, здесь действительно осела на кормежку стая шистоцерки. «Кулига» ее была небольшая. Но сколько «кубышек» могли отложить миллионы саранчуков этой стаи! Я сориентировался, отметил на карте местонахождение «кулиги» и крикнул Родиону Павловичу:
— Давай дальше…
Часа за два полета дальше по окраине оазиса мы больше саранчи не увидели. Встретились лишь несколько очень небольших «кулиг» на обочинах нолей к востоку от города Байрам-Али. Но эти стаи шистоцерки уже «доколачивали» отряды местного населения.
На аэродроме мы застали вернувшегося несколько ранее Щербиновского. В южной части Мургабского оазиса он тоже не нашел крупных скоплений вредителя.
Тем не менее, уезжая, Николай Сергеевич поручил нам совершить еще несколько разведывательных полетов в этом районе, а затем прибыть в Ашхабад.
Несколько дней по утрам мы регулярно облетали долину реки Мургаб, иногда заворачивая на двадцать — тридцать километров в пустыню. Но так и не напали на большие стаи шистоцерки. В поле нашего зрения изредка попадались лишь мелкие «кулиги» недобитого врага. Потом перебазировались в Ашхабад и еще несколько дней летали в «боевую» саранчовую разведку или выполняли поручения по связи между поселками в округе Тедженского оазиса и в горах Копетдага. Волнующе красивы эти горы. Утрами склоны их то сине-фиолетовые, то кирпично-красные, а вершины аспидно-серые или розовые…
Теперь уже, наловчившись видеть внизу, под крылом, еле заметное «эхо истории», я во многих местах наблюдал проплывающие тени-знаки, сигнализирующие, что под песками у предгорий лежат останки древних цивилизаций, селений и укреплений, следы дорог и оросительных систем некогда плодородных полей.
Помнится, после «отбоя» — приказа возвращаться домой — вечером накануне моего отъезда мы долго сидели с Родионом Павловичем Поповым у нашей палатки на аэродроме. Говорили о том о сем, больше, конечно, о далеком доме. Но и вспоминали кое-что из экспедиционных былей.
Попов сказал тогда:
— Очень интересно смотреть с воздуха на то, что было раньше на Земле. Ты вот пописываешь в журнальчиках — в «Вокруг света», во «Всемирном следопыте». Наверное, уже задумал про эту чертову саранчу написать. А ты не о ней напиши. Напиши про то, что ты сам назвал красиво — «Эхо истории», «Эхо столетий»…
Больше с Родионом Павловичем Поповым, увы, встретиться мне не довелось. Через год он погиб. Подвел все же «Р-5». При посадке на плохом аэродроме он скапотировался, потом перевернулся вверх колесами и погубил хорошего человека и замечательного пилота.
«ЖЕМЧУЖНОЕ ЗЕРНО»
На следующий день после возвращения из солнечных краев, слякотным осенним московским вечером, я поехал в редакцию журнала «Всемирный следопыт». Этот журнал и еще «Вокруг света» пользовались большой любовью у молодых читателей. Да и не только у молодых. В них печатались повести и рассказы, корреспонденции и заметки о путешествиях, приключениях, занятных и редких явлениях природы и вообще было всегда много интересной информации о жизни народов разных стран, открытиях, изобретениях. Эти издания печатались и расходились по тому времени огромными тиражами в сотни тысяч экземпляров.
Душой журналов, организатором деятельности их редакции был Владимир Алексеевич Попов. Невысокого роста, сутулый, он ходил немного подпрыгивая. Сотрудники журналов и авторы называли его между собой «Конек-горбунок» и очень любили за товарищеское отношение, а главное — за душевное желание добыть хороший материал и умение заинтересовать поиском оригинальных сюжетов и тем. Поэтому нередко печатались во «Всемирном следопыте» известные писатели, ученые и журналисты. Но все же большинство в авторском активе составляли начинающие литераторы и молодые научные работники, участники различных экспедиций и походов, моряки и геологи и т. д.
Меня познакомил с Владимиром Алексеевичем за год до того писатель Николай Шпанов. Он только что вернулся из экспедиции по спасению экипажа дирижабля «Италия» на ледоколе «Красин» и напечатал во «Всемирном следопыте» серию очерков об этом подвиге советских моряков и летчика Чухновского. Я же тогда вернулся из путешествия в Центральную Сибирь, где участвовал в экспедиции Леонида Алексеевича Кулика в поисках Тунгусского метеорита. И Владимир Алексеевич заинтересовался этим, предложил мне сотрудничество и потом напечатал несколько моих заметок. У Попова было правило: когда автор возвращался из поездок по стране или за рубежом, приглашать его вечером в редакцию на «чашку чая» и вместе с работниками журналов выспрашивать, что интересного он увидел. Выискивал он в его рассказах тему для очерка или корреспонденции. На такие «чашки чая» нередко приходили видные ученые, бывал даже и Анатолий Васильевич Луначарский.
…В тот слякотный осенний вечер 1929 года в редакции собралось мало народу. Знатных гостей не было, и это помогло мне. Я плохой рассказчик, и большая аудитория всегда меня сковывает.
Покуривая папиросы и пуская дым носом в черные короткие усы, Владимир Алексеевич, казалось, внимательно слушал мой рассказ о полете в пустыню «адам-крылган», о затерянных в ее песках оазисах, о том, что я увидел «эхо истории» в районе Мерва и в предгорьях Копетдага.
— М-да… Все это занятно, Виктор. А каким образом появились в твоей пустыне оазисы? — спросил он, когда я закончил свое не очень складное повествование.
— Это объяснимо… Забыл об этом сказать, — заторопился я. — Внимательно посмотрев на карту Средней Азии…
— Посмотрим на нее сейчас вместе, — прервал меня Владимир Алексеевич. — Дайте, пожалуйста, кто-нибудь атлас…
На физической карте Туркмении и Узбекистана междуречье Амударьи и Сырдарьи к северу от полезной дороги Ташкент — Чарджоу было закрашено однообразным желтым цветом. К югу рельеф местности был иной, и по направлению к Бухаре из Ферганской долины тянулась, родившись в Гиссарском горном хребте, голубая ниточка реки Зеравшан. В районе Бухары она делилась на несколько веточек, которые далее обрывались.
— Вот здесь Зеравшан кончается. Его воды разбирают на орошение. Но думается мне, что часть их просачивается через пески и там, в пустыне, вновь появляется и делает жизнь… — высказал я свое предположение, когда все склонились над картой. — В общем, в этих песках — могила Зеравшана, или, если перевести это слово на русский, «раздавателя золота».
— Занятно, занятно, — снова попыхтел папиросой Владимир Алексеевич. — «Могила Зеравшана»… «Могила», «раздаватель золота»… Неплохо для названия. Повести… С приключениями…
— Можно было бы взять такой сюжет, — подхватил его мысль не помню уже кто из присутствующих. — В затерянном оазисе какой-нибудь курбаши басмачей создал свою базу. Хранил награбленные ценности, оружие, припасы. Потом, когда его банду разгромили, там остался его приближенный. Один. Началась робинзонада… В пустыне. Множество всяких приключений. А курбаши скрылся за границей и послал оттуда…
— Что ж, это возможный сюжет! Подумай, Виктор, — сказал Владимир Алексеевич. — Впрочем, «эхо столетий» тоже занятный материал. Но он больше подходит, пожалуй, для «Хочу все знать»… Так что давай садись-ка за повесть. Условно назовем ее «Могила Зеравшана». Знаете, может быть, одно из самых важных качеств литератора — это уметь вовремя разглядеть в материале жемчужное зерно и использовать его. Быть петухом из басни…
Присутствовавшие рассмеялись.
Владимир Алексеевич махнул рукой.
— Вот в чем дело! Был однажды такой случай…
Владимир Алексеевич любил и на вечерних встречах с авторами иногда рассказывать «назидательные» истории из своей богатой редакторской практики.
Тихо шумел самовар — чай пили в редакции вечерами обязательно из самовара, — позвякивали ложечками гости и сотрудники, было уютно и спокойно.
Владимир Алексеевич, прихлебывая чай, попыхивал папиросой, говорил, как рождались сюжеты романов и повестей у писателей прошлого и его нынешних друзей, как важно не упустить это самое «жемчужное зерно» и, что не менее важно, уметь найти для него совершенную, неповторимую оправу и создать в результате произведение искусства. В то же время, поскольку Попов был еще с дореволюционных времен организатором и редактором журналов «приключенческих», он всегда утверждал необходимость писать интересно, увлекательно, выдумывать или брать из жизни острые сюжеты…
Так и в тот осенний вечер Владимир Алексеевич, подводя итоги беседы, повторил мне свой совет написать именно приключенческую повесть.
Мне в то время было двадцать два. Писал я от случая к случаю и даже не мечтал стать литератором. Меня увлекал ветер дальних странствий, непреодолимое желание как можно больше увидеть в мире. И я не написал повести «Могила Зеравшана», хотя и придумал, и записал для нее, пожалуй, интересный и оригинальный сюжет. Кроме того, завершалась тогда моя учеба в университете, а потом, к весне, началась подготовка к новой опытной авиационной экспедиции в степи Азербайджана, а меня назначили начальником ее, и я целиком отдался этому делу. Не написал я ничего и на тему «эхо столетий». По той же причине. Так по собственной вине не довелось мне использовать два «жемчужных зерна». Действительно драгоценных. Я их «потерял».
…Через много лет наши геологи, исследуя Кызылкумы, установили, что действительно оазисы в южной части пустыни порождены водами Зеравшана. Оказалось, что эта река продолжала свое течение под барханами далеко к северу. Но этого мало, — оказалось, что в доисторические времена она размывала месторождения золота и в ее аллювиальных отложениях это золото было найдено. Видимо, и названа река была некогда людьми поэтому Зеравшаном — раздавателем золота. Подлинного золота, а не метафорического, то есть жизненной влаги для полей, как думалось мне. Установлено было, что в эпоху Хорезмского царства в пустыне добывали настоящее золото. Потом прииски были заброшены и забыты. А может быть, властители Хорезма сознательно так засекретили их, что никто в последующие столетия до них добраться не смог? Теперь там, в южных Кызылкумах, поселки и прииски. Еще нефть и газ, оказывается, хранили недра пустыни.
Не менее важным было бы в то время опубликовать рассказ о том, что с воздуха можно увидеть на земле следы давней деятельности человека.
Правда, еще в начале двадцатых годов военные летчики в Румынии заинтересовались грядой холмов, которые оказались остатками крепостного вала, построенного по приказу римского императора Траяна для защиты от воинственных кочевников. А иранский летчик-спортсмен также нечаянно открыл древнюю караванную дорогу в пустыне, ведущую к развалинам поселения. Но «воздушная археология» родилась позже.
В Советской стране самолет для разведки «эха истории» применил замечательный археолог, профессор С. П. Толстов в первые годы после второй мировой войны. Наблюдения с воздуха и аэрофотосъемка дали ему возможность открыть более двухсот городов и поселений в районе бывшего Хорезмского царства, пустынях Каракум и Кызылкум, по долинам Амударьи и Сырдарьи и прибрежью Аральского моря!
И посейчас самолет помогает нашим археологам делать интереснейшие открытия. К примеру, в исследовании развалин «Великого города», столицы древней Булгарии, в Среднем Поволжье.
Широко применяют самолеты и зарубежные ученые.
Археологические поиски ведутся ныне с помощью визуальных наблюдений «с птичьего полета» и аэрофотосъемок во всем мире. Они позволили сделать множество крупнейших открытий в познании цивилизаций прошлого.
…Нет, совсем не для того, чтобы заявить о каком-то своем приоритете, пишу я эту главу своей книжки. Несостоявшееся — невозместимо. «Жемчужные зерна» были потеряны мной навсегда. Однако и ошибки стоят того, чтобы о них вспоминать.
Если найдено что-то интересное в любой отрасли знания, техники, науки, производства, что-то хотя бы даже кажущееся новым, — не проходи мимо! Подумай, поговори со сведущими людьми, почитай на эту тему, — выясни для себя: может быть, найдено «жемчужное зерно»?
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА ЖИЗНИ
Тихий город. Булыжная мостовая. Старые дома. Ветви лип и кленов тянутся из-за заборов. Редкие прохожие. Мороженщица на углу накладывает на вафельные кружочки лакомство для белобрысой девчонки.
— Как пройти на Коровинскую?
— Коровинскую? — переспрашивает мороженщица. — А, теперь это улица Брута. Иди до перекрестка, там она и будет, поперек…
Я шагаю дальше по пыльной улице. Вскоре ее пересекает другая, узкая, поросшая подорожником и гусятницей. Налево она идет под уклон, и вдали синеет простор. Там край города, долина реки Оки…
На углу водопроводная колонка. В лужице плещутся утята. Фонарный столб. На нем древний, проржавевший фонарь с электролампочкой вместо керосиновой лампы. На заборе тоже проржавевшая табличка: «У. Бр…а, № 21».
Нумерация домов по улице Брута странная — «наоборот», нечетные номера идут против хода часовой стрелки, справа налево. Мне нужен дом семьдесят девять, и я шагаю по направлению к Оке. Дом под таким номером крайний. Далее несколько ракит и простор приречных лугов.
Дом под номером семьдесят девять правильнее будет называть домиком. У него всего три окошка по фасаду. Да еще одно над крышей, в светелке или мезонине, видимо пристроенном с противоположной его стороны, со двора.
Стучу в дверь, выкрашенную бурой, потрескавшейся краской. Открывает паренек с грустными глазами. За ним в узком коридорчике появляется высокий, сутулящийся старик в широкой блузе. Он улыбается приветливо в седую курчавую бороду, крепко жмет руку.
— Здравствуйте, Константин Эдуардович. Я от Александра Васильевича. Он…
Старик машет рукой:
— Я ничего не слышу. Входите, пожалуйста. И ничего пока не говорите. Может быть, вы хотите есть, чаю?
Но, увидев, что я отрицательно качаю головой, продолжает:
— Тогда идемте ко мне. Наверх. Вот по этой лесенке. Там поговорим.
Внешняя стена коридорчика почти целиком застеклена. На узком подоконнике лежат стопки маленьких брошюр, мне уже знакомых. Здесь «Горе и гений», «Любовь к самому себе, или истинное себялюбие», «Монизм вселенной», «Аэростат цельнометаллический».
Довольно крутая лесенка ведет на крытую, застекленную веранду. Здесь и мастерская, и склад. На полу и у стен листы жести, модели из нее и дерева различных тел обтекаемой формы и дирижаблей, верстачок, небольшой токарный станок, инструменты, свитки чертежей.
С веранды узкая дверь налево в светелку. Она невелика. Между окнами небольшой письменный стол. На нем лампа с круглым зеленым стеклянным абажуром, много книг, папки, старая чернильница, карандаши в стаканчике и слуховая трубка, похожая на большую воронку. Перед столом полумягкое кресло с круглой спинкой. Слева низкая железная кровать под серым простым одеялом. Еще одно такое же, как у стола, кресло.
В комнате есть еще шкаф с книгами и папками. На нем тоже папки и еще одна небольшая модель дирижабля из гофрированной жести.
Константин Эдуардович Циолковский жестом предлагает мне сесть в кресло у стола, берет слуховую трубку и устраивается в кресле у кровати.
— Вот теперь мы можем поговорить… Вы из ГИРДа?[6] Или сами по себе?.. Ну, да это все равно. Я всегда рад тем, кто интересуется моими изобретениями. Вот скоро, мне сообщили, будет отмечаться мой юбилей. Семьдесят пять лет прожито. Пойдет последняя глава жизни.
Я смотрю на человека, имя которого мне известно с детства.
Когда-то — лет шесть мне было — я видел его. Он вошел в комнату моего деда, хранителя калужского музея Ассонова. Я сидел на полу и складывал из кубиков башню для меньшого брата. Он показался мне таким же огромным, как дед, и потому-то очень страшным. Может быть, потому, что я знал, что это учитель, а мне ведь, я знал, скоро предстояло идти в школу!
У него были темная борода и усы, грива густых волос и темные злые глаза.
— Это мой внучек, — сказал дед. — Малыш, а читать любит и мастерить. Может быть, тоже изобретателем будет, как сын Александр. — И рассмеялся.
Улыбнулся и он, этот страшный человек — учитель. Потрепал меня по макушке, хмыкнул что-то и, взяв под руку деда, вышел.
…А сейчас передо мной сидел в кресле уже седой, согбенный человек. Под высоким и чистым лбом его светились темные, внимательные и совсем не злые, а, наоборот, добрые и усталые глаза.
— Константин Эдуардович! Вам писал мой дядя, Александр Васильевич Ассонов. Вы ответили, что можете принять меня в любое время. Вот я и приехал в Калугу. Я работаю в авиации. Немного пишу. И мне очень захотелось познакомиться с вами. Потому что… Потому что это же… То, что вы сделали… изобретаете… это же для будущего всего человечества. Это же замечательно!
Приставив слуховую трубку к левому уху, полуотвернувшись, Константин Эдуардович, казалось, внимательно слушал мой бессвязный лепет.
Я смутился и замолчал. Циолковский улыбнулся. Наверное, он понял, что мне стало не по себе. И он заговорил просто, как будто продолжал уже долго идущую беседу:
— Ко мне теперь приезжают часто. И я очень, очень рад этому. Раньше я был одинок. Только несколько человек интересовались моими изобретениями. Рынин, Перельман, Жуковский, Рыкачев. Покойный ваш дед Василий Иванович и его, слава богу, здравствующие сыновья Александр Васильевич и Владимир Васильевич. Они мне много помогали… Теперь приезжают те, кто практически работают над моими идеями. Были Тихонравов, Королев. Это из ГИРДа. Были из ЦАГИ насчет дирижабля. Я очень радуюсь этому. Я понимаю, что им трудно. А как же иначе?
Изобретения идут в жизнь, всегда преодолевая препятствия. И потому всякий человек, кто поддержит их и мои изобретения, для меня гость желанный. Вы говорите, что пишете. Вот и напишете о дирижабле. За ним будущее. Вот и напишите о ракетах. За ними тоже большое будущее. Или просто расскажите знакомым и друзьям о моих идеях. Тоже будет помощь. И не смущайтесь, пожалуйста, что потревожили старика. Теперь я работаю по утрам, к вечеру утомляюсь. Да нет, не поймите эти слова как намек! — снова улыбнулся Циолковский, заметив, что я порываюсь встать. — Я еще бодр сегодня. И повторяю — рад побеседовать с молодым авиатором. Тем более с родственником моих друзей. А как поживает Александр Васильевич? Как его изобретения? Ведь он знающий инженер.
Я ответил, и беседа завязалась.
Но вскоре заскрипела лесенка, ведущая в светелку. В дверях появилась жена Константина Эдуардовича Варвара Евграфовна, невысокая круглолицая старушка в платочке, и позвала ужинать.
После ужина с пачкой книжек Циолковского, напутствуемый им тепло и сердечно, я отправился на вокзал и потом всю дорогу, — а поезд шел тогда от Калуги до Москвы около шести часов, — не мог уснуть. Снова и снова мысленно переживал я визит к замечательному человеку и раздумывал о нем. По рассказам и прочитанной книге «Вне земли» представлялся он мне незаурядным изобретателем и философом, будоражащим мысль своими идеями о межпланетных путешествиях, о поселениях людей в космическом пространстве, о дирижаблях с оболочкой из волнистого металла, которые смогут перевозить сотни пассажиров…
И о трагической жизни его я знал много. В детстве он оглох и не мог учиться в школе; самообразованием постиг основы физики и математики и увлекся проблемами полета; еще в конце прошлого века изобрел новый тип цельнометаллического дирижабля с изменяющимся объемом и доказал вычислениями, что только с помощью реактивной силы ракет человек сможет преодолеть земное притяжение и завоевать безбрежное космическое пространство. Став учителем математики сначала в Боровске, а затем Калуге, он всю жизнь жил очень тяжко, однако продолжал упорно работать над теорией ракет, над дирижаблем, над многими другими изобретениями.
Я вспомнил, как несколько лет назад на Тверском бульваре была выставка «Межпланетных сообщений», где наивные фантастические картины и схемы «агитировали» посетителей вступать в ряды «звездоплавателей». На выставке был скульптурный портрет Циолковского. Живой он был мало похож на него, был проще, домашнее, что ли, и не столь суровым.
…Стучат колеса. Похрапывают соседи по вагонному «отсеку». Темная августовская ночь за окнами.
…А как он ответил на мой вопрос: «Почему на ваших книжках нет цены?»
— Книга — это материализованная человеческая мысль, — ответил он. — А разве можно оценить мысль? Поэтому и книги не должны иметь цены. Я уверен, в будущем все книги будут бесплатными! Кому нужно, тот и возьмет, что ему необходимо для чтения-развлечения или для дела. Вот потому я и печатал, когда мог, свои работы и не ставил на них цены…
…И как же он, непризнанный долгие-долгие годы, верит в то, что теперь последователи его идей добьются успеха? И почему?
— Наука теперь в нашей стране стала народной. Есть даже ассоциация изобретателей, таких же самоучек, как я, — говорил он. — Есть ГИРД и, самое главное, люди, которые, как и я, уверены в том, что человек не может вечно оставаться на Земле. Ему обязательно нужно будет обосноваться во всей солнечной системе…
…А как он еще бодр духом! Сказал: «Пойдет последняя глава жизни», — а сам стал рассказывать, что готовит сборник своих трудов, пишет в газеты и журналы и завтра послезавтра должен закончить новую статью «Звездоплавание».
— Это будет мой доклад, если, как говорят, здесь, в Калуге, общество почтит меня собранием в честь семидесятипятилетия.
…Прошло два года. Думается, именно эта встреча с Константином Эдуардовичем отвлекла меня от работы в самой «земной» авиации — сельскохозяйственной. В первую пятилетку она уже стала на ноги. Опытные авиаэкспедиции доказали эффективность применения самолетов в борьбе с саранчой и многими другими вредителями растений, с личинками малярийного комара, а также для рассева удобрений и таксации лесных массивов. И уже до сотни самолетов на бреющем полете проносились теперь над полями и садами, опыляя их ядами, убивающими вредителей, спасая миллионы пудов урожая. А вот проблема высотных полетов решена не была. Делались лишь первые шаги в изучении высоких слоев атмосферы — стратосферы, заоблачной зоны, — где можно было бы летать с бо́льшими скоростями из-за меньшей плотности воздуха. И когда при Центральном Совете Осоавиахима СССР возник Стратосферный комитет и его председатель Петр Сергеевич Дубенский предложил мне работать с ним, зампредом, я с радостью согласился.
В Стратосферном комитете собралась большая группа ученых, инженеров, изобретателей-энтузиастов. В нем были организованы общественные секции: по высотному воздухоплаванию, по методам изучения стратосферы, пропагандистская, а несколько позднее — реактивной техники. Предполагалось также выпускать различные печатные издания. Вот тогда я и написал Константину Эдуардовичу письмо с просьбой о встрече по делам уже Стратосферного комитета: очень хотелось привлечь Циолковского к нашей деятельности.
Константин Эдуардович быстро ответил согласием:
— Буду рад вас видеть, как только вам будет угодно…
…Стояла поздняя осень тысяча девятьсот тридцать четвертого года. По калужским улицам ветер переметал опавшие листья. Было холодно и сыро. Старая извозчичья пролетка дребезжала по булыжной мостовой. Наконец мы добрались до улицы Брута, теперь — Циолковского.
Теперь Константин Эдуардович жил в доме № 1 по этой улице. Дом выглядел добротно. Пять окон по фасаду с резными наличниками, высокая дверь слева.
Радушно и приветливо встретил меня хозяин и повел в новый свой кабинет. Два больших окна. Перед ними тот же письменный стол и лампа с круглым зеленым абажуром на нем. Те же полумягкие кресла с круглыми спинками. Тот же шкаф с книгами и папками. Еще один стол. Несколько моделей дирижабля и ракет в углу.
В новой рабочей комнате Циолковского почти все то же и так же расставлено, как и в светелке на улице Брута. Но больше простора, воздуха. А вот сам Константин Эдуардович очень изменился. Он сильно сутулится, шаркает ногами. Лицо землистое, серое, больное. И лишь глаза светятся живой мыслью, как и два года назад.
— Садитесь и рассказывайте, — говорит он глухим голосом, указывая рукой, как и тогда, на кресло перед письменным столом. — Я вот что-то все болею. Но продолжаю работать. И жду из типографии сборник своих трудов.
Он садится в другое кресло и приставляет к уху трубку.
Я рассказываю Циолковскому о Стратосферном комитете, о конференции по изучению стратосферы и трудах ее, которые скоро должны появиться в свет. В этих трудах печатается и работа Константина Эдуардовича о стратостатах. Циолковский внимательно слушает, изредка прерывая меня коротким вопросом и что-то записывая, как всегда, карандашом на листке бумаги на дощечке, положенной на колени.
В заключение говорю о том, что хорошо было бы, чтобы он написал автобиографию, и прошу подумать над тем, какие новые свои работы он хотел бы опубликовать.
— Свою биографию я писал уже несколько раз, — усмехается Циолковский. — Первая была в девять строк. Потом еще писал жизнеописание раза два или три, по нескольку страничек машинописи. Теперь есть почти готовая, самая полная. Но дать ее вам сейчас не могу. Надо еще посмотреть, подумать.
— Может быть, пришлете, когда закончите? Я постараюсь опубликовать ее в одном из журналов.
— Хорошо. Пришлю, когда закончу. А насчет новых работ… Есть… Большая. Еще не законченная. Об основах построения стратосферных машин. Я пришлю вам план. Может быть, подойдет? Может быть, напечатаете? Если нет, я не обижусь…
И вдруг он как-то сникает и, опустив голову, некоторое время молчит. Я понимаю, что ему плохо, что страшная болезнь мучает его. Надо прощаться, уходить, хотя так хочется еще побыть с ним…
Но вот, преодолев нахлынувшую слабость, Циолковский говорит:
— Простите старика. Врачи говорят — нужна операция. А я не хочу. Это прервет мою работу надолго. — И добавляет, увидев, что я поднимаюсь с кресла: — Мне уже лучше. Если не спешите, посидите еще немного… Спешите? Ну, тогда всего вам доброго. Передайте в Москве привет от Циолковского Тихонравову, Королеву, всем товарищам энтузиастам, кто трудится над ракетами. До свидания… Может быть, еще и увидимся.
И снова в вагоне поезда, как и прошлый раз, я заново мысленно переживал встречу с великим ученым и изобретателем. Да, теперь он стал признанным. Его называли отцом начинающей свой победный путь новой отрасли техники — реактивной, и каждому, кто работал в области авиации и воздухоплавания, стало знакомо и уважаемо имя дерзновенного человека реальной мечты.
Шла, увы, последняя глава его трудной и прекрасной жизни. Мне довелось в крайний год жизни Циолковского лишь еще раз, очень недолго, буквально на несколько минут, свидеться с ним. Он уже почти не мог вести беседу. И она была краткой и тяжкой. Он понимал — конец близок — и сказал всего несколько слов: «Простите старика, разговаривать не могу… Берегу силы… Продолжаю работать. Прощайте, и всего вам доброго». Однако по письмам, которые он слал мне, можно представить себе, как проходила его жизнь в преддверии небытия. Говорят они нам и потомкам о величии духа этого человека.
К сожалению, некоторые из этих писем утрачены. Сохранилось лишь несколько[7].
Вот они с небольшими необходимыми пояснениями.
«1934 г. 22 декабря. В. А. Сытину от
К. Циолковского
(Калуга, ул. Ц-го, д. 1).
Многоуважаемый Виктор Александрович.
Вот оглавление и содержание рукописи
Основы построения стратосферных машин.
* 1. Сжатие и расширение «постоянных» газов.
* 2. Давление нормального потока на плоскость.
* 3. Трение.
4. Сопротивление среды движению плотных тел.
* 5. Вращение тел.
* 6. Плотность атмосферы.
7. Новые моторы разных типов.
8. Применение их к воздушному транспорту.
Главы, отмеченные «звездочкой», переписаны на пишущей машине, остальные частично готовы, частично пишутся.
Отмеченные звездой, после проверки, могут быть высланы скоро, если нужно. (24 + 12 + 5 + 10 + 14). Готовы 65 стр. машинописи.
Еще хорошо бы издать мою автобиографию. Она готова и составит стр. 65 машинописи. Всего 125 стр.
Остальное может быть закончено через несколько месяцев.
Очень много таблиц, но надеюсь, что все сочинение не займет более 10 печ. листов, т. е. 100 стр.
Ваш ЦиолковскийP. S. Не издавать ли здесь, в Калуге, под моим надзором?
Не вышел ли бюллетень РНИИ?[8]
Если мне не изменяет память, это было первое письмо Константина Эдуардовича после моего визита к нему осенью 1934 года.
Оно говорит о том, что он решил сотрудничать со Стратосферным комитетом и что не забыл о нашем тогдашнем разговоре.
Второе письмо, посланное Циолковским в первых числах января следующего года, утрачено, а вот третье сохранилось.
«1935 г. 16 января. В. А. Сытину
от Циолковского
(Калуга, ул Ц-го, 1)
Глубокоуважаемый Виктор Александрович.
Свою автобиографию я исправлю и вышлю через 15—20 дней. (Машинопись) «Стратосферный полет» состоит из двух частей:
1) Подготовительный и 2) реактивного стратоплана. Первая — может быть выслана, напр., через 2 месяца. Про вторую же не могу сказать так определенно. Но не позже, чем через 4 месяца. Послать ли сначала 1-ю часть или зараз обе, когда будут готовы?
Последнее проще.
Ваш Циолковский».Четвертое его письмо также не сохранилось. Но мне помнится, в нем Константин Эдуардович писал о том, что приветствует создание в Стратосферном комитете секции по изучению реактивного движения, о чем я ему написал, и сообщал о скорой высылке своей автобиографии.
Пятое письмо датировано 17 февраля 1935 года.
«Глубокоуважаемый Виктор Александрович!
Спасибо за сочувствие. Трое маленьких (7—12) заболели скарлатиной.
Один (вроде ангела) умер, остальные увезены в больницу и как будто поправляются.
Имейте в виду заразит. болезни.
Настроение (помимо логики) страшное… До личных переговоров оставим все по-старому, прибавив список работ. Их теперь накопилось много, и надо составить особый список.
Статью «Свет и тени», конечно, печатать нельзя (и не окончена: тени). Я Вам хотел только показать мирное мое настроение.
Вопросов дожидаюсь, но не на все могу ответить.
Не найдется ли среди В. знакомых и выдающихся родственников лиц ответить на прилагаемую машинопись?
Вышел ли 1-й том избранных моих трудов?
Я до сих пор не получаю авт. 25 экз.
Печатаются труды Конференции из Страт. (70 печ. лист.). Там одна моя работа о стратостате.
Будут ли эти труды разосланы членам и авторам?
Хвораю и не выхожу из дома.
Ваш Циолковский.P. S. Работаю больной и не могу без работы».
К этому письму также следует дать некоторые пояснения.
В начале февраля умер меньшой внук Константина Эдуардовича. Эта смерть потрясла ученого. Он вспоминал о смерти внука и в следующем письме (которое не сохранилось), где сетовал на несовершенство медицинской помощи. Список своих работ он предполагал приложить к автобиографии, которую вскоре мне прислал.
Что же касается статьи «Свет и тени», то это небольшое, пять страничек на машинке, философское эссе схоже по мыслям с изданными Циолковским в Калуге в двадцатых годах размышлениями «Монизм вселенной» и «Горе и гении». Мне думается, он послал неоконченную эту статью, предполагая «обкатать» ее сначала, получить замечания читателей по рукописи. Отсюда и вопрос в письме: не найдется ли кого-либо, кто прочитает и ответит «на прилагаемую машинопись»?
А сборник его трудов, о котором он беспокоится, к тому времени уже вышел из печати, да и труды Стратосферной конференции. Но издатели, как это нередко случалось, не торопились прислать их авторам.
Потом было еще письмо, с вопросами, как обстоит дело с возможностью издания нового труда — о стратосферных летательных машинах. Труд этот еще не был завершен Циолковским, но он хотел знать, кто возьмется его публиковать в соответствии с предложенным проспектом. Тем самым, который он изложил в декабрьском письме. Спрашивал он и о посланной мне автобиографии.
Стратосферный комитет рекомендовал включить новый труд ученого в план издательства ОНТИ (объединенное научно-техническое издательство). Но оно на основе только проспекта (плана) не решилось. Автобиографию Циолковского я предлагал нескольким журналам и получил ответы: «Рекомендуем поместить в специальном издании». Поэтому и не мог я ответить Константину Эдуардовичу на его вопросы в этом письме.
И вот снова письмо от него, на ту же тему:
«1935 г. 27 апр. В. А. Сытину.
Многоуважаемый Виктор Александрович!
Я Вам писал на В. квартиру следующее:
Нет ли препятствий к изданию моей работы? Как моя автобиография?
Не стесняйтесь написать правду: Вы меня не огорчите, и я Вас не обвиню. Неудачи не от Вас, а сам я не приспособился достаточно к новым условиям.
На первое письмо я еще не получил ответа. Вероятно, Вы стесняетесь меня огорчить. Это напрасно.
Ваш К. Циолковский».К счастью, теперь я уже мог, хотя и частично, ответить Константину Эдуардовичу. Вопрос о публикации автобиографии ученого решился благоприятно.
Меня познакомили с писательницей Анной Александровной Караваевой. В то время она была главным редактором журнала «Молодая гвардия». Живая, интересующаяся буквально всем, Караваева стала расспрашивать меня о работе Стратосферного комитета, и по ходу беседы я рассказал Анне Александровне о том, что вот уже месяца два имею на руках рукопись автобиографии Циолковского и никто ее не хочет печатать.
Караваева спросила:
— Интересно?
— Это очень важный человеческий документ о том, как тяжело и трудно было человеку-новатору, изобретателю в условиях царского строя.
— Пришлите срочно. Мы с Марком Колосовым почитаем.
Заместитель редактора «Молодой гвардии», писатель Марк Колосов позвонил мне дня через три-четыре.
— Берем автобиографию. Будем печатать в июльском или августовском номере. А вы напишите к ней краткое предисловие. Ну, вы сообразите сами, о чем. Главное — не забудьте отметить, что лишь в советском обществе Циолковский получил признание, что у него появились последователи и т. д. Договорились?
Об этой договоренности я и написал Константину Эдуардовичу. А на вопрос об издании трудов… Что я мог ему написать, кроме того, что идут переговоры с издательствами?
Весной Циолковскому стало совсем худо. Знакомые калужане сообщили мне, что дни его сочтены. И все же он продолжал работать!
Вот тогда-то я и поехал к нему в третий раз, но, как сказано выше, лишь увидел его в постели, не поговорил с ним.
В июле он прислал в Стратосферный комитет проспект труда «Основы построения газовых машин, моторов и летательных приборов», видимо обобщавшего те работы, проспект которых присылал ранее.
А затем я получил от него статью «Авиация, воздухоплавание и ракетоплавание в XX веке».
Насколько мне известно, это была последняя работа Константина Эдуардовича.
Поражает прозрение будущего развития техники в этой вдохновенной статье. В то время самолеты достигали скоростей в триста — четыреста километров и высоты десять — двенадцать. И только еще первые ракеты поднимались всего лишь на немногие километры. Ракеты небольшие и примитивные.
А Циолковский уверенно писал:
«За эрой самолетов винтовых последует эра самолетов реактивных… …Ракеты преодолеют земное притяжение…»
Писал уверенно и убежденно. Увы, слабеющей рукой. Последние письма Циолковского и поправки в машинописном тексте его работ, как всегда карандашом, свидетельствовали о том, что пальцы плохо слушались ученого и ему приходилось работать полулежа в постели. Строки клонились в сторону, буквы укрупнялись, и начертание их было слабым. Но он писал! Работал! Огромной силой характера обладал этот великий человек.
Статью «Авиация, воздухоплавание и ракетоплавание в XX веке» я передал с небольшим предисловием в редакцию газеты «За рулем». В каждом номере она печатала тогда специальную полосу, посвященную авиации. Статью пообещали вскоре опубликовать…
Мы сидели с изобретателем Александром Машковичем на берегу моря в Ялте. Сентябрьский вечер был ясен и тих. Где-то оркестр играл модное танго «Утомленное солнце». На набережной за нашими спинами шелестели шаги, разговаривали, смеялись.
Машкович говорил:
— Вот мы с вами на отдыхе. А если вспомнить наши беседы? О чем они? Вы — о своих делах, то о путешествии на Дальний Восток и какой-то там «аэротаксации» леса, то о скафандрах. Я — про свои придумки пасчет нового способа определения скорости судна или о подводной фотосъемке… Какие мы, к черту, курортники? Выкупаемся, позагораем, побеседуем, потом погуляем. И… опять «по» — поговорим о делах. Молодые идиоты, вот мы кто, дорогой товарищ! А впрочем…
Машкович усмехнулся, немного помолчал, вздохнул и продолжал:
— Впрочем, наверное, это признак изобретателя — увлеченность. Вот по пословице «рыбак рыбака видит издалека» мы с вами познакомились и стали неутомимыми собеседниками на всякие технические темы. И что ж, разве нам плохо? Это отвечает нашей душевной потребности, нашему желанию что-то открыть, изобрести, сделать. А стало быть, есть возможность поставить вопрос альтернативно: если будем «так держать», появится удовлетворение жизнью, не будем…
— Помрем с голоду! Идемте ужинать, а по дороге попробуем мускат Массандры!
Машкович поднялся и побрел за мной к маленькому магазинчику знаменитой винодельческой фирмы. Но не в правилах моего приятеля было оставлять последнее слово за собеседником. Широко размахивая на ходу руками, он сказал:
— Ничто человеческое нам не чуждо! Тривиально. А все же правильно. Как же иначе? Считаю, счастье Человека, если с большой буквы, — главное его счастье — в поиске. В творческих терзаниях и порождениях. И наверное, это заложено прапрапредками. В основах биологии гомо сапиенс, наверно, инстинкт, что ли, заложен: искать лучшего. Кочуй, путешествуй, открывай новый район охоты или луг для пастбища. Открыл — счастье… Превращай свою палку в копье, изобретай, трудись, создал новое орудие, какое руку удлинило по Энгельсу, — счастье… Ну, а не удалось… Вперед ты не пойдешь. Разве не так?
Около входа в магазин стоял газетный киоск. Вечером здесь иногда можно было купить «Правду» или «Известия», доставленные самолетом сначала в Симферополь, потом машиной в Ялту. В тот вечер в киоске лежала стопка газеты «Правда». На первой странице бросалось в глаза набранное крупным шрифтом:
«ЦК ВКП(б) Сталину.
К. Циолковский. 13 сентября 1935 г.»
И ниже заголовок телеграммы:
«Знаменитому деятелю науки тов. К. Э. Циолковскому…
И. Сталин».Хватаю газету.
«Лишь Октябрь принес признание трудам самоучки… Я почувствовал любовь народных масс. Однако сейчас болезнь не дает мне закончить начатого дела.
Все свои труды по авиации, ракетоплаванию и межпланетным сообщениям передаю партии большевиков и Советской власти — подлинным руководителям прогресса человеческой культуры. Уверен, что они успешно закончат эти труды».
А в телеграмме:
«Примите мою благодарность за письмо, полное доверия к партии большевиков и Советской власти».
— Это — завещание. Дело плохо, — слышу я изменившийся, взволнованный голос Машковича. Он наклонился к моему плечу и тоже прочитал телеграммы.
Общедоступного радиоприемника в нашем санатории не было, и мы стали ходить по утрам слушать «Последние известия» в другой. Военно-Морского Флота.
Несколько дней никаких сообщений о состоянии здоровья Циолковского радио не передавало. Ничего не было и в газетах. Девятнадцатого сентября вечером, расставаясь перед отходом ко сну, Машкович сказал:
— А может быть, он выкарабкается, старик, и вы еще поедете к нему в гости в достославный град Калугу?
Я с сомнением покачал головой. У него рак. Человеку без трех дней семьдесят восемь. А впрочем, может быть, Константин Эдуардович согласился на операцию и она прошла успешно?
Наутро следующего дня мы услышали в первом же сообщении по радио:
«ЦК ВКП(б) и СНК СССР с глубоким прискорбием сообщают о смерти… товарища Циолковского Константина Эдуардовича, последовавшей 19 сентября 1935 года».
— Ну вот и поставлена точка последней главы жизни, — тихо произнес Машкович. — Жизни, как мы знаем, трагической и тяжкой и все же, по-моему, счастливой! Пойдемте, Виктор, вам надо собраться и успеть взять билет на вечерний поезд… Вы ведь поедете на похороны?..
В Калугу мне удалось добраться только на второй день после похорон. В Загородном саду, что на западной окраине города, бушевали золото и бронза осени. На площади, куда сходятся вековые липовые аллеи, возвышался холм из венков. Шумели кроны деревьев. С открытой эстрады неподалеку доносился печальный голос гобоя. Музыканты духового оркестра, игравшего здесь вечерами по традиции, настраивали свои инструменты. По дорожкам парка, матери катили колясочки с малышами. Жизнь продолжалась.
Да, точка последней главы жизни! Вспомнилось мне, эти же слова произнес человек, чье тело лежит в могиле под цветами, вот здесь: «Пошла последняя глава жизни…»
Его мучила болезнь. Немощь день от дня все сильнее сковывала его тело. А могучий ум жил. Воля побеждала дрожание пальцев, державших карандаш. И бежали по бумаге слова, вереницы цифр. Итог — за три последних отпущенных судьбой года сделано огромно много. Написаны новые работы. Обновлены некоторые старые. Опубликован сборник «Избранных трудов», статьи в журналах и газетах. Были сотни встреч и бесед с теми, кто принял или принимает эстафету. И потому конечно же была у него в эти годы и радость творчества, и радость признания.
«Я почувствовал любовь народных масс…» Это не случайно сказано в последнем слове, в последнем письме великого ученого и изобретателя.
Он назван знаменитым деятелем науки. Это, несомненно, верно. Он был деятелем. Он стал знаменитым.
Но это не исчерпывает дела его жизни. Он был конечно же великим первопроходцем на путях знания!
Одно лишь его открытие и научное обоснование возможности для человека с помощью реактивной силы победить земное тяготение и сделать шаг в космос, а в конечном счете развернуть перед человечеством безграничную перспективу познания и освоения околосолнечного пространства — одно лишь это ставит Циолковского рядом с великими учеными-новаторами Коперником, Ньютоном, Дарвином, Менделеевым, Павловым, Поповым, Эйнштейном. Но потрясает душу не только это главное творческое свершение Циолковского. Каждого, кто читал его труды, потрясает способность его ума генерировать самые разные новые идеи и изобретения. Какими только проблемами он не интересовался и каждой находил оригинальные решения. Он работал, например, над способами добывания воды в пустынях и конструкцией пишущей машинки, над проблемой питания в космическом полете и скафандрами и т. д. Мне кажется, что по масштабу и многогранности своей творческой личности Циолковский больше всего близок к Леонардо да Винчи.
Последняя работа Константина Эдуардовича Циолковского — «Авиация, воздухоплавание и ракетоплавание в XX веке» — была опубликована сразу после его смерти на страницах газеты «За рулем». А вскоре в журнале «Молодая гвардия» появилась и его наиболее полная автобиография.
С тех пор прошли годы и годы…
Имя «калужского мечтателя», всемирно признанного великого ученого и изобретателя Константина Эдуардовича Циолковского навечно вошло в историю человечества. Вспоминать о нем, о его трагической и счастливой жизни, будут многие поколения, и не только как об ученом и изобретателе-первопроходце, но и как о человеке, с которого можно смело «делать жизнь».
В ПОИСКАХ НЕВИДИМЫХ УРАГАНОВ
Я еду в пригородном поезде Москва — Серпухов. Поздний летний вечер. Медленно угасает заря. Читать становится трудно, и я думаю о делах нашей экспедиции. Она только что начала работать неподалеку от Серпухова, в деревне Дракино на берегу Оки. Слово «экспедиция» почти синоним путешествия или, во всяком случае, далекой поездки в поисках чего-либо… А тут мы всего в ста с небольшим километрах от Москвы! И все же в деревне Дракино находится действительно экспедиция. Но поиск она должна вести не на земле, а в небе…
…Несколько часов назад я сидел в кабинете директора Физического института Академии наук, академика Сергея Ивановича Вавилова, будущего президента Академии. Вот уже несколько лет он был одновременно и председателем Комиссии по изучению стратосферы Академии. Эта комиссия координировала и направляла множество различных исследований в самых разных отраслях науки. Помогала она Стратосферному комитету Осоавиахима СССР организовать и нашу экспедицию.
Откинувшись в кресле, Сергей Иванович внимательно слушал мою информацию о программе работ под Серпуховом и первых ее результатах. В экспедиции Стратосферного комитета начались регулярные запуски резиновых баллонов, наполненных водородом, — шаров-зондов с приборами для определения температуры, давления и влажности воздуха на больших высотах; проверка метода «искусственных облаков», создаваемых с помощью дымовых шашек, поднятых такими же шарами-зондами на пятнадцать — двадцать километров, и т. д.
Все эти исследования проводились в рамках широких научных изысканий, развернутых в нашей стране в середине тридцатых годов.
— Хорошо. Такие исследования очень нужны… Без них невозможно успешное практическое освоение полетов на больших высотах, не говоря уже о дальнейшем развитии теоретической метеорологии, аэрологии и физики атмосферы вообще. Да вы сами это отлично знаете, — сказал Сергей Иванович, когда я закончил свою информацию. — И поэтому, — добавил он, помолчав, — ваша работа под Серпуховом, дополняя то, что делают многие метеоцентры, в особенности аэрологическая обсерватория профессора Молчанова, будет полезна. Кстати, вы с ним связаны?
— Конечно. Павел Александрович в курсе программы экспедиции, поддерживает ее и помогает своими советами…
— Хорошо…
Академик наклонился к столу, что-то записал в большой блокнот. Потом снова откинулся в кресле, устало потер лоб ладонью.
— Я спросил о Молчанове потому, что его автомат-радиозонд, несомненно, указывает новый путь изучения стратосферы с помощью баллонов, а потом и с помощью ракет. Радиотехника развивается стремительно. И, несомненно, она позволит уже в ближайшем будущем сделать очень многое для познания атмосферы земли, а далее в исследовании космического пространства… Однако, — продолжал он, снова немного помолчав, — пока можно и нужно использовать более простые приборы и методы, позволяющие накапливать данные о состоянии и структуре атмосферы. Ведь трагедия со стратостатом «Осоавиахим-1» в какой-то степени обусловлена недостаточностью наших знаний о воздушных потоках в стратосфере на высотах десяти — двадцати километров. Не так ли? А как важно знать точно и побольше о структуре воздушных потоков для наших летчиков-высотников, для Коккинаки например, уже достигающих больших высот!
И тут, как в кино, дверь кабинета открылась и в него вошел высокий, атлетически сложенный блондин с резкими, волевыми чертами загорелого лица — Владимир Коккинаки, летчик, совершивший уже несколько рекордных полетов в нижние слои стратосферы.
Сергей Иванович поднялся ему навстречу.
— Извините, я на полчаса раньше, — сказал Коккинаки тихим, спокойным голосом. — Но в двенадцать ноль-ноль меня вызывает командующий. Так что я…
— Не беспокойтесь, мы уже закончили беседу с Виктором Александровичем, — прервал его академик. — Садитесь, пожалуйста. Вот стул. Сейчас я приглашу наших специалистов по приборам, и мы обо всем быстро договоримся…
…Накрепко запомнилась мне та январская ночь тысяча девятьсот тридцать четвертого.
Легкий туман окутывал широкую поляну в подмосковном сосновом бору. Голубые столбы света прожекторов скрещивались на ее средине, где на искрящемся снегу широко распласталась оболочка гигантского воздушного шара — стратостата. Поодаль у крайних деревьев полукругом возвышались огромные цилиндрические баллоны — газгольдеры с водородом. Десятки мешков с песком, подвешенных к ним, удерживали их у земли. Красноармейцы стартовой команды тянули от газгольдеров к оболочке толстые шланги.
Около полуночи на старт стратостата «Осоавиахим-1» приехали Р. П. Эйдеман, председатель Осоавиахима СССР, и Я. А. Алкснис, начальник Военно-Воздушных Сил. К ним тотчас подошел коренастый, кажущийся в полушубке толстяком первый советский стратонавт, полковник Г. Прокофьев. Отдал рапорт. Доложил о готовности начать наполнение оболочки. Сводка погоды обещала штиль на всю ночь… И все же несколько часов, пока продолжалась подготовка к старту, руководители полета немного нервничали. Выше вершин огромных сосен поднялся грушевидный баллон стратостата. Грушевидный потому, что предназначенным для высотного полета воздушным шарам дают на старте лишь одну пятую-шестую несущего газа по отношению к их объему. Поэтому под «пузырем» газа вверху старта свисают гигантские складки прорезиненной ткани. Малейшее дуновение воздуха шевелит их, они начинают парусить, и тут возникают сразу две опасности. От трения полотнищ может родиться искра, и тогда воспламенится водород… Так бывало. Или же вся система начнет раскачиваться, и очень трудно со удержать, а при взлете она будет подниматься косо, и подвешенная гондола заденет деревья…
В ту морозную ночь штиль был полный. Совершенно неподвижно стояла над поляной гигантская груша стратостата. Десятки канатов в руках красноармейцев стартовой команды удерживали ее. Наконец на тележке подвезли круглую гондолу. По бокам ее поблескивали стекла иллюминаторов. Под ними надпись: «Осоавиахим-1». Гондола стояла на амортизаторе, похожем на огромную автопокрышку. Гондолу прикрепили к кольцу, подвешенному на двенадцати стропах, протянувшихся к экваториальному поясу оболочки. И тогда из домика на краю поляны вышли те, кто должен был лететь, — П. Федосеенко, А. Васенко и И. Усыскин. Прокофьев обнял их поочередно и помог подняться по стремянке наверх гондолы, к люку. Последним скрылся в люке, улыбаясь, командир экипажа Федосеенко.
Вскоре как-то особенно громко прозвучала команда начальника старта «отдать стропы». Красноармейцы отпустили канаты, и стратостат плавно взмыл в туманное, но светлеющее небо. Было девять часов семь минут 30 января. Мы кричали «ура». Через восемь минут радиостанция на старте «Земля» приняла первые сигналы рации «Сириуса». Федосеенко сообщал, что подъем проходит нормально…
Связь «Земли» и «Сириуса» была регулярной и вполне четкой еще более двух с половиной часов. Затем она внезапно оборвалась. В последней радиограмме командир стратостата доложил, что «Осоавиахим-1» достиг рекордной высоты в двадцать километров, и передал рапорт экипажа XVII съезду Коммунистической партии…
Потом связь с «Сириусом» прекратилась, но это не вызвало особого беспокойства. Тем более что в последнем сеансе в сообщении Федосеенко не было ни одной тревожной ноты. А радиотехника в то время еще часто «чудила».
Штаб, руководивший подготовкой полета, принял решение просить исполкомы городов и поселков к юго-востоку от Москвы, от Бронниц и далее организовать наблюдения за небом и в случае спуска стратостата помочь его экипажу при посадке и оказать ему гостеприимство. Одновременно штаб направил на нескольких машинах по Рязанскому и Каширскому шоссе группы специалистов-воздухоплавателей и научных работников. Они должны были постараться как можно скорее прибыть к месту посадки, обследовать состояние системы, взять приборы и т. д. В одну из машин определили и меня. В ней поехали ученые — профессора В. А. Вериго и П. А. Молчанов.
Вериго многое сделал для оснащения стратостата научным оборудованием. Он «послал» на нем придуманный им прибор для изучения космических лучей. Молчанов, крупнейший исследователь воздушного океана, «главный аэролог» Советской страны, также, естественно, участвовал в подготовке полета с самого начала.
Подняв воротник зимнего пальто и нахлобучив шапку до самых бровей, Вериго привалился в угол на заднем сиденье «эмки» и промолчал до самых Бронниц. Был он человеком очень спокойным и довольно суровым, по крайней мере с виду.
Павел Александрович был полной его противоположностью. Толстый, румяный, веселый и общительный, усевшись рядом с шофером, он сразу же начал обсуждать с ним достоинства и недостатки машины, затем рассказал смешную историю о том, как учился водить автомобиль.
— Понимаете… Сажусь на место водителя… и сесть не могу! Габариты не те. И ножки мои никак к педалям не приспособлю. И ручку передач зажимаю бедром… Прямо хоть плачь! — говорил он и весело смеялся.
После Бронниц в сумрачном небе появились голубые разводья.
Молчанов приказал шоферу остановиться на ближайшем холмике.
— Вылезем. Посмотрим. Вдруг посчастливится, увидим пузырь…
На вершине холмика посвистывал колючий ветер, переметал снег через полотно шоссе. Заунывно гудели провода. По небу грядами тянулись серые облака. Несколько минут мы тщетно искали в разрывах между ними силуэт стратостата. Потом поехали дальше, останавливаясь на каждой высотке.
В Коломне, у здания исполкома, нас встретил Прокофьев, выехавший немного раньше. Он сообщил, что по непроверенным сведениям несколько часов назад «Осоавиахим-1» видели жители поселка Голутвин. Он летел на юго-восток на очень большой высоте — был «с горошинку». Прокофьев сказал, что оснований для серьезного беспокойства пока нет, Федосеенко опытный воздухоплаватель и сумеет посадить стратостат, даже если ветер у земли усилится. А ветер усиливался. Вскоре пошел мелкий снежок. И стало уже смеркаться.
Решено было ехать дальше на Рязань и Константиново-на-Оке, родину Есенина.
Снова мы в продуваемой «эмке». Теперь шофер ведет ее медленно. Шоссе за Коломной хуже, да и заносы стали появляться в ложбинках. Профессор Вериго все молчит, зябко кутается в пальто, иногда вздыхает.
— Да не вздыхайте вы, дорогой мой, — не вытерпел Павел Александрович, — все обойдется. Вот только в следующий раз надо вооружить экипаж вторым радиопередатчиком и по линии возможной трассы полета организовать пеленгацию. И еще — до старта прозондировать стратосферу моими радиозондами тоже с пеленгацией, чтобы знать, какой там ветер.
Профессор Молчанов создал новый метод исследования воздушного океана. Он сконструировал маленький радиопередатчик и приспособил его для автоматической передачи с летящего шара-зонда показаний барографа и термографа. Радиозонды Молчанова позволяли в любую погоду и в любое время суток получать данные об атмосферном давлении и температуре на высотах сразу же после запуска прибора. На Аэрологической обсерватории под Ленинградом радиозонды запускались регулярно. И некоторые из них достигли высоты более тридцати километров. Там же провели успешные опыты пеленгации сигналов радиозондов специальными приемниками. В этом случае определялись координаты их в пространстве, а по смещению — скорость воздушных потоков, которые несли резиновые шары радиозондов. О них и спрашивал меня Вавилов.
В нескольких десятках километров от Коломны нашу «эмку» нагнала военная машина — вездеход.
— Вам приказано передать — немедленно возвращайтесь в Коломну, — сказал молоденький техник-интендант.
— Что-нибудь случилось? — быстро спросил его Молчанов.
— Ничего не знаю, — ответил офицер.
Всегдашняя улыбка сбежала с лица Павла Александровича.
— Ну что ж, поворачиваем… И поедем как можно быстрее, — обратился он к шоферу и замолчал до самой Коломны.
Впрочем, мы тоже молчали. Тревога охватила нас. Думалось: если бы все шло благополучно, техник-лейтенант обязательно дал бы понять, что это так.
В Коломне нас направили на квартиру секретаря горкома партии. Здесь уже находился военный инженер, воздухоплаватель Прилуцкий и еще какие-то незнакомые военные. Все они были явно «не в себе», взволнованны и сумрачны.
Прилуцкий взял под руку Молчанова, отвел в сторону и что-то тихо сказал. Я смотрел на круглое, всегда такое жизнерадостное лицо профессора. После слов Прилуцкого оно сразу изменилось до неузнаваемости. Подняв руку, Молчанов прикрыл глаза. Потом глубоко вздохнул и повернулся к нам.
— Надо сказать им…
— Но ведь сообщение проверяется, — неуверенно произнес Прилуцкий.
— Все равно… Так вот. Товарищи… — Молчанов заговорил медленно и глухо. — Получено сообщение. От Ижорского райисполкома… Около деревни Потиж-Острог упала кабина. Упала… Экипаж погиб…
Страшное сообщение о катастрофе стратостата «Осоавиахим-1» вскоре было подтверждено. Из Москвы вышел специальный поезд, чтобы доставить к ближайшей станции Кадошкино комиссию для расследования причин катастрофы. Молчанов и Прилуцкий назначались членами этой комиссии…
О подробностях случившегося я узнал только в Москве, накануне торжественно-траурной церемонии похорон погибших стратонавтов Федосеенко, Васенко и Усыскина…
Было морозно. Вьюжило. Серебристые ели вдоль Кремлевской стены стояли белыми пирамидами. На трибуне Мавзолея В. И. Ленина руководители партии и правительства. Строгие шеренги воинов заняли Красную площадь. И тысячи, тысячи москвичей. Я стоял среди них.
…Стратостат поднялся на рекордную высоту. Федосеенко передал рапорт «Земле». Стратостат продолжал подниматься. Достиг еще большей высоты — двадцать два километра! Радио отказало. Ну и что же! Солнце ярко било в иллюминаторы кабины. Внизу расстилалось белое море облаков. Федосеенко, Васенко и Усыскин продолжали вести наблюдение, записывали показания приборов в полетный журнал. Все, казалось им, шло благополучно. Было решено начать спуск. Стрелки бортового хронометра показывали 12 часов 33 минуты. Стратостат стал снижаться. И снова все шло как будто нормально.
Стратонавты не могли знать, что их гигантский воздушный шар подхватили невидимые струи урагана. Не могли потому, что аэростаты и стратостаты летят в воздушном потоке, как щепочка по течению реки. А землю закрыла облачность, и ориентиров они не имели… Началось ускоренное снижение, струйные потоки из-за разности парусности баллона и кабины вызвали гигантские напряжения в стропах подвески. Может быть, эти вихри даже стали вращать кабину. И вот — это случилось через три с половиной часа — она оторвалась и камнем обрушилась с двенадцатикилометровой высоты.
Врезавшись с мерзлую землю, стальная круглая кабина наполовину сплющилась. В миг страшного удара остановились часы Васенко. Это случилось в четыре часа дня двадцать три минуты 31 января.
…Урны с прахом трагически погибших во имя науки трех стратонавтов были захоронены навечно в Кремлевской стене.
Невидимый ураган в стратосфере — причина катастрофы. Как же увидеть его? Как заранее, перед отправлением в полет на большие высоты аэростата, да и самолета, узнать, бушует он там или нет?
Эти вопросы естественно и закономерно возникали у всех, кто в той или иной мере был причастен к проблемам авиации и воздухоплавания. И передо мной они встали и явились главной темой беседы с профессором Молчановым, когда я приехал провожать его на другой день после похорон стратонавтов на Ленинградский вокзал. Павел Александрович еще не оправился от потрясения, еще не обрел всегдашней своей жизнерадостности и веселости.
Шагая по перрону вдоль состава нового экспресса «Красная стрела», он без обычных своих шуточек, с нескрываемым волнением говорил:
— В общем, ответственность за катастрофу лежит на нас, на аэрологах. Ни черта почти мы не знаем, что делается там. — Он поднимал толстый палец к небу. — Мои радиозонды надо шире применять. Это несомненно. Пеленгацию использовать. Это тоже несомненно. И еще надо что-то придумать. Изобрести. Такие методы, чтоб лучше знать, что там делается! — И он снова поднимал палец вверх. — Думайте и вы, коллега. Если есть изобретательская жилка, вдруг подскажет… Оттолкнетесь от чего-нибудь, может быть, совсем стороннего, как бывает часто, и, смотришь, наклюнется решение. Легенда о Ньютоновом яблоке ведь имеет глубокую психологическую подоснову. Ну и, конечно, в саму конструкцию стратостатов надо вносить поправки, делать ее надежнее.
Молчановские размышления в тот вечер заронили в моей душе потребность поиска новых подходов к изучению воздушного океана.
Трагическая гибель экипажа стратостата «Осоавиахим-1» не остановила подготовку других полетов в стратосферу. Почти через полтора года, в июне 1935 года, после необходимой модернизации, в полет отправился стратостат «СССР-2». Но он тоже потерпел аварию. Обошлась она, к счастью, без жертв. Появились проекты и новых систем. Например, инженеры В. Н. Лебедев и Л. К. Кулиниченко предложили создать стратостат, оболочка которого могла бы при спуске превращаться в парашют. Это предложение приняли. Началось проектирование системы. Одновременно небольшие модели испытывались по заданию Стратосферного комитета Осоавиахима СССР.
Тогда же начался штурм высот на самолетах с усиленными двигателями. Пилот Владимир Коккинаки на серийном самолете с таким двигателем поставил несколько мировых рекордов подъема человека на летательном аппарате тяжелее воздуха.
Появились и первые проекты специально высотных самолетов — стратопланов — с герметизированной кабиной для экипажа. Но они победоносно ворвались в стратосферу лишь через десять — пятнадцать лет, когда родились надежные конструкции реактивных двигателей.
Развивались, конечно, и методы изучения атмосферы. Для забрасывания автоматических приборов в стратосферу были применены пороховые ракеты. Профессор Молчанов усовершенствовал радиозонд. Больше использовалась радиопеленгация.
Однако век радиоэлектроники и реактивной техники только начинался. Методы изучения воздушного океана с помощью автоматики и радио были дороги и не могли быть внедрены в практику работы сети метеорологических станций.
Поэтому задача, поставленная Молчановым в памятный мне вечер на платформе Ленинградского вокзала, оставалась в силе. Меня она мучила постоянно. И, помогая товарищам, работавшим над проектами ракет в секции реактивного движения нашего Стратосферного комитета, я думал о том, как можно было бы эффективно использовать их для изучения тех невидимых ураганов, которые бушуют в стратосфере, и бушуют постоянно, о чем говорили отдельные данные, полученные с помощью радиозондов и шаров-пилотов, путем наблюдения с земли.
Может быть, использовать для изучения ветров на высотах следы разрывов зенитных снарядов? Но пушки посылали их в небо не на достаточную высоту — километров до десяти. Кроме того, сколько сложностей надо преодолеть, чтобы организовать опыты… И вот однажды ясным ранне-весенним, мартовским утром шагая по московским улицам, я все же наткнулся на реальное решение вопроса…
Недалеко от площади Восстания мое внимание вдруг привлекли дымы над домами вдоль Садового кольца. Они струились вверх, светлые серые султаны, на довольно большую высоту почти вертикально, а затем, размываясь тихим потоком воздуха, сносились в сторону. Это было красиво. И в общем-то обычно, видано, знакомо.
Видимо, произнесенное мысленно слово «стратостат» послужило толчком к соединению в глубине моего сознания красивой панорамы зимних дымов и проблемы высотных подъемов воздушных шаров. И тогда родилась идея: а нельзя ли «поднять» дымовой столб в заоблачную высь стратосферы и, наблюдая за ним с земли, изучать движение невидимых потоков ветра? Конечно же можно! Надо взять дымовую шашку, подвесить к баллону шара-пилота, как, скажем, «радиозонд», выпустить в полет, а когда она поднимется на пятнадцать, двадцать километров, зажечь ее… Как зажечь? Ну, это тоже можно придумать!
…Ничего не может быть радостнее в жизни открытия, изобретения, хотя бы самого-самого маленького!
Я почти бежал оставшийся отрезок пути до Планетария. Там размещался тогда Стратосферный комитет. Научный директор Планетария Константин Николаевич Шистовский удивленно оглядывался на меня, пока я буквально тащил его за руку к себе в комнату, сбивчиво объясняя на ходу, что мне, кажется, удалось нащупать новый способ изучения воздушных потоков.
— Пожалуй, можете действительно кричать «Эврика!», — со всегдашним своим смешком сказал он, когда наконец понял то, что я ему толковал. — Хотя и не из ванны вылезли, а с морозца. Что ж, давайте будем проверять.
Через несколько дней на площадке перед входом в известное всем яйцеобразное здание московского «Звездного дома» прохожие по Садовой могли наблюдать необычную картину.
Рослый парень в ушанке держал большой, метра полтора в поперечнике, резиновый шар. Он заметно рвался у него из рук. Вокруг толпились человек десять тоже в основном молодых людей. Над ними возвышался Константин Шистовский, рядом с ним стояли аэролог Александр Калиновский и я. У меня в руках была консервная банка и моток… бикфордова шнура медленного горения. Я зажег свободный конец шнура (другой его конец уходил в банку) и махнул рукой. Парень, державший баллон, — это был недавно демобилизовавшийся студент Осипчик, — отпустил его. Шар устремился вверх, подхватив привязанный к нему цилиндр и змеей заструившийся бикфордов шнур.
Несколько минут мы молча стояли, запрокинув головы. Желтоватый баллон быстро взлетел над крышами и скоро превратился в горошинку.
Зная примерно скороподъемность баллона и время горения определенной длины шпура, мы, конечно, рассчитали, что дымовая шашка в консервной банке загорится через полчаса и за это время достигнет огромной высоты — около пятнадцати километров!
Когда горошинка исчезла в хорошо промытом голубом мартовском небе, мы с Калиновским и Шистовским полезли на купол Планетария. На вершине его есть небольшая, огороженная железными прутьями площадка. Там был заранее установлен теодолит. Другой теодолит студенты, активисты Стратосферного комитета, втащили на крышу шестиэтажного дома в полукилометре отсюда, на площади против входа в Зоопарк[9]. Если все случится как задумано, если шар-зонд поднимется в стратосферу и там загорится дымовая шашка, наблюдать искусственное облако надо с двух точек. По угловым отсчетам тогда можно определить точно высоту, где она загорелась, а по смещению в пространстве — направление и скорость воздушных потоков.
На куполе Планетария было холодно. Дул довольно сильный северо-западный ветер. Он нес стайки облаков, что нас беспокоило. Если в ближайшие минуты облачность увеличится, испытание провалится. Нам нужно, чтобы юго-восточный сектор небосвода был чистым.
Калиновский почему-то нервничал больше, чем я. Он то и дело обшаривал горизонт в бинокль, покряхтывал, переминался с ноги на ногу, что-то бормотал. На небосводе на юго-востоке,-правее Кремля (часть его хорошо видна с купола), к нашей радости, как льдинки, плыли лишь отдельные облака.
— Пора бы ей загореться! — не выдержал Калиновский. — Тридцать три минуты прошло…
И в этот момент мы с ним одновременно увидели на сине-голубом небосводе белую точку, которая быстро растягивалась в ниточку… Калиновский приник к окуляру теодолита и стал нервно крутить кремальеры наводки. Я просигналил флажком товарищам, занимавшим позицию у другого теодолита, и приготовился записывать отсчеты на лимбах прибора.
Записывал я через каждую минуту, а в свободные секунды смотрел на созданное нашими руками первое искусственное дымовое облако в стратосфере. Точнее — дымовой столб. Светлой, чуть волнистой, удлиняющейся помаленьку ниточкой виделся он нам с купола Планетария. Минут через десять ниточка оборвалась. Но еще некоторое время мы вели наблюдение за постепенно размывающимся дымовым облаком. Потом его можно было увидеть лишь в бинокль. И наконец оно исчезло.
Так родился метод «искусственных облаков» для изучения ветра на высотах.
Стратосферная экспедиция под Серпуховом, о которой сказано вначале, должна была наряду с некоторыми другими исследованиями применить этот метод в комплексе с радиозондами Молчанова и обычными шарами-зондами с барографами и термографами.
На станцию Серпухов поезд пришел, когда уже стемнело. Я вышел на тускло освещенную площадь перед зданием вокзала. Было тихо. Тепло. Загорались первые звезды. Пахло пылью. Довольно долго пришлось уговаривать извозчика. Не хотел он везти меня до деревни Дракино, за двенадцать километров. Наконец мы сладились. Я сел в старенькую пролетку.
— Но, но! Милай! — крикнул возница, и его конь затрусил в ночь…
Когда позади остались окраинные городские домики и начался песчаный проселок, лошадь пошла шагом. Убаюкивающе поскрипывали рессоры. Сосны обступили дорогу. От них потянулся аромат смолы. В кустах подлеска лениво щелкали поздние, июньские соловьи. Возница молчал. Мне тоже не хотелось разговаривать. Осыпанное звездами небо мерцало над кронами деревьев.
«Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет, бездне — дна», — вспоминались мне строчки из ломоносовского стихотворения. Бездна… Что это? Бесконечность? Представить себе ее трудно. И все же есть нечто огромно волнующее, зовущее в этом непредставляемом. Может быть, коренной, заложенный в самую суть природы мышления стимул поиска? Движения к познанию?
Над вершинами сосен сверкнул и через мгновение погас яркий след «падающей звезды» — метеора, крупинки материи из космического пространства, сгоревшей в атмосфере Земли.
— Загадал желание? — вдруг спросил возница.
Я не ответил. В этот момент в моем сознании произошло то же, что в мартовское утро на Садовой.
В атмосфере сгорел кусочек вещества. Дал яркий след. А что, если искусственно зажечь что-то в небе — создать якобы метеор? Так же, как мы зажигали дымовые шашки, заброшенные на высоту, но такой состав, который дает много света? Например, осветительную ракету? И потом…
— Погоняй, пожалуйста, — попросил я извозчика.
Ехать медленно мне стало невтерпеж. Да и дорога, выйдя на поля долины Оки, улучшилась.
Научный руководитель экспедиции Калиновский еще не спал, когда я ворвался к нему в горенку одной из хат, арендованных для сотрудников экспедиции.
— Что случилось? — тревожно спросил он, отрываясь от книги.
— Придется несколько ночей бодрствовать! — ответил я загадочным тоном.
— Пока неясно… — Александр Болеславович оглянулся на дверь и снова задал вопрос, на этот раз шепотом: — А яснее нельзя?
Через полчаса, попивая чай из термоса, мы наметили план испытаний метода изучения ветра на высотах с помощью «искусственных метеоритов», как сразу же окрестили мою придумку. Решили утром послать в Москву Анфира Лобовикова, добыть несколько осветительных снарядов, а в следующую ночь произвести первые запуски их в стратосферу таким же способом, как посылали туда дымовые шашки.
Деревня Дракино — одна улица, всего домов тридцать. С одной ее стороны заливной луг поймы Оки, с другой — поля до темного бора. У края полей, на задворках деревни и близ опушки леса у нас были поставлены две небольшие вышки с платформами для приборов — теодолитов, фотокамер, малого телескопа и т. д. Между вышками точно, землемерной лентой, определено расстояние — так называемая геодезическая база, необходимая для расчетов на основе теодолитных наблюдений за полетом шаров-пилотов и «искусственных облаков», их перемещений в небе.
Анфир Васильевич Лобовиков уже к обеду на следующий день привез десять пушечных осветительных снарядов. Это были двухкилограммовые цилиндры, заполненные магниевым порошком с запалом.
Вечером мы подготовили испытания нового метода. Погода нам благоприятствовала.
Когда небосвод потемнел и вызвездило, Лобовиков наполнил водородом из голубого баллона большую резиновую оболочку. К ней привязали цилиндр «ракеты». К ее запалу прикрепили бикфордов шнур, подожгли его и дали старт…
Резиновый шар довольно долго, несколько минут, поднимался почти вертикально. Искры от горящего бикфордова шнура вспыхивали и гасли среди звезд над нашими головами. Потом шар подхватил всегдашний горний ток воздуха и понес его на восток, над правобережьем Оки, над тусклыми огоньками дома отдыха в бывшем имении художника Поленова.
И снова мы тревожно и нетерпеливо ждали, как весной на куполе Планетария: что будет? Не отнимая от глаз бинокля, я обшаривал небосвод на востоке. Яркие звезды то и дело казались мне вспышкой «моего» метеора.
Первым увидел белый магниевый огонь в темном небе Лобовиков.
— Вот он! Вот! — закричал он, показывая рукой куда-то несколько правее того района, который я осматривал в этот момент.
Рука нашего энтузиаста была еле видна в сгустившемся сумраке ночи, и определить направление его сигнала было трудно. Но уже через несколько секунд не увидеть зажженный нами в небе факел стало просто невозможно. Необычайно яркая, ярче самой яркой, звезда возникла среди россыпи полуночных светил. Голубоватым огнем засияла она на неведомой высоте и, нам казалось, с каждым мгновением разгоралась все больше и больше.
— Как красиво! — тихо сказал Калиновский, склоняясь к теодолиту.
Действительно, красиво и необычно мерцал в глубокой синеве искусственный «метеор». Помощница Александра Болеславовича Нина Бельская захлопала в ладоши, потом, опомнившись, прильнула к окуляру теодолита. Помнится, на другой день, когда мы позвонили в Астрономический институт имени Штернберга и спросили, не довелось ли наблюдателям его прошедшей ночью увидеть в небе что-нибудь странное, нам ответили: отмечена вспышка в районе созвездия Кассиопеи, предположительно «новая звезда» или болид, но сфотографировать это явление не удалось…
К сожалению, сделать это нам тоже не удалось. Камеру не смогли навести точно. Однако теодолиты помогли определить высоту, на которой возник рукотворный «метеор», — шестнадцать километров! На этот раз не пришлось, к сожалению, также установить смещение его в пространстве и таким образом определить скорость и направление ветра в стратосфере. А именно ради этого стоило огород городить. В дальнейшем сотрудники нашей экспедиции в Дракино, проведя несколько запусков «искусственных метеоров», научились делать два-три отсчета на лимбах теодолитов за время его горения и точно определять высоту, на которой рождалась вспышка и параметры ветра на этой высоте.
Итак, в дополнение к методу «искусственных облаков» родился метод, позволяющий «увидеть» атмосферные течения в ночное время. «Правда» опубликовала несколько заметок об этих методах. А когда после окончания экспедиций в Дракино (к сожалению, они были свернуты раньше, чем предполагалось, из-за недостатка средств) я рассказал о полученных данных профессору Молчанову, Павел Александрович проявил большую заинтересованность.
— Хоть вы и конкурент моему радиозонду, — сказал он шутливо, — все же я поддержу «противника». Простота, доступность ваших методов важна для метеостанций, где бы они ни находились, — это дает перспективу. Вот только как насчет опасности запусков в пожарном отношении? Лопнет резина шара раньше времени, упадет ваша шашка или осветительная на крышу хаты… И…
— Предусмотрено, — ответил я. — На стропе шара мы укрепляем небольшой парашютик. Если оболочка шара лопнет…
Павел Александрович сразу понял, в чем дело, и продолжал за меня:
— Шашка будет опускаться медленно и догорит в воздухе.
— Правильно.
В тот раз, как всегда, он шутил, рассказывал смешные истории. Одна, на метеорологическую тему, особенно запомнилась мне. Когда речь зашла о прогнозах погоды, он сказал:
— Вот послушайте историю… В некоем восточном государстве властитель любил охоту. Конечно, у него были свои предсказатели, в том числе по-нашему старший синоптик. Собираясь на охоту, властитель спрашивал его: «Какая будет погода?» Часто предсказатели ошибались в своих прогнозах, и тогда им рубили головы. Однажды, получив «добро» от очередного своего «синоптика», властитель отправился в путь. В дороге он повстречал старика на осле. Старик поклонился. И, пользуясь правом лет, спросил властителя:
«Куда едешь?»
«На охоту».
«Напрасно, — сказал старик. — Буря будет. Возвращайся…»
Властитель засмеялся. Светило солнце. Было тихо. Пели птицы.
А через час набежали тучи, пошел дождь. Охота не состоялась. Тогда властитель приказал отрубить голову своему старшему «синоптику» и найти старика, встреченного на дороге.
Старика разыскали, привели.
«Назначаю тебя своим предсказателем погоды», — сказал ему властитель.
Старик струхнул и пал ниц.
«Подождите решать, великий… Не могу я стать предсказателем. Не я угадываю, будет вёдро или дождь…»
«Но ведь ты мне правильно предсказал…»
«Нет, это не я… Это мой осел. Когда подходит буря, он поднимает хвост и орет. Назначь его предсказателем…»
Властитель назначил… Вот и ведут синоптики с тех пор свою родословную от того осла!
Павел Александрович говорил о том, что изучение воздушного океана на больших высотах нужно не только и не столько для обеспечения полетов стратостатов, а потом и стратопланов. Это нужно, утверждал он, для прогнозов погоды, для службы предупреждения штормов, ибо там, в стратосфере, происходят, очевидно, явления, формирующие передвижения воздушных масс над поверхностью планеты. И те невидимые ураганы, которые дуют там часто, а может быть, постоянно, есть одно из проявлений этих передвижений и в будущем, чем черт не шутит, позволят создать сверхвысотные ветроэлектростанции? Открыть их закономерности — важная задача науки. Все возможные методы и способы изучения воздушного океана надо использовать для ее решения.
…Мне не довелось больше заниматься поисками таких способов и методов да и вообще стратосферными делами. Стратосферный комитет Осоавиахима СССР был вскоре ликвидирован. Советская наука вступала в новый этап. Вопросами изучения и завоевания стратосферы, так же как и развитием реактивной техники, занялись крупные государственные научные институты. И я передал им право дальнейшей разработки и применения методов «искусственных облаков» и «искусственных метеоров» и некоторых других изобретений, а сам увлекся журналистикой и литературной пропагандой науки и техники.
Весной 1941 года мы встретились с профессором Молчановым в Москве, в кулуарах какого-то совещания. Мне пришлось выслушать от него шутливо-гневную филиппику по поводу моего ренегатства. Но расстались мы дружески, и он пригласил меня приехать в Ленинград, в его Аэрологический институт.
— Покажу вам кое-что — пальчики оближете! Техника, милый мой, шагает…
А через полгода эвакуированные из осажденного Ленинграда товарищи сообщили мне грустную весть: Павел Александрович погиб в волнах Ладожского озера. Баржу, на которой вывозили женщин, детей и нескольких больных ученых, поразила фашистская бомба…
Техника вообще и особенно радиотехника и реактивная техника в те годы шагала вперед стремительно. И, как бывало в истории науки и техники ранее, некоторые изобретения и открытия не получали широкого развития и применения, потому что опаздывали.
В общем-то примитивные, методы «искусственных облаков» и «искусственных метеоров» оказались именно в таком положении. Появились бы они на три — пять лет ранее… Может быть, не погиб бы стратостат «Осоавиахим-1», может быть, современная теория циркуляции воздушных масс в атмосфере родилась уже тогда.
Известно, что наука и техника развиваются по спирали. И когда встанет на практическую почву проблема аэроэнергетики в широких масштабах, когда человек будет решать задачу использования баснословной энергии ветра на больших высотах, там, где почти всегда дуют страшной силы невидимые ураганы, — может быть, «искусственные облака» и «искусственные метеоры» понадобятся, пусть как-то видоизмененные, для практики высотной аэроэнергетики, для стратосферных ветроэлектростанций будущего? Кто знает…
Во всяком случае, через четверть века после наших испытаний этих методов в деревне Дракино, под Серпуховом, однажды, раскрыв утром «Правду», я прочитал маленькую заметку корреспондента газеты из США о том, что там с помощью ракеты был выброшен на высоту в триста километров состав, образовавший большое дымное облако, и что, наблюдая его в телескопы, удалось определить скорость движения субстанции атмосферы на этой, огромной высоте… К сожалению, нигде не было отмечено, что американский эксперимент не может быть назван открытием нового метода изучения атмосферы Земли, что он имеет корни в работах и поисках советских изобретателей…
ЖИТЬ НАДО С УВЛЕЧЕНИЕМ!
Душным летним днем я шел вдоль Александровского сада к площади Революции и досадовал, что не догадался спуститься вниз, в аллею, в тень… Там и солнце не пекло бы да и не так ощущался бензиновый чад.
Впереди почему-то возникла пробка, вереница машин остановилась, и рядом со мной затормозила «Чайка». На заднем сиденье ее, у окна справа, сидел плотный, пожалуй, даже массивный человек. Лицо его показалось мне знакомым. «Кто-то из министров?» — мелькнула мысль… Но вот он обернулся, поглядел на меня, и в его темных глазах появилось напряжение узнавания. Он даже прищурился, и широкий чистый лоб пересекла прямая морщинка. Потом он улыбнулся, сделал знак рукой шоферу, открыл дверцу и вышел…
Тогда и я узнал пассажира «Чайки».
Это был Сергей Павлович Королев.
— Сытин? Виктор? — спросил он. — Черт знает сколько лет не встречались. Двадцать? Нет, больше… А все ж память не подкачала!
Пожатие его руки было энергичным, сильным. Он расправил плечи, и на мгновение передо мной возник молодой Королев тридцать четвертого, в туго подпоясанной гимнастерке с голубыми авиационными петлицами, стройный, гибкий. Видение мелькнуло и скрылось.
Впрочем, и за много лет этот уже совсем немолодой человек сохранил от того, молодого, самое главное…
Он стал осанистым, лицо его округлилось, морщинки разбегаются от глаз к вискам, но сами глаза, хоть и усталость лежит на веках, такие же яркие, так же светятся рвущейся в мир мыслью и духовной силой.
— Рад встретить старого товарища! Что ж не объявлялись?
— Знаете, Сергей Павлович, с предвоенных лет я уже не работаю в авиации. С тех пор, как перестал существовать Стратосферный комитет.
Королев усмехнулся.
— Да, тогда было нелегко… Впрочем, легко в настоящем деле не бывает… Вас подвезти? Садитесь.
— Спасибо, мне недалеко… Я тоже очень рад вас повидать в добром здравии.
— Ну, насчет доброго здравия — это не совсем… Скоро и седьмой десяток буду разменивать… Звоните… Поговорим о ГИРДе, о первых шагах. Надо не забывать истории. Вы же книжки писали, статьи — еще тогда… И о моей книжке «Ракетный полет в стратосфере» написали…
— Было дело… Сейчас, правда, пишу о другом. Писание — ведь моя главная профессия теперь.
— Нужно и о нашем деле… Ну, всего лучшего…
Это была последняя моя встреча с замечательным человеком, основоположником практической космонавтики. А первая — за тридцать лет до этого летнего московского дня, весной тридцать четвертого, в Ленинграде.
* * *
По мраморной лестнице, покрытой ковровой дорожкой, из холла в конференц-зал старинного здания Академии наук неторпливо поднимаются участники первой в мире Всесоюзной конференции по изучению стратосферы.
Впереди, поддерживаемый под руки, тяжело перешагивая со ступеньки на ступеньку, согбенный — длинные седые волосы упали на воротник, — идет президент Академии А. П. Карпинский. За ним веселый румяный академик А. Е. Ферсман, подтянутый, в длинном сюртуке академик В. И. Вернадский и другие ученые. То тут, то там среди штатских военные. В петлицах их кителей и гимнастерок ромбы, редко по три-четыре шпалы. Вот с тремя ромбами заместитель начальника Военно-Воздушной академии имени Жуковского П. С. Дубенский. Недавно он назначен по совместительству председателем Комитета по изучению стратосферы Осоавиахима СССР. С ним, оживленно беседуя, идут двое — знакомый мне профессор — аэролог П. A. Молчанов, весь округлый, улыбающийся, и незнакомый худощавый, стройный молодой человек в форме Военно-Воздушных Сил. В петлицах его гимнастерки серебряные пропеллеры и, помнится, по две шпалы.
Петр Сергеевич Дубенский заметил меня и подозвал.
— Знакомьтесь, товарищи. Сытин, мой заместитель по Стратосферному комитету, прошу любить и жаловать.
— Мы уже знакомы! — как всегда, экспансивно воскликнул профессор Молчанов. — Он же читает второй год курс в нашем Ленинградском институте инженеров Гражданского воздушного флота! Про применение авиации в народном хозяйстве. Помимо транспортного…
— Королев, — отрекомендовался молодой человек в форме Военно-Воздушных Сил, крепко пожимая мне руку и остро взглянув прямо в глаза.
— Товарищ Королев был начальником ГИРДа, — сказал Дубенский, — теперь заместитель начальника РНИИ.
— Знаю, Петр Сергеевич. Очень приятно познакомиться. В ГИРДе бывал, но, к сожалению, товарища Королева не заставал…
* * *
ГИРД. Это сокращенное слово в те годы было известно лишь очень узкому кругу людей, да и то главным образом только тем, кто работал в области авиационной техники.
ГИРД был создан в конце 1931 года. Молодые инженеры Ф. A. Цандер, С. П. Королев, М. К. Тихонравов, Ю. A. Победоносцев предложили Военно-научному комитету Осоавиахима СССР начать серьезные теоретические изыскания и попытаться конструировать летательные аппараты с реактивными или ракетными двигателями, то есть двигателями, использующими силу отдачи. Они были увлечены идеями Константина Эдуардовича Циолковского, мечтали претворить в реальность его дерзкие замыслы полета на ракетах… Даже в космическом пространстве.
Военно-научный комитет согласился выделить немного денег на оборудование мастерских и содержание нескольких сотрудников.
Цандер и Королев объединили единомышленников — других молодых инженеров, заинтересовали известных ученых-теоретиков аэро- и гидродинамики, и вот в большом «доходном доме» на Садовой, № 19, в подвале, выделенном ГИРДу, закипела работа.
Там разместились четыре конструкторских бригады и механические мастерские.
Руководители бригад — Цандер, Королев, Тихонравов и Победоносцев, актив молодых инженеров, техников-конструкторов, чертежников, рабочих-механиков работали, почти все, безвозмездно, в общественном порядке, главным образом по вечерам, после службы.
Первый раз я пришел в ГИРД в осенний день.
Было слякотно, мглисто. По Орликову переулку и Садовой грохотали трамваи. У продовольственного магазина в доме № 19 стояли домохозяйки, ожидая его открытия. В парикмахерской по соседству в окнах горел свет… Рядом с выкрашенной в какой-то неопределенный цвет дверью плакат: «Да здравствуют ударники 2-й пятилетки!»
За этой дверью вниз, в подвал, вело несколько сбитых ступенек. Далее была маленькая прихожая. Ее освещала голая лампочка. Из-за двери справа слышался глухой шум работающих станков, позвякивание металла и тянуло запахом машинного масла и железных стружек…
Слева открывался взгляду узкий коридор.
Вахтер за столиком в прихожей проверил мое удостоверение и сказал:
— К начальнику — четвертая дверь налево по коридору. Однако его будто и нету.
Да, к сожалению, начальника ГИРДа Королева в его маленьком кабинетике со столом, заваленным книгами и свитками чертежей, не оказалось. Кто-то из проходивших объяснил, что уехал он на полигон в Нахабино. Там тогда находился первый испытательный ракетный полигон.
Тогда я пошел искать третью конструкторскую бригаду знакомого инженера Юрия Александровича Победоносцева. Невелико было помещение ГИРДа. Тесно стояли станки новые и совсем старые в «механическом цехе». Дневной свет еле просачивался в окна-щели под низким потолком, и люди работали при электрическом освещении. За «механическим цехом» в угловой комнате Победоносцев, невысокий, стройный молодой человек с бледным лицом, «колдовал» над чертежом, приколотым к грифельной доске. В тонких пальцах зажата логарифмическая линейка.
Наверное, я помешал ему, но он и виду не подал и радушно предложил:
— С удовольствием покажу «подпольное» — ведь в буквальном смысле слова живем мы «под полом» — наше хозяйство. Здесь, — он взмахнул линейкой, — мы работаем с товарищами над аэродинамическими характеристиками ракет с прямоточным воздушным реактивным двигателем. Модели их продуваем в трубке «ИУ-1». Построили небольшую, но с большой скоростью потока. Она первая у нас такая в стране и, кажется, вообще — первая в мире… А затем мы обсчитываем полученные данные…
…Вот эта труба со странным именем «ИУ-1». Это стальной короб у стены. Мощные вентиляторные установки громоздятся сбоку.
Кто бы мог подумать, что здесь, в тесном подвальном помещении, живет старшая сестра могучих аэродинамических труб ЦАГИ и других научно-исследовательских институтов, где впоследствии «продувались», испытывались не только модели, но и крылья, фюзеляжи, а иногда и самолеты целиком будущей великой нашей авиации.
И тем более никто, может быть, кроме самого Победоносцева и руководителя всех конструкторских замыслов ГИРДа Королева, не мог тогда помыслить, что «продуваемые» здесь модели воздушно-реактивных двигателей станут прародителями ракет «М-13», на основе которых было создано грозное оружие — прославленные «катюши» времен Великой Отечественной войны.
Победоносцев показал установку «ИУ-1», несколько моделей, потом повел в крошечные помещения, где собирались первые ракеты ГИРДа на жидком топливе конструкции Цандера, Королева, Тихонравова… Они, эти первенцы, выглядели очень скромно. Стальные точеные сигары всего-то метра в полтора-два длиной и толщиной в руку. Ракета Королева имела в хвосте широкие и длинные стабилизаторы — вроде крыльев.
Я спросил, когда предположено начать полетные испытания, запуски их.
Победоносцев пожал плечами.
— Это уже в компетенции Сергея Павловича… Но, знаете, он последнее время зачастил в Нахабино. Там есть стенды для огневых испытаний двигателей. Там, наверное, будем производить и запуски. Сергей Павлович у нас человек дотошный. Все проверяет и перепроверяет лично. И как только у него хватает времени! Руководить всем нашим «подпольным» хозяйством, материалы и деньги добывать, заседать в осоавиахимовских комитетах, да еще самому конструировать… Вот — крылатую. И реактивные двигатели к самолету-параболе Черановского…
…Вскоре после того, как мне довелось побывать в ГИРДе, в Нахабине взлетела в небо первая советская ракета конструкции М. К. Тихонравова — «ГИРД-09». От нее пошел отсчет практических достижений советской реактивной техники, ее великих достижений…
Много было сделано первыми энтузиастами здесь, в полуподвале дома на Садовой.
* * *
Из группы проходивших мимо отделились двое — Юрий Александрович Победоносцев и авиационный инженер Михаил Клавдиевич Тихонравов, конструктор первой взлетевшей в небо советской ракеты ГИРДа с жидкостно-реактивным двигателем (ЖРД).
Они подошли, поздоровались с Дубенским и с нами.
— А вот и он сам, легок на помине! — воскликнул профессор Молчанов, — Привет, Юрий Александрович! Привет, Михаил Клавдиевич! Тишайший автор первой нашей железной ласточки… Ну, держись, стратосфера! — Не мог Молчанов обходиться без шутки, без легкого слова в беседе. — Весь цвет «реактивщиков» собрался штурмовать ее! Одначе пошли, товарищи! Пора, а то без нас откроют академики конференцию…
И направился к лестнице. За ним Дубенский и другие.
Я немного отстал. Мое внимание привлекли еще трое вошедших в холл.
Совершенно седой старик с бородой патриарха тяжело, оскальзываясь, шагал по паркету. Его поддерживал под локоть академик Абрам Иосифович Иоффе. Рядом с ними шел академик Сергей Иванович Вавилов.
Облик старика был знаком. Но кто он? Кто? Старик говорил что-то хрипловато, с трудом…
И вдруг я узнал его. Да это же Николай Морозов! Революционер-узник. Двадцать лет в одиночном каземате Шлиссельбургской крепости-тюрьмы. Туберкулез, побежденный — волей. Ужас безысходности пожизненного заключения, преодоленный — волей… Несколько томов научных исследований и публицистики, сотворенных там — волей… Пять книг, названных «Христос», изданных уже при советской власти, в двадцатые годы. Почему «Христос»? Потому, что ему давали читать за все долгие годы одну книгу — Библию. Он и анализировал ее с позиций своего материалистического мировоззрения и горячей своей поэтической души. Развенчивая мифы, строя свои концепции истории человечества и мироздания.
Николай Морозов! Живая легенда. Ныне почетный академик. И этот удивительный человек пять лет назад нашел для себя возможным написать предисловие к моей первой скромной книжке, дневниковой записи впечатлений от путешествия с Леонидом Алексеевичем Куликом в далекую сибирскую тайгу, за Подкаменную Тунгуску, в поисках места падения знаменитого метеорита 1908 года.
Тогда мне не пришлось познакомиться с ним, даже вообще увидеть его не пришлось.
В предисловии к этой моей книжке «В тунгусской тайге» он написал:
«В Центральной Аризоне (С. Америка), в нескольких километрах к юго-востоку от каньона Дьявола, в 1886 году в глухой степи пастухи нашли на привале обломки камней с наружной стороны коричневого или черного цвета, а внутри имеющие вид белого блестящего металла, который они приняли за серебро. Эти обломки были разбросаны среди развалин скал, вокруг глубокого кратероподобного углубления, которое вместе со своей холмистой окружностью было давно известно под названием Медвежьей купальни, но до сих пор не подвергалось обследованию геологов. Около четырех лет спустя отдельные куски этого металла попали в руки профессоров Фута и Кенига, которые тотчас же признали их за метеоритное железо».
Далее Н. А. Морозов рассказывал подробно об Аризонском кратере диаметром более километра и глубиной до двухсот пятнадцати метров, образовавшегося в результате удара о землю и взрыва гигантского метеорита весом, видимо, около полумиллиона тонн!
«Огромный жар при внедрении его в каменистую поверхность, — писал ученый, — мог произвести не только сильнейший взрыв как самого метеорита, так и прилегающей к нему почвы… То обстоятельство, что найдена лишь ничтожная доля всего метеорита, не должно нас удивлять. При колоссальном увеличении его температуры в момент удара большая часть его обратилась в газ, а оставшаяся часть разрушилась под влиянием постепенного окисления. Из всех найденных до сих пор метеоритных выбоин на земле это единственная по своим размерам».
Рассказал далее Н. А. Морозов также и о первой экспедиции Л. А. Кулика в 1921 году, а затем о второй, через шесть лет. «Подробности об этих исследованиях экспедиции (новой) приводятся в нижеследующем описании ею сотрудника В. А. Сытина». Маститый ученый, узник Шлиссельбурга, считал, что порожденный падением метеорита взрыв оказывает влияние на процессы в высоких слоях атмосферы. Поэтому он и принял участие в конференции по изучению стратосферы.
* * *
Места в конференц-зале Академии почти все заняты. Лишь в простенке между двух светлых высоких окон на Неву в ледяных еще оковах остались свободными несколько стульев. Туда я и пробрался.
В дальнем конце белого зала в президиуме сидели крупнейшие ученые страны, несколько военных… А в зале много молодых моих сверстников. Таких же «до тридцати», как Королев, Тихонравов, Победоносцев, Прокофьев…
Конференцию открыл краткой речью президент Академии Карпинский. Он говорил о значении для науки и жизни познания высоких слоев атмосферы, процессов, в ней происходящих. Потом конференцию приветствовали представители Ленинграда. Помимо пленарных заседаний на конференции предусматривалась работа восьми секций: аэрологии, акустики, оптики, атмосферного электричества, астрономии, биологии и медицины, техники.
Таким образом, программа ее показывала, что впервые в мире советские ученые подведут итоги и наметят перспективы разностороннего, комплексного изучения методами разных наук воздушного океана и особенно его заоблачного слоя — стратосферы, для того чтобы проникнуть в «кухню погоды», продвинуть вперед практическую метеорологию, помочь развитию высотной авиации. К тому времени было ясно, что лишь в более разреженных слоях атмосферы возможны большие скорости и дальности полета для аппаратов тяжелее воздуха, но решение этой задачи «тянуло» за собой многие другие. Нужно было, например, создавать специальные аппараты для посылки на большую высоту научных приборов. Пришло время и для исследования жизнедеятельности организмов в разреженной воздушной среде, чтобы в конечном счете сделать ее доступной для человека. Вот почему в программе конференции появились на первый взгляд «неподходящие», казалось бы, сообщения медиков и биологов…
Я стал посещать главным образом заседания секции техники. Инженер Тихонравов сделал там обзорное сообщение о возможностях изучения воздушного океана с помощью ракет — «Применение ракетных летательных аппаратов для исследования стратосферы». Гирдовец инженер Дудаков прочитал сообщение «Самолет со стартовыми ракетами как начальный этап в развитии ракетного стратоплана». Инженер Победоносцев доложил о том, как в ГИРДе создавалась конструкция специальной аэродинамической трубы для продувок моделей на сверхзвуковых скоростях.
А ленинградские «реактивщики», сподвижники руководителя Газодинамической лаборатории (ГДЛ) Валентина Петровича Глушко, той лаборатории, которая наряду с ГИРДом внесла огромный вклад особенно в разработку кардинального вопроса о топливе для ракет, рассказали о своих теоретических и практических изысканиях. Доцент Маганский прочитал доклад «Научные проблемы реактивного движения», инженер Штерн — «Проблема двигателей прямой реакции».
На заседаниях секции техники всегда было много народу, особенно молодежи. Даже студенты технических вузов прорывались сюда. «До краев» наполнилась аудитория, когда с докладом «Полет реактивных аппаратов в стратосферу» выступил Сергей Павлович Королев. Его уже хорошо знали все пионеры рождавшейся новой отрасли техники — реактивной. Знали как талантливого, смелого конструктора и превосходного организатора. И это явственно ощутилось, когда Королев вышел на трибуну и заговорил.
В зале воцарилась тишина. Слушатели с напряженным вниманием следили за его речью. Четкой, я бы сказал — отточенной, по выражениям и их смыслу была его речь. Вначале он немного волновался. Руки его вздрагивали, и голос чуть вибрировал. Однако оратор справился с этим естественным волнением на трибуне Академии наук…
Сотрудники Королева — гирдовцы — рассказывали мне об особенностях характера своего шефа. Сергей Павлович, говорили они, наполнен волей и увлеченностью! И теперь я прямо-таки физически ощущал энергию его мысли, логики, доводов, направляемых его волей и увлеченностью… Более сорока пяти лет прошло с того раннеапрельского дня в Ленинграде, а мне явственно видится этот человек на трибуне, стройный, в туго подпоясанной гимнастерке с голубыми петлицами, большелобый, красивый…
И помнится мне, что в тот час я вдруг стал повторять строчки из пушкинской «Полтавы»: «Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен. Он весь как божия гроза». Нет, «лик» Королева не был ужасен. Прекрасен он был…
Доклад Сергея Павловича Королева на Всесоюзной конференции по изучению стратосферы был опубликован в сборнике ее трудов, изданном в 1935 году. Однако об одной из ведущих мыслей, высказанных в нем, мне хочется сказать сейчас, потому что она подчеркивает общую методу, стиль деятельности замечательного конструктора и ученого, позволяет лучше понять его подход к решению труднейших технических проблем.
В период работы в ГИРДе Королев, помимо того что руководил всей его деятельностью, как конструктор создавал проекты первых ракет и ракетоплана — самолета с реактивным двигателем. Но и до этого он много внимания уделил попыткам «вооружения» летательного аппарата новым типом двигателя. Еще студентом Королев сам строил планеры, сам на них летал. На одном из планеров он приспособил для разгона пороховую ракету. Однако Королев понимал, что пороховые ракеты, действующие немногие секунды, такими двигателями стать не смогут. Кардинально решить проблему можно, лишь получив в свои руки надежные, относительно долгодействующие, мощные реактивные двигатели.
В докладе на конференции по изучению стратосферы мысль о необходимости сосредоточить основное внимание именно на создании ракет, а следовательно и реактивных двигателей для авиации, Королев выразил с полной ясностью. Вскоре он повторил ее в своей первой книге «Ракетный полет в стратосфере» — одной из лучших литературных работ о реактивной технике тех лет, не потерявшей значения многие годы.
«Будущее, прогресс, дальнейшие успехи авиации находятся на высотах стратосферы. Но для того, чтобы эти высоты взять, надо создать легкий, надежно работающий и мощный ракетный мотор».
«Ракетный мотор» — это ракета, реактивный двигатель, работающий на жидком топливе — спирте, керосине и т. п. — и окислителе — например, жидком кислороде. Созданием таких конструкций и занимался ГИРД, а затем РНИИ. Итак, главное звено, за которое надо тянуть, чтобы победить, — ракета! Воля и увлеченность Королева и были нацелены в этом направлении.
…В гениальных трудах Циолковского и его последователей, советских и зарубежных ученых, вопрос, что может дать реактивный (ракетный) мотор для авиации, а в дальнейшем для овладения космическим полетом, теоретически к тому времени был в основном решен. Практически же делались лишь первые шаги. Сергей Павлович Королев точно намечал, как шагать реактивной технике вперед: надо отдать все силы прежде всего практике, поискам конкретных технических решений. И вел за собой многих. Ученых. Инженеров. Студентов. Триада Циолковского «мечта — теория — осуществление» должна была реализоваться теперь в последней своей части…
* * *
В перерыве между заседаниями секции техники стратосферной конференции я подошел к Королеву, увлек его к оконной нише и высказал удовлетворение его докладом.
— Спасибо на добром слове, — сказал он и вдруг как-то по-детски коротко вздохнул и добавил: — Волновался, черт возьми! С непривычки. Обстановка — не у нас в гирдовском подвале…
И сразу же снова подобрался, стал снова выглядеть суховатым, даже отчужденным.
— Сергей Павлович! У меня к вам просьба, — все же сказал я. — В Стратосферном комитете только что организована секция изучения реактивного движения. Ваши гирдовцы — ее общественная основа. Из ГИРДа к нам перешли и курсы инженеров-конструкторов. Помогите, пожалуйста, наладить дело.
— Не могу обещать. Много работы в РНИИ. Пригласите Тихонравова, Победоносцева, Дудакова, Душкина…
— Они уже в активе. И все же прошу вас, — настаивал я. — Мы базируемся в Планетарии.
— Не могу обещать, — повторил Королев. И попрощался.
* * *
В московском Планетарии на Садовой-Кудринской под яйцеобразным куполом расположено главное помещение — круглый демонстрационный зал. Вход в него из кольцеобразного фойе. По периферии фойе было несколько небольших узких комнат, там разместились лекторские, администратор, библиотека.
Две комнаты были отданы Комитету по изучению стратосферы Центрального Совета Осоавиахима СССР. Нам разрешалось пользоваться еще одним помещением Планетария — небольшим залом в подвальном этаже. Для нас это было чрезвычайно важно. Созданный в начале тридцать четвертого «Стратосферный комитет» (так мы сокращенно называли эту общественную организацию) быстро порастал активом.
В его составе было несколько секций: массово-пропагандистской работы, воздухоплавания (конструирование стратостатов), методов изучения атмосферы, обеспечения жизни человека в условиях разреженной воздушной среды (медицинская) и т. д.
Незадолго до Всесоюзной конференции по изучению стратосферы в наш Комитет передали из Военно-научного комитета Осоавиахима организационно-массовый отдел ГИРДа, объединявший не только московских энтузиастов пропаганды реактивной техники. На основе этого отдела и была создана в Стратосферном комитете еще одна секция — изучения реактивного движения.
Среди «реактивщиков» были известные теоретики и конструкторы и много молодых энтузиастов.
Они объединились не только чтобы «пропагандировать». Они начали проектирование опытных образцов ракет и реактивных двигателей оригинальной конструкции (например, ракеты инженера A. Полярного, прямоточного воздушно-реактивного двигателя И. Меркулова и A. Нистратова), готовили научно-технический сборник «Реактивное движение», наладили работу курсов инженеров-конструкторов реактивной техники и т. д.
Вот этой-то начавшейся довольно обширной работе наших «реактивщиков» я и просил помочь Королева в первую с ним встречу в Ленинграде. А в том, что деятельность секции принесет пользу, я был совершенно уверен, так же, впрочем, как и других секций Стратосферного комитета. В то время Коммунистическая партия широко привлекала общественные силы, поднимала инициативу масс на решение нерешенных, насущных для дальнейшего развития науки и техники задач. А таких задач был непочатый край!
Поэтому деятельность многих общественных организаций — Осоавиахима, отраслевых научных инженерно-технических обществ (НИТО), Ассоциации изобретателей имела важное значение. По всей стране они объединяли тысячи ученых, инженеров, студентов, квалифицированных рабочих — изобретателей и рационализаторов. В «общественном порядке», затрачивая на разработку тех или иных научно-технических проблем и пропаганду передовой техники свое свободное от работы время, активисты-общественники вносили большой вклад в развитие различных отраслей науки и техники, причем главным образом новых, перспективных…
К осени тридцать четвертого в секции «реактивщиков» Стратосферного комитета было уже более ста человек. На обсуждение докладов, конструкторских предложений, статей для сборника «Реактивное движение» по вечерам под куполом Планетария собирались молодые инженеры и студенты. Постоянно бывало в секции несколько маститых ученых, профессоров: Б. Н. Юрьев, Б. С. Стечкин, В. П. Ветчинкин, К. Л. Баев и другие.
Приходили к нам, конечно, и первопроходцы реактивной техники: инженеры-конструкторы М. К. Тихонравов, Ю. A. Победоносцев, Г. Е. Лангемак, A. И. Полярный, Б. Н. Раушенбах, В. Н. Прокофьев, В. И. Дудаков, Л. С. Душкин, Л. Улубеков, Л. Э. Брюккер, Б. И. Романенко, A. Я. Щербаков, A. И. Нистратов, Е. И. Мошкин, Н. П. Корнеев и другие. Объединял их человек огромного общественного темперамента, талантливый молодой инженер И. A. Меркулов. Он был председателем бюро секции.
А вот Королев не появлялся в Планетарии.
Я заинтересовался работой наших «реактивщиков», перезнакомился с ними, стал писать статьи, пропагандирующие идеи Циолковского, реактивную технику. Написал и несколько обзорных статей-рецензий на книги, посвященные авиации и ракетам. Одна из них, напечатанная в журнале, издававшемся в тридцатые годы, — «Книга и пролетарская революция», называлась: «О межпланетных мечтаниях, излишней фантазии и реальных задачах».
В ней подвергались критике высказывания некоторых авторов научно-популярных брошюр и книг, слишком приближавших время завоевания космического пространства, а главное — говоривших о том, что это легкое дело! С моей точки зрения это было неправильное утверждение. Так же, как и Королев, я считал, что главным в то время было создать надежные ракетные моторы и стратопланы для полетов на высотах в стратосфере с большими скоростями…
…Пожелтевшие от времени страницы передо мной. В числе книг, о которых шла речь в упомянутой статье, был труд Королева «Ракетный полет в стратосфере». Его работа мне понравилась «целиком и полностью».
Вот отрывок из той давней моей статьи:
«…одна книга правильно политически и практически ставит очередные задачи.
Книга эта и названа более конкретно, чем другие, — «Ракетный полет в стратосфере». Автор ее, один из видных практических работников в области реактивной техники, С. П. Королев подошел к теме серьезно, он реально оценивает возможности и совершенно правильно акцентирует свое внимание и внимание своих читателей именно на указанных очередных задачах реактивной техники, а не на межпланетных путешествиях.
…Мы не можем предъявить к книге С. П. Королева никаких претензий как в отношении грамотности технической, так и литературной. Серьезное отношение к вопросу и популяризаторские способности обеспечили всестороннюю доброкачественность этой книги».
Теперь я считаю, что, видно, не совсем правильно поступил, акцентируя критический удар в этой статье по книгам некоторых других авторов, тех, кто увлекался «межпланетными мечтаниями», в том числе по книге хорошего популяризатора Я. Перельмана.
Довлела в моем сознании, когда писал я эту статью, идея необходимости отдать примат практике, скорейшему решению проблем надежного «ракетного мотора», завоевания авиацией стратосферы и т. д. Не поступаясь этой идеей, не нужно было, пожалуй, мне осуждать «мечтателей»…
Впрочем, сам основоположник теории космонавтики, великий Циолковский неоднократно говорил и писал о том, что межпланетный полет дело далекого будущего… «Пройдет сто, двести лет… прежде, чем человек победит земное тяготение!» Научно-техническая революция внесла в такое предположение решающую поправку. Самозабвенный труд наших ученых, инженеров, рабочих в условиях социалистического строя, планового народного хозяйства, а также организаторский и научно-технический талант людей, возглавлявших «реактивщиков», обусловили победу нашу на космическом фронте уже через четверть века после первых шагов реактивной техники!
* * *
Я вспомнил о своей давней статье не случайно. Дело в том, что с темы для нее начался у нас разговор с Королевым во вторую с ним встречу.
Он все же пришел в Планетарий, к нашим «реактивщикам»! На какое-то обсуждение, не помню уже точно, какое. Это было в конце тридцать четвертого. Вероятно, работавшие в штате РНИИ и одновременно наши активисты Тихонравов и Победоносцев рассказывали ему о начале деятельности секции изучения реактивного движения Стратосферного комитета, что и заинтересовало его.
В памяти моей точно не зафиксировано, кто — Игорь Алексеевич Меркулов или, может быть, Михаил Клавдиевич Тихонравов — проводил Сергея Павловича в мой небольшой кабинет в Планетарии, заставленный моделями, заваленный книгами и рулонами с чертежами.
Войдя и поздоровавшись довольно сухо, он огляделся и усмехнулся уже дружелюбно. Точно распустилась в нем какая-то сдерживающая пружина.
— Как у нас было на Садовой в ГИРДе, обстановочка! Впрочем, вы здесь тоже общественная организация. И тоже на Садовой! Симптоматично…
Я предложил гостю сесть. Но он стоя стал перебирать стопку журналов и книг на этажерке. Среди них был недавно вышедший и его «Ракетный полет в стратосфере».
— Мне поправилось ваше сочинение — хорошая работа, ясная, четкая, — сказал я, указывая на нее.
— «Сочинение»! Хм… Это слово мне не нравится, а за отзыв благодарю.
— Так принято говорить среди литераторов. Вот довелось мне недавно побывать на Первом съезде писателей, я и заразился… Но, честное слово, ваша книжка действительно хорошая. И не скрою — собираюсь о ней написать в своей книжке, которую понемногу готовлю. Популярную. Название «Стратосферный фронт».
Королев с минуту подумал и сказал:
— Знаете, обязательно в таких «сочинениях» надо продвигать мысль не только о перспективах, пользе и значении реактивной техники, но и о трудности практического преодоления проблем, которые стоят перед нами. А то, в газете или журнале, да и в книжках, зачастую тру-ля-ля, тру-ля-ля! И — пожалуйте: ты уже на Марсе или подальше…
Конец этой тирады произнес он резко, даже жестко. Правы гирдовцы, подумалось мне, рассказывая, что жестковат и прям в суждениях. Бескомпромиссность, очевидно, являлась свойством и качеством его сильной натуры…
Королев тогда не был еще прославленным Главным конструктором, академиком, огромным авторитетом в науке и технике. Мы были одногодки, оба инженеры «одного фронта». И во мне, честно говоря, шевельнулась неприязнь к нему, царапнула ирония, которая прозвучала в слове «сочинениях», и резкость последней фразы. Однако, как и весной, на конференции по изучению стратосферы, мне показалась правильной его позиция: сейчас нужно в реактивной технике решать задачи практически. Идти вперед, поднимаясь со ступеньки на ступеньку…
А Королев взглянул на меня и, заметив тень недовольства на моем лице, усмехнулся и сказал спокойно:
— Конечно, я не против пропаганды мечты и научной фантастики, так сказать. Но нужна мера! Вот возьмите и напишите статью на эту тему.
И я написал. В том числе и ту, в журнале «Книга и пролетарская революция», о которой речь была выше.
Потом мы долго беседовали с Сергеем Павловичем о деятельности Стратосферного комитета, его секций. В наших планах и начинаниях многое ему понравилось, а вот о проектах создания новых стратостатов, в том числе «стратостата-парашюта», предложенного инженерами Кулиниченко и Лебедевым, он высказался отрицательно.
— Думаю, «пузыри» не очень нам нужны. Вряд ли они много дадут для изучения стратосферы!
И вдруг спросил:
— Я слышал, вы недавно были у Константина Эдуардовича Циолковского. Как он? Плох?
И, помолчав немного, с теплотой в голосе добавил:
— Какой это удивительный человек! Я был у него лет пять назад. Зеленым юнцом. А разговаривал он со мной с полным уважением. Делился своими планами. Книжки свои подарил. И знаете, что сказал первое, когда открыл дверь и я назвался? «Я ничего не слышу, пойдемте наверх, там поговорим. Кушать хотите? Есть щи, каша».
— И меня Константин Эдуардович точно так же встретил первый раз, два года назад. Да, он тогда выглядел лучше. Вас, Цандера и Тихонравова вспоминал. Теперь он, видимо, болен. Да и годы его немалые — семьдесят семь! Но мысль, память у него ясны. Глаза…
— Глаза у него запоминаются навсегда! — прервал Королев. — Впрочем, все, что говорил этот старик, его облик и обстановку в его светелке — я запомнил до деталей. Наверное, он настоящий гений. Потому что за собой ведет. Своими идеями… Вы согласны или не так думаете?
— Конечно, согласен.
— Он жил тяжко и все же с увлечением. Так и надо жить. С увлечением!
…Вошел кто-то из секции «реактивщиков» и позвал Сергея Павловича на обсуждение.
У меня, к сожалению, не сохранилась — пропала в годы войны вместе со всей библиотекой по авиации — книга Королева «Ракетный полет в стратосфере» с автографом. Он написал на ее титульном листе несколько хороших слов, уходя на это обсуждение.
* * *
В последующие четыре года, пока существовал наш Стратосферный комитет и его секция изучения реактивного движения, Сергей Павлович Королев, несмотря на колоссальную свою занятость, еще не раз приезжал в Планетарий, выступал на дискуссиях по докладам и техническим проектам в секции «реактивщиков» и на курсах конструкторов-инженеров. Он отлично понимал значение общественности в развитии нашей науки и техники, ценил общественную инициативу. Не раз еще потом я встречался с этим замечательным человеком, ставшим основоположником практической космонавтики, одного из величайших свершений человеческого разума.
Встречался не только когда он бывал у наших «реактивщиков», но и в Комиссии по изучению стратосферы Академии наук СССР, в кабинете ее председателя, академика Сергея Ивановича Вавилова, в Физическом институте Академии на Миуссах и еще в разных местах. Но, к сожалению, разговаривать так, «по душам», как в первые встречи, мне с ним больше не пришлось. Лишь о текущих делах, лишь по нескольку минут…
Все же профессиональная память литератора-журналиста сохранила не только содержание первых бесед с Королевым, но и главное, интересное из бесед во время других встреч, происходивших обычно «в процессе» всяких заседаний и совещаний.
Примерно через год, в конце тридцать пятого, Королев пришел на одно из совещаний в ФИАН к академику Сергею Ивановичу Вавилову. Народу было довольно много. Разговор шел, насколько помнится, о научных приборах, которые в первую очередь следует помещать в ракеты в целях изучения высоких слоев атмосферы. Много спорили о габаритах и весе этих приборов. Физики хотели, чтобы они имели некоторую «свободу рук», конструкторы реактивных аппаратов «дрались» за каждый грамм, за каждый кубический сантиметр, настаивали на минимальных габаритах и весе. Кстати, такие споры продолжались, пожалуй, в течение всего периода становления современной ракетной техники. И они понятны… Чтобы разогнать до больших скоростей ракету, нужно затратить много энергетических ресурсов.
Помнится, бытовала тогда у нас шутка. Чтобы взлететь за пределы земного тяготения, нужно сесть на бочку с таким количеством динамита, чтобы твой вес составлял не больше процента от веса заряда взрывчатки!
После совещания вышло так, что покидали мы ФИАН одновременно с Королевым и немного поговорили.
Королев был чем-то озабочен. Бросал отрывистые фразы. После нескольких слов по вопросу, обсуждавшемуся у академика Вавилова, он вдруг резко изменил тему и заговорил о Циолковском:
— Вот и похоронили великого старца. Ощущаю пустоту… Вы правильно сделали — опубликовали его автобиографию[10]. Только нужно было в вашем предисловии еще больше сказать о значении его идей, его теоретических работ. Они еще долго будут изучаться… помогать практикам. Надо их печатать, печатать! Я уже высказал свое мнение Воробьеву[11]. Печатать и изучать, изучать…
Эти слова Королева мне запомнились точно.
И еще однажды, встретившись, помнится, опять в ФИАНе на докладе научного сотрудника Вернова (будущего академика) о методах изучения космических лучей, в краткой беседе Сергей Павлович снова повторил почти то же самое о необходимости публикации и изучения трудов Циолковского по реактивной технике.
Огромное значение идей Циолковского для него ярко проглядывается в докладе, сделанном Королевым на торжественном собрании, посвященном столетию со дня рождения «калужского мечтателя». И назван этот доклад в духе действий и устремлений самого автора: «О практическом значении научных и технических предложений К. Э. Циолковского в области ракетной техники». Практическом значении! И это было тогда, когда именно на деле свершался первый шаг в космос — готовился запуск первого спутника. Полмесяца спустя этот шаг был сделан. Человечество шагнуло в космическую эру. Провозвестником ее, вдохновителем и теоретиком действия человека в этом направлении был назван «чудесный старик» из Калуги.
«Константин Эдуардович Циолковский был человеком, — сказал Королев, — жившим намного впереди своего века, как и должно жить истинному и большому ученому».
Несомненно, правы биографы С. П. Королева, говоря, что сам он считал себя и был в жизни учеником и продолжателем дела гениального «калужского мечтателя».
Несомненно для меня и то, что ощущение какой-то приязни, которую по отношению ко мне проявлял Сергей Павлович, появилось в связи с Циолковским еще в первый наш разговор о нем. Память о Циолковском, о встречах с ним, интерес к его жизни и трудам как бы связали нас незримой нитью.
Впрочем, связала, наверное, многих, кому довелось встречаться с великим основоположником теоретической космонавтики и по мере сил потрудиться над претворением и пропагандой идей великого изобретателя и ученого…
Видимо, поэтому Сергей Павлович потратил время, которого ему не хватало всегда, на то, чтобы прочитать мою вышедшую на следующий год книжку «Стратосферный фронт» и написать о ней положительную рецензию[12].
В рецензии он написал:
«Приятное впечатление оставляют рецензируемые, объединенные общей темой книги В. A. Сытина и Альберта У. Стивенса. Автор первой книги — один из руководителей и старейших наших работников, принимающих самое активное участие в завоевании стратосферного фронта.
В своей небольшой по объему, но прекрасно написанной книге В. A. Сытин популярно простым, понятным языком рассказывает о причинах, вызвавших столь большой интерес к овладению стратосферой»[13].
Немного комично звучат слова: «один из… старейших наших работников». Ведь тогда и ему и мне было всего по тридцать. Но в те годы как-то уж очень быстро текло время! Определялось это, видимо, темпами передела старого мира в нашей стране…
…И еще об одном телефонном разговоре с Королевым в тридцать шестом надо сказать здесь. Он позвонил, чтобы положительно оценить сам факт начала испытаний ракеты инженера Полярного, созданной «реактивщиками» Стратосферного комитета.
Сергей Павлович говорил по вполне понятным причинам иносказательно:
— Есть пословица: «Первая ласточка весны не делает». Но та, которую выпустили ваши товарищи, несомненно, одна из тех, какие служат провозвестниками наступающей весны и лета…
Он твердо верил, что трудности в создании советских ракет в конце концов будут побеждены, что наша реактивная техника обусловит будущее авиации, а потом и завоевание космоса… Без веры в нужность и важность дела, которому отдаешь себя, жить с увлечением нельзя![14]
* * *
…Тяжелая черная «Чайка» умчалась среди вереницы других машин по раскаленному солнцем асфальту к площади Революции. Задние стекла ее кабины были закрыты коричневыми занавесками. Я не увидел за ними Королева и, увы, никогда больше не видел его живым…
Современники знают его по скульптурам и портретам. Он глядит на них с высоты своих зрелых лет, отягченных титаническим трудом своей удивительной жизни. А мне, когда думаю о нем, он представляется молодым, подтянутым, большелобым, остроглазым, и слышится мне его отрывистая, резковатая речь и в словах «жить надо с увлечением» сила и теплота одержимости в борьбе за достижение поставленной великой цели. Да, жить надо с увлечением!
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
МОСКОВСКОЕ БЮРО
Самолет шел так низко над полями, что иногда скирды соломы оказывались вровень с его окнами. Над деревушками и перелесками он взмывал вверх, а потом снова «брил» осеннюю бурую землю.
— Чувствуешь себя как на аттракционе «американские горы», — сказал Леонид Сергеевич Соболев и усмехнулся. Но эта усмешка не стерла необычно мрачного выражения на лице этого всегда жизнерадостного человека.
Впрочем, никто из пассажиров нашего самолета не был в радужном настроении. И не потому, что все понимали рискованность бреющего полета на обычном пассажирском самолете. Это было вынуждено. На высоте нашу машину легче могли заметить и сбить немецкие «фокке-вульфы» и « мессершмитты».
Писатель Соболев и еще два морских офицера летели из осажденного Севастополя. Остальные — из Ростова-на-Дону, где также сложилась трагическая обстановка. К тому же кто-то сказал нам в Цимлянской, где наш самолет приземлялся для заправки горючим, что из Москвы эвакуированы все учреждения и, вероятно, скоро начнутся бои на ее окраинах!
Такая «новость» показалась нам невероятной. Ведь, несмотря на тяжкие неудачи первых месяцев войны, подавляющее большинство советских людей было убеждено: вот-вот совершится перелом — немецко-фашистские войска будут остановлены и отброшены.
Часа в четыре пополудни в салон к пассажирам из отсека управления вышел второй пилот.
— Товарищи, — сказал он, — будем садиться на запасном аэродроме к западу от Москвы. Ходынка не принимает. Просим не волноваться.
Соболев чертыхнулся.
— Мне же обязательно надо в Москву! Вам ведь тоже?
— Попробуем добыть машину на аэродроме…
Вскоре самолет поднялся метров на двести, сделал вираж и пошел на посадку, будто прямо в лес. Потом лес расступился. В окнах замелькали сухие стебли бурьяна. Среди деревьев по краям поляны стояли размалеванные желтыми пятнами кургузые самолеты-истребители и два или три пассажирских.
Наш самолет тоже подрулил к кромке леса. Два солдата притащили стремянку.
— Просим покинуть самолет. Мы должны отвести его в укрытие, — сказал снова появившийся второй пилот.
Я спустился по шаткой стремянке на землю и попал в объятия знакомого генерала Воздушного Флота.
— Откуда?
— С юга… Когда нас отправят в Москву?
Генерал мрачно усмехнулся и покачал головой:
— От меня сие не зависит. Но, наверное, не сегодня. В Москве, знаешь, бомбят. Да и у нас полчаса назад было весело… Хорошо, ястребки успели подняться. Иначе, сволочи, всю посадочную расковыряли бы. А так по краю только немного попортили. Вот там, посмотри…
Шагах в двухстах от того места, где мы стояли, человек двадцать бойцов орудовали лопатами вокруг воронок. Легкий ветерок тянул с той стороны характерный запах взрывных газов.
Все же мы уговорили начальника того запасного аэродрома выпустить нас на Москву в сумерки, когда «фокке-вульфы» и «мессершмитты»-«охотники» обычно не летали.
На центральном московском аэродроме Ходынка в воздухе стоял тот же запах взрывных газов и еще дыма и гари. На окраине, там, где теперь Песчаные улицы, горели бараки. В темнеющее небо поднимались аэростаты заграждения. Ни одного огонька кругом. Странная тишина. Как будто рядом не огромный город, а осенние леса и поля.
Это было 18 октября 1941 года.
На утро следующего дня я пошел отчитаться в командировке в Совинформбюро, а затем на улицу Воровского, в Союз писателей.
Улицы Москвы были странно пустынны. Одинокие прохожие. Мало машин. Редкие трамваи. Почти все магазины закрыты. Окна перекрещены полосками бумаги, а кое-где заделаны фанерой. На крышах, как кошки, мешочки с песком. У подъездов больших домов дежурные с сумками противогазов. И везде — на тротуарах, на проезжей части улиц, во дворах — мусор и пепел. Пепел мягко шуршит под ногами, движется, как живой, в струях ветра, скапливается темными сугробами у кромок тротуаров, у стен зданий, на клумбах, среди давно увядших цветов. На площади Восстания, перед домом, где жил когда-то Чайковский, между улицей Герцена и улицей Воровского, за бруствером из мешков с землей пушка-трехдюймовка. Ствол ее нацелен в сторону Баррикадной улицы и зоопарка.
В центре круглого скверика, во дворе здания Союза писателей, у цоколя скульптуры «Мысль», груды бумаги и каких-то конторских книг и папок.
Двери правления Союза были открыты. В небольшом холле сидела пожилая женщина. Она сразу же забросала меня вопросами:
— Почему здесь никого нет? Когда будете эвакуировать оставшиеся семьи? Кому сдать справки? — И расплакалась.
Что я мог ей ответить? Я сам знал только то, что из Москвы действительно уже отправлены или эвакуируются на восток многие заводы и центральные учреждения, семьи рабочих и служащих.
Кое-как мне удалось успокоить женщину (она оказалась женой писателя), пообещав к концу дня выяснить обстановку и дать ответ на волнующие ее вопросы. Это обещание и было первым толчком ко всему, что произошло далее…
Вскоре в холле появился молодой литератор-переводчик Юрий Смирнов. Мы вскрыли заколоченные досками крест-накрест двери из холла в комнаты правления Союза. На полу и столах — везде валялись книги, бумаги, папки. В разбитое окно кабинета оргсекретаря врывался ветер, трепал намокший занавес.
— Что же все-таки делать? Неужели никого из сотрудников правления Союза не осталось в городе?
В приемной генерального секретаря я поднял трубку телефона. Он работал. Тогда я разыскал справочную книжку и позвонил в «Правду», философу и литературоведу Павлу Федоровичу Юдину, одному из членов президиума правления Союза писателей. Мне было известно, что с осени он там работает. Павел Федорович посоветовал связаться с ЦК партии.
Дежурная коммутатора Кремля соединила меня с Управлением агитации и пропаганды.
Начальник Управления выслушал мой рассказ и, подумав немного, ответил:
— В Москве сейчас из руководителей Союза писателей помимо Юдина есть еще Ставский и со дня на день будет Павленко. Установите с ними контакт. Может быть, в городе есть и другие члены правления Союза. Соберитесь, поговорите. В общем, надо навести в вашем хозяйстве порядок и не допускать паники.
Мне показалось, что это было прямое поручение. И я тут же стал звонить знакомым и незнакомым писателям, разыскивая правленцев. Оказалось, что в Москве находилось еще довольно много членов Союза — более пятидесяти, и среди них члены правления, помимо Ставского, Юдина, Павленко и Соболева — Алексей Силыч Новиков-Прибой, Гавриил Сергеевич Федосеев — директор Литературного института имени Горького, Владимир Германович Лидин, Алексей Александрович Сурков, Владимир Владимирович Ермилов. После этой разведки я снова соединился с Юдиным. Он предложил собрать членов правления на следующий день в два часа в Центральном Доме литераторов.
Вскоре в Союз пришел еще один литератор — Борис Киреев.
— Вы понимаете, я живу здесь, во дворе, и из сотрудников правления остался в одиночестве, — пожаловался он. — Ко мне идут и идут, спрашивают об эвакуации, о талонах на питание в столовой Дома литераторов. А что я могу сделать? Вот список желающих выехать. Среди них известный еврейский писатель старик Блюм, члены нескольких семей писателей-фронтовиков.
Киреев был растерян и угнетен.
— Пойдемте в ЦДЛ, — предложил я. — Пообедаем, там, говорят, столовая работает…
— А талоны у вас есть? На питание. Директор столовой Чернышев установил такой порядок: кто приезжает с фронта, должен писать ему заявление. Дает, кому захочет…
В столовой Дома литераторов какие-то странные компании грудились вокруг столиков, заставленных бутылками. Писателей и военных не было.
— Вот видите, что здесь творится, — развел руками Киреев. — и откуда только берется эта шваль? Эта пена?!
Директор столовой, осанистый, в темно-коричневом костюме, с сигарой в зубах, появился в дверях, ведущих на кухню.
— Что это такое? Кого вы тут кормите?
— А вы кто такой, собственно говоря, гражданин? — ответил он вопросом на мой вопрос, не вынимая сигары изо рта.
Меня взорвало:
— Немедленно прекратите пускать посторонних. И чтобы без справок Союза здесь никого не было! Иначе… сдадите сейчас же дела. Вот товарищу Кирееву.
Он сразу стушевался, раскланялся и клятвенно обещал навести в столовой порядок.
Свое слово он сдержал. Когда на следующий день, как было условлено, в ЦДЛ приехали Соболев, Юдин, Новиков-Прибой, Лидин, Федосеев, Ставский, в столовой были тишина и порядок. Но, забегая вперед, скажу, что впоследствии ревизия обнаружила, что у Чернышева в делах порядка не было, процветало воровство, и его арестовали.
После короткого обмена мнениями Юдин предложил, учитывая сложившуюся обстановку, создать Московское бюро правления Союза писателей. С ним все согласились. Бюро поручили довершить эвакуацию в тыл семей писателей, обеспечить сохранность хозяйства Союза, а главное — проводить общественно-политическую работу. Членами бюро утвердили Владимира Германовича Лидина, Гавриила Сергеевича Федосеева и меня.
Потом протокол с этим решением подписали и другие члены правления Союза — Павленко, Сурков, Ермилов.
В самом факте создания Московского бюро правления Союза писателей был глубокий смысл. Творческий Союз должен был внести свою патриотическую лепту в общенародное дело обороны Москвы. Немецко-фашистские войска совсем недалеко от ворот столицы. А Москва работает. Несмотря на эвакуацию многих промышленных предприятий и учреждений, сотни московских фабрик и заводов выполняют оборонные заказы, функционирует коммунальное хозяйство, печатаются некоторые газеты, действует радио.
За два или три дня Бюро юридически оформилось как «законное учреждение». Директор Литературного института, отличный администратор, Федосеев занялся организационными делами. Мы с Лидиным провели учет членов Союза, находившихся в Москве, с привлечением их к общественной работе. И наверное, нам почти ничего не удалось бы сделать, если бы Московское бюро не поддержал актив из писателей и неэвакуированных сотрудников издательства «Советский писатель» и других учреждений правления Союза.
Первой пришла к нам на улицу Воровского Елена Ивановна Авксентьевская, многолетняя заведующий библиотекой. Кто из писателей не знает этой женщины, энтузиастки библиотечного дела?
— Все, что хотите, буду делать, — сказала она, улыбаясь своей всегдашней милой улыбкой.
— У нас пока нет денег, чтобы платить зарплату.
— Проживу как-нибудь. В такое время не могу без Союза. Библиотеку я заперла и опечатала.
— Хорошо. Будьте нашим начальником штаба. Согласны заниматься всем делопроизводством?
— Я уже сказала — все буду делать.
В тот же день в бюро появились Борис Шиперович и Иван Пикулев, сотрудники издательства «Советский писатель». Они рассказали, что существует опасность расхищения рукописей и архивов из помещения издательства в Большом Гнездниковском переулке. Тут же надо было принимать какие-то срочные меры. Мы решили назначить Пикулева директором, а Шиперовича главным редактором издательства «Советский писатель» при нашем бюро и поручили им прежде всего обеспечить охрану издательского хозяйства, а затем выяснить возможность печатания хотя бы небольших книжек и листовок. Некоторые типографии, например газеты «Правда» и «Известия», ведь работали. Вскоре пришлось нам назначить и директора Дома литераторов. И там тоже необходимо было обеспечить сохранность здания и имущества и контролировать столовую. Директором ЦДЛ стал журналист и искусствовед Соболевский.
Так через три дня Московскому бюро удалось навести некоторый порядок в хозяйстве Союза.
Это было первым, но не главным делом бюро.
Все мы были абсолютно убеждены, что Москва никогда не будет захвачена врагом. Со всей искренностью теперь, через много лет, я могу сказать, что это не громкая фраза, не прикрашивание истории, а истинная правда. Причем, говоря «мы», я имею в виду не только Лидина и Федосеева, не только названных выше наших товарищей — сотрудников Союза, но и группу неэвакуированных писателей, не говоря уже о писателях, призванных в армию и работавших в «Правде», «Известиях», «Красной звезде», фронтовой газете Западного фронта. Большинство их вошло в актив Московского бюро, и я должен назвать их имена.
Это Петр Павленко и Алексей Сурков, Леонид Соболев и Новиков-Прибой, Павел Юдин и Владимир Ставский, Владимир Ермилов и Вадим Кожевников, Анатолий Виноградов и Юрий Слезкин, Сергей Голубов и Александр Яковлев, Иван Попов и Цезарь Солодарь, Николай Богданов и Степан Щукин, Аршалуйс Аршаруни, Юрий Шер-Дорф-Немченко, Николай Архипов, Михаил Матусовский, Александра Горобова, Марк Ефетов, Евгений Габрилович, Юрий Смирнов, Татьяна Окс-Ге. Потом в работе бюро участвовали приехавший в Москву после ранения Анатолий Софронов, прорвавшиеся из оккупированных районов Евгений Долматовский и Борис Ямпольский, наезжавшие с фронтов Константин Симонов, Борис Горбатов, Александр Безыменский, Лев Славин, Владимир Рудный, Евгений Воробьев, Борис Кушнир.
Горько, что больше половины из них уже нет в живых.
В конце октября бюро удалось получить два вагона и отправить в Ташкент нескольких престарелых писателей и более тридцати семей писателей-фронтовиков.
Трудно забыть тот вечер, ту ночь…
На платформе Курского вокзала стоит эшелон. Полная тьма. Лишь кое-где синие огоньки фонариков проводников. Идет посадка в вагоны. Вдруг голос сирены воздушной тревоги, и по вокзальному радио хриплый голос объявляет о прекращении посадки и приказывает всем занявшим места в вагонах и находившимся на перронах спуститься в туннель.
В темном небе на западе появляются искорки разрывов и голубые нити прожекторов. Ни выстрелов, ни шума моторов пока не слышно. Еще несколько минут тишины. Затем заунывный стон идущих на большой высоте немецких бомбардировщиков, нарастающий грохот выстрелов зениток, треск пулеметов, сполохи огня, качающиеся столбы света и пунктиры трасс в небе. Вскоре вспышки стали более яркими, оранжево-розовыми, и воздух встряхивали глухие тяжкие удары.
— Это в районе Тимирязевки, — тихо говорит мне Борис Киреев, с которым мы провожаем «наши» вагоны. — Лишь бы… — Он не договаривает. Понятно и так. Лишь бы бомбы не угодили на территорию станции, где эшелоны с женщинами, детьми и стариками.
Милиционер прогоняет нас в туннель.
С непривычки здесь кажется очень светло. Вдоль стен на чемоданах и узлах сотни людей. Детишки возбуждены, но никто не плачет. Крошечная черноглазая девчушка хватает Киреева за полу пальто.
— Дядя Борис, дядя Боря! Мама боится, а я нет! Правда, не надо бояться?
— Не надо, деточка, не надо. Сейчас наши летчики их прогонят, и ты поедешь на поезде…
Страшный удар сотрясает землю. Со сводов туннеля сыплется штукатурка. Девчушка бросается к матери, прижимается к ней и плачет. Мы с Киреевым переглядываемся. Бомба упала, очевидно, не очень далеко.
К счастью, противовоздушная оборона столицы не дала фашистским стервятникам больше бомбить Москву. Вскоре прозвучал отбой воздушной тревоги, и эшелон благополучно ушел на восток. А мы зашагали на улицу Воровского, в правление Союза, где я и стал жить на казарменном положении.
Пока мы медленно шли в полной тьме улиц, немцы налетали еще дважды. Приходилось отсиживаться в подъездах, опасаясь осколков зенитных снарядов. С шуршанием и свистом они сыпались с неба.
На следующий день ранним утром мне позвонили из Московского комитета партии и сообщили грустную весть: погиб драматург Афиногенов.
А еще через день еще одна печальная весть: погиб наш активист, писатель Дорф-Немченко. Он возвращался домой после выступления у зенитчиков. Взрывная волна от недалеко упавшей бомбы бросила его на каменный забор, и он был смертельно контужен.
Еще в первые дни существования Московского бюро мы задумались над тем, как использовать находящихся в Москве писателей в той большой агитационно-пропагандистской работе, которая осуществлялась в столице городской партийной организацией. В печати и по радио постоянно выступали писатели — сотрудники газет, так сказать, «по службе». А нельзя ли, несмотря на прифронтовую суровую обстановку, устраивать встречи писателей с читателями в общественном порядке? В городском комитете ВКП(б) и райкоме партии одобрили эту идею, и мы начали организовывать литературные выступления в военных подразделениях, в частях ПВО, на промышленных предприятиях, в крупных домоуправлениях.
Обычно небольшими группами, по два-три человека, писатели выезжали то к зенитчикам, то на подмосковные аэродромы, то на заводы и фабрики. Никто никогда не отказывался от таких выступлений. Даже очень занятые в редакциях центральных газет Соболев, Павленко, Ставский, Юдин, Сурков, Кожевников, а также наезжавшие с фронтов в Москву на два-три дня Горбатов, Симонов, Безыменский и многие другие охотно откликались на предложения встретиться с рабочими в цехе «Серпа и молота», бойцами на батарее ПВО в Кунцеве или на Ленинских горах.
…Старый тормозной завод «на Бутырках». В проходной придирчиво проверяют наши разовые пропуска двое — седоусый вахтер и совсем еще юный паренек в солдатской шинели, с карабином. Завод изготовляет теперь, кажется, минометы.
Девушка из завкома ведет нас через несекретный шумный инструментальный цех.
— Скоро обеденный перерыв. Мы соберем народ в красном уголке. Мы очень, очень рады, что вы пришли, — говорит она, уважительно поглядывая на Леонида Сергеевича Соболева, такого представительного в военно-морской форме.
В красном уголке традиционно покрытый кумачом стол. На стенах лозунги и плакаты того времени: «Все для победы», «Родина-мать зовет», «Наше дело правое, победа будет за нами…»
Ряды стульев…
Мы — Леонид Соболев, Иван Попов и я — садимся. Драматург Иван Федорович Попов чуть глуховатым голосом, с характерным придыханием спрашивает:
— Я ведь человек штатский… О чем мне говорить, посоветуйте…
— Вы работали с Лениным в эмиграции. Об Ильиче и расскажите.
Попов бросает взгляд на портреты и согласно кивает.
Проходит председатель завкома, на воротнике его гимнастерки следы недавно споротых петлиц. Один рукав заправлен за пояс, пустой.
— Не скучаете? Сейчас будет сигнал на перерыв.
Вскоре красный уголок заполняется. И начинается дружеская беседа. Иван Федорович рассказывает, что ему выпало великое счастье быть секретарем Владимира Ильича в Брюсселе, о ленинском стиле работы. Кто-то спрашивает: как Ленин относился к войнам? Попов напоминает знаменитые ленинские слова о том, что после Октября большевики должны стать «оборонцами», все сделать, чтобы защитить завоевания социалистической революции.
Соболев говорит об обороне Севастополя, о невиданном, массовом героизме его защитников.
— Москвы им тоже не захватить! — кричит кто-то из задних рядов.
Уже совсем мало времени остается до конца обеденного перерыва. Мне кажется, что мы отняли у рабочих его слишком много, и я украдкой показываю предзавкома на часы. Он улыбается, наклоняется ко мне и шепчет:
— Порядок в танковых войсках… Такая пища получше сухариков. Сухарики погрызем потом…
Но встает серебряно-седой рабочий («Лучший бригадир-пенсионер», — шепчет мне предзавком) и предлагает поблагодарить писателей.
— Очень вы нас почтили, — говорит он. — В мирное время не отпустили бы. А теперь обстановка другая. Пять минут осталось. Разрешите разойтись…
На выходе меня кто-то потянул за рукав. Обернувшись, увидел активиста Стратосферного комитета Анфира Лобовикова! Обнялись. Анфир Васильевич, торопясь сказать побольше, зашептал, глотая слова, что работает здесь опять же над каким-то своим изобретением. И что если «все выйдет», он тоже поможет обороне Москвы…
Тогда не было возможности расспросить его поподробнее, а потом так я и не узнал ничего о нем. Много лет спустя еще раз пришлось мне встретить этого примечательного человека, и вспоминали мы с ним не о тяжких годах войны, а о «стратосферной экспедиции» в Дракино.
В тот же день вечером на Москву был налет. Все же когда прозвучал отбой воздушной тревоги, я пошел на пленум Краснопресненского райкома партии. Предусмотрительно его назначили… в бомбоубежище под церковью у Никитских ворот. Той, где венчался Пушкин.
Церковь эта солидная, крепкой кладки. Сейчас, после сноса домов вокруг нее и ремонта, она выглядит очень импозантно, вздымаясь над кронами столетних тополей…
Дежурный с синим фонариком проверял партбилет у входа в подвал. Ступеньки были еле различимы в отблесках света неярких лампочек. Сводчатые, низкие потолки создавали ощущение прочности здания, несокрушимости, безопасности.
Пленум открыла секретарь райкома Соломатина. Вопрос на обсуждение был поставлен один — «Массово-политическая работа в условиях обороны». Был короткий доклад, затем начались выступления. Все ораторы говорили, тоже очень сжато, о том, где, как партийные организации ведут разъяснительную работу, мобилизуют на самоотверженный труд во имя победы.
Я слушал выступающих и думал: вот ведь отступили наши войска до Москвы, она стала почти фронтом, живет трудно и напряженно, недоедая и недосыпая, переживая тяжкие известия с фронтов и тревоги в часы атак с воздуха, и все же нет ни одной ноты паники в выступлениях коммунистов, глухо звучащих под сводами церковного подвала, ни одного слова сомнения в том, выдержим ли.
Председатель одного домкома поинтересовался, какими делами занимается сейчас писательская организация.
— Мы все знаем, что товарищи писатели выступают по радио, пишут в газетах, многие на фронтах корреспондентами, — сказала Соломатина, — другими словами — участвуют во всенародной борьбе. И все же, пожалуйста, расскажите нам, товарищ Сытин, о Московском бюро.
Я встал. Поначалу мелькнула мысль рассказать, как создалось наше бюро, о его первых шагах. Так сказать, информировать о недолгой его истории. Однако это наиболее легкий путь. И я рассказал о беседе на тормозном заводе. И лишь в заключение немного о наших планах — организовать выставку, печатать книжки фронтовиков, выпускать журнал «Смена».
Когда пленум закончился, человек десять подошли ко мне с просьбами прислать бригаду писателей на свое предприятие для встречи с рабочими. В том числе товарищи с завода имени 1905 года, Краснопресненского машиностроительного, даже с «Трехгорки», на которой наши активисты уже бывали…
А секретарь райкома, прощаясь, сказала:
— В своем журнале обязательно напечатайте историческую речь Иосифа Виссарионовича от шестого ноября. Она воодушевляет! И деловую, спокойную статью, как поджигать танки… Знаете, бутылками с бензином.
Последние слова она произносила тихо, только для меня.
Да, фашисты были ведь у ворот Москвы…
А в первых числах ноября бюро решило устроить публичный литературный вечер, посвященный воинам — защитникам Москвы.
Помнится, эту идею подал Петр Павленко.
— Вот было бы здорово. Театры закрыты. Кино тоже. Концертов нет. В Москве ни одной афиши! А тут — на стенах извещение: поэты читают стихи, писатели рассказывают о подвигах наших воинов! А нам есть что рассказать…
Но как это осуществить?
Почти каждый день налеты вражеской авиации. Бомбы хотя и редко, но падают на Москву… Где собрать слушателей, чтобы не подвергать их риску?
Празднование 24-й годовщины Великой Октябрьской революции подсказало, как можно решить эту проблему. Историческое торжественное собрание 6 ноября 1941 года, как известно, состоялось на станции метро «Маяковская».
Конечно, получить эту станцию в свое распоряжение было невозможно… Ну, а если устроить вечер в концертном зале имени Чайковского? Он рядом со станцией «Маяковская». В случае воздушной тревоги зрители смогут спуститься в метро и будут в безопасности. На такое дело все же нужно было получить санкцию городских властей, и я поехал в горком партии.
Один из секретарей горкома партии, Гракин, не согласился ее дать.
— Риск все же есть, — сказал он. — Продолжайте проводить выступления-беседы на предприятиях и в воинских частях. И это хорошо.
Мы поспорили с ним, но не договорились. Пришлось идти к более высокому начальству — Александру Сергеевичу Щербакову.
В предвоенные годы он несколько лет был секретарем Союза писателей и хорошо понимал, что живое слово — немалая сила. Щербаков воспринял предложение бюро по-иному.
— Давайте организуйте, — сказал он. — Рискнуть следует. — И добавил, обращаясь ко мне: — Но, сам понимаешь, ответственности тебе в случае чего не избежать!
Договорились с администратором зала имени Чайковского. 10 ноября на щитах для объявлений, по всему городу, где давно ничего не наклеивали, кроме листовок штаба МПВО, появилась наша афиша, настоящая афиша. Она сообщала, что 12 ноября в зале имени Чайковского состоится литературный вечер «Писатели — защитникам Москвы». В числе выступающих назывались Владимир Ставский, Алексей Сурков, Вадим Кожевников, Лев Славин, Николай Богданов, Михаил Матусовский, Владимир Лидин, Алексей Новиков-Прибой, A. Хамадан.
Последней строчкой на афише были слова: «Весь сбор поступит в фонд обороны Москвы».
Целый день 12 ноября мы то и дело поглядывали на небо. Оно было сумрачным. Северо-западный ветер гнал и гнал серые низкие облака. Иногда накрапывал дождь. Как же мы радовались этой непогоде! Фашисты в такую не летали.
Вечером кромешная тьма окутала улицы. И тем не менее хорошо освещенный, такой праздничный концертный зал скоро наполнился. Среди публики было больше пожилых людей, рабочих и служащих. Но и молодежи допризывного возраста пришло немало. Вечер открыл Алексей Сурков. Воздушной тревоги не объявлялось. Слушатели много аплодировали выступавшим, а когда расходились, горячо нас благодарили.
Через несколько дней Юдин прислал мне из редакции «Правда» номер «Таймс». Английская газета посвятила нашему вечеру целую полосу, увенчанную огромным заголовком: «Большевики плюют на бомбы и читают стихи!»
Вскоре наше бюро организовало еще один большой литературный вечер, на этот раз в Кремле, в клубе знаменитой школы курсантов. Там писатели-фронтовики Сурков, Кожевников, Воробьев, Рудный, Матусовский выступили перед офицерами и солдатами московского гарнизона.
Каждое утро часов в девять мы с Федосеевым сходились в доме правления Союза, чтобы обсудить очередные дела и обменяться информацией. Часто приходил и Лидин.
Однажды, вскоре после вечера в зале имени Чайковского, Федосеев пришел с опозданием. Оказалось, что он заходил на Большой Гнездниковский, в издательство «Советский писатель».
— Как там у Пикулева и Шиперовича дела? — спросил я.
— Порядок они навели, и ты знаешь, Виктор Александрович, есть идея. Ребята говорят, что можно договориться с одной из типографий и напечатать набранную «Малахитовую шкатулку» Павла Бажова. Замечательные иллюстрации к ней уже есть. И потом, может быть, вообще начать готовиться к изданию небольших сборников.
Идея была хорошая. Мы пригласили на очередное бюро Пикулева и Шиперовича.
— В добрый час, товарищи! Уславливайтесь с писателями-фронтовиками, собирайте их очерки и рассказы о подвигах воинов. Договоритесь, кто будет рукописи редактировать, и найдите действующую типографию.
Насколько мне помнится, первыми откликнулись на просьбу дать свои фронтовые произведения Вадим Кожевников и Константин Симонов. Затем за очень короткое время в издательстве подготовили к печати около десятка книжек. Некоторые из них были изданы очень быстро — за полтора-два месяца. В том числе рассказы Вадима Кожевникова «Тяжелая рука», фронтовые очерки Константина Симонова, сборник сатирических антигитлеровских рассказов и стихов разных авторов и «Малахитовая шкатулка»! Следует напомнить, что московские книжные издательства в конце сорок первого в столице книг не выпускали.
Раздумывая над тем, какую общественную и пропагандистскую работу следует проводить в самом Центральном Доме литераторов, помимо литературных вечеров, для воинов-защитников Москвы, мы приняли предложение художника Соколова-Скаля и Соболевского устроить в ЦДЛ выставку на тему «Искусство и литература в Великой Отечественной войне».
Соколов-Скаля обещал помочь в оформлении выставки, а Соболевский и Авксентьевская брались собрать печатный материал, иллюстрации и т. д.
— А что, если нам что-нибудь предпринять в области работы с молодежью? — сказал Гавриил Сергеевич, когда бюро закончило обсуждать вопрос о выставке. — Например, устроить специальный вечер? Или издать сборник о том, как на московских предприятиях работает молодежь?
Так родилась у нас дерзкая по тому времени мысль — организовать выпуск литературно-художественного молодежного журнала.
Как известно, в то время редакции центральных «толстых» и «тонких» литературно-художественных журналов были либо эвакуированы и работали далеко в тылу, либо прекратили свою деятельность. Все мы отчетливо понимали, как трудно будет создать такой журнал. Но так хотелось показать, что даже в условиях прифронтовой Москвы писательская организация способна и на это дело.
Решили попросить ЦК комсомола передать нам временно право издания молодежного журнала «Смена». В Москве тогда работали несколько секретарей ЦК комсомола. К одному из них, товарищу Громову, мы и поехали. Он сразу согласился на наше предложение. Ответственным редактором нашей «Смены» стал Федосеев. Он привлек к работе молодых литераторов — студентов Литературного института имени Горького, не призванных в армию по состоянию здоровья. Среди них Юрия Смирнова, Татьяну Окс-Ге, Юрия Шера. Эти товарищи и составили ядро небольшой редакции. Художественное оформление журнала тоже взял на себя художник Соколов-Скаля.
Наша «Смена» вышла в декабре 1941 года, в те дни, когда началось великое контрнаступление Советской Армии под Москвой. Небольшого формата, тоненький, всего в тридцать две странички, журнал. На бумажной обложке рисунок Соколова-Скаля — советский воин поражает штыком вражеского солдата — и слова: «Смерть немецким оккупантам!»
Первый раздел — «Мы работаем для победы». В нем короткие заметки и фотографии. Вот текст, сопровождавший одну из фотографий:
«Молодежь Москвы не уступает в энтузиазме и самоотверженности своим фронтовым товарищам. Все для победы над врагом! Лучшие боевые традиции фронтовиков стали традициями московских производственников. Аппаратчицы В. С. Спиридонова и З. A. Демидова (первая справа) с увлечением работают, выполняя очередной военный заказ. Они заливают расплавленный металл в формы и ежедневно выполняют нормы на 180—200 процентов».
На этих страничках редакция стремилась отразить трудовой подвиг молодых москвичей.
Далее в первом номере нашей «Смены» напечатан был доклад И. В. Сталина 6 ноября 1941 года на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся. Затем шли стихи Алексея Суркова и Ивана Баукова, рассказы Льва Славина и Юрия Шера, «Антифашистская песенка» М. Слободского, сатирические стихи Александра Безыменского и др.
В номере печатался также материал «инструктивного порядка» полковника A. Г. Серебрякова «Уничтожай танки врага».
Маленький, скромный был наш журнальчик… Но единственный выпущенный тогда в Москве!
Нечего и говорить, что нелегко было организовать печатание, а потом и распространение нашей «Смены». И все же Федосеев, Соколов-Скаля и немногочисленные — всего-то четыре человека — сотрудники редакции за месяц с небольшим справились с этими задачами.
Тираж тогдашнего издания «Смены», 60 тысяч экземпляров, почти полностью пошел в дивизии, воевавшие в Подмосковье. Часть была направлена и в комсомольские организации московских заводов и фабрик.
…Однажды в морозный декабрьский денек на заляпанной белыми пятнами камфуляжа «эмке» прямо с передовой заехал к нам Петр Андреевич Павленко.
Как всегда, жизнерадостный, на этот раз он был особенно весел.
— Ура! Мы ломим! — вскричал он, входя. — Долбанули фрицев что надо! Идемте обедать, расскажу о начинающемся наступлении. Потом побегу в редакцию — отписываться. Да, поздравляю!
— С чем?
— Ваш журнальчик-то тоже «стрелял»! Прихожу в батальон. Только что он освободил деревушку. Бойцам дали небольшой отдых. Политрук собрал их. Все молодежь. И читает «Смену». Стихи Алеши Суркова, сатиру Саши Безыменского…
Вскоре я и сам увидел «боевой листок» на стене блиндажа военного подмосковного аэродрома с рисунком Соколова-Скаля, взятым с обложки нашей «Смены», а еще позже, уже зимой сорок второго, на Волховском фронте, был свидетелем, как артиллеристы, собравшись в кружок, читали первый номер нашего журнальчика.
…А в тот день мы пошли кормить проголодавшегося Павленко.
— Выставка? — удивился он, увидев у дверей ЦДЛ плакат: «Литература и искусство в Великой Отечественной войне».
— Да вот, по инициативе Соколова-Скаля организовали небольшую выставку.
— Ну и ну! Выдумщики! — И Петр Андреевич вместо столовой свернул в дверь направо, в нижний, «каминный» зал Центрального Дома литераторов, где сейчас партком Московской писательской организации.
Выставка была, смею думать, примечательная, хотя и очень скромная. На фанерных щитах и стенах зала экспонировались плакаты-призывы и сатирические плакаты, подлинные рисунки многих художников на военно-патриотические темы, книги и брошюры, изданные в первые месяцы войны, газетные полосы с очерками и рассказами писателей-фронтовиков, листовки.
«Дело наше правое, победа будет за нами». Эти слова на кумачовой ленте были девизом выставки.
Осмотрев выставку, Павленко снова произнес:
— Ну и ну… — и спросил: — Посещается ли она?
— Посещается, — ответил Соболевский. — С полчаса, как ушли зенитчики. Человек сорок. Вообще больше проходят организованные экскурсии из воинских частей и с предприятий.
Выставка работала более двух месяцев. Насколько я помню, в Москве в то время никаких других выставок не было.
Учета ее посетителей, к сожалению, не велось. А подсчитать их количество по билетам было нельзя, невозможно — денег за вход не платили. Во всяком случае, их было много тысяч.
…В январе в Москву начали возвращаться различные центральные учреждения, приехали из эвакуации и сотрудники правления Союза писателей, и генеральный секретарь Союза Александр Александрович Фадеев. Московское бюро стало ненужным, и его распустили. В феврале мне сообщил об этом на Волховский фронт Гавриил Сергеевич Федосеев.
В ту зиму стояли сильные морозы. В блиндажах и землянках политотдела 59-й армии, где я служил, нас донимала пронзительная сырость. Под настилом полов хлюпала вода. Впрочем, это только теперь, через многие годы, кажутся серьезными эти «неудобства» фронтовой жизни. Тогда мы лишь посмеивались, подшучивали над тем, кто начинал брюзжать.
Мы, политотдельцы, да и офицеры других отделов штарма не много времени проводили «дома». Когда вестовой из редакции армейской газеты «На разгром врага» принес мне письмо от Федосеева, я сидел у окошечка землянки и увещевал соседа, лейтенанта Клепова, не стрелять по шороху в крыс, часто затевавших возню под полом. От выстрела воздух в землянке становился душным, а проветривать не хотелось — напустишь холоду.
«Дорогой Виктор Александрович! — писал мне Гавриил Сергеевич. — Вчера мы с Владимиром Германовичем сдали дела нашего Московского бюро. В активе еще два номера «Смены» и несколько сборников. В Москве теперь уже почти нормальная обстановка. Фрицы подлетают очень редко… Привет тебе от всех, самый горячий и дружеский. Обнимаю крепко. Продолжай воевать, знай и помни, что литераторы «не подкачали», не хныкали, а старались вместе со всеми честно делать, что могли, на пользу общему делу. А дело наше правое, победа будет за нами».
И я дал себе тогда же слово когда-нибудь написать о Московском бюро.
ПРОФЕССОР ВОТЧАЛ
Медленно темнело весеннее небо. Ветер стих. Сырой лес заклубился туманом. Смолкли нехитрые песни зябликов и синичек. Лишь дрозд на вершине опушенной молодой листвой березы продолжал выводить сложные и звонкие рулады. Когда неподалеку разрывался немецкий снаряд или наша батарея в полукилометре за болотом давала залп, он на минуту замолкал, а потом снова и снова высвистывал, щелкал, цокал, подражая соловью или лесному коньку… Странно это, но птицы не боялись войны!
Мы сидели на бревне у входа в землянку, блиндаж командующего армией, — военврач первого ранга, начальник санитарного отдела армии Рыженков и я, — дымили самокрутками и тихо беседовали. Последнее время о чем бы ни начинался разговор в минуты передышки, он неизбежно сводился к одному: как идут дела во Второй ударной?
Четыре месяца назад она вошла в прорыв вражеской обороны по Волхову, между Чудовом и Новгородом. Конный корпус Гусева шел впереди. За ним — несколько сибирских дивизий. Поначалу они успешно продвигались. Затем под давлением стянутых сюда сил врага остановились. Им не пришлось выполнить великую задачу — прорвать кольцо окружения Ленинграда. Далее события развернулись трагически. Мы еще точно не знали причин и размера катастрофы, постигшей Вторую ударную. Но то, что катастрофа произошла, увы, было фактом.
Уже более месяца она отступала. Через горло прорыва день и ночь пешком выходили обратно к Волхову истощенные, раненые и больные ее бойцы.
Там, в лесах и болотах, почти без боеприпасов, без горячей пищи, на одних сухарях, неделями по пояс в воде, под непрерывными бомбежками, то попадая в окружение, то вырываясь из него, дрались разрозненные части сибиряков и остатки спешившихся конников. Они были плохо связаны друг с другом. Их танки и артиллерия полностью погибли в болотах.
А помощи им с нашей стороны почти не было. Весенняя распутица не позволяла перебрасывать к ним ни боевую технику, ни транспорты с продовольствием. Лишь по ночам туда летали маленькие самолеты «У-2» и сбрасывали мешки с пищевыми концентратами и медикаментами.
— Ты знаешь, — говорил мне Рыженков, — командующий предлагал план — направить во Вторую две-три наших дивизии… План не приняли. Наверное, правильно, что не приняли. Если ослабить оборону по коридору, который мы держим, или правый фланг, у Спасской Полисти, фрицы могут закрыть его. Тогда хана и ударной, и нашим дивизиям, да и всей нашей обороне по Волхову. Но медицинские группы я все же думаю туда послать. Вот и профессор Вотчал просится. Убеждает, что он как терапевт особенно будет полезен. Сейчас он сюда придет. Дождемся командующего — пойдем к нему за разрешением.
— Вотчал немолод, — сказал я.
Рыженков покрутил головой:
— А меня, пожалуй, не отпустят. На моей шее госпитали. Уже сейчас принимаем более двух тысяч выходящих в день.
Он не стал продолжать и резко отбросил догоревшую самокрутку. В сгустившемся сумраке она прочертила огненную дугу и зашипела, упав.
В это время из-за Волхова на востоке послышалось характерное постукивание моторов ночных бомбардировщиков, этих самых маленьких «У-2». Скоро головной самолет стал виден на фоне еще светлого неба. Он шел невысоко, над болотистой прогалиной.
— Хорошо работают ребята, — сказал Рыженков. — Когда ночи длиннее были, два-три рейса делали. Теперь, конечно, дай бог им сделать один.
— Да, в светлое время «мессершмитты» гуляют, черт бы их побрал.
Тогда это и началось. В тарахтение мотора «У-2» внезапно ворвался звенящий вой «мессершмитта». Его длинное сухое тело вынырнуло откуда-то из-за леса. И в несколько секунд все было кончено. Огоньки на кромке крыльев истребителя, стук коротких пулеметных очередей — и «У-2» вспыхнул, клюнул носом и исчез.
«Мессершмитт», казалось, завопил от радости, свечой взмывая вверх.
«Накаркал… — подумал я. — Вот горе».
А из-за Волхова подлетел следующий наш маленький, беззащитный самолет. И он погиб так же, как и предыдущий. Потом еще один… Предупредить летчиков было невозможно — радио у них не было.
Вражеский истребитель поджидал их и спокойно, без труда, расстреливал одного за другим.
Мы смотрели, потрясенные. Молча. Даже не ругаясь. Будь они прокляты, эти майские белые ночи!
Когда я смог отвести взгляд от прогалины, увидел, что около блиндажа стоят так же неподвижно и молча еще несколько человек. Один из офицеров, привалившись и стволу березы, плакал…
Рыженков подошел к нему, взял под руку и отвел в сторону. Скоро они вернулись.
— Познакомьтесь, — сказал Рыженков. — Профессор Вотчал Борис Евгеньевич.
Не козырнув в ответ, Вотчал просто протянул руку.
— Очень рад… Хотя на душе, откровенно говоря, нерадостно. — Он был высокого роста, сухощав, и даже в полутьме можно было различить, что глаза у него большие и светлые.
Командующий, Иван Терентьевич Коровников, не разрешил пойти навстречу отступавшим из Второй ни Вотчалу, ни Рыженкову, вообще никому. Сумрачно глядя на карту, расстеленную на столе его блиндажа, он сказал, что главная задача сейчас — не дать противнику перерезать коридор, обеспечивающий выход отступающим войскам, который защищает наша 59-я армия, и потом доверительно сообщил невероятное…
Командующий Второй ударной Власов сдался в плен! И мало того — оказался предателем: обратился к своим дивизиям с призывом сложить оружие!
— Быть может, это провокация, — добавил Коровников. — Но факт сдачи его в плен установлен. А член Военного совета Второй — Зуев — застрелился.
Затем Коровников приказал Рыженкову и Вотчалу вернуться во второй эшелон и готовиться принять в госпитали… много тысяч больных и раненых. Я тоже получил задание срочно передать редактору армейской газеты «На разгром врага» ситуацию, сложившуюся на нашем участке фронта.
Большинство полевых подвижных госпиталей, не говоря уже о санбатах дивизий, были дислоцированы в лесах в районе прорыва — сравнительно недалеко, в радиусе километров пятнадцати от выдвинутого вперед КП командующего.
Прошагать десять — пятнадцать километров по «нормальной» дороге чепуха. Ну, а в распутицу, по заболоченному лесу…
Дорога, по которой в зимнее время шло снабжение войск, введенных в прорыв и обороняющих коридор, размякла. Даже на тех ее участках, где лежал настил из бревен, идти было трудно. И мы втроем, Рыженков, Вотчал и я, шагали напрямик по лесу, молча продираясь через кустарник подлеска, перебираясь через болотины по кочкам, прощупывая каждый шаг дрючками, и все же часто оступались, черпая воду в сапоги. Хорошо еще, что ночь была светлой. Рыженков вскоре отделился от нас, свернул правее, на КП одной из дивизий.
Когда стала заниматься заря, мы вышли к железнодорожной линии. Насыпь ее была разбита бомбами и снарядами. Рельсы и шпалы разбросаны.
— Перекур, — хрипло сказал Вотчал, опускаясь на землю у края воронки, и стал стаскивать сапоги.
Я последовал его примеру и тоже вылил воду из голенищ.
Еще было тихо. Курился туман. Недвижно стояли покалеченные сосны и ели. Где-то журчал ручей. Робко, не закончив своей нехитрой трели, попробовал голос зяблик. Ему ответил другой. Совсем недалеко забормотал, зачуфыкал тетерев-косач. Лесной конек включился в весенний любовный птичий концерт. Лес ожил, зазвенел.
— «И равнодушная природа…» — пробормотал Вотчал. Потом повернулся ко мне и сказал: — Если это правда… А это, очевидно, правда… У меня не укладывается в голове, как можно совершить такое — изменить! Вы понимаете — изменить!
Он говорил о том, что и меня мучало, — о командующем Второй ударной. Бывшем командарме…
Я вспоминал зимнюю вьюжную ночь в канун боев за прорыв на этом участке фронта. По дорогам шли полки сибирских дивизий. Молодые веселые ребята в полушубках и валенках. Громыхали танки. Тянулись батареи. На перекрестке у деревни Папоротно, бывшей деревни — от нее осталось всего-то три-четыре дома, — стояла группа командиров. Наш командующий, член Военного совета Лебедев, политотдельцы и несколько незнакомых в больших чинах. Один из них, высокий, худой, в шинели с меховым воротником, в поблескивающих очках, немного в стороне о чем-то беседовал с Коровниковым. В такт своим словам он ритмично взмахивал кистью руки с зажатой в ней перчаткой.
— Командующий Второй генерал Власов, — толкнул меня в бок подполковник Джараян. — Великое дело ему доверено!
Какое дело, мне было известно. Прорыв блокады Ленинграда! И я посмотрел на него с уважением и надеждой. Ведь там, в Ленинграде, все мои кровные — отец, мать, брат. Один из братьев, младший, веселый парень, подводник, был ранен и погиб. Остальные, может быть, нет, наверное, наверное, будут спасены! Второй ударной… Власовым…
Коровников и Власов между тем повернулись и пошли к ближайшей избе, продолжая разговаривать. Когда они поравнялись со мной, я откозырял. Коровников ответил. Власов, продолжая говорить, не обратил на меня внимания. И я услышал слова, больно царапнувшие сознание: «…этих, евреев и чечмеков всяких, вы гоните… Посылайте ко мне на связь только русских…»
— Все это ужасно, — продолжал между тем Вотчал. — Как мог человек — если он хотя бы на один процент человек — поступить так… Зная трагедию Ленинграда. Ведь там у людей была надежда на прорыв блокады. И она рухнула. Ужасно…
Я молчал. Что я мог сказать?
Взглянув на меня пристально, Вотчал тоже замолчал.
Неподалеку от нас из леса вышло несколько солдат. Обросшие, почерневшие, в грязных бинтах, они еле передвигали ноги.
Вотчал вскочил и побежал к ним. Подхватил под руку одного, сильно припадавшего на правую, распухшую ногу, довел до сухого места и бережно посадил.
— Товарищи, товарищи, — сказал он, — теперь уже немного осталось. Приемный пункт близко.
— Покурить… не найдется? — спросил раненный в ногу, с трудом разлепляя запекшиеся губы.
Я вытащил из полевой сумки пачку «Беломора». К ней молча потянули руки другие.
— Только здесь отдыхать долго нельзя. Вдоль железной дороги они бомбят каждое утро.
— А, плевать! — сказал раненый в ногу, затягиваясь. — Мы уже через все перешагнули.
Все же мы уговорили их подняться и повели вдоль насыпи, до разбитой будки, неподалеку от которой был медицинский приемный пункт.
Вотчал вел, почти нес раненного в ногу. Я — другого, истощенного и апатичного старшину-танкиста, без кисти левой руки и с ожогами лица.
Остальные раненые шли молча, лишь изредка поругиваясь.
От приемного пункта мы пошли по проселку к ближайшему госпиталю. Теперь уже не было тишины. На левом фланге, в районе деревни Мясной Бор, била вражеская и наша артиллерия. То и дело отвратительно выли «юнкерсы», пикируя, как обычно, на железную дорогу и на переправы через Волхов.
Мы шли и жевали сухари, взятые по продаттестату у старшины на приемном пункте. Грызть мне было трудно. Однообразное питание концентратами месяца два подряд давало себя знать. Проявилось давнее предрасположение к авитаминозу.
Вотчал обратил внимание на то, как я осторожно, поневоле гримасничая, кусал сухарь.
— Зубы болят?
— Да не болят… шатаются.
— Дайте-ка посмотрю десны. Откройте рот. Так. В вашем организме недостает витаминов. Главным образом це. Цингой болели?
— В начальной стадии. Давно уже, в молодости, в экспедиции в Сибири. Потом было такое же в Казахстане.
— Это можно быстро поправить. — И — слово за́ слово — Вотчал рассказал мне о новой теории механизма действия «веществ жизни» — витаминов — на организм человека.
На проселке почва была суше, идти легче, и так, беседуя, мы незаметно дошли до нужного профессору госпиталя. Палатки его поставили в густом ельнике над ручьем. И даже в сотне шагов их трудно было обнаружить.
— Вам не приходилось читать повесть писателя-француза Дюамеля о военных врачах первой мировой войны? — вдруг спросил Вотчал, перешагивая через ручей.
— Читал. Правдивая книга…
— Тогда вспомните, каким образом автор или герой этой повести определил, что в лесу расположен госпиталь. Не обратили внимания? Дюамель пишет — он услышал крики боли и стоны… А вот мы подошли уже к палаткам вплотную… И все здесь тихо! Меня такое поразило в первый раз в самое сердце. Волнует и сейчас. Удивительное мужество, эпический стоицизм у наших солдат… Учтите к тому же — мы, врачи, не очень-то щедры на болеутоляющее и успокаивающее… Ну, вы дальше? До свидания.
И быстро зашагал к маленькой палатке — штабу госпиталя.
Трагедия Второй ударной продолжалась еще много дней, более месяца. Подтянув новые силы, противник все сжимал и сжимал коридор, через который выходили остатки преданных Власовым дивизий. Горловина в районе Мясного Бора стала простреливаться вражескими пулеметами и минометами. Через это страшное место проползали ночами. Тысячи не миновали его, остались там навсегда.
А ведь он, этот генерал в шинели с меховым воротником, сознательно дезорганизовав действия доверенных ему дивизий, знал, знал, что они погибнут. Да и не только это! Он знал, что повлечет за собой его измена: срыв операции по прорыву блокады, а значит, смерть в мучениях от голода сотен и сотен тысяч ленинградцев — детей, женщин, стариков… В новейшей истории человечества нет, пожалуй, большей личной вины ни у одного человека. Слабое «утешение», что он был казнен, повешен в Ленинграде после победы.
…После боев в районе прорыва Второй ударной наша 59-я армия весной 42-го заняла глухую оборону по Волхову и на большом плацдарме на левом берегу реки, в районе Спасской Полисти.
Это совсем не значит, что на нашем участке фронта всегда было тихо. Происходили бои «местного значения», иногда короткие, но кровопролитные. Героическая оборона Ленинграда — и в том числе на внешнем кольце этой обороны, на Волхове — сыграла важную стратегическую роль. Провалился план охвата столицы Советской страны с севера, и здесь более чем два года сковывались значительные силы врага.
В боях «местного значения» враг иногда пытался прорвать нашу оборону. Таким было сражение в районе Спасской Полисти осенью сорок второго. Тогда несколько дней противник атаковал, желая во что бы то ни стало разрезать наш плацдарм на левом берегу Волхова, выйти к переправе у поселка Селищи. В этом ожесточенном бою погиб военврач Рыженков. Проверяя выдвинутые вперед полковые медпункты, он попал под артиллерийский налет.
Однако чаще наша 59-я армия и ее правый сосед — 54-я армия — сами тревожили врага внезапными ударами. Особенно часто в то время, когда готовилось наступление северного крыла Волховского фронта, в районе Синявино, увенчавшееся в сорок третьем прорывом блокады города Ленина.
Каждый бой «местного значения» по нашей инициативе помимо прощупывания прочности обороны противника и отвлечения его сил на себя преследовал еще и цель мало-помалу улучшить позиции армии.
По левому берегу Волхова, между переправой у Селищ и станцией Чудово, на железнодорожной магистрали Москва — Ленинград, тянется гряда холмов. На пологих их склонах и в пойме реки невспаханные, незасеянные поля. Летом они то желтые от сурепки и лютиков, то белые с просинью от ромашек и васильков. А на вершинах холмов старые русские деревни. Впрочем, точнее сказать — то, что от них осталось: полуобгоревшие стены изб, одинокие печные трубы, искалеченные ветлы, колодезные срубы, заросли крапивы, лопухов и конского щавеля.
В нескольких километрах севернее переправы у Селищ, на правом крыле нашего заволховского плацдарма, над рекой, одно за другим селения Дымно и Званка.
Званка — бывшее поместье древнего державинского рода. Здесь родился Гавриил Романович Державин. В этом селе, на крутояре, могучая церковь. Ее колокольня видна издалека. И там расположен очень ценный для врага наблюдательный пункт. С колокольни просматривается вся наша линия обороны — от переправы на плацдарм до железнодорожного моста через Волхов, около станции Чудово, — и есть возможность держать ее под контролем своей артиллерии. И ни черта с этим наблюдательным пунктом мы сделать не могли. Для снайперов он был недосягаем, а снаряды даже гаубиц сто пятьдесят второго калибра, попадая в колокольню или ограду, лишь подымали кирпичную пыль и делали незначительные выбоины.
Под осень, очевидно учитывая возможность наступательных боев, когда подмерзнут болота, командование нашей армии приняло решение расширить заволховский плацдарм, взять Дымно и Званку и тем самым лишить противника его «недреманного ока».
На подступах к Дымно были скрытно сосредоточены пехотные резервы, даны приказы по артиллерийскому обеспечению боя, подтянуты санбаты и т. д. Для политотдельцев тоже наступило горячее время.
В каждом бою, даже самом маленьком, в обороне или наступлении, в батальоны и полки, участвующие в «деле», шли политработники из дивизий и армии. Шли, чтобы рассказать бойцам о важности «дела», о примерах мужества и отваги их товарищей, а потом в бою быть впереди и, если понадобится, подменить выбывшего из строя командира роты, батальона, а то и полка, повести людей в атаку, крикнув: «Коммунисты, вперед!» Редкий бой обходился без потерь в численно очень небольшом личном составе политорганов дивизий и соединений.
Командир одного из наших полков, Головин, любил говорить: «Начинать бой надо на коровьем реву», то есть на рассвете, когда выгоняют стадо на пастбище. Начало атаки в направлении Дымно — Званка было назначено на ранний утренний час.
Чтобы не плутать в осеннюю ночь, добираясь до нужного мне полка, я вышел из нашей лесной «деревни» — блиндажиков и избушек под Папоротном — накануне под вечер. На попутной полуторке со снарядами доехал до Селищ, перешел по понтонному мосту через Волхов и зашагал берегом по лугу на север. Пожухлая трава путалась в ногах. Моросил мелкий дождик. Низкие облака быстро темнели. Впереди туманными каплями света вспыхивали ракеты. Изредка постукивали пулеметы. В общем, на передовой было тихо. Враг не проявлял беспокойства.
Из-за темноты скоро идти стало трудно. Я даже свалился в воронку и больно подвернул ногу. Вдруг в нескольких шагах впереди мелькнул огонек цигарки, послышались голоса. Потом меня окликнул часовой. Оказалось, в овражке, пересекавшем луг, расположился полковой медицинский приемный пункт.
Первым, кого я увидел, протиснувшись в дверь одной из землянок, вырытых на обратном склоне овражка, был Борис Евгеньевич Вотчал. Он сидел на земляных нарах вместе с другим военврачом, немного мне знакомым, Горбовым, и фельдшерами и что-то им рассказывал.
— Прошу к нашему шалашу, — сказал Горбов, подвигаясь, — садитесь. Здесь товарищи хозяева чаем угощают.
Я поблагодарил и спросил, как отсюда лучше добраться до КП полка. Вотчал встал.
— Мне тоже надо идти к соседям, а потом в их санбат. Полдороги, которую я знаю, нам будет по пути, Виктор Александрович. Пойдем или задержитесь здесь?
— Пойдем.
И мы окунулись в кромешную тьму.
Лишь ориентируясь по вспышкам ракет на передовой и смутным очертаниям прибрежных холмов, мы выбрались к дороге, по которой шли в молчании к рубежам сосредоточения вереницы пехотинцев. Скоро нам удалось разыскать на окраине бывшей маленькой деревушки еще один ПМП.
— Есть предложение, дорогой товарищ, забраться в какую-нибудь норку и… поспать часа два, — поговорив немного с начальником медпункта, сказал мне Вотчал. — Сейчас только десять. Отсюда, говорит военфельдшер, вам ходьбы до КП не больше получаса. Успеете задолго до начала. И я успею заранее в санбат. Советую мое предложение принять. Как врач советую.
«Что ж, — подумалось мне, — он прав, неплохо хотя бы немного отдохнуть перед «делом». А вдруг оно затянется не на один день?»
Начальник ПМП проводил нас в свой «блиндаж». Это был маленький подпол-погреб крестьянской избы. Наскоро сколоченный из жердей топчан занимал его наполовину.
— Отдыхайте здесь, товарищ военврач второго ранга, — сказал фельдшер. — А вас, товарищ капитан, я отведу в соседнюю землянку. Там места побольше, но уже отдыхают санитары.
Вотчал опротестовал этот проект и предложил мне лечь с ним на топчан вдвоем. Так мы и сделали.
Спать и хотелось, и не хотелось. Через несколько часов бой. Я пытался заставить себя не думать об опасности. Все же не первый это бой! И тем не менее думал. Да и жерди топчана не очень мягкое ложе! Вотчал ровно дышал мне в затылок.
«Заснул профессор, — подумал я. — Вот молодец. Мог бы оставаться во втором эшелоне и делать там свое дело консультанта-терапевта, спокойно разъезжать по госпиталям. Тогда, весной, он был нужен на переднем крае. Среди выходивших было много нуждавшихся не только в хирургической помощи. Много больных, истощенных. Вспышки тифа опасались. Ну, а теперь, наверное, он сам настоял, чтобы его послали проверять готовность медико-санитарного обеспечения операции…»
Мысли о мирно спавшем за моей спиной Вотчале отвлекли меня от других дум, и я тоже задремал.
Глухой удар разрыва снаряда разбудил нас.
— Неужели проспали? — вскочил Вотчал, стукнулся головой о перекрытие и тихо выругался по-французски: — Миль дьабль![15]
Я взглянул на светящийся циферблат часов. Нет, до рассвета было еще далеко.
— Теперь уже не засну, — сказал Вотчал. — Поговорим? Желаете, изложу актуальную теорию — о физиологической основе страха? Или попробуете еще покемарить?
Нет, спать мне больше совсем не хотелось.
— Так вот, согласно этой теории страх явление закономерное. Он естественное воздействие на нашу психику самого могучего из инстинктов организма — инстинкта сохранения жизни. Следовательно, для преодоления страха нужно затормаживать порождаемые им негативные психические процессы? Чем? Можно химией. Но это палка о двух концах. От усталости и страха человек, как говорится, дуреет, плохо ориентируется в обстановке и вообще достаточно разумно действовать не может. И в бою, например, он скорее погибнет. Стало быть, эрго, нужно воевать со страхом — волей. Скажете, тривиально? Да! Практический опыт привел к такому выводу давным-давно. Однако не каждый человек обладает достаточной волей и — что особенно важно подчеркнуть — не всегда. При некоторых условиях способность переломить себя волевым усилием даже у очень сильного человека почти пропадает. Эрго — надо ему помочь? Чем? Приказом! Отсюда верность тезиса: «Приказ командира — закон…» И все же есть еще средства подавления инстинкта сохранения жизни. Например, возбуждение чувства ненависти, порождающего в свою очередь эффект — ярость! «Есть упоение в бою…» Мне лично представляется это пережитком, атавизмом… Нет, нет, подождите возражать! Я не против воспитания ненависти к такому врагу, как фашизм. Но пусть она, возникая, не туманит голову…
— С этим я согласен, Борис Евгеньевич. Но мне приходилось несколько раз переживать в минуты большой опасности какой-то особый подъем, необычайную ясность мыслей и даже чувство восторга! Однажды шел впереди обоза с шестом по недавно замерзшей большой реке. В черных полыньях кипела вода. Один, как говорится, неверный шаг… А мне хотелось смеяться, петь! Как вы это объясните?
— Вы шли потому, что надо было идти?
— Да.
— Ну вот вам и объяснение. Чувство долга, то есть, если хотите, внутренний приказ вместо внешнего, подавило ваш страх. А то, что вам смеяться хотелось, не противоречит теории. Такого рода эмоции часто защитная реакция организма в необычной обстановке. Они нормализуют работу мозга. Но вообще-то нет психически здоровых людей, которых инстинкт не заставлял бы переживать чувство страха…
Мы еще немного посидели в погребе и около двух часов ночи вышли, попрощались и разошлись…
…На КП полка, в хорошем блиндаже в два наката, было немного суматошно. Только что его посетили командующий армией и комдив. Я попросил связного и пошел петляющим ходом сообщения в батальон, на правый фланг.
Роты батальона расположились в добротных траншеях и укрытиях, сооруженных еще частью, которая держала здесь оборону уже много времени.
Почти все бойцы мирно спали, привалившись к обшитым досками или плетенкой из тальника стенкам окопов. Лишь кое-где мелькали тусклые огоньки самокруток, и махорочный дымок приятно щекотал ноздри. Комбат сидел в нише с накатом и что-то писал, подсвечивая себе карманным фонариком. Здесь же, на земляных нарах, похрапывали помполит и комсорг.
— Сейчас их разбужу, — сказал комбат.
— Не надо… Когда общая побудка?
— В семь ноль-ноль.
— Стало быть, через полчаса.
Я вышел из блиндажа. Рядом была пулеметная ячейка. Номера бодрствовали.
— Все спокойно, товарищ капитан, — махнув рукой в сторону вражеских позиций, сказал первый номер, здоровенный, круглолицый парень. — Папироски у вас не найдется?
Я дал ему «беломорину». Он присел на корточки и, закрывшись полой шинели, закурил, а я выглянул из-за щитка «максима». Действительно, на «ничьей земле», низине, поросшей кустарником, и дальше, на пологом склоне холма, где были немецкие траншеи, и на вершине его, где на фойе все же более светлых, чем земля, низких туч еле проглядывались развалины деревни Дымно, — везде было тихо.
Лишь однажды простучал пулемет и смолк. Взлетела одинокая ракета. Осветила заросли кустарников и бурьяна.
Вскоре в траншее позади началось шевеление. Командиры взводов и старшины будили солдат. Звякали котелки. Слышались глухой кашель, тихие голоса. Я пошел по траншеям. Теперь можно было делать и наше, политработников, дело. Я присаживался к группам солдат, мы закуривали и вполголоса разговаривали. О чем? Главным образом о том, что надо хорошо, дружно воевать, что это наш долг, что перелом в войне произошел — советские войска подходят к Днепру — и, наступая вот здесь, на Волхове, мы помогаем не только Ленинграду, но и армиям на Украине.
В общем это было известно моим собеседникам. И все же, я чувствовал, такой вот простой разговор им приятен, отвлекает от неизбежности черных мыслей и, может быть, хоть немного, но укрепляет их волю. Они искренне благодарили, крепко жали руку, когда я поднимался, чтобы идти дальше.
Вскоре в роты принесли горячую пищу, и в траншеях стало оживленно. Даже, пожалуй, весело! Во всяком случае, шутки и прибаутки слышались тут и там.
Стало светать. Резче обозначились контуры холмов на фоне неба. И тогда началась артподготовка. Сначала ударили пушки. Потом «катюши» обрушили на Дымно сотни мин…
Это было сигналом к атаке. Бой начался.
…Атака — это грохот, треск, свист. Это резкий запах порохового дыма и сырой земли. Это песок и пыль на зубах. Это перебежки, падения, прыжки. Это сам собой вырывающийся хриплый крик из широко открытого рта. Это боль в груди, которой не хватает воздуха, и, может быть, от страха. И невероятное желание скорей, скорей добежать, достигнуть вон тех в клубах пыли и дыма, искрящихся бугорков. И как будто сам собой стреляющий автомат в руках.
Мне, наверное, показалось, — а может быть, так и было на самом деле, — но рота, с которой я бежал, как-то сразу оказалась в немецких траншеях! Они были пусты — лишь несколько трупов и разбитый пулемет. Прибежал комбат и приказал наступать дальше. Мы пошли ходами сообщения, изредка — перебежками на холм, на Дымно. Рукопашных схваток не было. В современной войне их почти «убил» автомат…
И снова мне показалось, что Дымно было взято за очень короткое время. А бой на подступах и за эту деревню длился несколько часов!
Дальше, до Званки, наши части сразу не дошли.
Когда свечерело, я добрел до нового КП полка, устроенного в добротном немецком блиндаже на северной окраине Дымно. Здесь бушевал комдив.
— Связь мне, связь! — кричал он, наклонившись над лейтенантом у телефона. — Чтобы через три минуты была! Связь с пукалками. И с резервом.
Увидев меня, он набросился на майора, начальника штаба полка:
— Зачем пустили писателя в атаку?! Убьют его — я отвечай!
И вдруг сразу успокоился, протянул руку, ухмыльнулся:
— Ну как, крестился огоньком? — И снова взвился: — Да когда же, майор, черт побери, у тебя будет связь?! Если твой, этот, не даст мне резерв, сам побежишь туда. Километр всего.
— Товарищ генерал, разрешите, пойду, — сказал я.
— Иди куда хочешь, только не в Званку.
— В резерв. Передам ваше приказание. Для страховки. Если связи так и не будет…
— А что? Это идея, — снова совсем спокойно сказал комдив. — Двигай и скажи подполковнику, чтобы, как совсем стемнеет, подготовился сосредоточиться. В двадцать часов. На левом фланге. Ясно? Выполняйте. Майор, дайте ему провожатого.
Противник почему-то почти не обстреливал Дымно. Свой огонь он сосредоточил на наших батальонах, окапывающихся в ложбине и на склонах перед Званкой. Лишь изредка и звонко лопались мины.
Мы со связным, совсем еще юным солдатиком, пошли сначала ходами сообщения, потом по склону холма, на котором стоит Дымно, — здесь утром мы шли в атаку, — К темнеющему невдалеке лесу… Конечно, я здорово устал. Напряжение нервов спадало, и хотелось только одного — лечь и закрыть глаза. Где угодно. Хоть в этой вот воронке на пути. Я прибавил шагу. Связной еле поспевал за мной.
Передав поручение комдива командиру резерва, я отпустил связного и решил направиться на КП дивизии, чтобы связаться с политотделом. Нужно было получить свежую информацию о положении на нашем и других участках фронта для бесед, передать в редакцию газеты «На разгром врага» сообщение о том, как была взята деревня Дымно. Затем, конечно, снова в части, ведущие бой, снова туда, к Званке…
Впрочем, под вечер бой стал стихать. На передовой, правда, еще строчили пулеметы, бухали пушечные выстрелы, ухали разрывы снарядов и мин, но уже совсем не так часто.
Я наискось пересек луг, намереваясь выбраться на дорогу к переправе у Селищ.
И в это время противник начал обстрел дороги со своих дальних позиций — с запада, видимо от Спасской Полисти.
Шурша и посвистывая, пролетали надо мной снаряды, падали метрах в ста впереди и, взрываясь, зажигали на мгновение белый лохматый костер. Я остановился. Надо было немного переждать. И сразу же почувствовал удар тяжелой дубиной по голове…
Земля пахла остро и горько. Жесткие стебли сухого бурьяна кололи щеку. Все кругом звенело. Я открыл глаза и прежде всего удивился, что лежу. Потом понял — зацепило или контузило — и стал подниматься. Ноги держат, руки тоже в порядке, дышу свободно, нигде ничего не болит. Подумал: «Ударная волна шибанула», — и шагнул. И вдруг левый глаз перестал видеть, теплая жидкость залила его. И я понял, что это кровь, что течет она из-под ушанки. Стало быть, все же зацепило.
Перевязочного пакета у меня не было — отдал кому-то там, в Дымно. Я снял ушанку, носовым платком вытер кровь и приложил его, как тампон, к маленьким безболезненным ранкам на лбу и ближе к затылку. И пошел к дороге. Обстрел ее прекратился, и я подумал, что, может быть, на мое счастье, попадется попутная машина. И мне посчастливилось. Сразу же со стороны Дымно подошла полуторка, и шофер затормозил.
Переправа у Селищ обстреливалась, ехать по мосту было опасно, но мы проскочили благополучно. Если бы шофер не рискнул ехать, я, наверное, пошел бы пешком. Неудержимо хотелось на «свой» берег Волхова.
Теперь у меня сильно болела и кружилась голова. С трудом спустился в подвал здания еще аракчеевских казарм, где разместился резервный медпункт.
Командовал здесь усатый пожилой старшина.
— Давай, давай сюда, товарищ капитан, — повел он меня в перевязочную. — Теперь все у тебя будет хорошо! Все будет славно, — сильно окая, успокаивал он. — А ну, дочки, займитесь капитаном. В аккурат перевяжем и отправим его.
Он был великолепен, этот старшина! Доброжелательный, спокойный хозяин — точно к столу приглашал выпить и закусить.
Молоденькие медсестры забинтовали мне голову, сделали какой-то укол, и я заснул.
Шорох и пощелкивание дождевых капель по брезенту палатки, совсем далекие, глухие разрывы. Резкий запах карболки и йода. Тихие стопы. Лампа «летучая мышь» над проходом. В полутьме по обе стороны от него нары-полки одна над другой и на них раненые.
Я лежу на верхней полке. Голова почти не болит, только по-прежнему кругом все звенит и чуть-чуть качается. Выпростав руку из-под одеяла, смотрю на часы — два ночи. Сутки всего прошли, а кажется — давным-давно это было. И разговор с Вотчалом о страхе (нет, страх меня не победил!), и беседы с бойцами, и бой… Бой почему-то вспоминался наиболее туманно. Почти без деталей, как одно «длинное мгновение», что ли. Я пытался представить себе какие-то его эпизоды. В памяти наиболее ярко остались два мертвых немца у пулемета на треноге. Ствол его задран кверху. И они глядят незрячими глазами в серое небо. А рядом сидит, раскачиваясь, русский паренек, поддерживая руками изувеченную ногу в темных пятнах крови…
Может быть, именно потому, что перед глазами всплыла эта картина, мысли мои приняли другое направление. Я стал думать о том, что же со мной. Вот теперь страх охватил меня! Если пробит череп, дело дрянь. И я застонал…
Полотнище-дверь в палатку откинулось. Белобрысая девчонка подошла с кружкой.
— Чего тебе, дяденька? Попить хочешь?
— Что со мной?
— А ничего! Раненый ты. В шесть ноль-ноль придет хирург, возьмет на осмотр… А сейчас… спи. — И ушла.
«Вот бездушная, вот дрянь!» — чуть было в ярости не закричал я.
…Мы подходим с Вотчалом к госпиталю там, около Мясного Бора. Он говорит о повести Дюамеля. И, как бы подтверждая, что французский писатель сделал правильный вывод — по крикам и стонам издали можно узнать, где госпиталь, — раненый на нижней наре в нашей палатке громко и хрипло завыл. Потом стал стонать жалобно, задыхаясь.
Он разбудил всех. Снова вошла белобрысая девчонка, низко наклонилась над ним и стала что-то тихо и очень ласково ему говорить. Он умолк. Она ушла. Но через несколько минут он снова закричал. И тогда с соседней койки поднялся, придерживая левой рукой забинтованную другую, плечистый немолодой солдат и, тоже наклонившись над этим раненым, сказал:
— Слушай, браток, милый. Ты терпи… Другие-то молчат. Не тревожь их. Страдают они тоже.
И в палатке стало тихо. Во всяком случае, я задремал и стонов раненного в голову больше не слышал. Утром он умер.
…Хирург Васильев, — я его знал, встречал раза два, — распеленал мою голову, смыл запекшуюся в волосах и на лбу кровь и нежными, ну прямо-таки женскими пальцами долго прощупывал ранки. Проверил реакцию зрачков на свет, спросил, как я себя чувствую, и, ни слова не сказав, отвернулся к умывальнику.
Подошла сестра, уже другая, черненькая и тоненькая, выстригла машинкой волосы на половине головы, смазала чем-то ранки и стала снова бинтовать. Мне было не по себе. Я смотрел на сутуловатую спину хирурга, склонившегося над умывальником, и думал: стало быть, плохо мое дело, если он молчит. И спрашивать его именно поэтому не хотелось. Все же спросил.
Отряхивая руки, Васильев обернулся и пробурчал:
— Порядок. По-моему, проникающего нет. Все же проверим на рентгене. Лежите и не волнуйтесь. — И улыбнулся. Улыбка осветила его утомленное, большеносое, небритое лицо. Оно сразу стало каким-то домашним. По глазам хирурга я понял — он говорит правду, а не святую ложь, которой врачи часто помогают пациентам сохранять силу духа.
Вдруг дверь-полотнище в перевязочную распахнулась и в нее стремительно вошел Вотчал, бросил взгляд на Васильева — тот кивнул.
— Дорогой мой! Ну как себя чувствуем? Молодцом? — подходя, заговорил он непривычно быстро и, показалось мне, обеспокоенно.
— Доктор говорит — черепушка выдержала.
— Ну и отлично. Тут в соседней палатке по моей специальности лежат. Заехал к ним. Слышу, говорят — ночью привезли политотдельца с ранением в голову, а утром он погиб. Оказывается, не вы. Сапер с переправы. Бедняга! А сейчас ложитесь и лежите смирно. Все будет хорошо. Еще походим с вами. А сейчас до свидания, дорогой. Надо еще к своим желудочникам. На днях заеду.
В перевязочную ввели раненного в руку, моего соседа.
— До свидания, Борис Евгеньевич! Спасибо, что навестили.
Снова Вотчал приехал в госпиталь примерно через неделю. Я уже ходил, чувствовал себя почти совсем здоровым. Мы пошли в лес. Утром был морозец. Опавшие листья хрустели и тихо звенели под ногами. Холодный, чистый воздух немного кружил голову. На скатах палаток лежал иней.
— Надоело пребывать в этой обители? — кивнув в сторону палаток, спросил Вотчал и продолжал, не дожидаясь моего ответа: — Все у вас обошлось отлично. Завтра послезавтра выпишут. Но мой совет — еще недельку полежите «дома» у нас, в Папоротно, и не увлекайтесь чтением. Черепные ранения, даже не проникающие, обычно дают хотя и незначительное, но сотрясение мозга. А этот орган, сами знаете, машина сложная…
Вотчал всегда любил, беседуя с больным, рассказывать ему о физиологической сущности недуга и реакциях организма. Так и теперь он сказал мне, что четырнадцать миллиардов клеток головного мозга, связанных между собой необычайно тонкими и сложными физико-химическими процессами, будучи самым важным органом, неслучайно защищены прочной костяной коробкой. Кроме того, организм может мобилизовать особые средства для устранения неполадок в этом органе. В общем, прочитал мне целую лекцию! А потом мы беседовали о положении на фронтах, о местных новостях.
— Скоро вас покину, — сказал Борис Евгеньевич, когда мы направились обратно к палаткам. — Отзывают в Главное санитарное управление.
— Поздравляю, Борис Евгеньевич!
Он махнул рукой.
— Если будут оставлять в тылу, не соглашусь категорически. Понимаю, что врачи нужны везде. И все же, если хотите, победа куется здесь, в таких вот госпиталях. Простите за эти громкие слова, но ведь факт, что три четверти раненых, поступающих в наши госпитали, возвращаются в строй. Семьдесят пять процентов! А в прошлые войны их возвращалась лишь треть. Вы понимаете, что это значит?
И, помолчав немного, продолжал:
— Посмотрите. На палатках нет красных крестов, как положено по Женевской конвенции. Лишь у входа в госпиталь вывешиваем маленький флажок. А знаете, почему мы нарушаем конвенцию? Потому, что гитлеровское командование дало специальное указание своим ВВС разыскивать и бомбить наши госпитали. Раненых-то убивать легче!
…Вотчал вскоре уехал из нашей армии и был назначен главным терапевтом фронта, а потом главным терапевтом всей Советской Армии.
После победы мы встречались не часто. И в генеральской форме он был таким же, как тогда, на Волхове, подтянутым, доброжелательным, «объясняющим», только совсем седым. Работал он в мирное время очень много, преподавал, консультировал, искал новые пути лечения. Один молодой врач из Боткинской больницы рассказывал мне, что студентом, слушая лекции Вотчала, он поражался способности профессора объяснять патологические процессы, происходящие в организме больного. «Он, знаете ли, как будто сам заглядывал внутрь человека и учил нас, как это надо делать». О том же не раз говорили мне друзья, которых он лечил… Я думаю, то было следствием не только эрудиции Бориса Евгеньевича как врача, но и любви его к своему благородному делу и человеку вообще. И теперь, когда надо поддержать тонус сердца, возвратить его в спокойный ритм, миллионам людей врачи советуют «капли Вотчала».
ФРЕСКИ СПАС-НЕРЕДИЦЫ
Туманное зимнее солнце медленно катилось низко над горизонтом. Зыбкие, колеблющиеся тени от веток, натыканных вдоль хода сообщения, ложились на выпавший в ночь пушистый снег.
Мы ползли по неглубокой канавке, извилисто протянувшейся к темнеющим руинам храма Спас-Нередицы. Впереди разведчик и снайпер Федор Харченко. Двигался он легко, пружинисто и, несмотря на то что одет был в полушубок и маскхалат, быстро и изящно. Я еле поспевал за ним и, хотя мороз стоял крепкий, скоро совсем запарился…
Где-то далеко на западе глухо ударила пушка. В чистом небе прошуршал тяжелый снаряд и разорвался неподалеку от руин. Там поднялся столб земли. Грохот прокатился над зимними полями. Вскоре еще дважды раздались дальние выстрелы, и снова разрывы раскололи утреннюю тишину.
Харченко остановился, обернулся и, смахивая снег с воротника, сказал:
— Вот так каждое утро бьет. Из-под Новгорода. Считает, что наш КП в той церкви. Всю ее раздолбал, паразит.
Он был совсем еще молод, наш Федя. Ему недавно исполнилось двадцать. И юное лицо его совсем не походило на суровое лицо бывалого воина. Припухлые, потрескавшиеся губы часто складывались в улыбку, светлые синие глаза тоже почти всегда смотрели улыбчиво.
А может быть, это он сейчас надо мной подсмеивается? Ползать-то на брюхе товарищ капитан, видно, не привычен?
Харченко достал кисет и протянул его мне.
— Закуривайте. Здесь еще можно. Переждем немного. Передохнем, товарищ капитан… Елозить по земле удовольствия мало. Хорошо мной это испытано.
Он вздохнул вдруг как-то по-детски, со всхлипом, и взгляд его стал грустным.
— До нашего КП теперь недалеко. Он вон там, правее Спас-Нередицы, за покалеченным садом. Метрах в двухстах. А рядом КП артиллеристов. Отсюда далеко видно.
Пока мы курили, в руины ударило еще несколько снарядов. Затем обстрел кончился, и мы поползли снова.
Место для КП батальона, оборонявшего этот рубеж, было выбрано хорошо, за бугорком, заросшим кустарником. Здесь мы расстались с Федей. Его, знаменитого на всю армию снайпера, ждали «местные охотники» для обмена опытом.
— Встретимся в Спас-Нередице, — сказал он.
Я пробрался на КП артиллеристов. Из щелей-окон отлично замаскированного тесного блиндажика открывалась широкая панорама. Слева, вдалеке, стлалась гладь Ильмень-озера, прямо — плоскую равнину рассекали темные струи незамерзшего протока Волхова — Волховца. На западной окраине долины были хорошо видны разрушенные каменные строения, покалеченные деревья, печи сгоревших деревянных домов. А правее, на холмах, уже за рекой Волховом, я увидел розовый в лучах низкого солнца, затуманенный далью Новгородский кремль. Его стены и башни, крыши его зданий, купола соборного храма Софии.
Такой же молоденький, как и Федор Харченко, и чем-то на него похожий лейтенант-артиллерист подал мне тяжелый бинокль.
— Посмотрите, товарищ капитан, чуть правее угловой башни кремля. Видите, во дворе, за стеной, тяжелая гаубица? А за ней, вроде как в садике, другая… Видите? Даже как боеприпасы к ним подвозят, наблюдаем! Шарахнуть бы туда! Так нет…
Лейтенант-артиллерист вздохнул, тоже совсем как Федя полчаса назад. Нашим артиллеристам строго-настрого было запрещено стрелять туда, в кремль древнего Новгорода, а самолетам бомбить его.
Сильные линзы бинокля пододвинули ко мне дали. И теперь, как сквозь колышущуюся батистовую занавесь, я увидел приземистую, но могучую кирпичную стену южного обвода кремля — Детинца — и три квадратных башни, за ними, уже во дворе, полукруглый барьер из камня и мешков с песком и дуло длинноствольной пушки. Немного дальше, среди деревьев, стояла еще одна гаубица. Они не были даже замаскированы…
Я повел биноклем вдоль стены кремля, направо. В круглом поле зрения появился характерный силуэт звонницы Софийского собора, совсем не похожий на обычные колокольни. Она была плоской, вроде высоких ворот с пятью прорезями, как бы пятипалой. За этой колокольней над Детинцем поднимались купола самого собора. В одном из них, над южным фасадом, зияла темная рваная рана — след, оставленный прямым попаданием фашистского снаряда. Наступая осенью сорок первого, враг подверг Новгород и его кремль жестокому обстрелу и бомбежкам.
В блиндаже настойчиво заверещал зуммер полевого телефона. Лейтенант-артиллерист поднял трубку, ответил и потянул меня за рукав:
— Вас, товарищ капитан. Сорок второй.
«Сорок второй» — это был шифр подполковника Джараяна, заместителя начальника политотдела нашей 59-й армии. Без предисловий Джараян спросил:
— Видел? Что-нибудь осталось? Что-нибудь можно спасти? — А когда мне пришлось ответить, что до места я еще не добрался, недовольно пробурчал: — Давай, давай действуй. И чтобы к вечеру вернуться. Есть еще поручение…
До руин Спас-Нередицы, — а именно их мне приказано было осмотреть, — от КП артиллеристов сначала вела хорошая траншея. Ее отрыли бойцы стрелкового подразделения, державшего оборону на холмах по побережью Волховца и маленькой речки Нередицы. Но, приблизившись к развалинам, мне снова пришлось, стараясь не поднимать головы, ползти по мелкому ходу сообщения.
Церковь Спаса-на-Нередице — одна из древнейших на Руси. Она была построена на холме над речкой новгородскими зодчими в двенадцатом веке. Я видел раньше ее фотографии: кубической формы, одноглавая, белая, с узкими окнами на разной высоте. Церковь была суровой, как памятник, и в то же время прекрасной. Теперь передо мной на заснеженном холме возвышались уродливые, как подагрические пальцы, исковерканные остатки опорных кирпичных колонн. Вся верхняя часть здания обвалилась. В бесформенные груды превратились и три стены храма. Красноватая кирпичная пыль лежала вокруг на снегу. Сегодня утром, очевидно, тоже один из снарядов угодил в руины…
С восточной стороны около развалин мощно было идти уже в рост. Глаз вражеских наблюдателей сюда не достигал. Я перебрался через груды битого кирпича и оказался внутри главного нефа храма. Там тоже везде громоздились кучи кирпича, обломки облицовки и штукатурки, ржавые, искорененные листы железа, покрытые красноватой пылью и снегом. Кругом был жуткий хаос разрушения, и как-то особенно звонко хрустела под ногами каменная крошка. В этот момент меня окликнул знакомый голос Федора Харченко:
— Товарищ капитан, идите сюда, к нам!
За полуобрушившимся пилоном в могучей, устоявшей стене погибшей Спас-Нередицы была довольно глубокая ниша. В ней копошились, делая что-то непонятное, двое — Харченко и высокий худой солдат с темными лихими усами на смуглом обветренном лице.
— Вот посмотрите, товарищ капитан, — продолжал Харченко, — это же ценности… Покалечены они. Однако кое-что, по-моему, осталось. Мы с Матвеичем решили их сюда сложить. В стенке здесь яма, склад там устроили. Может, сохранятся?
Харченко протянул мне кусок внутренней облицовки величиной с ладонь. На нем была деталь древней фрески. Припорошенный кирпичной пылью, на меня смотрел глаз под густой бровью. Нет, суровое око. Смотрел грустно, пожалуй, укоризненно…
— Глядит! Внимательно-то как! — хриплым баском проронил боец, которого Харченко назвал Матвеичем.
А сам Федя метнулся куда-то в сторону и сразу же вернулся еще с одним осколком облицовки, на котором явственно проступал золотой полукруг венца.
— Там, за столбом, еще есть несколько таких, — сказал он. — Правда, рисунка на них нет. Однако и такие, наверно, пригодятся, когда все слеплять будут обратно?
— Пригодятся, — ответил я. — Давайте помогу.
И мы стали собирать кусочки фресок и складывать в нишу. Среди них были фрагменты самых различных рисунков: пальцы и рты, детали одеяний и орнаменты, просто цветные, фоновые кусочки, древнеславянские буквы. Наверное, не менее часа мы разыскивали фрагменты фресок, обдували с них пыль и сносили в «склад».
Потом тяжелый удар неожиданно потряс руины. Защелкали осколки. Красная пыль заволокла просветы между остатками колонн и стен. Откуда-то отвалилась и грохнула недалеко от нас бесформенная глыба.
— Надо уходить. Теперь начнет бросать дотемна… — с сожалением сказал Федор Харченко. — Назавтра комбат, может, опять разрешит мне здесь порыбачить?
Он засмеялся. Мы с Матвеичем тоже улыбнулись и, отряхиваясь, полезли из развалин.
Не знаю, удалось ли Федору Харченко собрать потом еще какие-нибудь остатки фресок Спас-Нередицы, да и вообще — сохранились ли они в нише до того, как пришли искусствоведы и реставраторы? В то время близился день нашего наступления. И, зная об этом, командующий 59-й армией Иван Терентьевич Коровников и член Военного совета Петр Семенович Лебедев организовали разведку древних памятников, с тем чтобы сразу после освобождения Новгорода направить специалистов по сохранению культурных ценностей. В Спас-Нередице такую разведку поручили мне.
Через несколько дней, в ночь на 14 января 1944 года, наша армия пошла в бой за освобождение Новгорода. Мне довелось быть в частях, совершавших фланговый, охватывающий удар по обороне врага через Ильмень-озеро. По его льду сначала прошли лыжники и аэросани с десантом. Они захватили плацдармы на западном берегу. Затем двинулись основные силы стрелковых частей, и сопротивление врага было сломлено. Одновременно несколько дивизий форсировали Волхов напрямик с торговой стороны города и с правого фланга. Отступая, фашисты жгли деревни. Несколько дней пожары полыхали по всему горизонту, и глухой ночью было светло действительно как днем.
Шесть суток шел бой за Новгород. Под угрозой окружения враг наконец оставил древний русский город.
..После полудня, в памятный день освобождения Новгорода, 20 января, я оказался в его Детинце, на главной площади. Горький запах гари стоял в морозном воздухе. Еще дымились вокруг пожарища. Языки пламени лениво лизали оконные переплеты длинного и потому казавшегося приземистым здания митрополичьего покоя. Как летучие мыши, над ним взлетали черные клочья обгоревшей бумаги и, медленно кружась, опускались на истоптанный, грязный, засоренный соломой снег. У входа в митрополичьи покои груды железных ящиков из-под снарядов. Некоторые раскрыты. Они полны канцелярских папок. Наискось, справа от здания покоев, на площадь выходит боковой фасад большого трехэтажного здания Приказов. Оно почти не повреждено. Перед ним округлый постамент памятника Тысячелетия России. Сам памятник — центральная его фигура и окружавшие ее — валяются вокруг, припорошенные снегом. Многие части обвернуты соломой и обвязаны толстыми веревками. Ясно, что захватчики собирались со дня на день увезти памятник. А теперь они уже далеко по тогдашнему нашему пониманию: еле слышны пулеметные очереди и глухо доносятся разрывы снарядов.
Я пошел к Софийскому собору, белой глыбой вставшему над Детинцем. Арочный портал храма покалечен. Дверей — знаменитых Сичтунских врат — нет. Валенки мои обледенели, — возвращаясь с Ильменя, пришлось шлепать по воде, выступавшей из пробоин поверх льда, а сейчас морозно. И гулко отдается звук моих шагов в стенах собора. Ряды подпорных колонн его нефа уходят в сумеречную высь. Свет еле пробивается через пробоины и в узкие решетчатые окна «барабанов» — оснований куполов. Наконец глаз мой привыкает к полумраку, я вижу, что собор пуст. Нет ни алтаря, ни иконостасов. На колоннах и стенах языки копоти. Там, где слой ее тонок, и наверху проглядывают следы росписи.
Почти посередине главного нефа следы большого костра. Крупные головешки еще чадят. Вокруг разбросаны соломенные маты, какие-то тряпки, грязно-зеленые шинели, котелки, пустые консервные банки, обрывки немецких газет и прочий хлам. В левом приделе топчутся, нервно похрапывают, скребут копытами несколько лошадей. Вслед за мной в собор вошли трое солдат и, обмениваясь шуточками, деловито начали их обуздывать. А я прошел в полукруглый придел за бывшим алтарем. Стекла трех высоких окон со свинцовыми переплетами мутны. Но все же тут значительно светлее, и я вижу в углу стопки грязно-зеленых, как шинели врагов, тонких книжек. На обложках белыми латинскими буквами слово «Новгород».
Поднимаю и раскрываю книжицу. Титульный ее лист поясняет: «Новгород — восточный форпост немецкой Ганзы». Год издания 1943-й.
На следующей странице читаю: «Это брошюра предназначена для немецких солдат». Далее фотоклише с рисунком средневекового плана Новгорода. Потом короткое предисловие генерал-майора Цвильхе. Гитлеровский генерал убеждает солдат вермахта, что «большевистский» Новгород в давние времена был ганзейским городом. Эта зловредная ложь и составляет пропагандистскую суть книжицы. Хотя «во первых строках» ее текста и говорится, что ганзейцы появились со своими товарами в Новгороде в 1250 году, то есть более чем на век позже сооружения огромного Софийского собора!
Прочитав, я брезгливо бросил на пол брошюру. До чего же подло «работала» нацистская пропаганда! Потом поднял ее, написал карандашом на обложке: «Взято в Новгороде, в Софийском соборе, 20/I 44 г.» — и положил в свою полевую сумку.
…Та самая грязно-зеленая книжица сейчас передо мной.
Уже сумерки наплывали, когда я вышел из собора на площадь. По-мирному каркали невесть откуда взявшиеся вороны. Воздух стал чистым — пожар в митрополичьих покоях был потушен. Теперь около них стояла полевая кухня. Усталые бойцы гремели котелками, устраиваясь ужинать на ступеньках крыльца, на соломенных матах и топчанах. А немного дальше шел короткий митинг. Перед группой бойцов проходящей части выступал кто-то с кузова грузовика. Врага погнали дальше свежие полки, а те, кто почти неделю был в бою, получили недолгий роздых.
Около памятника Тысячелетия России маячила одинокая фигура в полушубке и маскхалате. Она показалась мне чем-то знакомой. И действительно, увидев меня, она позвала:
— Товарищ капитан! Может быть, подойдете сюда? Не могу понять, что здесь написано.
Это был Федор Харченко.
Оказывается, его батальон тоже стал на отдых на окраине города, а он «прибежал сюда рысью», чтобы посмотреть памятники истории.
— Может, больше никогда и не доведется увидеть Новгород. Из Берлина добираться далеко… — сказал Федя, улыбаясь.
В наступлениях сорок четвертого многие, очень многие наши воины уверены были, что дойдут именно до Берлина, обязательно дойдут.
Харченко рассказывал мне, что успел побывать и в Софийском соборе, и еще в какой-то старой церкви.
— Вот посмотрите, даже немного нарисовал…
Говоря это, он выпростал из-под полы планшет, достал из него небольшой блокнот и раскрыл его.
— Вот звонница… Вот разбитый мост через Волхов… Вот безобразие, которое «он» сделал с этим памятником…
Рисунки были карандашные, грубоватые, неумелые. А может быть, плохо слушались натруженные, охладевшие Федины пальцы?
И все же по этим наброскам на желтоватой бумаге небольшого блокнота можно было увидеть, что автор их владеет чувством формы.
В блокноте Харченко было еще несколько портретов его товарищей и рисунки руин Спас-Нередицы. Среди них изображение кусочка фрески с запомнившимся мне глазом…
Я искренне похвалил Федю и посоветовал ему после войны поучиться — сначала в художественном кружке, а потом, как знать, может быть, и в академии!
— Обязательно! Спасибо! — радостно поблагодарил Харченко. — А сейчас, товарищ капитан, побегу к своим. Они здесь, недалеко, до вечера отдыхают. Потом — вперед!.. До свидания.
— До свидания, Федя! Успеха тебе в бою…
Харченко ушел быстрым шагом. Мне тоже очень хотелось двинуться дальше. Да нельзя было. В Детинце мне поручено дождаться председателя Новгородского горсовета и передать ему некоторые документы. Ради этого я и оказался здесь. Да, председателя горсовета. Это не описка. «Мэр» Новгорода, пока его город был занят врагом, находился поблизости, можно сказать — у его стен. Партизанил, потом готовился с группой сотрудников войти в город… Многие из нас встречались с ним. Он не раз приезжал в политотдел нашей армии. Невысокий, спокойный, немолодой человек…
Когда сумерки совсем сгустились, на площадь ворвалось несколько танков, и около них тотчас начался митинг. Танкисты дружно кричали «ура». Наконец к памятнику Тысячелетия России подъехали две «эмки» «с советской властью». Я передал порученное председателю горсовета и на попутной полуторке помчался в ночь, на запад, к передовой.
…Освобождение Новгорода и наступление нашей армии на Лугу угрожало вражеским войскам, стоявшим под Ленинградом, окружением. И они начали отступать по всему фронту — от Чудова и Любани, от Детского Села и Петергофа. Там их гнали воины — защитники героического города на Неве.
Чтобы предотвратить «котел», командование северной группы гитлеровских войск приказало упорно защищать опорные узлы обороны своего восточного, волховского фланга. Нашим частям такие пункты приходилось брать, ведя кратковременные, но жестокие бои. Густые леса, глубокие снега и незамерзающие болота левобережья Волхова затрудняли действия наших танков и артиллерии. Ломали сопротивление врага чаще одни пехотинцы да минометчики.
На следующий день после сражения за Новгород узел обороны врага в деревне Осия с ходу атаковал батальон, где комсоргом был Федор Харченко. Атаковал под огнем пулеметов и автоматов, через голые поля и огороды. Снег по пояс замедлял стремительность продвижения бойцов. И все же они преодолели смертоносное пространство и ворвались в деревню. Одним из первых, кто достиг крайних домов, был Федя. Он занял позицию за полуразрушенной банькой. Отсюда удобно было вести огонь по переулку, выходящему на улицу. Потом, когда около него накопилось еще несколько солдат, он повел их перебежками вперед. И здесь его поразили пули…
Еще щелкали одинокие выстрелы на дальней окраине Осии, там, где к деревне вплотную подступил лес, когда к ней подошел наступавший с левого фланга другой батальон. Над Осией стелился дым — несколько изб горело. Надрывно ржала раненая лошадь. В начале единственной улицы деревни, в траншее, обшитой тесом, валялось несколько трупов в серо-зеленых шинелях, патронные ящики, автоматы.
У колодца пулеметный расчет возился около своего «станкача» — сержант заливал в его кожух воду. Это были бойцы батальона, освободившего Осию.
— Молодцы, ребята! — крикнул им комбат, подбегая.
Один из них махнул рукой.
— Чем недоволен? Фрицев-то гоним!
Сержант-пулеметчик поднял на нас красные от недосыпания и напряжения глаза и сказал:
— Всем доволен, товарищи командиры. Вот только… Федю нашего убило.
…Федор Харченко лежал недалеко от баньки, где была его последняя огневая позиция. Он был прикрыт своим полушубком, запятнанным темной кровью. Снежная пыль уже не таяла на его лице и ладони откинутой руки. Мы сняли ушанки и с минуту постояли над его телом. Стрельба на дальней окраине Осии прекратилась, и совсем стало тихо. Лишь потрескивал, посвистывал огонь, пожиравший ближайшую хату…
Федора Харченко похоронили там, где он погиб, в лесах за Волховом, в деревне со странным именем Осия. А после Победы прах Героя Советского Союза (это звание ему было присвоено посмертно) Федора Харченко перенесли в Новгород, и он покоится в Детинце на площади, недалеко от восстановленного памятника Тысячелетия России. Я побывал там через тридцать пять лет. У старого мемориала — клумбы с цветами и пионерский пост несет вахту славы…
Участники Великой Отечественной войны часто вспоминают ее трудные годы. Пережитое: ужас первых артиллерийских обстрелов и бомбежек и туманящую, захватывающую дух радость побед пусть хоть и в маленьких, «местного значения», боях; душевные беседы у костров в ночи и в землянках, трепетно освещенных коптилкой нз гильзы; горькую грусть при злой и обычной вести — убит или тяжело ранен такой-то, хорошо знакомый товарищ по фронту или же родной человек…
Но среди таких воспоминаний у каждого из нас есть особенные, самые-самые тревожащие душу. Они возвращаются к нам чаще других и нередко связываются как-то с событиями и переживаниями последующих лет жизни.
В моих воспоминаниях о войне особое место занимает Федор Харченко, парень из северного города Котласа, комсорг батальона, знаменитый снайпер нашей 59-й армии и, может быть, останься он в живых, художник…
Перед моими глазами нередко вставала затуманенная вечерней морозной дымкой площадь перед Софийским собором в древнем русском Новгороде, разбросанные по снегу части памятника Тысячелетия России, простой блокнот и плоский штабной карандаш в огрубевших пальцах молодого солдата, его рисунки и среди них око с фрески Спас-Нередицы.
С годами образ Харченко приобрел в моих воспоминаниях какое-то иное качество, что ли.
Однажды я бродил по развалинам древнегреческой колонии Истрия, что недалеко от современного города Констанца и курорта Мамайя в Румынии. Был теплый летний день. С холмов открывался широкий вид на озеро, поросшее камышом, и стаи пеликанов. Далее голубело Черное море.
От Истрии остались лишь полузасыпанные прахом веков, бесформенные руины. Ямы и траншеи археологических раскопов пятнали склоны холмов, поросших полынью и чабрецом.
Я подошел к одному из раскопов, и у меня под ногами захрустели глиняные черепки. На некоторых из них можно было даже различить следы глазури и орнамента. И тогда вдруг передо мной необычайно ярко из глубин памяти всплыли развалины Спас-Нередицы, фигуры Федора Харченко и того неизвестного, которого он называл «Матвеич». Я снова увидел, как бережно они подбирали припорошенные снегом и пылью обломки фресок и несли в нишу полуобвалившейся стены древнего храма. И даже услышал, как кирпичная крошка и обломки внутренней его облицовки хрустят под подошвами их закалевших валенок.
…Я вижу в покрасневших пальцах солдата осколок фрески, с которой на меня глядит суровое око. Может быть, пророка Давида. Может быть, одного из грешников фрески Страшного суда со стен Спас-Нередицы, уже после войны увиденных мной на репродукции…
В тишине просторов над руинами Истрии это видение приобрело какое-то символическое значение. Вот они — воины нового исторического типа. Только что они убивали, да, убивали тех, кто пришел незванно на их землю! А сейчас под грохот близких разрывов снарядов, прислонив к заледеневшим руинам винтовки, пытаются спасти то, что является общим культурным достоянием человечества.
Их мысли, их душа — в будущем, мирном, счастливом, красивом… Своей земли. Всей земли…
ПРОЧНЫЕ ЛЮДИ
У ПЕРЕПРАВЫ
На Волхове-реке, в полсотне километров к северу от Новгорода, стоят в окружении полуторастолетних лип с десяток тяжелых кирпичных корпусов. Вид у них казарменный, мрачноватый, и выстроились они в строгом порядке, «по ранжиру». Это и есть бывшие казармы одного из военных поселений, созданных усилиями графа Аракчеева.
Называется теперь это место Селищи. В первые годы войны оно было близким тылом линии фронта. Наша оборона от Ильмень-озера шла по Волхову на север, до его впадения в Ладогу. Но в некоторых местах на левом берегу стремительно несущей свои воды реки у нас были небольшие плацдармы. Самый крупный из них, километров на двадцать в ширину и восемь в глубину, до селения Спасская Полисть, располагался за Селищами. Напротив них на нашем участке фронта была единственная переправа через Волхов — мост на понтонах.
Однажды с фотокорреспондентом Виктором Чемко мы шли к ней через Селищи.
Стоял тихий, серенький летний день. На передовой тоже было тихо. Лишь изредка с окраин плацдарма доносились короткие очереди «шмайсеров» и постукивание наших «максимов». Липы только что отцвели, и заросшие травой аллеи поселка покрылись опавшими невзрачными желтыми цветками. То там, то здесь валялись срезанные осколками ветви деревьев. На некоторых листья еще не увяли. Дома-казармы зияли проемами выбитых окон и пробоинами от прямых попаданий тяжелых снарядов. На многих строениях были разворочены крыши, обрушились углы… Но везде в поселке шла жизнь. У одного из домов, где в подвале находился «перевалочный» медпункт, грузили на полуторку раненых. Неподалеку дымила походная кухня. Далее несколько солдат тянули кабель связи. А в начале спуска к Волхову, к переправе, стояла группа офицеров, оживленно что-то обсуждавших.
— Какое-то начальство, — сказал Чемко, вглядываясь. — Наверное, приехало проверить, как переправа. Вчера ее, знаешь, разбомбили. — Чемко всегда был отлично осведомлен о том, что происходило на нашем участке фронта, наверное потому, что знали и любили его в частях и в штарме. — Вчера, пользуясь ясной погодой, фрицы много летали. Сегодня, пожалуй, не появятся, облака низкие, — продолжал он. — Понтоны уже навели, пройдем спокойно…
— Смотри, тезка, сглазишь, — сказал я.
Со стороны тыла послышался шум моторов, и в Селищи стала втягиваться небольшая колонна трехтонок, груженных снарядами.
Мы подошли ближе к группе офицеров.
— Вон Лебедев, — указал мне Чемко на невысокого человека в ладном кителе. Он стоял в некотором отдалении от других офицеров около придорожного дерева и беседовал с начальником переправы — майором.
Да, там стоял Петр Семенович Лебедев, «второй человек» после командующего, член Военного совета нашей 59-й армии. Я мало встречался с ним до этого, хотя он часто появлялся в политотделе и редакции газеты «На разгром врага», где я служил. Впечатление о нем у меня сложилось неопределенное. Казался он человеком суховатым, замкнутым. Впрочем, большое начальство, на войне в особенности, всегда почти «держит дистанцию» по отношению к подчиненным. В частях его побаивались и любили за прямоту. Каков Лебедев на самом деле, мне было неясно.
Чемко потянул меня «в обход» начальства, бормоча:
— Сейчас ни он нам, ни мы ему не нужны. Давай, давай ходом по тропке, направо.
В этот момент все и началось…
На западе, в стороне Спасской Полисти, негромко громыхнуло, и сейчас же тишину в Селищах прорезал тонкий свист, а затем, шагах в ста от нас, раз за разом, почти слитно — трах-трах-трах-трах — разорвалось четыре снаряда. Заверещали, защелкали осколки по деревьям и стене ближайшего дома. Ударила воздушная волна. Я услышал, прежде чем плюхнулся на землю, приказание Лебедева: «Ложись!», а затем другое: «Машины рассредоточить».
— Правильно, ложись, тезка, — спокойно сказал Чемко, как-то аккуратно укладывая свое длинное тело в ложбинку. — Сейчас еще сыпанет…
И действительно, снова в отдалении громыхнуло. Теперь «пачка» снарядов ударила по дороге, ближе к переправе, тоже не очень далеко от нас.
Всякое бывало на войне… При бомбежке, в перестрелках на передовой, во время обороны, когда та и другая стороны зарыты в землю, в атаке, когда плохо себя помнишь, страх, конечно, наваливался, мутил рассудок. Тот, кто говорит: «Я совсем не боялся в бою», — врет. Все в той или иной степени испытывают страх под огнем. Но, пожалуй, лишь раза два я испугался по-настоящему сильно. Первый — в тот раз, у переправы в Селищах. Потом, вспоминая об этом со стыдом, думал — потому испугался, что внезапно начался артналет, ворвался он неожиданно в тихую, «тыловую» обстановку. И еще потому, что сразу мелькнула мысль — дорога к переправе, спуск и сама переправа наверняка хорошо пристреляны фашистами.
Когда я плюхнулся на землю у дороги к переправе, у меня захватило дух и противная неуемная дрожь свела мышцы ног. Наверное, я сучил ногами, распростершись на твердом, сухом склоне. Во всяком случае, Чемко в очередную паузу между залпами подтянулся ко мне, ткнул меня кулаком в бок.
— Не мандражи! Лучше поглядывай по сторонам… Посмотри, он — стоит!
И я заставил себя, по правде еле заставил, оторвать голову, будто привязанную к земле, и поглядеть вокруг. Селищи вымерли. Никакого движения. Красная кирпичная пыль клубится у стены ближайшего дома-казармы. Крутятся в воздухе отдельные листочки. А Лебедев стоит, привалившись спиной к толстому стволу липы. Минут через десять — пятнадцать (кто считал?) наши дивизионные батареи ударили с плацдарма по вражеским, ведущим артналет. Дал залп и дивизион дальнобойных гаубиц, расположившийся в леске за Селищами. Тяжелые снаряды зловеще прошумели над нами. И вражеские батареи вскоре замолкли. Чемко вскочил, отряхнул гимнастерку и брюки.
— Ну, давай, давай ходом! Переправа цела, и, кажется, перебранка «богов войны» не принесла потерь. Ходом, тезка, ходом…
Мы быстро пошли по склону… Нет, все же потери были. Около дороги, на спуске, лежала перевернутая повозка и около нее двое. Один солдат без движения, другой махал рукой и стонал. К нему уже бежали санитары. И лошадь еще была убита. Осколок раскроил ей брюхо.
На том берегу Волхова широкие луга, окаймленные лесом.
— Пойдем напрямик, как галки летают. Тебе в хозяйство Иванова, мне подальше, но по пути, — сказал Чемко, когда мы пробежали по понтонам.
«Как галки летают» было его любимое выражение. Охотник, любитель природы и путешествий, он отлично умел ориентироваться на любой местности. В его походах фотокорреспондента на передовую это умение служило хорошую службу. Впрочем, однажды, уже осенью, мы с ним вот так же пошли напрямик через большую болотину с клюквой, еще очень кислой, незрелой, «как галки летают», а когда выбрались на опушку, нас встретили артиллеристы замаскированной в кустах батареи с ужасом и удивлением в глазах.
— Как же это вы прошли? Болото это плотно заминировано!
Шагая через не кошенный второй год разнотравный луг, — казалось, я никогда до того не видел столько цветов, — мы долго молчали. У леса Чемко остановился, снял пилотку, обнажив незагоревший лоб, стриженую, чуть седеющую голову. Наискось ее пересекал белый рубец от тяжкой раны. Получил он ее в атаке, идя с батальоном где-то в болотах под Синявином, на севере Волховского фронта.
— Тепло и даже жарко, — сказал Чемко, сощурив карие глаза, и непонятно было, доволен он этим обстоятельством или сетует. — Оглянись, тезка, — вон те машины со снарядами пошли по переправе.
Я обернулся. По понтонам, уже на середине реки двигалась трехтонка. Другая спускалась по косогору. А под деревьями, у начала склона, можно было различить группу, вероятно, тех же офицеров, которые были с Лебедевым. Чемко кивнул в их сторону:
— Прочный человек этот генерал Лебедев.
РАССКАЗЫ ВИКТОРА ЧЕМКО
Виктор любил рассказывать байки о своих «приключениях», обычно охотничьих и рыбацких. В дни затишья на фронте, по вечерам, он варил себе крепчайший чай — на костерке или печурке в землянке. Заваривал в солидную свою жестяную кружку по крайней мере треть пачки. Солил чай несколькими крупинками и, отхрустывая крепкими зубами малые толики от кусочка сахару, с наслаждением тянул терпкую, почти черную жидкость. Вот в такие минуты он рассуждал о жизни, о войне, а если просили, иногда же и по собственной инициативе начинал: «Хочешь — верь, хочешь — нет, но случилось это тогда-то…»
Любой аудитории рассказывал… Солдатам на передовой, дымившим самокрутками так, что в землянке трудно становилось дышать, офицерам в штабном блиндаже или избушке политотдела. Очень жаль, что не записал я все эти рассказы. Однако некоторые запомнились…
— …В то время, — обычно начинал Виктор Чемко свою байку, — я был на мели. В кармане трешка, и никаких поступлений в бюджет в ближайшее время. Но если умеешь соображать… Всем советую соображать, дорогие товарищи! Нет безвыходных положении! Так вот, я проанализировал ситуацию, пошел в лавочку, купил на полтинник две пачки нюхательного табачку. Потом отправился на базар, взял там в рюкзак морковки, сколько в него влезло, а на оставшиеся деньги папирос «Беломор», хлебца и билет… до станции… Тютюха… Нет, здесь уж извините, точно название места не назову. Охотничья тайна!
Конечно, оделся потеплее, дело-то было в начале зимы. Только снег выпал, а морозцы стояли крепкие. И поехал, и приехал на ту станцию после полудня, и сразу в леса. Прошел километров десять, в глушь… Там заброшенный хуторок нашелся. Дед в нем, сивый и хромой, жил, сено сторожил…
«Так и так, говорю, дед… Нет ли у тебя кирпичей ненужных и санок ручных на одну ночь?»
Дед подивился: зачем это человеку пришлому кирпичи и санки? Однако я его папироской угостил и уговорил. Привел он меня в сарай — бери вот санки, воду он на них возил от ручья, — а там кирпичи: печь починяли — остались. Поблагодарил, сказал: «Вернусь к утру, отдам…»
Нагрузил я в санки кирпичей штук двадцать и пошел, как галки летают, напрямик, к полянам в лесу. Уж свечерело, спешил я, хоть и ночь должна была быть лунной. Дотемна надо было задуманное совершить. Снег еще неглубокий, идти нетрудно, а все же торопился и упарился. На полянах, где сенокосы и выпасы, а где и жнивье, и зеленя, стал класть кирпичики, посыпал их нюхательным табачком, сильный он попался, чихал, а рядом морковка… И дальше шел, и снова кирпичик с табачком и рядом морковку. И так далее… Наконец положил последний. Отошел немного и в ложке логово себе приготовил на ночь. Еловых лап наломал и разложил. Бересты немного содрал и костерок запалил. Чайку-то надо было попить и хлебца пожевать. Чай-то у меня всегда есть, запас на любой черный день. Ну что ж, попил, пожевал, подремал, а как забрезжил рассвет, встал и пошел… зайцев собирать!
В этом месте рассказа слушатели всегда оживлялись:
— Вот дает! Каких это еще зайцев… ха-ха-ха!
А Виктор серьезно, строго:
— Не сообразили? А соображать надо, я же вам напомнил о том, братья славяне… Да, пошел именно зайцев и именно собирать! Косые ведь до морковки невозможно охочи. Чуют ее издалека. Вот подбежит заяц к моей морковке, понюхает. Всякий зверь обязательно понюхает съестное, прежде чем цапнуть. А табачок нюхательный ему в нос. Ну конечно, чихнет косой — и головой о кирпич… Цок — и готово! Штук пятнадцать зайцев тогда я добыл. Приволок на хутор к деду. Он удивился. Не меньше вашего! Ободрал я добычу. Тушки в сельпо сдал — более полсотни получил, а шкурки в «Заготохоту». Кроме четырех. Две деду подарил на шапку, две себе оставил, тоже треух потом сшил… Не верите? Заходите ко мне в гости, милости прошу. Будете в Москве — улица Горького, 19. Он, этот треух, ждет меня дома. Посмотрите, убедитесь…»
Рассказ об охоте на зайцев Чемко любил сам, и слушателям он нравился. Виктор повторял его часто. Я слышал эту байку, например, раз пять. И еще один свой рассказ он любил и повторял. Про щук.
— Рыбачил я однажды на чудесной реке в Вологодской области. Река широкая, чистая, рыбная. Наловил на кружки в заводи крупных щук, килограмм по четыре-пять каждая, и, чтобы не уснули они, не померли раньше времени, нанизал, пропустив под жабры, на прочную бечевку. Таким путем связкой в воде за своей надувной лодкой и приволок щук к пристани поселка, ну, скажем… Петухи. И тут узнаю, пароходик, что причаливает здесь раз в двое суток, раньше времени заходил сюда и уже фьюить — ушел… Ну что тут делать?! Двое суток прождать в поселочке, конечно, можно. А улов? Пропадет! Стал я соображать, — напомню, что надо соображать всегда! Сижу на мостках пристани, смотрю на воду текучую и прикидываю. Как бы добраться до большой пристани в Н-ске, куда железная дорога подходит? Нет, нет, названия ее не скажу — рыбацкая тайна. Так вот рассуждаю сам с собой. На лодчонке плавиться? Целый день с гаком пройдет. Да и умаешься на гребях. Пешком пойти, как галки летают? Тоже, пожалуй, суток не хватит. Положение, сами понимаете, неприятное. Подумал — что ж делать, выпущу моих щук на волю. Денек поскучаю с девчатами, ежели они здесь есть, а потом еще половлю. Встал, подошел к лодчонке, подтянул бечевку — кукан со связкой щук, чтобы, значит, рыбку освободить. И тут сообразил! Придумал, как надо действовать. Сбегал в поселок. Купил за рупь серебряный, как сейчас помню, сыромятный ремень. Разрезал его на тонкие ленточки и изготовил шлейки наподобие тех, которые малышам надевают, когда их учат ступать по земле поперву… Для чего шлейки, спрашиваете? А слушайте дальше. Для щук же! Ну, сообразил я тогда, на каждую рыбину вместо хомута шлейку из ремешка надеть и запрячь, одним словом, своих щук! Да не смейтесь! Все получилось в лучшем виде. Пятерка самых крупных потащила лодку, аж вода за кормой бурлила, аж ветер посвистывал в ушах. Куда потащила? Да куда мне нужно было. Соображать надо! Я ведь управлял ими дрючком, как оленями хореем управляют на Севере. Небось слыхали? То-то… А вы — смеяться!
А конец истории случился такой. Часа за четыре довезли меня с ветерком мои кони-рыбы до пристани в Н-ске. Вышел я на берег, выволок свою лодку, выпустил из нее дух, сложил в рюкзак и подхожу к воде забрать щук. Смотрю через воду прозрачную — лежат они на дне, еле жабрами шевелят. Умаялись с непривычки! У двух же, коренниками они плыли, на глазах — знаете, какие у щук глазищи, — слезы сверкают… Ну вот, опять вы смеетесь! Да попробуйте запрягите щук! Покатайтесь! Что будет, сами увидите… Жалко мне стало рыбу, отпустил я щук на волю, потом закинул рюкзак за спину и пошел на станцию… Да, забыл сказать, три штуки от улова все же себе оставил. На именины к другу обещал ведь рыбки привезти…
И еще третий рассказ Виктора Чемко запомнился мне очень хорошо, рассказ о том, как он…
Начинал эту байку Чемко есенинскими строчками:
— «Никогда я не был на Босфоре, ты меня не спрашивай о нем…» — И продолжал так: — Итак, на Босфоре я не был, там турки, русских они не любят. А на Уссури был. Речка та пошире Босфора! Только мутноватая. Поэтому если о глазах девушки говорить словами Есенина, надо так: «Я в глазах твоих увидел кофе…» А кофе тоже, к слову сказать, я люблю, но больше все же чаек…
Так вот, говорили мне, что на Уссури очень добычливо ловить крупную рыбу на спиннинг. Снасть такая у меня была, снасть отличная, прочная. И вот однажды отправился я на рыбалку. Захватил кое-какой провизии, топорик, чтобы сучьев нарубить, чайку согреть, и к вечерней зорьке добрался до отличного места. Как сейчас помню. Берег обрывистый, на нем лес вековой, а у самой кромки воды песчаная чистая полоска. Здесь — затишье… А в реке — глубина, под крутыми берегами всегда глубина. Стал я кидать спиннинг. Раз, другой, третий забросил. Ничего не попадается! Дай, думаю, подожду немножко, солнце садиться станет, будет клев… Сижу на песочке, любуюсь природой, раздольем. И вдруг… Все на охоте и на рыбалке случается вдруг! Вижу… Мать честная! На гладкой вечерней воде отражается берег, обрез его, что за моей спиной. Кустики, цветочки… А меж ними… голова тигра! Немножко видны еще его плечи и хвост. Глаза прищурены. Желтые, блестят! Может, от заката? Ну, подумал, конец тебе, тут, на дальней реке, Виктор Чемко. Сейчас прыгнет… Топорик какое оружие?
В этом месте рассказчик делал паузу. Прикладывался к кружке с чаем или закуривал. Заставлял слушателей «переживать».
— В таком пиковом положении, — продолжал он, — что придумаешь, как спастись? Кто-нибудь сообразил? А ну, высказывайтесь!
— В воду броситься и уплыть, — обязательно говорил кто-нибудь из слушателей.
— Не пойдет… Во-первых, река Уссури быстрая, глубокая. Во-вторых, раз уж тигр на тебя нацелился, побежит он себе по бережку и сцапает, когда будешь вылезать. Еще есть желающие выступить? Нет?.. В общем, вы не сообразили. А я скумекал, как быть… Я потихоньку спиннинг подмотал, чтоб груз с крючком повис у конца удилища, и жду. Внимательно наблюдаю за тигром, глаз с него не спускаю. Жду и думаю: поскорей бы он прыгнул! Да, именно так, честно говорю, думал… В конце концов взвился он в воздух, и тут же, в то же мгновение, я его тройником спиннинга в полете зацепил и сильно рванул снасть в сторону и в направлении реки. Целился в заднюю часть, потом оказалось — зацепил за хвост. Сами понимаете, когда тело в воздухе, небольшой толчок ему нужен, чтобы изменилось направление его движения. Так и с тигром получилось. Пролетел он чуть в стороне слева надо мной и плюхнулся в воду! — В этом месте Чемко опять делал паузу, и кто-нибудь обязательно с сомнением спрашивал, как это удалось ему поймать на крючок зверюгу. Чемко снисходительно улыбался и отвечал насмешливо:
— Это вам не с бабой возиться, уметь надо снасть бросать! К тому же тройник вместо обычного крючка у моего спиннинга был. В три раза больше шансов зацепить. Так вот, продолжаю… Течением отнесло тигра немного от берега, всегда под кручей оно такое… Но он быстро повернулся. И ко мне… Вот теперь-то и нужно было полностью проявить уменье. Как только тигр подплывал метра на три, я спиннинг подкручивал, тянул его за хвост, и его в воде разворачивало головой от берега… Упрямый зверь попался. Снова и снова поворачивал к берегу, лапами бил, брызги летели, хотел до меня досягнуть, а вылезти на песочек я ему все не давал. Кончилась история тем, что сдался тигр от усталости да и водички, видимо, нахлебался. Только вижу, уже не может он больше плыть к берегу, течением его сносит… Выдержал я его еще с минуту-две в «ванне», потом подтянул задом, отцепил крючок от хвоста — и ходу… А он так и остался на песочке сохнуть и переживать… Почему не утопил его совсем? Да ты, паря, в уме? Тигры звери редкие, за убийство штраф, дело накладное. К тому же лето было, шкура плохая у него была, линючая…
«УСАТЫЙ» ПОЛК
Один из полков Н-ской дивизии в течение нескольких дней успешно отражал попытки немцев прорвать линию нашей обороны на плацдарме севернее Спасской Полисти, а потом провел удачную разведку боем. Такие «местного значения» военные действия не отражались в сводках Совинформбюро. Однако часто бывали они кровопролитны. Полк же этот под командованием полковника Кузнецова понес на удивление незначительные потери. В чем тут дело? Этот вопрос заинтересовал не только оперативный отдел штарма, но и политотдел, и редакцию нашей армейской газеты «На разгром врага».
— Поезжайте к Кузнецову, поговорите с ним, с офицерами и солдатами — потом расскажете, как они воевали, напишете в газету об опыте политико-воспитательной работы, — сказали мне в политотделе.
«Поезжайте» — значило: надо подсесть в попутную машину и проехать всего-то три-четыре километра от леска, где мы жили в землянках, до Селищ, а далее добираться пешком. Погода была хорошая, раннеосенний свежий денек. На полях серебро паутины. Березы и липы в золотом убранстве. Я пошел от нашего «поселка» пешком. Без тревог миновал переправу и по той же примерно дорожке, где мы проходили с Чемко летом, через луга, направился к расположению тылов дивизии. Накануне нам сообщили, что полк Кузнецова вывели на отдых в «тыл» и он дислоцируется километрах в четырех от передовой.
Без труда я добрел до него. Полк занял длинный овраг, заросший кустарником. За ним начинался лес — до самой передовой. Сразу бросилась в глаза отличная маскировка. Лишь по легким дымкам при подходе к оврагу можно было предположить, что он «заселен». Батальоны успели закопаться — вырыли землянки на обратном склоне оврага и хорошо прикрыли их ветками и травой. Там, где дорога скатывалась вниз, меня остановил дозор и проверил документы. Старший в дозоре, сержант, пожилой солдат, и совсем еще молодой его напарник, оба были усатыми. И далее, проходя по расположению полка, я обратил внимание на то, что почти все встречавшиеся офицеры и солдаты носили усы. У некоторых они были великолепными, ухоженными, у других только отрастали.
Полковник Кузнецов, плотный крепыш лет за пятьдесят, тоже обладал этим мужским украшением! Встретил он меня радушно и сразу потянул в землянку-блиндаж из двух крошечных комнаток. Передняя была меблирована столиком и тремя стульями, во второй за занавеской стоял топчан.
— Чаю, быстро! — приказал Кузнецов связному и предложил располагаться как дома.
Я стал расспрашивать его об интересующих меня вещах. Он отвечал охотно, называл отличившихся в бою солдат и офицеров, давал им короткие и яркие характеристики.
— Пулеметчик, сержант Трифонов. Второй взвод второй роты третьего батальона. Парень настырный. Взял своим упорством. Совсем не знал «максима». Овладел за неделю. Отлично овладел и показал себя, когда фрицы полезли. Они подползли, несмотря на потери, на несколько метров. Он продолжал бить по ним. Не доползли.
За беседой мы незаметно выпили целый чайник, и я уже собирался попросить его разрешения пройти по батальонам и встретиться с людьми, о которых он рассказывал, как вдруг послышался слитный топот шагающих в ногу солдат и грянула старая-престарая походная песня: «Канареечка жалобно поет!..» Пел ее проходящий по дну оврага взвод, пел слаженно, лихо, с присвистыванием.
Кузнецов широко улыбнулся и, не скрывая гордости, сказал, что в его полку во всех подразделениях разучивают старые солдатские песни.
— Новых-то маловато, — добавил он. — А русские самобытные, походные превосходно ложатся на ногу. Ритмика у них, понимаете, выработана чуть ли не веками!
И только прошел взвод, как послышался конский топот, затих у входа в землянку, и вбежавший солдат доложил, что прибыло большое начальство.
Кузнецов вышел встретить. Через минуту он вернулся, пропуская вперед члена Военного совета генерал-майора Лебедева. Лебедев был чем-то недоволен, и это недовольство выразилось в первых же сказанных им словах.
— Устроились, полковник, неплохо! Точно зимовать здесь собрались. Стульчики, занавесочки… — оглядывая землянку, произнес он своим суховатым голосом, характерно отчетливо выговаривая каждое слово.
— Я и на передовой так устраиваюсь, — не смущаясь ответил Кузнецов, — и все командиры у меня так…
Лебедев протянул мне руку.
— Доброе здоровье, капитан, — И, увидев, что я шагнул к выходу, добавил: — Вы можете остаться. Прошу садиться. — И сам опустился на стул. — Что это у тебя, полковник, весь полк усатым стал? — продолжал он, обращаясь к Кузнецову. — Усатый полк! Моду новую ввести хочешь в Советской Армии? И еще — песни у тебя поют дореволюционные. «Канареечку», видите ли. И другие, видимо… «Наши жены — ружья заряжены..»? Верно?
— Верно. И другие, Петр Семенович, — улыбнувшись, ответил Кузнецов. — Не могу согласиться, что это плохо! Солдат должен быть бравым!
Лебедев побарабанил пальцами по столу и тоже улыбнулся.
— А пожалуй, ты прав, полковник. Бравым должен быть солдат! Только бравость эта у нас в армии не самоцель. Верно?
Ординарец снова принес чайник, и Кузнецов налил генералу в стакан крепкого, как деготь, чаю и придвинул блюдечко с наколотым рафинадом. Лебедев отхлебнул глоток, захрустел сахаром, что-то обдумывая. Кузнецов тоже стал молча пить чай.
…В тот день, когда мы с Чемко попали под артналет на переправе, он коротко рассказал мне биографию Лебедева. Я уже упоминал: Виктор «знал все» на нашем участке фронта! Член Военного совета начинал свой армейский путь еще в гражданскую войну — простым красноармейцем, конником. С тех пор стал профессиональным военным, политработником. В тридцатые годы учился в Военно-политической академии. Еще до Отечественной снова понюхал пороху — комиссаром дивизии воевал на Халхин-Голе.
Теперь ему было уже около пятидесяти. Но выглядел он моложе. Невысокого роста, ладный, всегда чисто выбритый, подтянутый, на первый взгляд Лебедев производил впечатление замкнутого, сухого человека. Это впечатление укреплялось, когда он разговаривал по делам службы, отрывисто требовал от командира любого ранга ясных, коротких ответов на свои вопросы, поглядывая на собеседника острым взглядом.
«Недобрый человек он, «службист», — решил и я, после того как несколько раз стал свидетелем таких разговоров. В то же время что-то тянуло меня к нему, особенно когда пришлось убедиться в его храбрости тогда, на переправе.
— Вот почему я посетил тебя, полковник, — наконец заговорил Лебедев. — Ты отличный командир. Предлагали дивизию — отказался. Верно?
— Мне и в полку хорошо, — пробормотал Кузнецов.
— Я знаю, человек ты упрямый, но, повторю, воюешь хорошо. Благодарю от имени Военного совета армии.
Кузнецов порывисто встал, даже стукнулся головой о бревенчатый потолок землянки.
— Прошу сидеть… Разговор будет не об успехах, а о недостатках. Пусть и капитан послушает. Личных — полковника Кузнецова. Потому что чем выше командир, тем его личные недостатки больше сказываются на службе. Верно?
Кузнецов насупился, но кивнул в знак согласия.
— Мы знаем, — продолжал Лебедев, — что практика боевых действий полка показывает, повторю: полковник Кузнецов командир отличный. Умеет ставить боевые задачи и готовить к их решению личный состав, офицеров и солдат. Солдат в особенности. Боевая выучка у тебя поставлена хорошо. В чем же твой недостаток? А в том, что есть у Кузнецова недооценка политической работы с этим личным составом. Оговорюсь — есть не только в твоем полку. В армии и другие отличные командиры соединений и частей воюют как надо, а душой солдата мало заинтересованы. Успех у вас, у таких, рождается за счет опыта, умения, воинских знаний, таланта, дисциплины, требовательности… Все это необходимые качества для хорошего командира. Во всякой любой армии. В нашей же Красной Армии этого мало. Верно?
— Я с солдатами живу ладно, — сказал Кузнецов.
— Тоже знаем… Должен сказать, что с ходу мне не понравилась мода в полку на лихие усы. И то, что встретил меня твой взвод «Канареечкой»! Потом понял: внешние признаки бравости тоже важны для солдатского духа, тоже важны для солдатской души. Но для нее они нужны наряду с заботой о пище, о хорошей землянке, чистом окопе, о нужнике, наконец! Суворов Александр Васильевич так учил. Давно уже. Однако все же, повторяю, мало этого для нашей Красной Армии. Почему у тебя в полку ни разу за полгода не проводились лекции и беседы о положении на фронтах и в тылу? Почему не вызывали наших артистов из армейского ДК? Почему мало приняли в партию лучших воинов?.. Подожди. Потом скажешь. Я сам сначала отвечу на все эти вопросы: потому, что полковник Кузнецов не придает нужного значения политико-воспитательной работе, а следовательно, не все делает, чтобы укрепить душу солдата! Трудно ему, солдату. Так ты не только научи его умно воевать, чтоб врага бить, а самому живу остаться, и не только бравым его воспитай и смелым и чтоб друг за друга горой, а еще помоги его душе. О чем он думает? О доме, о жене, детях, братьях, которые в Сибири, на Волге или в Узбекистане пашут или около станков по пятнадцать — двадцать часов стоят… О смерти думают солдаты. Все они, конечно, понимают, за что воюют. Советские они люди. Так пусть же знают, как наша партия и правительство готовят победу, главное — готовят победу! Надо им рассказать об этом. Перелом в войне наступил. В Сталинграде крепко побили врага. На Курской дуге тоже. Гоним уже фашистских захватчиков. Живым словом об этом надо говорить с солдатом. Одновременно — о подвигах в тылу, где его родные. И посмеяться надо дать солдату, и посмотреть на веселую пляску. Для того ДК работает… А лучших товарищей обязательно надо принимать в партию нашу родную. Высшая это награда для них будет. Верно, солдат?
Лебедев говорил, а Кузнецов, хмурый поначалу, веселел, обретал свое обычное выражение на лице, спокойное, хитроватое и добродушное.
— Верно, товарищ генерал, Петр Семенович, — сказал он, когда Лебедев замолчал, закончив «проработку» своим обычным полуутверждением-полувопросом: «Верно?» — Положение исправлю коренным образом. Даю слово. — И добавил тихо, словно смущаясь: — Я ведь, Петр Семенович, люблю солдата очень…
Лебедев тепло поглядел на него. Хлопнул ладонью по большой руке полковника и тоже вполголоса, совсем не «по-военному», произнес:
— Эх, старый солдат, старый солдат… Думаешь, вот приехал член Военного совета, распушил потому, что надо ему по должности? Нет, дорогой мой товарищ. Потому, что я тоже очень люблю солдат! Люди-то наши, советские — особенные…
И столько теплоты было в голосе этого суховатого на первый взгляд человека, что я понял — за его обликом и обычным поведением скрыта добрая и понимающая жизнь душа настоящего коммуниста и что, наверное, она-то дает ему «прочность», как сказал Виктор Чемко.
ЭРЕНФОРСТ
Старый запущенный парк, еще по-зимнему голый и мрачный, обнимает широкую поляну. На самом возвышенном месте ее, почти на середине, стоит трехэтажный бело-зеленый дворец Эренфорст. Стены его белые, наличники окон, крыша, наддверные навесы зеленые. Это дворец герцогов Гогенлоэ, второй по знатности династии после Гогенцоллернов, дававшей Германии кайзеров.
Снег уже подтаивает у фасада дворца, обращенного к югу. Уже появились скворцы, хотя стоит февраль — зимний месяц. Что ж, климат Центральной Европы помягче западнороссийского, например новгородского.
Далеко-далеко отсюда Волхов-река… Прошли всего год и один месяц с тех пор, как наша 59-я армия, освободив Новгород, оставила берега былинной реки и Ильмень-озера… За это время прошли мы с боями, отрезая отступавших от Ленинграда фашистских захватчиков, на Батецкую и Лугу. Потом воевали под Нарвой и на Выборгском направлении. Когда же Финляндия капитулировала, наша армия была переброшена на Первый Украинский фронт и с Сандомирского плацдарма на Висле начала наступление на запад. Стремительным обходным маневром освободила древнюю столицу Польши — Краков — и пошла дальше, освобождать польские земли, в свое время захваченные германцами, — большой промышленный район Верхнюю Силезию, Катовицы и другие города.
И вот штаб армии размещается теперь в Эренфорсте. Всего в пятнадцати километрах отсюда река Одер, там линия обороны войск гитлеровского рейха. Пожалуй, последняя линия обороны разгромленной Советской Армией его могучей военной машины. Все наши фронты нацелены на «логово врага», так называли мы Берлин и его окрестности, готовятся к решающему, последнему рывку, последнему удару.
Готовится и наша 59-я армия…
…Прекрасный дворец Гогенлоэ Эренфорст только снаружи красив и импозантен. Внутри его сильно загадили стоявшие тут немецкий штаб противовоздушной обороны района и еще какие-то части. Мне почему-то вспомнилось, что вот так же загажены были митрополичьи покои, Дом приказов и храм Софии в Новгороде. Выгребая мусор, отмывая полы, подправляя поломанную мебель, бойцы хозяйственного взвода ругали на чем свет стоит «квартирантов» дворца:
— Ну и культурные же люди, так их растак, эти фрицы! Где живут, там и…
В штарме и его отделах работа идет круглые сутки. Настроение у всех приподнятое. Наконец-то видится, близко видится конец тяжкой войны! В стрелковых и танковых дивизиях, артиллерийских частях, выдвинутых к Одеру и расположившихся в лесах и фольварках по правобережью, тоже всеобщее желание поскорее начать последнее сражение. Каждый воин, конечно, понимает, что он может и не дойти до Берлина, не дожить до светлого победного дня. Но такие мысли лишь изредка закрадываются в сознание воинов. Прошедшие через все круги ада, обстрелянные, опытные, большинство с нашивками за ранения, за пролитую свою кровь, солдаты и офицеры теперь знают хорошо, как надо умело воевать. Поэтому в боях на последних этапах было значительно меньше потерь, чем в первые годы. Да и технических средств стало у нас в изобилии.
Одним словом, царил в нашей армии наступательный дух… Когда же, когда начнется последнее наступление? Даже всезнающие штабные шоферы не могли ответить на этот вопрос. Не мог мне сказать ничего интересного в этом отношении и тот водитель, который вез меня в дивизию, расположившуюся в районе Аннаберг-на-Одере, на правом нашем фланге. Вспомнил я Виктора Чемко, он остался в Ленинграде. Он бы, наверное, что-нибудь сообщил важное! Да, теперь и мы, политотдельцы, уже не ходили, а разъезжали! Трофейных легковых машин и мотоциклов было сколько угодно. И вражеской авиации опасались мало. Все же однажды, когда поехали мы с майором Фурманом из Глейвица, вывернулся из низовых облаков «мессер» и — что очень редко теперь случалось — стал охотиться на нашу машину и две идущие впереди полуторки. Вспомнил фриц сорок первый, когда за коровами даже гонялся. Заходил он и обстреливал нас раза четыре… Когда же улетел и мы выбрались из кювета и подошли к своему «вандереру», он оказался простреленным в нескольких местах. Причем пулей крупнокалиберного пулемета был разбит картер мотора. Ну что ж! Спихнули мы «вандерер» с шоссе и стали «голосовать». На попутной добрались до расположения штаба какой-то дивизии и без зазрения совести попросили у начальника тыла «взаймы» какие ни на есть «колеса». И он сразу же согласился:
— Берите любую машину, кроме «опель-адмирала» и «хорьха», — их комдиву надо показать, может, он возьмет.
…В дивизии, что стояла в районе Аннаберг, в поселке среди садов, меня пригласили прочитать лекции о «текущем моменте», о международном положении и положении на фронтах. Первая лекция была у артиллеристов. Обычно я бегло знакомил слушателей с тем, что происходит в мире, а затем на карте Европы показывал, как идут дела на фронтах — наших и союзников… Карта эта сохранилась. Она — одна из моих личных реликвий Отечественной войны. Лекции я стремился не растягивать и потом побуждал слушателей задавать побольше вопросов. Так поступил и на этот раз. Вопросов было много. Запомнился один. Старшина, командир орудия, статный усач, под стать усачам полка Кузнецова, с орденом Красной Звезды и тремя медалями, спросил:
— Вы какой дорогой к нам ехали?.. Значит, мимо заводов… Так вот объясните, почему эти заводы за два дня, как мы сюда пришли, авиация союзников разбабахала в дым?
Большие заводы, не военные, нет, а, кажется, сельскохозяйственных машин, действительно были превращены в дымящиеся еще руины, в хаос исковерканных металлических конструкций, в груды кирпича и щебня. Бомбежка «по квадратам», эшелонами была осуществлена здесь сотнями самолетов всего за два дня до прихода наших войск. Военно-тактического смысла в ней не было никакого. Ведь союзники знали, что в считанные дни мы выйдем к Одеру. Очевидно, у тех, кто планировал налет, был другой замысел. Какой же? Явно — недружественный по отношению к нам, к Советской стране. Явно — они не хотели, чтобы нам достались заводы. Но ведь нельзя же возбуждать неприязнь к союзникам накануне победы! Тем более что в недавнем прошлом весь советский народ возмущался: США и Англия оттягивали и оттягивали срок открытия «второго фронта»! Ведь у нас понимали, что хотели они, чтобы побольше пролили крови, понесли потерь русские… Пришлось мне ответить старшине уклончиво: возможно, что союзники были неправильно осведомлены о характере производства на этих заводах, думали, что они изготовляют вооружение…
Старшина покрутил головой, ответ его не удовлетворил. Может быть, он и продолжал бы допытываться более определенного, но прибежал вестовой от командира дивизиона и сказал, что меня срочно требуют в политотдел.
Мне очень не хотелось возвращаться в «тыл», я любил беседы в частях. Однако приказ есть приказ…
Мы ехали обратно другой дорогой, через ухоженные леса. Сгущались сумерки. Было тихо и по всей линии передовой. Лишь под Аннабергом погромыхивало — началась редкая артиллерийская перестрелка…
— Автомат приготовьте, товарищ капитан, — сказал шофер. — Здесь в лесах еще фрицев немало.
Я и сам знал это. Иногда даже целые подразделения немцев оставались позади наших передовых частей. Но, как правило, они и не думали вести партизанских действий и в конце концов выходили на дороги и сдавались первым попавшимся советским солдатам. Так что особой опасности ехать лесным путем не было. Все же «береженого бог бережет», и я приготовил к бою свой ППШ, шофер тоже.
Докатили мы с ним до Эренфорста без приключений. Здесь я узнал, что через несколько минут соберется совещание политработников всех соединений, входивших в нашу армию. Оно готовилось уже несколько дней, и вдруг собрали его срочно.
— Значит, скоро наступление, — говорили мы между собой, направляясь в зал дворца, где должно было состояться это совещание.
На импровизированной эстраде за стол сели трое — член Военного совета Лебедев, начальник политотдела и незнакомый полковник, видимо из политуправления фронта. Он и докладывал. И ничего, ни слова, не сказал о сроке начала готовящегося наступления! Говорил он много, складно и… неинтересно! Главным образом обо всем известном. О поддержании боевого духа в частях, необходимости усиления политико-воспитательной работы, о том, что отдельные случаи нетактичного обращения с местным населением имели место там-то и там-то и что таких случаев не должно быть…
А кто же из нас не знал указаний Верховного Главнокомандования, партии, что мы, армия-освободительница, не можем и не должны скатиться до варварской мстительности! Что лозунг: «Убей его», оккупанта, заменился лозунгом: «Если враг не сдается, его уничтожают», а если поднял руки — он военнопленный человек!
Сообщил наш докладчик, правда, кое-что новое. О тех соединениях и частях, которые придаются армии, и о положении союзников, которые наконец справились с недавним жестоким поражением в Арденнах и начали помаленьку выправлять положение на своем «втором фронте». Сообщил он нам и о том, что во время битвы в Арденнах Черчилль умолял товарища Сталина начать активные действия на Восточном фронте, чтобы «спасти» своих союзников. Именно поэтому ранее намеченного срока началось наше зимнее наступление на многих фронтах в январе.
Такие общие доклады вопросов обычно не возбуждают. Так и на этом совещании. Задали слушатели докладчику два-три и замолчали. Закрывая совещание, начальник политотдела сказал:
— Все свободны. Остаться майору Ацаркину и капитану Сытину.
Николая Александровича Ацаркина, бывшего редактора армейской газеты, почему-то в зале не оказалось. То ли он улизнул незаметно, заскучав на докладе, то ли вообще отсутствовал на совещании. Я подошел к столу с начальством. Лебедев встал, сказал: «Пойдемте со мной» — и направился в коридор.
Он молча шел впереди, и походка его выдавала усталость. Вообще вблизи он выглядел осунувшимся, даже постаревшим, точно недавно вышел из госпиталя.
В своем кабинете — большой, светлой и пустой комнате — он сел, приказал подать чаю и спросил, как всегда в начале разговора:
— Как здоровье? Как настроение? В частях давно были? — И, выслушав ответы, сказал: — Товарищу майору Ацаркину и вам Военный совет решил поручить обобщение партийно-политической и воспитательной работы в армии за период и обороны, и наступательных ее действий. Надо изучить документы, имеющиеся в Военном совете и Политотделе по этим вопросам, и написать документ об опыте ведения такой работы — от роты до политотдела армии включительно. Опыт ведь у нас накопился немалый. Верно? Причем в двух разрезах: в обороне и в наступательных операциях. Нашей армии ведь не приходилось отступать… Срок задания не определяю. Познакомьтесь с материалами, доложите план, установим… Ясно?
— Ясно, товарищ генерал. Разрешите вопрос?
— Спрашивайте.
— На днях начнется наступление… Мне не хотелось бы… в тылу. Мне думается, для меня найдется дело в частях…
— А откуда вы знаете, что наступление начнется «на днях»? Кто сказал? — резко прервал он меня вместо ответа, и на его губах появилась жесткая усмешка. — Ванек-шоферок сказал? Когда будет приказ, тогда и начнется…
Потом, как и не один раз раньше, после «официальной» части разговора, Лебедев подобрел лицом, немного как-то расслабился в кресле и спросил:
— Здоровье, говорите, ничего? Рана не беспокоит? И настроение бодрое? А как с «Синей птицей»? Продвигается дело?
«Синяя птица» было название задуманного мной еще на Волхове, когда стояли мы в обороне, романа о мужестве советских воинов, их подвигах в борьбе за обретение счастья для людей. Я начал его писать и отрывки читал командующему, Ивану Терентьевичу Коровникову, и ему, Лебедеву.
Теперь, в «неофициальной» беседе, его можно было называть по имени-отчеству.
— Петр Семенович! Написал, к сожалению, мало… И видимо, лишь после войны возьмусь за «Птицу» эту как следует.
— Хорошее дело задумали. Ловите свою «Синюю птицу». Поймаете — подарите книжку, не забудете? Кстати, вот чтобы не забыт был наш опыт в войне, тебе и дано поручение, о котором сказал… Да… Войне скоро конец… Будет мирная жизнь, — мечтательно глядя в окна, за которыми догорал светлый закат, продолжал Лебедев. — Фашизма больше не станет на земле. А капитализм пока ведь останется. Нам, советским людям, коммунистам в первую очередь, придется быть готовым к другим авантюрам. И много трудиться. Подумать страшно, сколько разрушено на родине, сколько надо залечить ран в народном хозяйстве и народной душе! Много трудиться, — повторил он, — много сил положить на это… И щит против любого врага сохранить — армию. Верно? И научить эту армию мирного времени всему тому, чему мы научились в Великой Отечественной войне. Желаю успеха! А когда начнется наступление, отзову, обещаю. Продолжите дело для будущего после окончательной победы. Помещение для Ацаркина и твоей работы вон там выделено, в домике на опушке…
Он указал рукой на окно, потом протянул ее мне.
Я вышел из дворца Эренфорста в теплый вечер, под первые звезды, загоравшиеся над темными еще, голыми деревьями, с двойственным чувством. Меня, по правде сказать, не очень прельщало зарыться в бумаги, выискивать среди донесений, политинформаций, протоколов, оперпланов нужные материалы, систематизировать их, связывать мыслью, суммировать как коллективный опыт… Мне думалось, что мы, политработники, приносили и приносим пользу в войсках главным образом непосредственно — словом, разъяснением, советом, иногда контролем… В то же время то, что сказал Лебедев о будущем использовании опыта войны, было бесспорным. И если малая толика моего личного труда над обобщением этого опыта нашей 59-й армии поможет хотя бы чуточку будущим командирам и политработникам Советской Армии в мирное (какое чудесное слово!) время, нужно по правде счесть, что ты, литератор, не зря прошел дорогами кончающейся войны.
Надо вспомнить, обобщая опыт, думалось мне, не только о планах политработы, об их выполнении, о различных ее формах и методах, но и о политработниках нашей армии. Их жизни и труде на войне. О комиссаре дивизии Дмитриеве, посмертно удостоенном звания Героя Советского Союза. Он погиб тогда, тяжкой весной сорок второго, когда наша армия обеспечивала выход из окружения через Мясной Бор на Волхове Второй особой армии, преданной сволочью Власовым. И еще о комсорге батальона, славном парне, знаменитом снайпере Феде Харченко, тоже посмертно удостоенном звания Героя. И еще… О многих надо вспомнить! В том числе обязательно о газетчиках, военных корреспондентах, самоотверженных летописцах героики воинов. И о Чемко, отважном человеке, столь часто помогавшем солдатам своими жизнерадостными байками. В общем, о многих, многих друзьях однополчанах…
Спасибо Леониду Ильичу, сказавшему нужные слова о политработниках в книге «Малая земля».
«ГДЕ ЖЕ ВЫ ТЕПЕРЬ, ДРУЗЬЯ ОДНОПОЛЧАНЕ?»
После победы штаб нашей 59-й армии стоял в тихом городке Глаце. Быстрая горная речушка бежала через него, неумолчно шелестя струями о камни. Цвели липы на узких улочках. Пели соловьи в заросшем парке. Старинная цитадель, нависшая над домами, говорила о прошлых, всегдашних войнах между империями, королевствами, княжествами, герцогствами и так далее за свое господство над другими империями, королевствами, княжествами, герцогствами и так далее…
Несколько домов Глаца занимали штарм, его отделы и службы. А кругом обитали прежние жители — немцы. Правда, молодых мужчин среди них было маловато. Рейх призвал в конце войны в свою армию все возрасты «под метелку», ну, а солдаты его теперь сдались в плен нам или бежали в плен к американцам. Кое-где еще на стенах домов Глаца сохранились трафареты геббельсовских призывов: «Едер цен» — «каждый десять» должен был убить немец русских, чтобы спасти гитлеровский рейх. Трафареты аккуратно соскабливали или закрашивали сами жители — пожилые дяди и тети, аккуратно одетые, вежливые и… пожалуй, даже доброжелательные! Поняли наконец — враньем оказалась пропаганда, что советские воины режут, насилуют, грабят, рушат, жгут…
— Очень вежливые у вас солдаты, господин офицер! — сказал мне старый парикмахер, открывший свое заведение через несколько дней после того, как мы обосновались в Глаце. И добавил: — Я, извиняюсь, воевал против русских в ту войну. Совсем другие стали русские солдаты.
— Лучше, надеюсь?
— Другие… — повторил он.
В этом городке и закончили мы с подполковником Ацаркиным выполнение поручения Военного совета. «Сводка» опыта партийно-политической работы в армии была перепечатана, на солидной стопке страниц поставлен гриф «секретно», и труд наш ушел от нас навсегда, зажил своей жизнью…
С тех пор прошло более тридцати лет.
Каждый год Петр Семенович Лебедев под Новый год звонил и спрашивал:
— Как здоровье? Как настроение? — и желал успехов и всего лучшего…
Звонил, конечно, не одному мне, а многим своим однополчанам, бывшим работникам штарма и политотдела, — наверное, всем, кто жил и живет в Москве. А в последние годы мы с ним стали встречаться. Однажды он сообщил, что вышел в отставку, но работает в Советском комитете ветеранов войны, и пригласил зайти…
У Кропоткинских ворот, второй от угла дом по Гоголевскому бульвару, — небольшой, старый, зеленоватого цвета особняк. Кто, войдя в его тяжелые дубовые двери, хоть раз побывал в нем теперь, знает, что в этом доме не встретишь мужчин моложе пятидесяти. И нет здесь привычного учрежденческого шума и движения. Здесь звучит эхо войны. Здание это занимает Советский комитет ветеранов войны. Во главе с прославленным полководцем генералом Павлом Ивановичем Батовым. Однако все же совсем не тихая обитель наш комитет! Постоянно здесь собираются в штатской и военной одежде немолодые люди, чтобы обсуждать былые походы, чтобы встретиться с однополчанами или добыть адрес затерявшегося (жив ли?) фронтового друга. Кроме того, ветераны войны приходят сюда выполнять нужную, я считаю, очень нужную, для людей общественную работу. Советский комитет ветеранов войны и Советы ветеранов фронтов, армий, некоторых соединений и частей, все они, эти организации, сообщества былых воинов, помогают товарищам в минуту жизни трудную. Кому получить лучшее жилье. Другому — путевку в санаторий. Да мало ли какие нужды бывают у людей в старости. И еще — все комитеты ветеранов участвуют в воспитании пришедших на смену поколений в духе патриотизма. Тысячи встреч проводят они со школьниками и молодыми воинами, рабочими и колхозниками… Помогают создавать в школах музеи воинской славы.
…В доме на Гоголевском бульваре я легко нашел Лебедева: его знали тут все. Маленький кабинетик Петра Семеновича был во флигеле. Стол, железный шкаф, несколько стульев. В окна смотрят ветви молодых лип.
Петр Семенович, конечно, постарел. Морщины расходятся от глаз. Суше стал небольшой рот. Немного скованные движения. Но взгляд его молод, испытующ, энергичен.
Мы обнялись… Теперь уже нет «дистанции» между нами! Первые слова его доброжелательны и сказаны тем же немного требовательным топом, как будто он обязательно хочет услышать в ответ только «хорошо»:
— Как здоровье? Как настроение?
— Я пригласил вас вот по какому вопросу, — говорит он после того, как мы обмениваемся взаимной информацией о здоровье, о работе, о семьях. — Есть предложение создать Совет ветеранов нашей 59-й армии. Точнее — управления армией, политотдела, редакции газеты «На разгром врага», обслуживающих подразделений. Без ветеранов дивизий. Дивизии менялись. Верно? Согласны принять участие в инициативной группе?
Я соглашаюсь. За прошедшие годы как-то растерялись друзья и товарищи по фронту. Встречаться пришлось с немногими. Да и из их среды немало уже ушло из жизни…
— Отлично, — кивает Лебедев и, как бы угадывая мои мысли, говорит: — С каждым годом нас становится все меньше. Вот и командующего, Ивана Терентьевича, похоронили… Начальника политотдела помните, Королева? Тоже. А мы, пока живы, пока силы еще есть, должны помогать партии. Верно?
И он рассказывает о работе, которую выполняет Советский комитет ветеранов, о том, что делает его отдел агитации и пропаганды, которым он руководит… А я думаю об однополчанах, с кем был более чем с другими близок.
Капитан Саша Чернышев живет в Куйбышеве, пенсионер. С ним у меня постоянная переписка. Николай Александрович Ацаркин живет в Москве, профессор, видимся с ним редко. Майор Василий Пахомов теперь пенсионер. Одно время заведовал отделом горкома партии. Тогда встречались часто. Полковник Ким Демин живет в Ленинграде, совсем не встречались с ним, хотя мне он нравился…
Нет Виктора Чемко… После окончания войны, вернувшись в Москву, я разыскал его. Адрес он, рассказывая свои байки, давал точный. Улица Горького, 19. Там он жил в небольшой мансардной квартирке и умер там в одночасье. Нет поэта Чивилихина…
Я слушал Лебедева, его чуть-чуть хрипловатый голос. Он говорил, как всегда, отрывистыми фразами, чисто произнося каждое слово, так, чтобы всем было понятно, все услышали хорошо, что он высказывает. Слушал, вспоминал, как давным-давно, в историческом прошлом уже, Виктор Чемко назвал нашего члена Военного совета армии «прочным человеком». Очень точно назвал! Да, прочный человек, настоящий коммунист, солдат с большой буквы Петр Семенович Лебедев. Был им и остался. Доброго ему здоровья на многие годы…
Да и сам Виктор Чемко был того же цельного закала человек. Прочный…
…Я выхожу из Советского комитета ветеранов войны с радостью и грустью. Вспоминается песня: «Где же вы теперь, друзья однополчане?» Песня радостная — война-то кончилась, Победа! И грустная… Иных уж нет, а те далече…
В окнах особняка на Гоголевском бульваре солнечные блики. У остановки троллейбусов веселая стайка молодежи. Девушки в светлых плащах, джинсовых куртках.
Девушки у нас уж больно хороши…Яростно щебечут воробьи в зазеленевших липах бульвара. Красные флаги на столбах светильников и домах еще не убраны после Первомая, ждут они праздника Победы. В тридцать… раз…
Я останавливаюсь и окидываю взглядом особняк.
А когда, скажем через десять лет, будет отмечен этот день в сорок… раз? Тогда… будет ли здесь жить Комитет ветеранов? Наверное, уже нет… Ну и что ж. Ну и хорошо, славно. И только лишь бы он не воскрес когда-нибудь в более далеком будущем…
ДОМИК НА ОКРАИНЕ МЕХУВА
— Ну что ж, — сказал майор Арефьев, когда почти совсем стемнело, — пожалуй, можно немного и отдохнуть. Пойдемте, что ли, в этот крайний дом. Попросим приюта до утра. А вы, капитан, командуйте. В случае чего ко мне вестового… Привет!
Арефьев откозырял, круто повернулся и зашагал, высокий и сильный, напрямик к смутно видневшемуся строению у въезда в маленький польский городок. Еле волоча ноги, спотыкаясь о какие-то низенькие кустики, я последовал за ним. Неглубокий, днем набухший водой, а сейчас подмерзший снег громко хрустел под подошвами моих сапог.
Дом на окраине Мехува казался нежилым. Окна закрыты ставнями, труба не дымит… Однако на стук нам открыли сразу же. Невысокий сухой старик в очках гостеприимно пригласил войти и представился учителем музыки Вишневецким.
— Прошу, панове… Однако зимно в нашей мешкане, — смущенно сказал он, когда мы попросились на ночевку.
Говорил он по-русски неплохо, лишь изредка вставляя польские слова.
В комнате, куда мы вошли из небольшой передней, действительно было прохладно. Ее, наверное, не топили уже несколько дней. Это была, очевидно, столовая и гостиная вместе. Середину ее занимал большой круглый стол под узорной скатертью с кистями. Вокруг него несколько венских стульев. Небольшой рояль поблескивал черным лаком в углу у зашторенного окна, а рядом с ним распласталась низкая тахта с горкой причудливой формы подушек. В слабом свете крошечной пятилинейной керосиновой лампочки, которую держал хозяин, на стенах можно было различить темные портреты в темных рамах. И большое темное распятие.
— Если разрешите, мы здесь и устроимся, пан, — кивнул головой в сторону тахты Арефьев. — Вы уж извините за вторжение. — И тяжело опустился на стул.
Вишневецкий протестующе вскинул руку:
— Ну разве тут можно, панове! Разве можно! Прошу на спальню. Прошу не обидеть…
Мы не смогли воспротивиться настойчивым уговорам и прошли в соседнюю комнату.
Я плохо помню, что дальше было… Да, мы скинули шинели, сапоги. Сняли с широкой кровати и свернули перину вместе с простынями, как ни протестовал хозяин, и поставили тюк стоймя в сторонке, у зеркала. Потом легли, кажется, поперек постели, накрылись шинелями и… Вот так спят «как убитые»! Ох, как хотелось тогда отдыха!
…Уже несколько суток наша 59-я армия наступала с Сандомирского плацдарма. Вначале противник оказал серьезное сопротивление. Затем стал откатываться, лишь кое-где оставляя заслоны и группы танков, которые вели с нами короткие и ожесточенные арьергардные бои. Эти стычки, опрокидывание засад, отражение танковых наскоков и непрерывное, днем и ночью, движение вперед и вперед по разбитым, раскисающим днем и скользким, схваченным ночными заморозками дорогам выматывали силы наших солдат. Командование армии понимало это и каждую возможность использовало, чтобы дать хотя бы короткий отдых то одной части, то другой.
Сегодня утром танковый батальон соединения Рыбалко и передовой полк стрелковой дивизии, поддержанный дивизионом ИПТАПа[16], как писали в то время в военных корреспонденциях, после ночного марша «с ходу ворвался» в польский городок Мехув.
Для довольно сильного заслона, оставленного в нем противником, это было неожиданностью. Все же немцы попытались защищаться: Мехув расположен недалеко к северу от древней польской столицы Кракова и, очевидно, должен был прикрывать фланг ее линии обороны.
Но наши танки, войдя в город, разрезали заслон и заняли центральную площадь города. Отсюда они держали под огнем своих пушек и пулеметов сходящиеся к площади несколько улиц. Это облегчило задачу пехоты, и к полудню примерно почти весь Мехув был освобожден.
Трудно передать то чувство, которое испытываешь, когда идешь по земле, только что отвоеванной у врага. Оно радостно, но оно и всегда с примесью горечи. Руины… Пожарища… Мертвые тела…
Мехув в центре почти не пострадал. Лишь несколько зданий вдоль главной улицы были повреждены. Кое-где дома горели, и характерный едкий запах дыма, смешанного с пороховыми газами, наполнял воздух.
У перекрестка неподалеку от главной площади (наши танки только что покинули ее и пошли на западную окраину городка, где еще стреляли) я увидел Анатолия Чивилихина, поэта-ленинградца, прикомандированного к редакции нашей армейской газеты «На разгром врага».
Анатолий стоял, прислонившись к витрине магазина, и смотрел куда-то поверх остроконечных крыш, в серое небо. Обветренные губы на его сухощавом нервном лице шевелились. Как и многие поэты, он конечно же «проборматывал» новые стихи. Взвизгнув, неподалеку упала и звонко лопнула шальная мина. Просвистели осколки, зацокали о стены. Зеркальная витрина за спиной Чивилихина раскололась. Он инстинктивно отпрянул в сторону, увидел меня и чертыхнулся.
— Чего идете как по бульвару? Эта сторона опасна при обстреле. — И улыбнулся. — Хороший городок. Тихий.
Мы поздоровались. Рука Чивилихина была горячей и влажной. И глаза его, воспаленные, затуманенные, говорили, что он нездоров и беспредельно устал.
— Плохо себя чувствуете?
— Шутить изволите?
Внутри магазина послышались голоса. Мы обернулись. В дверях, ведущих в небольшой торговый зал с пустыми полками, стоял человек в пальто. Голова его была закутана в женский пуховый платок. Он настороженно смотрел на нас. За ним мелькнула еще одна фигура.
— Дзень добрый, пан! Салют! — сказал Чивилихин, приветственно поднимая руку, и пошатнулся.
Я поддержал его. Сначала подумалось — он ранен, зацепило осколком мины. Но ранен он не был, просто обессилен, и ему нужен был теперь хотя бы короткий отдых. Я втащил его через пролом в витрине в магазин и попросил человека с платком на голове дать приют советскому офицеру до вечера. Тот провел нас в небольшую комнату за магазином и помог мне уложить Чивилихина — он уже спал — на кожаный диванчик.
Потом я сказал, что моего товарища надо будет разбудить часа через два-три, поблагодарил и стал прощаться. Пан придержал меня за руку.
— Герман приде еще? — спросил он и запричитал: — Приде — шиссен… Вшиско… Матка боска…
— Не придет гермаи. Никогда не придет.
Он недоверчиво улыбнулся.
— То может так?
— Так, так. До свидания. Дзенькую барзо.
— Довидзеня, пан офицер.
На площади уже стояли «эмки» и радиофургон штаба дивизии. Увидев меня, знакомый подполковник Тюфяков, начальник оперативного отдела штаба армии, подошел и сказал:
— Ты знаешь, взять Мехув, — это очень важно. Теперь ударим на Краков и с фланга. Сейчас возвращаюсь на КП Коровникова. Вот только скажу комдиву — он куда-то вперед проехал, никак не догоню, — чтобы дал небольшой отдых частям. На преследование пойдут другие. А ты как? Хорошо?.. А это что? Зацепило? — И он ткнул пальцем в рваную дырку на рукаве моей шинели.
— Да нет. Только порвало, видно, осколком. — Я сам только сейчас увидел эту дырку.
— Ну, довидзеня, как здесь говорить положено. Ты куда? Подвезти, может?
— Дзенькую, пан майор! Мне пока надо побыть здесь. Найти иптаповцев…
— Они должны занять оборону на южной окраине Мехува. В тылу у нас ведь, сам знаешь, образуется «слоеный пирог». Есть группы фашистов. Несколько их танков бродит. Могут набедокурить… Ну, прощевай, Виктор.
Я пошел к окраине Мехува. Тихие улочки. Одноэтажные домики. Палисадники. Людей в штатском не видно Жители еще в шоке. Еще не уверены: может, скоро «герман» вернется? Да и, по правде говоря, многие, видно, побаиваются нас, «диких, кровожадных безбожников». Так ведь многие годы изо дня в день называли советских солдат газеты и радио оккупантов. И все же нет-нет отодвинется занавеска в окне и тебе помашут приветливо. Выскочил из калитки мальчишка, глаза сияют, и кричит: «Виват, пан русски жолнеж!»
Дивизион майора Арефьева расположился отлично, занял блиндажи и окопы полного профиля фашистской обороны на склоне невысокого холма, за которым лежала заснеженная долина. Далекий гул орудийной канонады доносился сюда с юга, где был Краков.
Разбудил меня орудийный выстрел, ударивший где-то совсем недалеко. Я быстро поднялся, подбежал к окну, отдернул штору. Голубоватый полумрак потек в комнату, и сразу стало холодно. Неужели все же подошли немецкие танки?..
— Это не мое. Это зенитка, — проворчал, не вставая с постели, Арефьев. — Однако уж утро… — Он сладко зевнул. — Эх, и хорошо же отдохнули! С самого Жешува не спал как следует. Все туда-сюда — то боем командую, то по штабам езжу, то маршруты проверяю, позиции разбиваю… Понимаешь ли, — он вдруг перешел на «ты», — если бы не зам мой, капитан белобрысый, если бы не он, весь дивизион уже давно бы вышел из строя от усталости. А он — голова! Пока я, значит, туда-сюда, он людей разделит — одни службу несут, другие баклуши бьют… Хо! Даже стихами заговорил… Вот как славно отдохнули!
Арефьев зажег сигаретку и продолжал:
— А знаешь, что такое баклуши?
Я попытался вспомнить:
— Кажется, из них ложки, из баклуш этих, делают…
— Верно. Только выражение «бить баклуши» пошло от другого — от инструмента баклуши, вроде литавр. Ну что ж, подъем, пойдем на КП, там чайку попьем, и, наверно, приказ скоро придет дальше топать. Только нужно вот пана поблагодарить. Пан-то, видать, славный. И моей бывшей, в давно прошедшем — плюсквамперфектум — времени, специальности. Я ведь перед тем, как инженером стать, в консерватории учился. Голос был. Простудился — пропал…
Арефьев замолчал и стал подниматься.
Мы причесались перед зеркалом, оправили гимнастерки, надели шинели.
Арефьев открыл дверь в соседнюю комнату и остановился на пороге в нерешительности.
— Поди сюда, — поманил он меня рукой. — Посмотри — картина!
В гостиной-столовой точно только что отбушевала бумажная метель. На полу, на тахте, на столе в беспорядке лежало множество прочерченных вдоль белых листов.
— Ноты, — прошептал Арефьев. — Ноты… А он живой ли?
Пан Вишневецкий, откинув в сторону острые локотки, полулежал на столе. Его седые, пышные еще волосы отражались в черном лаке рояля. Старик крепко спал.
Я споткнулся обо что-то и разбудил его.
Вишневецкий засуетился, стал извиняться, сказал, что сейчас разбудит пани и она приготовит кофе, правда, эрзац, настоящего они не пили четыре года, как «герман пришел и вшиско забрал» в городке и во всей Польше. Я попросил его не беспокоиться и, конечно, не будить пани. Но она тоже уже проснулась и, кутаясь в шаль, выглянула из дверей. Она была маленькая, худая и тоже седенькая.
В мешкане была еще одна комнатка, наверное, детская: за спиной старушки я увидел этажерку и на ней большого плюшевого медведя.
— То моя жена Геленка… — представил пани Вишневецкий. — Прошу, Геленка, каву русским офицерам…
Мы снова стали отказываться. Тогда пани, обнаружив дырку в рукаве моей шинели, предложила ее заштопать. Тут уж я не мог воспротивиться и стянул шинель.
Арефьев тем временем поднял с пола несколько листов и задумчиво стал их разглядывать.
Вишневецкий, заметив это, засмущался.
— Так то неудачно, нехважно! — сказал он, отбирая ноты у Арефьева. И, помолчав, немного, добавил тихо: — Презент. Подарок вам, панове, всем русским жолнежам, готовил. Гимн победе в эту ночь хотел сочинить…
— Давайте сюда ноты, — вдруг оживился Арефьев, — я его спою. Так, без слов…
Вишневецкий посуровел, подобрался и откинул крышку с клавиатуры рояля.
— Проше пана… возьмите други вариант. Сильней он звучит в моей душе.
…В полутемной, холодной комнате дома на окраине польского городка, освобожденного лишь несколько часов назад, зазвучали торжественные аккорды. С ними слился хрипловатый, но еще мощный баритон. Стало вздрагивать пламя в крошечной лампочке. И вместе с ним сильнее забилось мое сердце.
Пани Геленка украдкой утирала слезы.
Во входную дверь сильно постучали. Запыхавшийся вестовой передал майору Арефьеву приказ немедленно выступать. Дальше на запад…
ДРУЗЬЯ ПИСАТЕЛИ
ЯБЛОНИ
Прохожие останавливались у ограды. Смотрели. Переговаривались:
— Артисты… Из кино… Сажают чего-то…
Старушка в платочке. На лице среди морщинок лучатся светлые, яркие и грустные глаза. Понятно — война была… Чью судьбу она не состарила? Кого она унесла у нее? Мужа? Сыновей?
— Яблони садют… Дай им бог… — говорит старушка и идет дальше, через не просохшие после первых майских дождей шоссе в сторону деревни Потылихи.
Узким клином над крышами и кронами деревьев там встает колоколенка церкви. Здесь заречный край Москвы.
За оградой — новые корпуса киностудии «Мосфильм». А дальше — простор. Лишь вдоль Воробьевского шоссе шагают на взгорбье Ленинских гор ряды лип.
Я тоже останавливаюсь у ограды. На пустыре несколько десятков человек — кто в военных фуфайках и гимнастерках, кто в пиджаках. Женщины почти все в вязаных кофтах. Да, они сажают сад. Весело работают. Смеются, неловко ковыряя землю лопатами.
— Та вон, в платочке пестреньком, Солнцева, — «Аэлита»… А та — Ладынина, — говорит остановившийся неподалеку от меня немолодой военный своей спутнице. — Других я что-то не узнаю.
Солнце проглядывает в разрыве облаков, день развидняется.
А кто же это стоит, опершись на лопату, сдвинув шляпу на затылок? Такой чистый, ясный лоб. Седые волосы на висках. Радостная улыбка. Он как будто руководит работами. Иногда поднимает руку, что-то кричит негромко. Голос у него глуховатый, мягкого, теплого тембра.
Сильнее запахло прошлогодней листвой и сыростью. Засверкали неповторимой весенней свежестью щетинистые травы и желтые звезды цветов мать-мачехи, И я вспомнил далекие студенческие годы.
…Яблоневый сад в набухших почках, такой же чуть пьянящий и грустный запах возрождающейся земли. Посвист скворцов. Кстати, в военные годы научились они там, где стоял фронт, свистеть, точно подражая мелодичному стону пролетающих пуль.
В саду — мы, группа студентов Воронежского университета. Мы приехали сюда, в Козлов, в знаменитый сад, в гости к Ивану Владимировичу Мичурину.
Сухой высокий старик водит нас от дерева к дереву, рассказывая их биографии. Как истории жизни людей. Голос у него немного скрипучий, точно говорить ему трудно, но мягкий, теплого тембра. А глаза то и дело вспыхивают. Потом мы сажаем несколько яблонь, груш, еще каких-то плодовых деревьев.
Я вспоминаю излюбленную Мичуриным афористическую фразу, сказанную им и тогда нам, и прочитанную потом в его трудах:
«Каждый человек может называться настоящим человеком, если он посадит хотя бы одну яблоню».
* * *
В мою служебную комнату в издательстве «Советский писатель» входит тот самый человек, который сажал сад у «Мосфильма» пять лет назад, в раннемайский день 1949 года. С ним темноглазая, пронзительно красивая женщина. Ее узнаю сразу — Юлия Солнцева, «Аэлита». Героиня фильма, который смотрел еще студентом много раз. Был он близок мне в те дальние годы. Стало быть, он это, Довженко!
— Довженко, — говорит вошедший. — А это моя жена — Юлия Ипполитовна.
Крепко жмет руку. Подвигает стул Солнцевой, садится рядом.
— Не сердитесь, мы пришли без предупреждения.
— Мы заходили к директору, товарищу Корневу, а его нет. Секретарша послала к вам, — дополняет Солнцева.
— Ну что вы! — Сам я никак не решаюсь сесть.
Довженко! Солнцева! Я знаком со многими деятелями литературы и искусства, в том числе и с теми, кто знаменит. Многие теперь мне товарищи, друзья. Но Довженко и Солнцева! Это же целая эпоха нашего киноискусства. Кто из моего поколения в двадцатые — тридцатые годы не волновался, стискивая пальцы в полумраке кинозала под бурную импровизацию тапера за роялем, глядя на марсианскую царицу, принявшую революцию? Кто не переживал драматические коллизии в довженковских лентах, одна за другой появлявшихся на экранах кинотеатров: «Звенигора», «Арсенал», «Земля», «Иван», «Аэроград» и, наконец, «Щорс»…
Разве можно забыть сцену похорон батьки Боженко? Бойцы щорсовцы несут на плечах по хлебному полю тело павшего героя гражданской войны. Эти кадры даже снились мне и тогда, и потом, в годы великой войны, когда, похоронив товарища, — а случалось такое нередко, — засыпал я тяжелым и тревожным сном в землянке или в холодной осиротевшей хате.
Уже после войны я дважды смотрел еще и довженковского «Мичурина», эту песню о борьбе за идеи всесветного яблоневого цветения. Помнится, как-то Александр Фадеев говорил, что есть в советской литературе и искусстве в рамках социалистического реализма направление революционного романтизма, и представителем оного назвал Александра Довженко.
— Мы пришли по поводу сборника произведений Александра Петровича, — начала разговор Солнцева. — Хотелось бы знать, как обстоят дела?
Мне, конечно, было известно, «как дела» с этим сборником. По договору с нашим издательством Довженко представил рукопись. В нее входили сценарии «Арсенал», «Земля», «Щорс» и пьеса «Земля в цвету», написанная им одновременно со сценарием фильма «Мичурин». Сборник он прислал уже несколько месяцев тому назад, и его читали, как положено, рецензенты и члены редсовета издательства.
Первые отзывы были благоприятные, да и как могло быть иначе? По своему литературно-художественному уровню сценарии и пьесы Довженко были отличными. Но… в «деле» имелась своя «закавыка». Тогдашний директор издательства «Советский писатель» Михаил Корнев очень не любил, когда в план выпуска книг включались сборники пьес. Нет, он не отрицал, что драматургия — это своеобычный жанр художественной литературы. Однако относился к нему как-то настороженно. Кроме того, он, видимо, рассуждал еще как хозяйственник. Сборники пьес выходили тиражом всего в десять — пятнадцать тысяч экземпляров. А такой тираж не окупал расходов на издание, так же, как, скажем, малотиражные сборники стихов. В этих случаях убытки покрывались за счет доходов от печатания прозы. Корнев и высказал нам, главному редактору, критику Николаю Лесючевскому и мне, свое отрицательное мнение «по поводу» включения в план довольно объемного сборника сценариев Довженко. Причем одним из мотивов «против» был у него и такой (кстати, чуть ли не до семидесятых годов бытовавший в издательских и редакционных «сферах»): киносценарий — подсобный материал для режиссеров, и все равно они, как правило, на съемках его переиначивают, а посему это не «настоящая» художественная литература.
Лесючевский и я с этим и другими (например, экономическими) доводами директора не соглашались и стояли на своем: сборник произведений Довженко — настоящая художественная литература, его издать нужно — и были уверены, что в конце концов издание осуществится.
Конечно, я не имел право раскрывать нашу «кухню» и ответил Юлии Ипполитовне примерно так:
— Рукопись читается. Отзывы положительные. В скором времени состоится заседание редсовета издательства, и вопрос будет решен к нашему обоюдному удовлетворению.
Пока я говорил, Солнцева пытливо смотрела мне в глаза. А Довженко, казалось, и не слушал. Он сидел напротив огромного, чуть не во всю стену, окна и, видимо, любовался видом на центр Москвы с высоты почти «птичьего полета». В то время издательство «Советский писатель» размещалось на одиннадцатом, верхнем этаже одного из самых высоких тогда зданий столицы — в Большом Гнездниковском переулке. В этом здании когда-то была гостиница, а на «нашем» этаже — модный ресторан «Крыша». И с этой крыши открывалась действительно очень впечатляющая панорама Москвы.
День был прозрачный, солнечный, дали не затуманивались, и башни Кремля и купола его храмов реяли над крышами строений.
— Значит, вы уверены, что сборник напечатают? Александр Петрович, ты слышишь? — Солнцева мягко коснулась руки Довженко.
Он кивнул головой.
— Слышу… Конечно, слышу и очень благодарен… За внимание.
И вдруг как-то сразу он изменился. В светлых глазах уже не было созерцательного раздумья, в них мелькнули искорки. Утомленность с лица исчезла. Он повернулся всем корпусом, облокотился на стол и заговорил.
Почти всегда Довженко говорил так, что даже опытным стенографисткам приходилось туго. Нет, выражал он свои мысли не сумбурно, не витиевато, не перескакивая с мысли на мысль. Довженко говорил ясно, но удивительно! Мысль его, выраженная в точных и часто неожиданных словах, имела всегда как бы широкие крылья. Она неслась над миром, внезапно совершала повороты, отклоняясь от своего пути, и снова возвращалась в прямой курс полета.
Конечно, я не смогу сейчас точно передать именно его слова, а лишь суть того, о чем он говорил.
Довженко сказал, что совсем недавно видел такое же просторное небо. Оно покрывало степи за Новой Каховкой, где он побывал, набираясь впечатлений для нового сценария «Поэма о море». Он говорил, что в широких рамках именно поэмы можно и должно художнику рассказывать то, что люди совершают там, где началась стройка огромного гидротехнического сооружения на Днепре, а также и вообще о других творениях нашего народа.
— Я потрясен и очарован! Гимн людям и машинам нужен! — говорил Довженко. — Мне важно сейчас все свои силы собрать. А их не так уж много. Сердце, сердце плоховато стучит.
Потом Довженко рассказал коротко о содержании сценария своего нового фильма «Поэма о море».
— Александр Петрович хотел бы и этот сценарий включить в сборник, — сказала Солнцева, когда, видимо утомившись монологом, Довженко замолчал и устало наклонил голову.
— Да, да, сценарий почти готов. Впрочем, «почти» — это ужасное слово! Не люблю его. В нем чувство неуверенности.
Юлия Ипполитовна заметила, что Довженко устал. Ведь он, начиная с войны, часто страдал от сердечных приступов. «Сердечной недостаточностью» называли его болезнь врачи. Как ужасно алогично звучал этот диагноз по отношению к нему, великому художнику кино, сердце которого было огромно, как мир, полно доброты и страсти к борьбе за счастье людей…
Юлия Ипполитовна тронула Довженко за рукав:
— Пойдем.
И они ушли. А в моей маленькой служебной комнате долго еще незримо ощущалось их присутствие.
* * *
В углу нашей большой и темной — окна во двор-колодец — комнаты в доме на улице Мархлевского слева от двери стоял круглый стол. Над ним оранжевый абажур-юбка, модный в то время. Треть стола занимал продолговатый тяжелый ящик телевизора «Темп-2». Перед экраном приставная выпуклая линза с водой. По краям внутри ее стекла покрыты странным зеленоватым налетом. Экран голубовато светился. Но голос диктора еле различим, телевизор работает на самом малом накале.
Довженко размешивает сахар в стакане, вслушиваясь в информацию о программе передач на вечер.
Над чудесным, чуть выпуклым, чистым довженковским лбом густые седые волосы — светлый нимб на фоне мрачноватого, черно-красного ковра, повешенного на стенку шкафа, разделяющего комнату.
Юлия Ипполитовна там, на другой половине ее, шепчется о чем-то с женой.
— Это водоросли, — вдруг произносит Александр Петрович, — они живут в стеклянной тюрьме и благоденствуют. — И, указывая ложечкой на линзу, продолжает: — Меня еще хлопчиком поражала сила живого. Вы слышали, как растет трава? В апреле… В тихий день выйдите в тихий лес. И стойте неподвижно. И вы услышите шорохи, еле уловимое потрескивание и легкий-легкий звон. Это трава растет! Это нежные ростки пробиваются к свету, к солнцу. Сквозь сухие осенние листья. Через смерть — в жизнь.
«Он трав разумел лепетанье», — вспомнилось мне сказанное поэтом о Гёте.
Александр Петрович недолго молчит. Затем продолжает другим голосом, суховатым. Говорит буднично, точно сам недоволен переключением своей мысли на прозу:
— Вылейте воду из линзы и промойте ее раствором марганцовки.
И на лице его появляется и сразу же исчезает быстрая гримаса то ли недовольства, то ли досады.
— Хотел залить дистиллированную воду, но не мог достать в аптеке более двух литров, — сказал я, досадуя на себя, что не мог как-то продолжить беседу в ключе мыслей летящих.
А на экране телевизора тем временем появилась ведущая и объявила выступление какого-то ансамбля художественной самодеятельности. Довженко прибавил громкость.
Зазвенела лезгинка, и на сцене стремительно закружились грузинские танцоры, перетянутые поясами до невозможности.
Александр Петрович некоторое время смотрел на экран. Потом четко очерченные губы его дрогнули, скривились, и он сказал:
— Точно черные комары вьются! — отвернулся и стал пить чай.
Вот это и есть то, что забыть нельзя, что удивляет в речи Довженко, — неожиданность сравнения, яркая метафора, оригинальный образ…
Через несколько минут снова он произнес такое, чего забыть нельзя. На экране теперь танцевала группа какого-то областного ансамбля песни и пляски. С гиканьем и присвистом парни и девчата крутились-вертелись на сцене и топотали, топотали часто, дробно, сильно отбивая яростный ритм казачка, что ли…
— Виктор Александрович, — тихо сказал Александр Петрович, — может быть, выключим? Они так бьют там каблуками, точно земной шар хотят расколоть на кусочки. Мне жалко его!
Я щелкнул тумблером и зажег лампу над столом.
Довженко удовлетворенно вздохнул и снова принялся за чай. Мы заговорили на тему, которая его волновала в то время, пожалуй, не менее, чем сценарий «Поэма о море», — тему о завоевании космоса.
Он знал, что в довоенные годы я работал в области изучения стратосферы, помогал в какой-то мере, как заместитель председателя Стратосферного комитета, создателям первых ракет, «реактивщикам» — первопроходцам ракетной техники, встречался с Циолковским.
О «калужском мечтателе» Александр Петрович был очень высокого мнения, считал Циолковского человеком «впередсмотрящим», замечательным и необычным, и намеревался отобразить его идеи в том фильме, который задумал и над сценарием которого начал работать.
Снова не могу взять на себя смелость передать довженковские размышления точными его словами во время той беседы, в частности его мысли о сценарии «Полет на Марс» (потом этот сценарий назывался «В глубинах космоса»).
К счастью, эти мысли Довженко сохранились для истории. На Втором Всесоюзном съезде писателей Александр Петрович выступил с речью и в ней сказал о космосе, сказал пророчески и призывно:
«Извините, что начну разговор с самой высокой ноты. Как известно из высказываний крупнейших ученых человечества, в ближайшие сорок лет, то есть до двухтысячного года, человечество обследует всю твердь солнечной системы, которая предположительно в одиннадцать раз больше, чем твердь земного шара.
Почему человечество это сделает?
Потому, что пришло время это сделать.
Для чего? Какой в этом смысл?
Можно утверждать, что это нужно для развития человечества, что это новая, величайшая его сверхзадача. Но не потому, что человечество начало бы вырождаться, через тысячу лет или две тысячи лет, чего, конечно, не произойдет, а потому, что пришло время это сделать. И при жизни доброй половины нас, а может быть, 90 процентов, эта задача будет решена.
Что же, как не кино, перенесет нас зримо в иные миры, на другие планеты? Что расширит наш духовный мир, наше познание до размеров поистине фантастических? Кинематография».
…Вспомните в связи с этим, что сказал Циолковский более чем за четверть века до того, как выступал на съезде писателей Довженко:
«Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет все околосолнечное пространство».
Великий художник воспринял величие идей Циолковского — основоположника, как теперь признано всеми, теоретической космонавтики. Воспринял и загорелся ими и со свойственной гению прозорливостью уверенно и убежденно сказал о близкой близости наступления космической эры в истории человечества.
И это еще один пример масштабности ума Довженко и огромности его сердца. Здесь он так же близок «калужскому мечтателю». Ведь побудительным стимулом к титаническому труду всей жизни Циолковского, почти с юных лет, была высокая идея сделать, изобрести, достигнуть в науке и технике того, что даст человеку «горы хлеба и бездну могущества»… Другими словами — зов его сердца.
Вспомните еще, что в первую половину пятидесятых годов труды «калужского мечтателя» были хорошо знакомы лишь специалистам, а популярность, известность его была во сто крат меньше, чем в наши дни. Поэтому тем более значительно и важно то, что высказал на съезде писателей Довженко…
…Не один раз еще приезжали к нам на улицу Мархлевского вечерами Александр Петрович и Юлия Ипполитовна «попить чайку», иногда поужинать и побеседовать неторопливо у выключаемого телевизора.
Тогда я не задумывался над тем, почему они тратили часы на это гостевание. И лишь теперь, оглядываясь в прошлое, нахожу возможный ответ. Этой замечательной супружеской паре художников кино нужно было иногда для души вырваться из круговерти профессиональных забот, сумятицы «Мосфильма», привычного круга друзей и знакомых. Да еще в период, когда не был решен окончательно вопрос о «запуске в производство» сценария «Поэма о море», когда и для других сценариев, над которыми работал Довженко, неясна была «производственная судьба». Я имею в виду сценарий «В глубинах космоса» и «Тарас Бульба». Простой его как кинорежиссера не мог не мучить такого взрывчато-деятельного человека.
Довженко отдыхали у нас немного. Однако думаю, что была еще одна причина их визитов в нашу довольно-таки запущенную «коммуналку»…
Известно, что Александр Петрович, разрабатывая в своих сценариях какую-либо тему, глубочайше «вгрызался» в нее, прочитывал множество книг, в том числе сугубо научных публикаций, беседовал с сотнями людей. Во время подготовки сценария «Щорс», например, он получил (и изучил!) тысячи писем от бойцов, знавших легендарного полководца…
Так вот, создавая сценарий для фильма о космических перспективах человечества, он, думается мне, не мог не добавить в свое знание специальной литературы по этой теме какие-то пусть очень малые, но «свидетельские показания» о человеке, впервые обосновавшем возможность полета вне Земли, — о Константине Эдуардовиче Циолковском, те, которые мог дать я, поскольку довелось мне встречаться и переписываться с ним. Почти при каждом свидании в ту осень и зиму Александр Петрович в беседах нет-нет да и спрашивал у меня о посещениях «калужского мечтателя», об обстановке в его доме, о тех или иных его трудах, в том числе философских, и т. д.
Беседы за ужином или чаем у нас, конечно, не ограничивались двумя-тремя вопросами. К сожалению, я не вел записей этих бесед, и многое из того, что говорил тогда Довженко, забылось. Запомнился хорошо, пожалуй, еще разговор о… модах! В то время трудный быт первых послевоенных лет уходил в прошлое. Людям становилось жить все лучше и лучше. Особенно в городах и особенно у молодежи появилось внимание к одежде, к своей внешности. Довольно многие парни, к примеру, стали носить брюки «дудочкой». Отращивали волосы. Называли таких «стилягами». Карикатуристы резвились, изображая этих парней. Даже на комсомольских собраниях их обсуждали и осуждали.
Мода же на узкие брюки тем не менее распространялась. Даже государственные швейные фабрики значительно сократили ширину штанин.
Как-то разговор о модах затеяли женщины. Александр Петрович не вступал в него, потихоньку посмеивался. И вдруг оживился и «разразился» тирадой.
Сказал он примерно следующее:
— Ругают «стиляг» за узкие брючки! Девчонок — за патлы. Да пускай они будут такими! Лишь бы душа у них была ясной и труда они не боялись. Вот если хлопец или дивчина неопрятны… тогда плохо. Внешняя неопрятность почти всегда выражает или порождает неопрятность духовную. Так я думаю. А что касается моды… то что же, естественно, одежда должна изменяться. Как все изменяется в жизни, в быту, в обычаях. Меня только смешит, когда говорят: мода — это проявление всегдашнего стремления человека к новому и личной свободе. Что мода одна из форм стремления к новому, согласен. А что это выражение свободы личности — чепуха. Как раз наоборот. И это не парадокс. Представьте себе: появится новая мода на… узконосые, неудобные — жмут пальцы — ботинки. Однако все, все начнут их носить. И что ж получится? Нивелировка, стандартизация, конформизм. Ограничение личности в рамках всеобще победившей моды! Нет, коммунизм такого не хочет! Каждому человеку он говорит: будь самим собой, светись своим светом на полный накал. И одевайся, как тебе нравится, чтобы настроение у тебя было хорошее… И радостней было жить.
Помолчав немного, Александр Петрович улыбнулся.
— Хотите новый анекдот про «Мосфильм»? Для разрядки. Вы знаете, как много там теперь выстроено новых корпусов? Так вот… Назначили на студию нового директора. Пришел он, посидел немного в кабинете и говорит: «Не люблю работать за столом, пойду посмотрю своими глазами, где что находится, а провожать меня не надо…» Ушел директор на прогулку по студии… И до сих пор его ищут! Да, есть на «Мосфильме» места, где еще не ступала нога человека!
* * *
Автострада на запад от Москвы, на Минск. На двадцать втором километре, под мигалкой, надо свернуть налево, на Переделкино. Узкое шоссе сначала идет через лес, потом по плотине большого запущенного пруда, мимо детского санатория-стационара и снова через лес — ельник и березняк — к поселку Мичуринец. У въезда в него первая дача — Довженко.
Молодые березки и кусты сирени у забора. Посыпанная песком дорожка ведет к небольшому бревенчатому дому. Справа и слева жимолость, жасмин, еще какие-то кустарники, клумбы с розами, далее яблони, куртинка вишенника. Деревья ухожены.
Александр Петрович в просторном парусиновом пиджаке встречает приветливо: «Милости прошу до хаты» — и ведет в большую комнату. За широкими окнами ее зеленый мир уже окутывают предвечерние сумерки. Юлия Ипполитовна расставляет посуду на простом столе из струганых досок.
— У вас званый вечер? Гости?
— Нет, друзья.
В сумерках лицо Довженко кажется совсем серым и очень утомленным. Все же в глазах непритворная радость. Думаю, потому, что сценарий «Поэма о море», уже режиссерский, наконец принят «Мосфильмом», и мне известно, что постановка фильма включена в план будущего, пятьдесят седьмого года.
Но у Довженко есть и еще одна радостная новость. Он ведет меня в следующую комнату и показывает номер журнала «Дніпро». В нем напечатана повесть «Зачарованная Десна», поэтическая повесть о детстве и юности самого Довженко.
— Тоже можно сделать фильм, — говорю я ему, листая журнал.
— Потом… Если сил хватит, — соглашается Александр Петрович. — Сначала «Поэма» и «Космос». Очень хочется о межпланетном полете спять ленту. Последнее время, правда, этим сценарием почти не занимался. Третий вариант «Поэмы» делал. А с сердцем бывает что-то худо.
Грохочущий рев. Даже стекла позванивают в окнах. Набирая высоту, над «Мичуринцем», поднявшись с Внуковского аэродрома, проносится новый реактивный самолет «ТУ-104». В то лето он вводился на воздушные линии.
Юлия Ипполитовна демонстративно закрывает ладонями уши, а Довженко смеется.
— Привыкать надо к грома́м рукотворным. Вот ракеты еще будут громче поднимать человека.
Когда рев «ТУ» стихает, становится слышен настойчивый сигнал автомашины.
— А вот и друзья!
Александр Петрович извиняется, что оставит нас на минутку, и идет встречать новых гостей.
Вскоре в столовую, свободно шагая, входит, как к себе, высокий, статный Борис Николаевич Ливанов, обнимает и целует хозяйку. Его великолепный баритон наполняет всю «хату». Затем появляется его жена, а потом, шутливо-настойчиво убеждая друг друга пройти в дверь первым, Александр Петрович с Иваном Семеновичем Козловским.
И становится шумно и весело в большой комнате.
Мне доводилось уже встречаться с Ливановым и Козловским. Борису Николаевичу меня представил год назад на премьере в Малом Михаил Царев, а с Иваном Семеновичем еще до войны познакомили Елена Николаевна Гоголева и Всеволод Аксенов. Жили они тогда в Пименовском переулке (ныне ул. Медведева), на втором этаже двухэтажного домика, в тесной квартирке. В окна ее стучались ветви молодых кленов и лип, и летом бывало довольно сумрачно. Радушие Елены Николаевны, ее «коллективизм» — всегдашнее стремление к общению с людьми и интерес к ним (не случайно Елена Николаевна стала впоследствии видной общественной деятельницей, многолетним председателем Центральной комиссии по культурному шефству над Советской Армией и Военно-Морским Флотом) — привлекали в их дом множество самых разных людей. На Пименовском у Гоголевой и Аксенова бывали и не столько, пожалуй, их товарищи, артисты, а ученые, литераторы, военные, путешественники. Ну, например, встретил я у них знаменитого полярника Ушакова, пионера нашей авиации Чухновского… Иван Семенович Козловский шутливо ухаживал за Еленой Николаевной и дразнил Всеволода. Аксенов «делал» безразличным свое скульптурное лицо.
За двадцать лет, прошедших с тех пор, Козловский, конечно, внешне изменился. Но в его облике были то же обаяние и красота зрелости. Глядя на него, я вспомнил первую давнюю встречу на Пименовском и снова почувствовал странное, радостное и немного грустное ощущение своей отдаленности от выдающихся людей, расположившихся за столом. Оно быстро прошло, это ощущение незримой дистанции перед талантом их, потонуло в непринужденной перекрестной беседе.
После ужина Александр Петрович потянул меня за рукав.
— Пока не совсем стемнело, хотите посмотреть мои яблоньки?
Мы вышли в сад. Стрекотали большие зеленые кузнечики. Пахли розы на клумбах по фасаду «хаты».
— Цветники — это любовь и забота Солнцевой. А вот моя — черноплодная рябина. Плодоносная чрезвычайно. Я привез саженцы из Мичуринского сада. Те яблоньки тоже. Посмотрите, как нынче обильна завязь!
Довженко осторожно нагибает ветвь, ласково касается кончиками пальцев сдвоенных, строенных, величиной с грецкий орех, плодов, еще темно-зеленых, с неотпавшими розетками коричневых, засохших околоцветий.
В сумеречном освещении лицо его молодеет, а глаза почему-то начинают светиться. Он улыбается. Радостно и грустно.
— Касаюсь их, и сердце волнуется, — произносит он тихо.
И потом вот так, как бы обняв яблоневые ветви, отягощенные будущим урожаем, он начинает говорить о том, что хотя каждый день подолгу сидит за столом над сценарием, тоскует о камере и съемках, о представляемых эпизодах и сценах еще не рожденного фильма.
— Очень много несделанного останется еще, — заканчивает Довженко довольно длинный монолог. — А может быть, так у всех? Быть может, всегда есть у каждого человека что-то несбывшееся? Помните, у Грина в «Бегущей по волнам» и в других его прекрасных сказках, как об этом сказано? — И повторяет, точно забывшись, несколько раз одно и то же слово: — Несбывшееся, несбывшееся…
Бестактно было с моей стороны вторгаться в раздумье великого художника, погрузившегося в себя. Я чувствовал это совершенно отчетливо и все же сказал:
— Александр Петрович, ведь вы скоро начнете снимать «Поэму о море». Все будет в порядке.
Сказал, очевидно, потому, что захотелось увести его от грустных мыслей. Ведь вопрос о производстве «Поэмы о море» решен, и столь длительный, трудный для творческой натуры кинорежиссера период простоев для него миновал.
Довженко довольно резким движением рук отбросил ветви яблони, шагнул в сторону дачи.
— Да? Вы так считаете? — сказал он скучным голосом.
У меня до сих пор щемит сердце, когда я вспоминаю о своей нечуткости тогда.
Молча и медленно пошли мы к даче. Окна ее еще не засветились, хотя сумрак сгустился. Мы слышали негромкие женские голоса и глубокий баритон Ливанова.
— Давай, Ваня, давай потешь, ублаготвори, — просил он о чем-то Козловского.
Довженко остановился у крыльца и, призывая меня к вниманию и неподвижности, поднял руку. Словно подчиняясь этому его движению, голоса в даче смолкли, и в сиренево-зеленой тишине свежеющего мира летней ночи возник и поплыл неповторимый голос…
Козловский запел: «Чуешь, браты мий…»
Довженко слушал, застыв, даже не опустил руки.
* * *
Юлия Ипполитовна позвонила рано утром. Глухим, незнакомым голосом сказала одну фразу:
— Александра Петровича больше нет.
И повесила трубку.
Прощание с Довженко происходило в зале особняка Центрального Дома литераторов на улице Воровского. Единственном тогда в ЦДЛ зале, высоком, в черных дубовых панелях, с площадкой наверху лестницы, ведущей на хоры и в комнаты второго этажа и библиотеку. Площадку поддерживали резные колонны и ограждал деревянный барьер с резными стилизованными орлами. Там издавна стоял рояль.
В «Дубовом зале» много лет собирались писатели на обсуждения, на собрания секций, пленумы правления, встречи. Здесь же справлялись юбилеи. И здесь же прощались со многими товарищами.
Траурную церемонию памяти Александра Петровича Довженко открыл Константин Симонов. Сказав несколько слов, он не назвал имя следующего выступающего. В напряженной и тоскующей тишине зала, полного пришедших проститься с Довженко родных, друзей и товарищей, возникла мелодия песни. Той, что звучала недавно еще в летней ночи на даче в поселке «Мичуринец». И пел ее тоже Иван Семенович Козловский, всю душу своего огромного таланта певца вкладывая в нее. Навсегда расставаясь с другом. С великой печалью, обнажая для всех страдания своего сердца: «Чуешь, браты мий…»
Никогда еще стены этого старого зала, видавшего много и празднеств, и битв умов, и прощальных церемоний, не слышали такого исполнения. Люди стояли неподвижно, смежив веки. Многие прижали ладони к губам. Никогда еще никому в этом зале, да и, наверное, нигде, не звучали на прощанье любимые песни. И не слышал я никогда, чтобы вместе с цветами на свежую могилу люди клали золотистые снопы пшеницы и ставили корзины с яблоками. Эти плоды земли, столь любимой Довженко, принесли с собой на Новодевичье кладбище почитатели и друзья художника родной его Украины.
* * *
Снова майским цветением охвачен яблоневый сад «Мосфильма», посаженный давным-давно уже руками Александра Петровича Довженко и тех, кого он увлек.
Яблони в саду постарели. Жить и плодоносить им уже осталось недолго. Все ведь преходяще. Кроме подвига во имя людей, их будущего, их счастья и радости. Подвиг остается в истории. Довженко совершил этот подвиг. Как великий художник и труженик на ниве искусства, как один из тех людей, который в прямом и переносном смысле слова посадил и вырастил много-много яблонь.
И здесь надо сказать, что подвиг жизни Довженко продолжила в современности друг и подруга его Юлия Ипполитовна Солнцева. Она встала за съемочную камеру. Она настойчиво трудилась. Все свои духовные и физические силы расходовала на то, чтобы дать экранную жизнь задуманному, выношенному, изложенному в литературных произведениях наследству Довженко. Артистический талант Солнцевой обрел новую ипостась — талант кинорежиссера. Она поставила прекрасный фильм «Поэма о море». Она поставила потом с тем же блеском и глубиной «Зачарованную Десну».
Она тоже посадила много-много яблонь…
Поклонимся ей.
«Не бойтесь преувеличить душевное богатство людей, — написал однажды Довженко, — вы его не преувеличите».
…И еще прошли годы.
В далекой Южной Америке, в бразильском городке Порту-Аллегре, впервые шел фестиваль советских фильмов.
Газеты не очень-то дружелюбно комментировали это событие. И несмотря на это, фестиваль стал, несомненно, заметным событием в культурной жизни здешних мест.
Желающие попасть на просмотры почти незнакомых бразильцам произведений нашего киноискусства буквально ломились в двери кинотеатра «Олимпик».
Нам, небольшой делегации — Алле Ларионовой, Эльдару Рязанову и мне, — приходилось «пробиваться» в зал с помощью переводчика и сопровождающих представителей кинофирмы.
Полицейский капитан, встречая в ложе, отведенной для нас, хотя и приветствовал вежливо: «Буэнос диас» (добрый день), был хмурым, и носатое лицо его выражало явное неудовольствие, особенно когда зрители разражались бурными аплодисментами, узнав, что в кинотеатре присутствуют гости из Москвы.
Аплодисменты вспыхивали и во время демонстрации фильмов, а после ее завершения обычно гремели долго, и публика расходилась медленно, неохотно.
Многие подходили к нам пожать руку, сказать: «Мучо грация» (большое спасибо), задать вопросы, обычно очень наивные, о Советской стране.
Среди фильмов в программе фестиваля была «Поэма о море». В день просмотра этой ленты нас пригласили на встречу с любителями кино в какой-то клуб. Здесь народу было немного, человек пятьдесят: студенты, учителя, несколько монахинь. Расселись за столиками кафе. Зала в клубе не было.
Как обычно во время таких встреч, после краткой информации о советском кино, его основных идеях завязалась беседа, посыпались вопросы, и переводчику пришлось туго. Казалось, у каждого из присутствовавших было что спросить. Лишь монахини чинно сидели рядком и молчали. Молчал еще тот всегдашний капитан полиции и заросший бородой немолодой человек в ковбойке. Под высоким лбом его горели темные глаза.
Он слушал все, о чем мы рассказывали, очень внимательно. В конце концов поднял руку и сказал:
— Синьора и синьоры! Когда я был в Европе, я видел другой фильм синьора Довженко, снятый им самим. О человеке, создавшем много новых сортов плодовых деревьев. Мьичорин? Так его зовут? Я правильно говорю? Этот фильм изменил мою жизнь.
Когда мы пошли «домой», в отель, по притихшим улицам Порту-Аллегре, с наслаждением вдыхая прохладный воздух от реки Рио-Гранде ду Сул и залива, человек в ковбойке догнал нас. Оказалось, он преподаватель сельскохозяйственной школы и увлекается селекцией. С тех пор, как увидел фильм «Мичурин» в маленьком парижском кинотеатре на бульваре Сен-Мишель.
— Мне удалось, — говорил он, — создать интересный гибрид апельсина и лимона. А теперь я мечтаю вырастить здесь яблони. Мне прислали семена из Советского Союза. К сожалению, они почти все не дали всходов. Вероятно, карантинная служба нашей таможни обработала их какими-то веществами, убивающими ростки. Но те несколько семечек, которые проросли, я выходил, и на будущий год молодые русские яблоньки должны зацвести, дать плоды.
…Наверное, эту историю, думал я, слушая его, того, что вырастил русские яблоньки, учителя в далекой Бразилии, можно понимать обобщенно. Новое и более гуманистическое миропонимание выращивает у людей наше социалистическое искусство.
СМОТРИ ТИГРУ В ГЛАЗА
Яркий, солнечный день. Лужайка перед верандой дачи под Владивостоком, недалеко от станции Океанская, что на берегу Амурского залива Великого, или Тихого, океана.
Стройный человек в сером костюме легко, стремительно, летяще идет наискось по поляне, по траве, запятнанной тенями крон пышнолистных деревьев. У него почти совершенно седые, серебристые волосы и совсем молодое лицо. Светлые, веселые глаза. В руках веточка с листьями. Взмахнув ею, он приветствует расположившихся на веранде хозяев — моих хороших знакомых, пригласивших меня, чтобы познакомить со знаменитым писателем.
Шагая через две ступеньки, Фадеев поднимается к нам, улыбаясь, говорит глуховатым высоким голосом. Он звучит как под сурдинку.
— От чаю не откажусь. Никогда не отказывался, если крепкий да еще с вареньем из облепихи или черноплодной рябины, — говорит хозяйке. — Тем более вашей варки.
Кисть руки у него узкая, сухая, пожатие ее быстрое и крепкое.
— Так-таки ничего и не выяснилось о Святогорове? — обращается он ко мне, когда кто-то представил меня и сообщил, что сегодня утром я приехал из Хабаровска, откуда летал на поиски не вернувшегося из рейса на Сахалин самолета гражданской авиации.
— Нет, не выяснилось. Несколько дней летал с Ильей Мазуруком на гидросамолете «Савойя-55». Просмотрели районы трассы, по которой должен был пролетать на Сахалин Святогоров. Потом район озер Большое и Малое Кизи и побережье от бухты Де-Кастри к северу. Никаких следов…[17] Поиски прекратили.
— Трагическая история, — покачал головой Фадеев. — И все же совсем недалеко то время, думаю, когда авиация войдет в повседневную жизнь людей, станет частью их обычного быта…
После чая писатель, нисколько не ломаясь, мне показалось — даже охотно, согласился почитать новые главы из романа «Последний из удэге», над которым он тогда работал.
Мне приходилось и ранее, и впоследствии слышать, как читали свои произведения многие хорошие прозаики. Но могу совершенно честно сказать, что только он оставил в моей памяти наибольшее впечатление от исполнения своей прозы. Впрочем, все мемуаристы и биографы писателя говорят, что читал он превосходно. Спокойно и темпераментно одновременно и выразительно, так, что слова текста звучали, полностью отражая мысль автора, вырисовывая образ. Перед собой на вытянутой руке он держал рукопись, но, казалось мне, не читал, а произносил текст по памяти!
…Последним вечерним поездом я вернулся во Владивосток и на другой день снова выехал в Хабаровск. Мне предстояло познакомиться с интереснейшими опытами лесотаксации с самолета, то есть определения качества и породного состава лесов с воздуха. С этой целью на берегу Амура, километрах в ста вниз по его течению, начала работать маленькая экспедиция Ленинградского филиала Научно-исследовательского института сельскохозяйственной и лесной авиации. Экспедиция имела в своем распоряжении два маленьких одномоторных гидросамолета конструкции инженера Шаврова — «Ш-2», или «Шаврушки». В этой экспедиции на Дальний Восток решено было использовать именно гидросамолеты, потому что Амур и многие его притоки и окрестные озера могли служить взлетно-посадочными площадками без всякого оборудования. Не то что «земные» аэродромы. И через три дня я летел на «Шаврушке» над долиной великого Амура, над склонами Сихотэ-Алиня, над бушующей зеленью лиственной тайги. На этот раз я должен был поучиться аэротаксации леса.
Мы летели низко, в полусотне метров, не более, над кронами деревьев. Здесь главенствовали дубы и вязы, липы и клены. Слева нес свои воды могучий Амур, справа сопки в темных пятнах хвойных лесов, постепенно повышаясь, уходили к главному хребту Сихотэ-Алиня.
На коленях у меня лежал планшет, на нем разграфленная на квадраты бумажная лента с кроками местности. Пилот «Шаврушки» Ваня время от времени кричал мне:
— Под нами дубовый лес. Впереди лиственное разнолесье. Видите над ним желтые шапки? Это цветет липа!
Я отмечал на лепте контуры лесных угодий, занятых одной породой деревьев, и ставил условные знаки: «д» — дуб, «к» — клен, «р/л» — разнолесье и т. д. Так меня проинструктировали перед вылетом специалисты — авиатаксаторы экспедиции. Они уже навострились довольно точно определять с воздуха, что растет книзу, и, конечно, мои наблюдения были лить дополнительной проверкой их данных «свежим взглядом»…
— Чувствуешь запах липы? — кричал Ваня.
И я ощущал в волнах теплого воздуха, несущегося навстречу, сильный медовый аромат и с наслаждением дышал полной грудью.
Примерно часа через полтора, когда следовало взять курс на один из поселков на Амуре, где была вспомогательная база экспедиции и можно было пополнить баки горючим и передохнуть, с главного хребта невероятно быстро наперерез нам выкатилась грозовая туча.
Ваня решил сесть, но не на Амур, — там, очевидно, пошли волны, опасные для хрупкой лодочки, — а на озеро, свинцово блеснувшее в распадке. Развернувшись против крепнувшего ветра, он посадил гидросамолет и подрулил к южному берегу озера, под защиту векового леса. Там он бросил якоря в маленькой бухточке. На берегу ее дымил костерок у шалаша.
Под проливным дождем мы выбрались на сушу и побежали к шалашу. В нем был человек — старый удэгеец. Он придержал рвущуюся к нам лайку, что-то негромко ей сказал, и она успокоилась.
— Здравствуйте, отец. Можно у вас переждать погоду?
— Моя всегда рада хороши люди. Варена рыбка кусать будешь?
Старик указал на котелок перед собой. От него еще шел пахнущий ухой пар.
— Спасибо. Курить хотите?
Сухим коричневым пальцем он взял из коробки папиросу «Казбек», понюхал, прищуривая узкие глаза в набухших веках, потом выкрошил табак в ладонь, опять понюхал с видимым удовольствием и стал набивать маленькую трубку с длинным прямым чубуком.
Он ни о чем не спросил нас: кто мы, зачем здесь… В тайге не положено начинать разговор с представления и расспросов. Впрочем, он, конечно, видел, как самолет садился на озеро, и, наверное, по «таежному телеграфу» знал, что над лесом сейчас каждый день летают зачем-то какие-то люди из России.
— Леса осматриваем оттуда, сверху, — лишь минут через пять начал беседу Ваня и показал рукой, как он летает. — Шукаем, какие где деревья растут. Да вот гроза, пришлось сесть.
Удэгеец, неторопливо попыхивая трубкой, молчал.
— Возьмите еще папирос. Всю коробку, — сказал я.
— Спасибо, хороши люди. Однако рыбка кусать надо. Пока он не остыл. Бери ложка.
Ложка у него была алюминиевая, старая, грязная. Я выловил из котелка кусок вареного тайменя. Ваня воспользовался для той же операции перочинным ножиком.
Снова в молчании мы поели немного.
Тем временем налетевшая гроза укатилась за сопки противоположного берега озера. Ветер почти совершенно упал. Тихо плескались, шелестели утихающие волны озера. Наша «Шаврушка» теперь почти не раскачивалась. Ваня успокоился, перестал то и дело поглядывать на нее.
Вскоре дальние сопки окрасились в странный, зелено-розовый цвет. На них упали косые лучи заходящего солнца. А на этом берегу могучие деревья уже объяли сумерки, и они казались черными на фоне просветлевшего неба. Четко, резко, как на японских рисунках, очертились контуры сопок.
Пламя костерка у шалашика стало ярче. Лицо старого удэгейца теперь отливало бронзой. Он сидел на корточках, глядя на огонь. И лишь дымок из длинной трубки оживлял эту как бы окаменевшую фигуру.
Где-то в вышине запел вечернюю песню дрозд. Шумно зевнула лайка. Вдруг она подняла голову, и острые ее уши напряглись. И через мгновение над побережьем озера, над Уссурийской тайгой пронесся скрежещущий рев. Раз, другой, третий рыкнул тигр. И все снова стихло.
Лайка вскочила, и шерсть на ее спине вздыбилась. Ваня тоже напряженно уставился в еще более сгустившуюся по низу лесных дебрей тьму, судорожно пытаясь расстегнуть кобуру у пояса. И я вскочил с мыслью: надо подбросить в костер хворост, огонь ведь самая могучая защита. С доисторических времен.
А старый удэгеец не шелохнулся, не нарушил своей неподвижности. Я взглянул на него. Пожалуй, лишь сильней задымила его трубочка.
— Тигр? Близко? — спросил Ваня, поворачиваясь к нему.
Старик плавно и медленно поднял руку, вынул изо рта трубку.
— Хозяин хорошо кушал. Хозяин спать мало-мало пошел. Говорит, покой меня нарушать не надо. Боись ты не надо.
— А я и не боюсь, — ответил Ваня. — Знаете, Виктор Александрович, когда мы сюда, на Сихотэ-Алинь, прилетели, нам говорили — здесь тигров мало, и людей они не трогают…
— Сама не тронешь, хозяин не тронет, — сказал старик.
— А вам приходилось встречаться с тигром? — спросил я.
— Мало-мало было. Однако увидеть его трудно. Хорошо он может, тихо лежать. Рядом ходи — нет хозяина… Если встренешь, смотри глаза на глаза. Хозяин сам пошел назад. Если твоя глаза хорошо смотри!
Удэгеец докурил очередную трубку, поднялся и пошел в тайгу, не сказав зачем. Лайка потрусила за ним.
«Неужели уходит?» — подумал я. Нет, котомку оставил… Через несколько минут он вернулся, принес охапку совершенно сухих сучьев и листьев папоротника. Где он только их нашел после ливня?
— Однако спать надо, — сказал он, расстилая листья.
Ваня сказал, что он заночует в лодке, а я улегся в шалаше. Старик тоже. Несколько минут он лежал тихо, потом приподнялся и заговорил еле слышно:
— Моя тайга ходит корень искать. Моя русски люди хоросо любит. Молодой был — японси приходили, он — плохой люди. Моя русски большевика помоги тайга ходи, туда-сюда смотри, где японси, где белы касаки. Ты русски большевика снать, он тосе молодой то время был. Саса Булыга снаешь? Друг мне был.
И, не дожидаясь моего ответа, старик улегся снова и сразу заснул.
«Хотел меня успокоить, чтобы не опасался ни его, ни тигра, — подумалось мне. — Завтра надо отдать ему все наши запасы энзэ». И тоже сразу погрузился в сон.
А когда проснулся от солнечных лучей, ударивших в лицо, удэгейца в шалаше уже не было. Он ушел своими трудными, неведомыми тропами в свой мир, где найти его, конечно, было почти невозможно. Увидеть же снова, поговорить еще, попросить, чтобы он больше рассказал о своей жизни и о том далеком — полтора десятилетия прошло уже, как на Дальнем Востоке стала советская власть, — мне захотелось отчаянно. Образ старика стал ассоциироваться в моем мозгу с романом Фадеева. С героем романа «Последний из удэге», того, что недавно он читал.
Конечно же этот искатель женьшеня мог бы вспомнить многое о героических днях партизанской борьбы на Дальнем Востоке! К сожалению, тогда я не знал, что настоящая фамилия Фадеева — Булыга. Иначе, может быть, я все же попытался бы поискать удэгейца в зеленой тайге Сихотэ-Алиня.
В год начала Великой Отечественной войны уже не случай привел меня ко второй встрече о Фадеевым. В Центральном Доме журналистов мы, несколько молодых литераторов, организовали курсы военных корреспондентов. Лекции читали нам преподаватели Военной академии имени Фрунзе, редактор «Красной звезды», приходили рассказывать о ратных делах писатели Новиков-Прибой и Сергей Голубев. Вспомнив о шапочном, правда, но все же знакомстве с Фадеевым, я задумал пригласить к нам на курсы и его.
В здании правления Союза писателей — говорят, том самом доме, который Лев Толстой описал как дом Ростовых в «Войне и мире», — Фадеев, генеральный секретарь Союза, принимал запросто. Лишь иногда, когда он возвращался из каких-нибудь поездок или отпуска и желающих увидеться с ним накапливалось много, нужно было записываться на прием за несколько дней.
Мне повезло. Я только-только успел объяснить секретарю Кашинцевой о цели своего прихода и отрекомендоваться, как дверь в приемную открылась и вышел легко и стремительно сам «хозяин».
— Привет авиалеснику! Ко мне? Прошу, прошу…
Да, он узнал меня, хоть видел давно и всего-то в течение нескольких часов. Память у Александра Александровича буквально на все была поразительна: на лица, на стихи, на обещания, на все… Об этом мне рассказывали, я верил и не верил. И вот — убедился! И впоследствии еще не раз убеждался.
Фадеев отказался выступить на наших курсах, объяснив отказ близким отъездом куда-то и занятостью. Но то, что курсы военных журналистов были организованы, оценил положительно.
— Войны, может, и не будет… Но скорее всего нас спровоцируют, — сказал он. — И мы должны ответить сокрушительно. Перо будет приравнено к штыку.
Потом он спросил, что я делаю, и, узнав, что после ликвидации Стратосферного комитета работаю замредактора журнала «Гражданская авиация» и много пишу, главным образом об авиации и ее людях, сказал:
— Подавайте заявление о приеме в Союз писателей, бывалые люди нам нужны.
Поблагодарив, я сказал, что подожду выхода из печати еще двух своих новых книжек, «в дополнение» к четырем уже вышедшим в тридцатые годы. И тогда…
— Воля ваша. Приходите вообще, не стесняйтесь…
Прощаясь, Фадеев — а может, мне это показалось? — особенно крепко пожал руку.
Во второй раз в правление Союза писателей я пришел к нему, уже когда началась война, по его приглашению. На этот раз беседа с ним была короткой. Фадеев собирался на Западный фронт. Он снова настойчиво предложил подать заявление в Союз, сказав, что президиум правления собирается до его отъезда и рассмотрит мое заявление.
— Вам нужно быть в нашем Союзе, — сказал он. — Есть решение послать писателей во все фронтовые и армейские газеты… Перо приравнивается к штыку!
Через несколько дней я принес в Союз заявление и восемь книжечек, и вскоре президиум правления вынес постановление о приеме меня в члены Союза.
…И снова годы, а точнее — четыре года, до осени сорок пятого, прошло, прежде чем судьба опять свела меня с этим замечательным человеком.
К началу сентября сорок первого я выехал в командировку по направлению Союза от центральной газеты в прифронтовые районы Южного Дона, а когда вернулся в Москву, руководство Союза писателей и его аппарат оказались в эвакуации. Фадеев выехал в Казань и там серьезно заболел.
Два с половиной месяца, с октября сорок первого, мне пришлось заниматься делами Московского бюро правления Союза писателей, о чем уже рассказано отдельно. В период деятельности Московского бюро лишь однажды мне пришлось разговаривать с Фадеевым — по телефону. Он позвонил из Куйбышева. Потом получил я от него короткое письмо. В нем Александр Александрович интересовался, что делает Московское бюро. Я ответил длинным «посланием». Писал его под пальбу зениток и грохот взрывов фашистских бомб ноябрьской ночью в маленьком кабинете, что был рядом с приемной руководителя Союза писателей в доме № 52 по улице Воровского. При воздушной тревоге в убежищах почти все москвичи, оставшиеся в городе, к тому времени укрываться перестали: противовоздушная оборона столицы действовала отменно!
В «послании» я подробно рассказывал, как 20 октября находившиеся в Москве члены президиума и правления Союза писателей Юдин и Соболев, Новиков-Прибой и Лидия, Павленко и Сурков, Ставский и Федосеев приняли решение создать в столице бюро в составе Владимира Германовича Лидина, Гавриила Сергеевича Федосеева (ректора Литературного института) и меня и поручить этому бюро организовать в прифронтовой Москве не эвакуированных и работающих в центральных газетах и радио писателей, привлечь их к выступлениям в воинских частях и на предприятиях и вообще к пропагандистской деятельности во имя Победы.
Писал я и о том, что бюро удалось наладить эту пропагандистскую работу, организовать публичный вечер «Писатели — защитникам Москвы» в Зале имени Чайковского, выставку в Центральном Доме литераторов «Литература и искусство в Великой Отечественной войне», печатать небольшие книги и т. д.
Второго января сорок второго я уехал на фронт, стал политработником и военным корреспондентом, прошел путь со своей 59-й армией от Волхова и Ленинграда до Праги.
После войны судьба связала меня с Фадеевым постоянным сотрудничеством на несколько лет.
…Утром в конце августа пятьдесят третьего, часов в десять, позвонила Кашинцева:
— Александр Александрович просил приехать, как только вы сможете. Он будет в Союзе до двенадцати.
Тогда я работал на радио, в редакции, которая помещалась на улице Качалова, совсем близко от правления Союза писателей на улице Воровского. Уже минут через пятнадцать я был в приемной, и Кашинцева сразу же открыла дверь в такой знакомый кабинет Фадеева.
Три высоких арочных окна во двор, где старые яблони китайки недавно еще были осыпаны яркими красно-желтыми плодами в орешек величиной. У дальнего окна старинный стол красного дерева в бронзовом орнаменте по углам. За ним чугунный камин с мраморной полочкой под ним. Справа — крытый зеленым сукном длинный стол, обставленный креслами…
Портрет Ленина на стене. Лепной потолок. Когда-то здесь было парадное «зало» особняка.
Александр Александрович поднялся и вышел из-за стола, поздоровался молча и пригласил сесть в одно из двух кресел, тоже старинных, в бронзе, перед своим столом и опустился в другое напротив. Некоторое время он смотрит в окно, на яблоньки и небо над ними, чуть прищурив светлые, ясные глаза, обычно внимательные и как бы с поверхности холодноватые.
— Вот что, вот какое дело. Точнее, просьба к вам…
Он положил сильную руку на мое колено и взглянул прямо и испытующе мне в глаза.
— Вы, конечно, можете отказаться, но, мне кажется, не откажетесь. Дело очень серьезное.
Мне много раз приходилось встречаться с Фадеевым в послевоенные годы на различных собраниях и совещаниях, беседовать на общественные и партийные темы, и, конечно, о литературе. Ведь я был в активе Союза в то время, сначала парторгом одной творческой секции, потом секретарем цеховой парторганизации, а к тому августовскому дню заместителем секретаря парткома. Фадеев нередко обращался ко мне с различными просьбами: то прочитать рукопись, то где-нибудь выступить, а иногда и с прямым поручением «в рамках» союзных дел.
Среди просьб-поручений бывали важные и незначительные. Впрочем, мне так казалось, он всегда считал, что «мелких дел» нет, и никогда не забывал поблагодарить за любое выполненное. Однако такого «предисловия», высказывая ту или иную просьбу или давая поручение, как в этот раз, Фадеев никогда еще не делал.
— Александр Александрович! Если смогу, постараюсь выполнить ваше поручение.
— В том-то и дело, что, как я полагаю, сможете! — Фадеев хохотнул характерно глуховато и продолжал: — Надо провести экспертизу по делу одного осужденного и отбывающего наказание писателя. Литературную и, я бы сказал точнее, литературно-политическую. Я не имею пока права объяснить вам, почему это нужно сделать, скажу только, что на то есть указание ЦК. Поручено это дело мне, я же согласовал, что передоверяю вам…
Он помолчал немного, потом встал, походил по кабинету, видимо раздумывая, остановился и сказал, как бы отрезая для меня возможность расспрашивать его о самом поручении:
— Позвоните немедленно председателю Верховного суда РСФСР. Телефон у Кашинцевой. Он вас примет и объяснит, с какими материалами и где вам нужно будет познакомиться. Ну, и в каком виде дать экспертное заключение. Спасибо.
«Стало быть, он уже назвал мое имя председателю суда, — мелькнула у меня мысль, и кольнуло: — «Без меня меня женили». Но неприятное ощущение сразу пропало: поручение-то было, очевидно, действительно серьезным и…
Председатель Верховного суда сказал:
— Товарищ Фадеев рекомендовал вас для проведения повторной, подчеркиваю — повторной, экспертизы по делу гражданина из Ленинграда, бывшего члена Союза писателей К. Не скрою, первая экспертиза его «творений» показала их вредность, и он был осужден и отбывает наказание уже несколько лет. Тем не менее теперь, по апелляции, решено вновь вернуться к рассмотрению этого дела. Вам предоставят здесь помещение и все материалы по делу. Выносить материалы и снимать с них копии запрещается. Можете записать для себя коротко лишь суть. Срок двое суток.
Говорил он сухо, холодно, испытующе взглядывая на меня время от времени.
— Товарищ… Я не могу обещать закончить работу, не зная объем материалов.
Председатель суда недовольно поморщился.
— Мы должны подготовить процесс в срочном порядке. Как только познакомитесь с материалами, товарищ эксперт, свое мнение доложите только мне.
По правде говоря, хотя и чувствовал я себя не очень-то в своей тарелке во время этой беседы, мне очень не понравился его тон и какое-то снисходительно-свысока обращение.
— Разрешите заняться материалами, чтобы не терять времени.
— Приступайте.
Он позвонил, вошел какой-то чин и повел меня по коридору в комнату, где один стол и два стула. Дверь в нее была обита железными листами. На окне толстые прутья решетки. На столе лежали две толстые канцелярские папки. Сначала я полистал содержимое их для общего ознакомления. В первой были протоколы допросов, протокол судебного заседания, свидетельские показания, заключение давней экспертизы.
Во второй папке лежали короткометражные пьесы, несколько рукописных и в вырезках из журналов рассказов и очерков К.
На следующий день уже к полудню, сделав в блокнотике нужные записи, я набросал «заключение». В нем было сказано, что первая экспертиза представляется мне поверхностной и недоказательной и что поэтому серьезных оснований для обвинения К. я не вижу.
И вот я снова у председателя Верховного суда РСФСР.
— Ваше мнение по делу? — сразу спросил он, поздоровавшись.
— Считаю, что экспертиза в нервом процессе была недостаточно квалифицированной, неточной и решение надо пересмотреть.
Председатель удивленно поднял брови.
— Вы много на себя берете!
— Я высказываю сложившееся у меня убеждение, потому что…
— Мы вас вызовем на процесс, — сухо прервал меня председатель. — До свидания.
Фадеева в Москве не было, а с кем-либо другим, естественно, советоваться мне не полагалось.
Далее эта история продолжалась так.
В сентябре состоялась специальная выездная сессия Верховного суда РСФСР в Ленинграде. Она проходила в одном из залов областного суда на Литейном.
Верховный суд нашел, что осуждение К. было вынесено без достаточных оснований, и поэтому постановление областного суда, осудившего его, отменил, и К. тут же освободили из-под стражи…
Вернувшись из Ленинграда в Москву, я с ходу поехал в правление Союза писателей и дождался прихода Фадеева. Завидев меня в приемной, он шагнул ко мне, поздоровался и повлек в кабинет.
— Ну что? Как? — спросил он, снимая пальто.
— Освободили. В постановлении выездной сессии Верховного суда сказано, что К. был осужден без достаточных законных оснований!
— Пожалуйста, подробно.
И я рассказал Александру Александровичу о материалах, которые мне дали читать для экспертизы, и о ходе процесса. Лишь однажды он прервал меня, рассмеявшись, когда услышал, что прокурор, тот самый, который обвинял К. несколько лет назад, в своей речи в защиту старого приговора спутал понятия «эстетика» и «эстетство». Потом он помрачнел, долго молчал, шагал по кабинету вкривь и вкось, явно взволнованный.
— Ну, продолжайте, — наконец попросил он, а когда я завершил рассказ, повторив формулировку приговора, тихо произнес: — Ну, слава богу, что так… Это существенно, потому что подтверждает еще раз складывающееся мнение у руководства, что были нарушения законности… Убежден, партия поправит дело. Наша великая и мудрая партия. Она смотрит правде в глаза! Тем более, если она горькая. Как тигру надо глядеть, если встретишь его в тайге. Так у нас на Дальнем Востоке говорят…
Затем, оборвав фразу, он поблагодарил меня и замкнулся в своих мыслях. Мне ничего не оставалось делать, как попрощаться и уйти.
В последующие три года, вскоре уже как секретарю парткома Московской организации писателей, мне приходилось встречаться с Александром Александровичем еще чаще, и не только на заседаниях секретариата Союза, которые он вел уверенно и просто, демократично, или на собраниях партийных и творческих. Было немало бесед с ним на творческие темы. Обычно недолгих… Союз приобретал все большую роль и значение в формировании литературного процесса и вообще культурной жизни страны.
Фадеев постоянно был очень занят, дни его были перегружены союзными и общегосударственными делами до предела. Полушутя-полусерьезно он нередко жаловался, что на творческую работу у него не остается ни времени, ни сил. Да, сил. Здоровье его сильно пошатнулось из-за хронической болезни печени.
— Вот лягу в больницу, вплотную займусь новым романом, — сказал он мне однажды.
Фадеев задумал тогда большое сочинение о современном советском рабочем классе, о металлургах. Наконец он получил длительный творческий отпуск и уехал на Магнитку и жил там у друга-сталевара несколько месяцев.
По возвращении Александр Александрович с воодушевлением рассказал о людях и делах металлургического гиганта.
— Знаете, я как-то обновился, что ли, впитав как губка, живую жизнь рабочих людей. Уже написал довольно много. Но есть и закавыка в технической проблеме, какую хочется поставить.
И все ж мне казалось, что здоровье его не улучшилось. Вскоре он лег в больницу.
Бывая в правлении Союза, Александр Александрович охотно принимал и писателей, и читателей по самым разным делам, но беседовать любил по творческим вопросам. Он читал многие посылаемые ему и приносимые рукописи и затем обсуждал их с авторами, но и нередко просил читать «для контроля моего субъективного мнения», как говорил он, работы и своих товарищей по секретариату. Несколько раз давал рукописи мне. Помнится, прислал воспоминания одного старого большевика из Оренбурга с поручением («если приглянется») поговорить с каким-либо издательством и предложить, как и просил сам автор, ему в соавторы «приличного литератора».
Сумрачный весенний день пятьдесят шестого. И все же как хорошо в лесу! Горько пахнет прошлогодний лист, зеленью пушатся березы и огромные ивы на плотине переделкинского пруда. А ели как будто потемнели, — очевидно, так кажется по контрасту.
Слева, за плотиной, от шоссе отходит переулок-тупичок. Ныне он носит имя Всеволода Вишневского. Переулок упирается в ворота дачи Фадеева. Я иду быстро, спешу. Александр Александрович позвонил вчера вечером и попросил приехать к нему. Ему нездоровится, и последнее время он почти не выезжает в Москву.
— Приезжайте к полудню, если сможете. Пообедаем и побеседуем.
«Домоправительница»-экономка Анастасия Николаевна открывает дверь, приводит на узкую застекленную веранду рядом с большой комнатой на первом этаже. Стол здесь уже накрыт на двоих.
— А мы ждем, — говорит она. — Александр Александрович у себя, наверху, сейчас его позову.
— Но вы же меня не ждали, — говорю я шутливо-иронически, указывая на два прибора.
Анастасия Николаевна протестующе поднимает руку:
— Нет-нет, что вы! Александр Александрович сказал, что будет у вас разговор тет-а-тет. Ву компрене?
В последнее время мне не раз приходилось видеть Фадеева утомленным, полубольным. Теперь он показался совсем плохим. Лицо в желтоватых тенях, синяки под глазами, резче обозначились морщинки у рта. И пожатие руки его было не таким, как обычно, не энергическим, коротким, а вялым.
— Благодарю, что приехали. Садитесь вот сюда, напротив, удобнее будет вести беседу. Вам что налить? Водочки?
На столе бутылки «Столичной» и сухого грузинского вина.
— Лучше вина.
— А мне сейчас ни капельки ни того, ни другого. Печенка сразу начинает реагировать. Отвратительно!
Он налил в бокалы. Мне — вина, себе — минеральной, придвинул салат.
— Ваше здоровье. — Фадеев отпил из бокала и как-то горько усмехнулся.
Некоторое время мы ели, почти не разговаривая, перебрасывались лишь незначащими фразами. Спрашивать, о чем он хотел побеседовать со мной, было неудобно. Лишь когда мы принялись за второе, его губы снова покривились в усмешке и он сказал:
— Для меня сейчас очень трудное время. Как-то клубком в личной жизни сплелись «сюжеты» один другого острее. — И хохотнул характерным глуховатым смешком. — Вы должны понять, — продолжал он, — то, что скажу я дальше. Во-первых, это не жалоба павшего духом старика! — И он снова хохотнул. — Во-вторых, тем более не самоанализ творческой жизни. Вот в чем дело… Меня мучает хворь. Но это не главное. Важнее то, что мне труднее пишется, хотя и на это она, язви ее, влияет. А если литератор ничего почти не выдает «на-гора́», ему труднее общаться с товарищами, в особенности если, как мне, доверено руководство Союзом…
Так вот получилось, что хвастать мне сейчас нечем. Написал несколько глав нового романа, дал кое-что почитать специалистам-металлургам и поругался с ними. Говорят, научно-техническую проблему ставлю я неточно, забегаю вперед. С одной стороны, конечно, надо быть с наукой в ладах — она важная грань самой жизни. И глупости технические написать нельзя. С другой — любая научно-техническая проблема в литературе ведь не главное! В общем, предстоит мне еще мучиться. Вот я и придумал попросить мне помочь — самым придирчивым образом просмотреть две-три главы. Вам ведь технические науки знакомы больше, чем вашему покорному слуге. О металлурге Бардине, знаю, писали…
— Прочитаю, что дадите, с удовольствием и выскажу свое ощущение честно!
— Вот именно — честно. Смотреть правде в глаза, как тигру! Спасибо большое наперед… Только рукопись пришлю попозднее, попозднее. Скоро съезд партии, дел будет много. А здоровье ни к черту, язви его.
Это был последний мой разговор с Фадеевым… А увидел я его уже неживым, с небольшой раной от пули нагана в груди…
…Однажды на заседании секретариата Союза, говоря о творческих просчетах одного из писателей и необходимости дружеской, а не зубодробительной критики, умнейший Илья Эренбург сказал: «Художников общество держит потому, что у них тонкая кожа».
Александр Александрович Фадеев, войн и боец по характеру, был одновременно большим художником и конечно же имел «тонкую кожу», обладал в высшей мере способностью взволнованно ощущать мир.
С годами, отбирая и сопоставляя факты уже истории и услышанное непосредственно от Фадеева, я пришел к убеждению, что неправы некоторые его биографы, считая, что трагический конец этого замечательного человека был следствием какого-то сдвига в психике… Нет, тысячу раз нет!
В своей жизни он много раз смотрел в лицо смерти, лицо врагов, ошибок, неудач.
Сотрясал тело новый приступ тяжкой и неизлечимой — он знал это — болезни, порождающей нестерпимые физические боли. Но, наверное, более всего терзалась творческая душа художника тем, что он не мог, как всегда, плодотворно работать.
Соострие «сюжетов» истерзало его. Хотел писать, как всегда, уверенно и быстро, хотел лететь, как всегда, но взлететь не было сил. Слишком много всего этого для человека с тонкой кожей… Хотя он и воин, и боец.
ТРУДНОЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛО (Из записок секретаря парткома)
На втором этаже старого здания Центрального Дома литераторов есть большая комната номер восемь — бывшая гостиная этого графского особняка. Стены ее до половины в дубовых панелях, высокие окна затенены густыми липами улицы Воровского…
Здесь в пятидесятые годы, до того, как было сооружено главное здание ЦДЛ, выходящее фасадом уже на улицу Герцена, обычно собирались президиум правления Московской организации писателей, ее партийный комитет, руководство творческих секций.
И на этот раз партком собрался в комнате номер восемь. Предстояло, помимо текущих дел, рассмотреть и принять решение по трудному персональному делу. Суть его заключалась вот в чем. Один из писателей-очеркистов, Леонид К., снова «отличился», снова совершил тяжкое нарушение морально-этических норм поведения коммуниста: стал регулярно выпивать и в связи с этим перестал писать, почти ничего не зарабатывал. А у него были жена и маленький ребенок.
Около года тому назад Леонид К. уже держал ответ за свое поведение перед парткомом. На радостях, что вышла из печати его новая книжка, он выпил лишку, поспорил с кем-то и поскандалил на улице. Тогда он искренне — в этом не было ни у кого из нас сомнения, — как говорится, «осознал» свой проступок и обещал больше не подводить партийный коллектив. Ему поставили на вид. И вот нате ж! Надо опять судить его партийным судом…
Рассказав о сущности персонального дела, я спросил Леонида К.:
— Объясните товарищам, почему нарушили свое слово, почему так недостойно себя ведете. Вы же понимаете, куда вы покатились?
Леонид К. сидел напротив меня, на другом конце длинного, покрытого зеленым сукном стола, наклонив русую голову, почти опустив ее на сложенные руки. Пальцы их нервно вздрагивали.
— Виноват… Очень виноват, — глухо ответил Леонид. — Сорвался и не смог удержаться. Прошу еще раз мне поверить…
Он поднял лицо, искаженное страданием. Остановившимся взглядом посмотрел куда-то поверх моей головы. В светлых глазах его блеснули слезы. Это видеть было страшно. Ведь он…
— Ну что ж, если нет вопросов, начнем обсуждение. Кто первым возьмет слово?
В составе парткома тогда было несколько человек с большим жизненным опытом: поэт Александр Твардовский, критик Михаил Гус, прозаик Юрий Корольков, поэт Михаил Исаковский, очеркист Борис Галин, драматург Анатолий Борянов. Все они прошли трудные дороги Великой Отечественной, немало лет состояли в партии, и всем им, вне зависимости от личной приязни или неприязни, было особенно горько снова судить партийным судом товарища, который…
…Леонид К. …Это имя в послевоенные годы — не побоюсь этого слова — сверкало среди имен четырехсот коммунистов-писателей Московской организации ореолом воинской доблести. Да, это он, Леонид К., во время еще финской кампании встал и повел в атаку вместо убитого командира на маннергеймовцев стрелковый батальон. А был он тогда просто военным корреспондентом центральной газеты. В бою его ранило, но он продолжал вести солдат вперед, и батальон выполнил задачу.
В годы Великой Отечественной Леонид К. снова как военный корреспондент колесил по фронтам, много раз пробирался к партизанам и показал себя в трудные минуты храбрецом. Его газета с нетерпением ждала очерков с передовой о подвигах, о мужестве, о крепнущем час от часу воинском умении наших солдат и офицеров. Очерки свои Леонид К. писал ярко и правдиво. Он-то уж знал хорошо, о чем рассказывал читателю, а к тому же был он талантлив, писал мастерски. За несколько послевоенных лет его военные очерки-корреспонденции и новые произведения соединились в книгах, хорошо принятых читателями.
Обсуждение продолжалось долго, более часа.
— Предлагаю строго осудить товарища К. и вынести ему строгий выговор с занесением в личную карточку, — сказал Михаил Исаковский, как бы подытоживая выступления.
Да, все говорившие в более или менее резких выражениях приходили к выводу, что Леонид К. должен быть сурово наказан, хотя он искренне и тяжко переживал, мучился и с убежденностью уверял нас, что «больше такого никогда не повторится», что он уже договорился с одним из журналов, что поедет в командировку на стройку, напишет серию очерков и обеспечит семью материально.
— Может быть, учитывая осознание вины и обещания, ограничимся просто выговором? Без занесения? — сказал кто-то вслед за Исаковским.
И тогда встал, попросил слова до сих пор молчавший Павел Андреевич Бляхин.
…Павел Бляхин… Живая история нашей революции, большевик, член партии с 1903 года!
Впервые я увидел его лет за двадцать до того заседания парткома. Кто-то из друзей-«киношников» привел меня в Академию художеств и там в коридоре остановил проходившего мимо невысокого худощавого человека:
— Знакомься. Автор «Красных дьяволят». Председатель союза кинофотоработников, наш профсоюзный «папа», — сказал он. — Я думаю…
— Бляхин, — сказал этот человек, прервав немного игривую речь моего друга, и сухой крепкой рукой дожал мою руку.
Я, ответно назвав себя, сказал автору прославленного фильма, что люблю «Дьяволят» с юности. Он улыбнулся.
— Очень рад… «Дьяволята» удались. Другие ленты меньше… Но извините, я тороплюсь…
И, подняв в приветствии руку, быстро пошел дальше по коридору.
Снова мы встретились уже после Победы. В Союзе писателей. На первом общем собрании коммунистов нашего творческого Союза. Это собрание особенно памятно. Оно было радостным, оно было и горьким. Мало кто знал тогда, что из трехсот писателей-москвичей более трети не дожили до Победы, а девяносто восемь погибли на фронтах. Очень длинной минутой молчания мы почтили их память…
Вскоре меня избрали парторгом одной из творческих секций. По совету Александра Фадеева я решил прежде всего познакомиться получше с каждым из коммунистов партгруппы, поговорить с ними по душам. В партгруппе было несколько человек с дореволюционным партийным стажем. Басов-Верхоянцев, супруги Соколовы, Сергей Малашкин, Ривес, Бляхин.
Павел Андреевич Бляхин не участвовал в организационном собрании партгруппы, он хворал, и поэтому я договорился о встрече с ним в ЦДЛ по телефону.
Он пришел, помню, точно в оговоренное время. Мы уединились в уголке той же восьмой комнаты на втором этаже.
— Павел Андреевич! По сравнению с вами я совсем молодой член партии. Мне оказали доверие быть парторгом. Это мое первое серьезное поручение. Помогите мне. Что главное в партийной работе на практике? Как начать ее?
Скупая улыбка тронула резко очерченные губы, затем собрала морщинки у светлых глаз Бляхина. Он провел ладонью по седеющим, но еще густым, волнистым волосам, снова улыбнулся очевидной наивности моего вопроса. Я и сам тогда осознал это. Ну разве возможно ответить мне на такое… Главное в любом деле ведь не однозначно, не два×два! Основоположники марксизма, В. И. Ленин ведь учат, что каждое явление надо стремиться рассматривать в его исторической конкретности и развитии, движении. А следовательно, в каждом отдельном случае будет свое главное, и его надо искать, познавая это явление, выраженное в этом конкретном случае.
— Простите, Павел Андреевич, я, кажется, задаю вам детские вопросы.
— Нет, почему же? — Бляхин снова улыбнулся. — Я вас хорошо понимаю. Много раз в своей жизни мне приходилось задавать себе и другим подобные вопросы, когда неизвестно или неясно было, как быть. И я вам отвечу — рецептов, как нужно действовать, на каждый случай в партийной работе не бывает и быть не может. Обычно в любом деле для верного решения играет важнейшую роль накопление опыта. В партийной работе тоже. Однако правильно находить ответ, как делать, как решать, нам помогает опыт, сконцентрированный в теории марксизма-ленинизма, и то еще, что называют простым словом «ответственность». Думаю, что именно всегда, в большом и малом, надо думать об ответственности. Перед всей партией и нашим народом. Перед своим партийным коллективом и перед каждым человеком. Возможно, развитое чувство личной (он подчеркнул это слово голосом) ответственности и есть то главное в партийной работе…
Помолчав немного, он добавил:
— Вот вы сказали, что избраны парторгом, что это у вас первое серьезное (он снова голосом выделил это слово) партийное поручение. Так думать не надо. Любое партийное поручение, по-моему, серьезно, важно, и прежде всего для самого себя! Иначе как же? Партия ведь боевой союз — не так ли по Уставу?
В общем, тогда Павел Андреевич не сказал мне чего-либо нового. Но как важно, как необходимо пусть известное услышать, когда это нужно, от человека, которого уважаешь, к которому тянешься сердцем! А к Бляхину, зная его биографию, нельзя было не испытывать уважения, не чувствовать при общении с ним волнения в сердце.
* * *
Стенное, растянувшееся вдоль пыльного тракта село Быково в Нижнем Заволжье. Отсюда четырнадцатилетний парнишка Павел Бляхин начал свой самостоятельный жизненный путь.
Шел первый год нашего века.
Кто-то из родственников привел его в «губернию», в город Астрахань, и пристроил учеником в типографию. В церковноприходском училище он познал азы грамоты, здесь вскоре обучился ремеслу наборщика. Учительница, партийная пропагандистка в типографии, была одной из тех безызвестных просветительниц с большим сердцем. Она приметила старательного и любознательного парнишку, стала давать ему книги, беседовала с ним. Из этих бесед он узнал о классах и классовой борьбе, о том, что есть люди, посвятившие себя освобождению угнетенных и униженных от царизма, власти помещиков, чиновников, богатеев. В 1903 году Павел Бляхин вступил в РСДРП. Стал тайно помогать печатать листовки и разносить их. По поручению партии работал в Баку и Тифлисе, потом опять в Баку. Уже через год, восемнадцатилетним, он впервые узнал на практике, что такое царская тюрьма. Его арестовали, отвезли в Тифлис и заключили в Метехский замок. Затем перевезли в казематы Карсской крепости. Из нее мало кто выходил живым и здоровым. К счастью, началась первая русская революция. Царь вынужден был объявить амнистию.
…Дым пожарищ стлался над Пресней. Горели подожженные снарядами деревянные домишки рабочих, лавчонки, склады. У баррикад то возникала, то затихала ружейная стрельба. Шли дни славной и трагической истории Московского восстания, самой «горячей точкой» которого была оборона Пресни. Здесь, на баррикадах, и появился в те дни невысокий, стриженный наголо недавний узник карсской тюрьмы, девятнадцатилетний юноша со светлыми, бесстрашными глазами. На вид он был слабым, щупловатым. На самом деле сильным, ловким и смелым. Много лет спустя (более чем через четыре десятилетия) Павел Андреевич Бляхин напишет замечательную книгу о пережитом тогда, о подвиге рабочих Пресни и всей трудовой Москвы в своем романе «Москва в огне»…
После подавления революции 1905 года Павел был арестован, судим и осужден. По этапу его повезли в Сибирь. Он усыпил бдительность конвоиров и бежал. Это был первый его побег, но не последний!
Нелегально Павел Бляхин вернулся в Москву и стал активным деятелем Подольского комитета РСДРП. Его избрали членом Московского комитета партии. В 1907 году провал — подвел провокатор, — арест, суд и этап в ссылку. И снова побег, и снова «нелегальная» жизнь. В самую глухую пору столыпинщины под именем Сафонова подпольщик, профессионал-революционер Павел Бляхин несколько лет благополучно ускользает от охранки. Он неуловим для ее ищеек… Все же, опять, видимо, преданный провокатором, он попадает в лапы жандармов. Суд определяет наказание: ссылка в глухие районы Вологодской губернии. А Павел Бляхин снова совершает побег! И на этот раз до крушения царского строя жандармам его поймать не удается. Он работает в подполье в Минске, в Киеве, в Костроме. В семнадцатом году в этом древнем городе на Волге он становится одним из организаторов борьбы за советскую власть, создает профсоюзный центр, избирается первым председателем губпрофсовета, секретарем горкома партии и губкома…
Гражданская война завершилась разгромом белогвардейцев и интервентов. Однако на юге страны еще неспокойно — оперируют банды, диверсанты. Партия посылает Павла Бляхина на Украину, в Екатеринослав (ныне Днепропетровск).
…Медленно ходили тогда поезда. Теплушка, в которой ехал Бляхин с несколькими товарищами, прицеплялась то к одному, то к другому составу. Длительными были остановки. У Бляхина как никогда много свободного времени. И вот воин партии, крупный ее работник берет клеенчатую «общую тетрадь» и пишет повесть для ребят, повесть о подвигах самих ребят в революции. Приключенческую. Почти за месяц пути написал. И назвал ее «Красные дьяволята».
Впрочем, надо сказать, что потребность писать возникла у Бляхина не тогда, а года за два до этой поездки на юг. Раньше, в подполье, он писал листовки и прокламации, в Костроме — статьи для газеты и небольшие книжки о революционном мировоззрении и на антирелигиозные темы. Одна начиналась стихами:
Долой чертей, долой богов, Долой монахов и попов!…В Екатеринославе ему было не до литературных трудов… Бесчинствовали банды Махно и других авантюристов. Трудно было с продовольствием. Надо было восстанавливать предприятия… Павел Андреевич, секретарь губкома партии, редко сидел в своем кабинете… Не до литературных «забав» ему было и потом, еще два или три года. В Баку, где он работал в ЦК партии Азербайджана и затем в Бакинском горкоме и исполкоме. Тем не менее заря литературной славы уже забрезжила для него. «Красные дьяволята» были изданы и очень понравились читателям и критикам…
В 1926 году Павла Андреевича направили на работу в ЦК ВКП(б), в Москву. С этого времени он всего себя отдал деятельности в области культурного строительства.
* * *
Итак, слово на заседании нашего парткома попросил Бляхин. Мне подумалось: вот сейчас он поддержит предложение Исаковского, и мы дружно проголосуем за выговор К., только, конечно, я предложу — с занесением в учетную карточку. Почему именно с занесением? А потому, чтобы через год-полтора, снимая этот выговор, мы или наши преемники могли бы проверить, исполнил свое обещание Леонид К., преодолел пагубную привычку к выпивке, стал помогать семье или нет…
Павел Андреевич, постояв немного, сказал:
— Мое мнение — товарища К. надо исключить из партии…
Исаковский вскинул голову. За толстыми линзами очков невозможно было увидеть его голубые больные глаза, но конечно же они выразили удивление. Поражены были предложением Бляхина другие члены парткома, и я в том числе. Мелькнула мысль: «Такого парня — исключать? Это жестоко!» А Павел Андреевич продолжал жестко, сухо, короткими фразами:
— Товарища предупреждали несколько раз. Разъясняли ему: своим поведением он порочит честь члена партии. Товарищ не прислушался. У него есть заслуги. Он известен широкому кругу людей. Тем более тяжким становятся его проступки, их вред для общества. Он проявил неуважение к партии, безответственность. Кроме того, он обманывал. Кроме того, он потерял власть над собой. Тем самым поставил себя вне ее рядов. Найдет он в себе силы исправиться — дорога для него к партии не закрыта…
Несколько минут за столом длилось тягостное молчание. Каждый думал, вел диалог со своей совестью. Бляхин предложил высокую меру наказания. Жалко Леню… Очень, до боли в сердце, жалко… Но если судить по большой правде, Бляхин-то прав! Опустившийся, обманывающий нас наш товарищ стал притчей во языцех. Он замарал своим поведением парторганизацию, партию. Видимо, мы действительно должны быть суровыми. Как это ни трудно.
— Я снимаю свое предложение о выговоре, — первым нарушил молчание Исаковский, вздохнул и добавил: — Поддерживаю Павла Андреевича, К. надо исключить…
Леонид К. сидел, опять опустив голову на руки, недвижно и безмолвно. Слезы теперь катились из его глаз. Видеть его отчаяние было невыносимо. И все же члены парткома один за другим высказались за «высшую меру». Никто не подал голос против предложения Бляхина. Старый большевик по партийной совести был прав!..
Партия ведь боевой союз единомышленников коммунистов, авангард… С великой ответственностью. Перед народом, перед историей. Она должна быть монолитной. Без трещинок. Без соринок.
Собираясь уходить, Бляхин взял меня под руку, отвел в сторону и сказал:
— Понимаю хорошо, как вы переживаете. Но, как говорят в народе, доброта иной раз хуже воровства. Леонида может спасти только встряска. Сильная встряска. А иначе — погибнет. Единственное, на что можно пойти нам: если в райкоме, на бюро, предложат перевести его на год в кандидаты, не возражайте…
И, пожимая руку на прощание, добавил:
— У меня ведь тоже на душе кошки скребут, а надо работать. Времени у меня не так уж много осталось, надо написать задуманное… Надо закончить трилогию[18]. Обязательно.
И еще немного о жизни Павла Андреевича Бляхина.
В двадцатые годы в нашей стране родилось великое советское киноискусство. Сергей Эйзенштейн поставил «Броненосец «Потемкин» и «Октябрь», Всеволод Пудовкин — «Мать» по повести М. Горького, Александр Довженко — «Арсенал». Эти фильмы стали классикой мирового киноискусства. Но и другие деятели советского кино — И. Перестиани и Амо Бек-Назаров, Г. Козинцев и Я. Протазанов — создавали превосходные ленты. Однажды режиссер Перестиани прочитал новое издание «Красных дьяволят», и его захватил динамический революционный романтизм произведения Бляхина. Перестиани предложил автору повести написать сценарий. Бляхин с радостью согласился. Его тянуло к литературной работе постоянно. Интересовало его и «самое массовое из искусств». Как пропагандист партии, он очень хорошо понимал, что, говоря так о кино, Владимир Ильич Ленин предвидел великое будущее, огромное воспитательное значение киноискусства. Бляхин написал отличный сценарий, а Перестиани поставил по нему великолепный фильм, жизнь которого не ограничилась несколькими годами, как обычно бывает с кинолентами, а длится уже полстолетия. «Красных дьяволят» до сих пор показывают как один из лучших фильмов для детей и юношества…
Шумный, яркий успех фильма многое изменил в судьбе Павла Андреевича Бляхина, на многие годы связал его с кинематографом. Партия направила его на работу в государственную киноорганизацию «Совкино», а затем он был избран председателем профессионального союза фотокиноработников. Бесконечная вереница «текущих дел» по службе, конечно, мешала Бляхину полностью отдаваться литературному труду. И все же он написал ряд сценариев, по которым были поставлены интересные фильмы: «Савур-могила» (продолжающая приключения «Красных дьяволят»), «Иуда», «26 бакинских комиссаров». Приступил Бляхин еще в тридцатые годы и к фундаментальному труду — рассказу в жанре романов о революционной борьбе, об исторической роли большевиков-ленинцев в свержении самодержавия в России и победе пролетарской революции. Он решил написать несколько романов на эту тему, строго исторически достоверных, на основе своего жизненного опыта, своей удивительной жизни…
Великая Отечественная война не дала ему осуществить этот замысел. Когда гитлеровские армии начали угрожать Москве, Павел Андреевич Бляхин вступил в народное ополчение — стал бойцом одной из дивизий, сформированных в основном из добровольцев Краснопресненского района Москвы. Там, где более тридцати лет назад молодой большевик впервые взял в руки боевую винтовку, теперь воевал пятидесятипятилетний старый большевик, известный писатель-драматург. В военной шинели прошел Бляхин все «Годы великих испытаний». Так назовет он свою книгу очерков о Великой Отечественной войне в будущем. Правда, простым бойцом Павел Андреевич был не все эти годы, а лишь первые месяцы боев на подступах к столице. После разгрома гитлеровцев под Москвой он был отозван из части, и ему предложили работать в тыловой печати. Бляхин наотрез отказался оставить фронт и был назначен военным корреспондентом в армейскую газету.
После Победы Павел Андреевич стал профессионалом-писателем. Ему было уже шестьдесят — пенсионный возраст! — но ни он сам и никто из знавших его не могли бы себе представить этого человека «на покое», на заслуженном отдыхе. Бляхин не мог сидеть сложа руки. Он работал в послевоенные годы, пожалуй, даже больше, чем когда-либо. Каждый день по многу часов неотрывно проводил за столом в небольшой квартирке в «Красных домах», поставленных за строящимся Университетом на Ленинских горах. Менее чем за десять лет Бляхин написал три романа — «На рассвете», «Дни мятежные», «Москва в огне», а также упомянутую книгу очерков о минувшей войне.
Все эти книги высокого литературного качества и большой исторической точности в описании событий. Названные романы много раз переиздавались, а повесть «Красные дьяволята» выпускалась у нас и за рубежом двадцать пять раз! Общий тираж произведений Бляхина превысил два с половиной миллиона экземпляров…
Опыт жизни и сознание ответственности за все, что делаешь, присущие большевику-ленинцу, и литературный талант поставили его как писателя в ряд лучших советских авторов на историко-революционную тему…
* * *
Та же восьмая комната в старом особняке Центрального Дома литераторов. Но уж есть и новое здание ЦДЛ, только что построенное, с большим и малым залом, с комнатами для работы творческих секций и т. д. Однако на заседания парткома по-прежнему, как правило, мы собираемся в этой восьмой комнате или внизу, на первом этаже, в «каминной гостиной» особняка.
На очередном заседании здесь мы от души поздравляли Павла Андреевича с семидесятилетием, с высокой наградой — орденом Ленина. Вот и сегодня опять персональное дело! Опять, хотя, к счастью, они бывали редко. Перед нами сидит наш товарищ М., молодой еще и по годам, и по стажу член партии, способный писатель. Парень задиристый, заносчивый, нередко грубый и несдержанный, в общем «трудный» в коллективе. У него пышная светлая шевелюра над упрямым лбом, острые темно-карие, обычно ироничные глаза. Он кривит по привычке тонкие губы, отвечая на вопросы коротко, сразу.
— Правильно доложил товарищ Борянов вопрос о ваших партийных проступках?
— Да.
— Как вы относитесь к ним?
— Осуждаю.
— В чем видите причины их? Почему, например, вы, получив за книгу значительный гонорар, не платили партийные взносы с полной суммы?
— Я хотел уплатить в два приема. Второй раз забыл.
Теперь в глазах его нет обычной иронии, они затуманены. Думаю — «виляет», не хочет честно сказать, что поскаредничал. Обманул и обманывает, не хочет говорить еще и о том, как случилось, что, написав очерк, похвалил в нем жулика! Это ведь тоже очень серьезный проступок для коммуниста-литератора. Такому, пожалуй, не место в партии.
— Есть у членов партийного комитета еще вопросы к товарищу?
Аркадий Васильев спрашивает как раз насчет этого очерка в газете, где, как вскоре стало известно, он расхвалил проворовавшегося зампреда колхоза.
— Откуда мне могло быть известно, что тот деятель хапал в колхозной кассе? — отвечает «подсудимый».
— Вы что, не говорили с колхозниками?
— Мне его порекомендовал секретарь.
— Секретаря того исключили из партии за притупление бдительности. А с колхозниками-то вы говорили? Отвечайте прямо.
— Кое с кем… Я не следователь.
Думаю, опять «виляет». Не следователь он, видите ли! Да разве писатель, журналист имеет право вот так безответственно относиться к важнейшей командировке от газеты! С кондачка хвалить или ругать. Да и вообще…
— Если вопросов больше нет, начнем обсуждение. Кто первый?
Первый же выступавший, точно подслушав мои мысли, сказал:
— Товарищ не хочет быть искренним. Не хочет по-партийному оценить свое поведение. Дважды он нарушил… Я предлагаю — исключить его из партии.
Примерно то же в еще более резких выражениях начал говорить следующий выступавший.
— А я против, — вдруг прервал его Бляхин, вставая. — Товарищ — молодой коммунист, всего два года, как член партии. Мы его приняли и тем самым взяли на себя за него ответственность. Очевидно, мы что-то проглядели в его поведении, а самое главное — не воспитывали. Конечно, взрослого человека воспитывать так же, как ребенка или юношу, смешно. Партийные традиции и методы в этом вопросе иные… Почему секретарь парткома не поговорил с ним по-партийному о его заносчивости, например? Может быть, отсюда и потянулась веревочка. Он решил: я «сам с усам», все превзошел… Почему секретарь партбюро секции прозаиков не поинтересовался его творческими планами, работой для газеты? Вышла у него хорошая книжка. Стали хвалить и хвалить. Конечно, хвалить за хорошую работу надо… А перехваливать, вернее — захваливать, да еще через слово слово «талант» произносить… Так у нас в секции бывает. Увы, часто бывает! Хоть у кого голова закружится. И дурные стороны характера вылезут, заставят выпендриваться…
Поначалу я слушал Бляхина с неприятным чувством. Ну зачем он так? Хочет переложить вину на коллектив? Зачем выгораживает?.. Но чем дальше рассуждал старый большевик, тем яснее мне становилось, что в основе он прав. Да, и мы виноваты… Но ведь товарищ наш тоже!
А Павел Андреевич, продолжая свое выступление как беседу, как размышление, теперь развивал именно эту тему:
— Да, мы виноваты. И все же разве можно считать безвинным нашего товарища? Конечно, нет. Правы те, кто его сурово осуждает. Ответственность за себя так же, как и за других, всегда была и будет важнейшей формой бытия коммуниста. Он говорит, что осуждает свои проступки, и в то же время как будто оправдывается. Лукавит? Хочу верить, что нет. Хочу ему верить как коммунисту. Если бы не верил в его честность, не голосовал бы два года назад за прием. Он ведь не враг! Поймите вы, — Бляхин обращался теперь к «подсудимому», — наше доверие — я имею в виду партийный коллектив, партию — очень высокая категория! Без его существования между коммунистами не было бы партии… Оно всегда на основе честного, бескомпромиссного отношения друг к другу. Все люди должны быть и будут в грядущем людьми среди людей.
— Павел Андреевич… Я все понял, понял. Я заслужил и ваше осуждение, и других… — вскочил вдруг «обсуждавшийся» товарищ.
— Вот так будет правильно, — сказал Бляхин совсем тихо и сел.
Теперь уже никто не стал требовать исключения провинившегося из партии. Мы все поняли урок, преподанный старым большевиком, урок настоящего подхода к персональному делу, к разбору проступка коммуниста да и вообще любого человека. Всегда — надо исследовать проступок, понять, почему человек «преступил», отнестись доброжелательно и осудить. Да, да, осудить, наказать соответственной мерой. Для того чтобы помнил, для того чтобы это помогло потом ему оглядываться на свои поступки со стороны, понимать их «общественное лицо».
Партком наш вынес товарищу выговор с занесением в личную карточку. И помнится, я увидел в глазах того, кто был наказан, непритворную радость и ни тени обычной иронии. Сам же я был расстроен. Вот поди ж ты, поддался видимости, казалось бы, самоочевидности тяжести вины и тоже повел свои мысли по неверному, простейшему пути! Это было неприятно. К тому ж партком указал мне, секретарю парткома и секретарю партбюро секции прозаиков, на необходимость постоянно помогать молодым коммунистам и т. д.
В то время мы жили с Бляхиным в одном районе, на Юго-Западе столицы: он — в «Красных домах», я — около кинотеатра «Прогресс». После парткома мы отправились домой вместе. Мне тогда показалось, что Павел Андреевич даже ждал меня в раздевалке. А потом я понял: так оно и было…
До метро «Кропоткинская» шли пешком. Бурые листья лип шуршали на тротуарах улицы Воровского. Небо хмурилось, вот-вот начнутся долгие осенние дожди. Из окон здания училища им. Гнесиных прорывались то звук трубы, то рулады вокалов. Серое предвечерье было под стать моему настроению. Я раздумывал о том, как все же нелегко разбираться в человеческих поступках и особенно в проступках! Трудно решать персональные дела обоснованно, логично и правильно.
Скамейки Гоголевского бульвара, обычно занятые, почти все свободны. Лишь на двух-трех парочки, озябшие, кутающиеся в пальто. На фундаменте, что остался от деревянного дома, где в двадцатые годы был ресторанчик какого-то кооператива, сидел огромный мрачный кот. Павел Андреевич остановился.
— Ну, здоров, бродяга! — сказал он, указывая на него.
Кот широко раскрыл яркие желтые глаза, взглянул на нас и отвернулся.
— Я думаю…
Промчался к Арбатской площади трамвай «А», «Аннушка». Конец фразы Бляхина я не расслышал. Он понял это и повторил ее:
— Я думаю, что на райпартконференции вам придется пережить неприятные минуты. Ревизионная комиссия в своем докладе, наверное, отметит, что у нас были случаи недоплаты с суммы заработка. Правда, по мелочи… А вот сегодняшний случай — исключительный. Он дает повод комиссии сказать и вкупе о мелких. Вам придется отвечать!
— Вы так думаете! Почему? Впрочем, я сам знаю почему…
Как в воду глядел Павел Андреевич! В том и была, пожалуй, причина моего плохого настроения. Близилась районная отчетно-выборная партконференция, и ревизионная комиссия, побывав у меня, уже отметила в своем акте этот недостаток в работе нашей организации. Конечно же комиссия доложит конференции в отчете о «фактах» недоплаты, и мне придется краснеть или придется в своем выступлении отвечать на критику. Перед огромной аудиторией — делегатам, партактиву.
— Да, придется, — уныло согласился я.
Павел Андреевич посмотрел мне в глаза добро и чуть сожалеюще.
— Что же вы думаете все же сказать по этому вопросу?
— Скажу совершенно откровенно — недостаточно внимания уделил воспитанию и контролю. И постараюсь объяснить, как трудно всегда бывает принимать решения по персональным делам, и в связи с этим объясню, почему либерально отнеслись к «герою» сегодняшнего обсуждения на парткоме.
— Что значит либерально? Плохое это слово! У большевиков ругательное. — Бляхин даже расстроился. — Нам не либерально надо относиться к людям, к делам и поступкам их, а честно и вдумчиво и обязательно доброжелательно. Вот как я считаю… Так и скажите на конференции: парень заслуживал очень сурового наказания, но парень способный, как говорят теперь, «перспективный», переживает, и поэтому на первый раз ограничились выговором и будем воспитывать… Впрочем, чего это я вас учить вздумал? Сами ведь, что и как, понимаете в партийной работе…
— Понимать, думаю, что понимаю немного, но учиться все время приходится. Могу только сказать спасибо вам.
Мы пошли дальше, к станции метро «Кропоткинская». Осенние сумерки сгущались, становилось холодно и промозгло. Павел Андреевич поднял воротник пальто. Снова мы долго молчали. Лишь у станции метро он сказал, как будто все время продолжал прерванную беседу:
— Помните историю К.? Тогда вы подумали, что исключение из партии для него слишком жестокое наказание? Ведь верно, так думали?
— Точно!
— Но это был единственный выход: поставить его на край пропасти. Или — или. Учитывал, предлагая исключение, что он человек честный и не слабый. К тому же прошедший войну, партийный журналист. Считал — выдержит…
— Я понял, вернее, не сразу, но понял.
— И он ведь выдержал! То, что райком перевел его в кандидаты, тоже правильно. Но в решении бюро было записано, что партком постановил справедливо. Верно?
— Точно!
— И теперь К. не пьет. Пишет. В семье дело наладилось. И снова мы приняли его в члены партии. Стало быть, помогли ему.
— Все так…
— Вот потому-то не надо «либерализма», а надо побольше подлинного партийного гуманизма.
Я вздохнул. Конечно, так. Все же трудное персональное дело тогда было, когда решалась судьба писателя К.! Впрочем, а сегодняшнее не трудное? Тоже сложное своими обстоятельствами, причинами и следствиями поступков, своеобразием характера человека. У каждого-то он свой…
Персональные дела — они всегда трудные…
ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
— Он, говорят, очень злой? Если что не так, не понравится ему, выгоняет… Верно это? — тихо спросила молодая женщина и повела черными выпуклыми глазами на дверь в кабинет оргсекретаря правления Союза писателей СССР.
Секретарша Кашинцева пожала плечами и ничего не ответила.
— Я ведь член Союза, а он? Он — наш служащий! — продолжала молодая женщина и нервно поправила косынку, потом бросила быстрый взгляд на свои ноги в старых, стоптанных туфлях и вздохнула.
Секретарша опять не поддержала разговор, и в маленькой приемной президиума Союза писателей СССР воцарилась тишина. Стало даже слышно, как возятся, чирикают воробьи на ветвях цветущих яблонь прямо перед окнами в небольшом сквере.
— Может быть, мне в другой раз прийти, Фадеева дождаться? — снова спросила писательница.
— Александр Александрович в отъезде. А по вопросам командировок принимает только Дмитрий Алексеевич.
Вскоре дверь в кабинет оргсекретаря правления открылась, и на пороге появился он сам. Среднего роста, в темном костюме и полосатом галстуке. Карие глаза под чистым открытым лбом. Редеющие, но еще волнистые каштановые волосы зачесаны назад. Выразительные, четко очерченные губы сжаты.
Он резко кивнул головой, здороваясь сразу со всеми, и, отступив назад, предложил войти в кабинет дожидавшейся его писательнице.
Через несколько минут она почти бегом, забыв притворить за собой дверь, буквально выскочила в приемную. Выпуклые глаза ее выражали непритворное удивление. Взмахнув рукой с зажатой в пальцах бумажкой, она воскликнула:
— Я же не просила! — и скороговоркой пояснила: — Сразу он разрешил командировку. Потом говорит: «Вы, женщины, натерпелись за войну. Вот распоряжение — получите ордер на туфли!» Я даже, кажется, не поблагодарила, так растерялась, так растерялась… Может быть, вернуться, поблагодарить?
И еще что-то стала возбужденно рассказывать. Я уже этого не слышал, вошел в маленький кабинет. Большой стол и шкаф делали его еще меньше.
Дмитрий Алексеевич стоял у окна, глядя на цветущие яблони. Протянул руку, крепко пожал мою. Жестом пригласил сесть и спросил отрывисто, суховато:
— У вас что? Хотите тоже поехать в командировку? Или квартирный вопрос?
Мне не понравился его тон.
— Ни то, ни другое. Может быть, у вас находится иногда время поговорить на другие темы?
Я задал этот бестактный своим плохо скрытым ехидством вопрос и сразу пожалел: какой смысл задираться? Показывать в первую же встречу с человеком, которого знаешь понаслышке, что на основании некоторых чужих суждений он тебе, пожалуй, несимпатичен…
Дмитрий Алексеевич удивленно приподнял брови и принял «бой».
Жестко, даже, пожалуй, слишком жестко, он сказал:
— Не люблю и не буду разговаривать с вами «вообще». Я на службе…
— А я по поручению нескольких членов Союза к оргсекретарю, — снова у меня не хватило выдержки и такта.
Он сдержался, спокойно спросил:
— Так что же у вас за дело?
— Вот проект журнала для юношества — приключенческого.
Дмитрий Алексеевич взял протянутые мной листки и стал их читать, показав этим, что слушать меня дальше он не намеревается.
— Александра Казанцева — он написал «Пылающий остров» — знаю, Николая Шпанова — у него «Заговорщики» — знаю, — сказал он, дойдя до подписей. — Георгия Тушкана — хороший роман у него «Джура» — тоже… А кто такой Николай Томан?
— Томан написал несколько отличных повестей в приключенческом жанре.
— Так. А вы сами? Помимо того, что во время войны в журналах и газетах?
— Несколько книжек об изобретателях, о людях и делах нашей авиации. И вообще…
— «Вообще», повторяю, разговаривать не люблю.
И вдруг совсем иным тоном, глядя куда-то в пространство, точно размышляя вслух, продолжал:
— Помните в двадцатые годы выходили журналы «Вокруг света», «Всемирный следопыт», «Всемирный турист», «Борьба миров»? Журналы эти были для молодежи полезные, хотя печатали нередко ерунду. И сейчас у нас есть неплохие научно-популярные издания — «Знание — сила», «Техника — молодежи». Они не восполняют, очевидно, жажду молодежи к фантастике, приключениям. Вы, товарищи, предлагаете заманчивую идею. Я доложу о ней руководству Союза. Но… ее поддержать не смогу!
Последнюю фразу он произнес опять суховато, глядя мне прямо в глаза. Вот те и на! Нет, этот человек не может разговаривать по душам как хотелось бы, как хочется каждому, кто приходит в секретариат Союза. Недаром, видно, о нем столь противоречиво говорят в среде литераторов. Одни превозносят: проницательный, решает быстро, без проволочек, прямо и честно высказывает свои мысли и мнения. Другие же поносят на чем свет стоит, уверяют, что не часто встретишь такого бюрократа и к тому же хама. «Уставится в упор — и как по башке дубинкой: «Повесть противоречит социалистическому реализму. Такое произведение не надо было печатать. В нем жизнь как в кривом зеркале» и т. д. Как будто он сам писатель».
Правда, таких ругателей мало. И сами-то они далеко не крепко сидят в седле Пегаса.
Между тем Дмитрий Алексеевич говорил, точно диктуя стенографистке:
— Поддержать не смогу, и вот почему. Во-первых, вы знаете, бумаги в стране мало, а потребности издательств растут везде, не только в Москве. Надо в первую очередь дать выход молодым литераторам союзных республик. Открывать журналы именно там. Во-вторых. Если ваши фантасты и приключенцы будут создавать настоящие произведения, их будут, очевидно, печатать имеющиеся литературно-художественные журналы — «Октябрь», «Знамя», «Новый мир» наконец…
Я ушел от Дмитрия Алексеевича расстроенным и в некотором недоумении.
Говорят, первое впечатление о человеке обманчиво. Говорят, первое впечатление самое верное. Говорят…
РАЗНОЕ…
Утром, как только я пришел на работу, позвонила Ася Грузинова, технический секретарь парткома Союза писателей.
— Вас вызывают в Московский комитет партии. К десяти к Дмитрию Алексеевичу.
Зная любовь Дмитрия Алексеевича, нашего бывшего оргсекретаря, а ныне секретаря МГК по пропаганде, к точности, я отложил намеченную в редакции «летучку», помчался на Старую площадь и ровно в десять вошел в его приемную.
— Вас ждут, — сказал встретившийся в коридоре помощник секретаря.
Небольшой кабинет на четвертом этаже горкома обставлен скромно и строго. Темные шкафы, письменный стол, несколько стульев и кресел. В шкафах и на столе книги, журналы… Лишь лампа под зеленым матерчатым абажуром из другого мира, домашнего.
Дмитрий Алексеевич что-то пишет в большом блокноте толстым карандашом, крупными буквами, размашисто и как-то нервно.
— Добрый день. По вашему вызову…
— Здравствуй. — Он встает, протягивает руку и, не садясь, с ходу, начинает: — Вы что же это там творите? Райком выделил вам третий избирательный участок, а вы отказываетесь? Мотивируете тем, что два достаточно, что мало людей… Мало! — повторяет он и фыркает. — Мне-то об этом ты не посмеешь сказать! Райком обманываешь? Что, не понимаешь политического значения выборов? Тогда поступи честно — попроси вывести себя из состава парткома. Какой же ты замсекретаря, а сейчас, когда Владыкин болен, ИО?!
— Дмитрий Алексеевич! У нас действительно не хватает…
— Подожди… Ты что, забыл, что такое демократический централизм? Что вышестоящие парторганизации имеют право, уставное право, приказывать нижестоящим? Что ты должен проводить их решения в жизнь, кровь из носу, а проводить? В этом залог силы нашей партии. А ты пошел на поводу у тех, кто считает, что райком не указ, что выборами заниматься писателям ниже своего достоинства! Что, дорогой товарищ, надо тебе в горкоме объяснять азы партийной работы, разъяснять, как бороться за линию партии, а не хныкать? Понял, что я тебе говорю?
Горько мне было. Такого разноса я не ожидал и не получал такого, кажется, ни от кого. И все же, прорываясь через возмущение, в моем сознании определялось отношение к тому, о чем так резко говорил Дмитрий Алексеевич. Он ведь в основном по сути-то прав! Если мобилизоваться, если поговорить с парторганизациями творческих секций, журналов, можно найти еще несколько десятков агитаторов-пропагандистов, хороших товарищей, найти и организаторов для налаживания работы агитпункта и «обслужить» третий участок.
— Так понял?
Дмитрий Алексеевич наконец сел за свой стол, откинулся в кресле и спокойно, как будто продолжая совершенно спокойную беседу, сказал!
— Общественная работа для литераторов и коммунистов и беспартийных особенно необходима по разным причинам. Многие из них «сам себе фабрика». Так ведь Маяковский определил? Другими словами — литераторы разобщены благодаря специфике, сугубой индивидуальности своей профессиональной работы. Следовательно, нам нужно, чтоб это закономерное разобщение не переходило в отрыв от жизни, чтобы не замыкались товарищи в пресловутые башни из слоновой кости. Иными словами, во-первых, важно, чтобы Союз и головная его часть — москвичи — представляли собой коллектив, а партийная организация была его ядром… Для этого нужно, чтобы лучше, активнее работали творческие секции — эти объединения для профессиональных встреч, бесед, дискуссий, творческой взаимопомощи. Вот новое здание ЦДЛ начинают строить. Будет для них места побольше. А во-вторых, нам нужно помогать литераторам общаться в полном смысле этого слова с людьми. Помогать — творческими командировками, привлечением к деятельности в общественные организации, может быть, прикреплять желающих к многотиражкам заводов и фабрик. Горком посодействует… Я понимаю, конечно, что в Союзе многие люди бывалые, с большим жизненным опытом. Однако им, уверен, кабинет и дача, круг друзей — тоже мало, недостаточно. Горький показывал пример единства творческой и общественной деятельности крупного писателя. Так вот, дорогой товарищ, выборная кампания — одна из форм такой работы, полезной, общественной, обоюдно полезной и для партии, и для литераторов. Насколько я знаю наших литераторов, в большинстве они понимают это. Как по-твоему, понимают? За исключением общественно инертных или недовольных, а такие есть, я это тоже знаю, понимаю. Да ты не молчи… Не обижайся.
— Я не обижаюсь…
— Ну вот и врешь! — рассмеялся весело, искренне Дмитрий Алексеевич. — А ну, давай, давай высказывайся по всему кругу партийной работы.
Я рассказал ему о том, как организовали мы подготовку к выборам, о ходе партийной учебы и многом другом, в том числе ответил на поставленный вопрос.
— Да, конечно, писатели-коммунисты и беспартийные прекрасно понимают значение выборов как политического выражения советской демократии, — сказал я ему. — И будут хорошими агитаторами.
Рассказал ему и об одном интересном разговоре на эту тему с известным писателем Г. М., который пришел как-то ко мне и спросил: почему у нас выдвигают только одного кандидата в депутаты по округу? Почему нельзя выдвигать двух-трех, чтобы между ними было соревнование, а избиратели могли выбрать того, который, по их мнению, наиболее подходит?
— М. я знаю. Честный человек. Но… А как ты ответил на его вопросы? — спросил Дмитрий Алексеевич.
— В общем, постарался без общих фраз. Спросил: «Как бы вы себя чувствовали, если бы мы назвали кандидатом вас, а рабочие «Трехгорки» — отличную работницу? Нам пришлось бы тогда превозносить перед избирателями писателя, а коллектив комбината вынужден был бы нахваливать своего протеже. Получилось бы явно нехорошо». М. согласился — нехорошо. И поставил вопрос в другой плоскости: а что, если он лично или кто-либо другой считают выдвигаемого кандидата неподходящим, недостойным, например, нечестным человеком? Пришлось ответить поподробнее. Сказать о том, что подбор кандидатов осуществляется продуманно. Спрашивается мнение общественных организаций, коллективов, где работает имярек. Потом его кандидатура обсуждается коллегиально в райкоме и райисполкоме, а их рекомендация еще и контролируется вышестоящими партийными и советскими органами. Ошибки, конечно, теоретически могут быть. Но случаются они в жизни исключительно редко.
«Вот вы, — сказал я М., — имеете полное право, даже более того — обязаны как гражданин сказать прямо, что такой-то выдвигаемый в кандидаты человек мерзавец. Если вы, конечно, в этом убеждены на основе фактов, а не болтовни кумушек. Уверен — ваше заявление будет проверено и, если подтвердится, кандидата отведут. Такие случаи бывали…»
— В общем ты был прав, ответил правильно, — сказал Дмитрий Алексеевич. — А как М.? С каким настроением ушел?
— По-моему, задумавшись…
— Это хорошо. Но следующий раз не забудь в подобных ситуациях сказать о роли партии. Не бойся повторять, казалось бы, известные политические истины. Творцы, знаешь, витая в своих сферах художнического опосредования жизни или в эмоциональном экстазе, часто не то чтобы забывают о них, а просто отодвигают в сторону, за ширму, в своем сознании… Ты — выборный представитель партии. Вот и напоминай к месту, что она правящая партия, что она тот общественный организм, коему весь народ вверил свою судьбу, и она ведет его вперед, к высшей стадии социального прогресса на основе нашей демократии, подлинной демократии. И не забывай, что ты сам еще не партия, а лишь ее доверенное лицо. Да что это я тебя учу, сам, наверное, все знаешь… Ну, бывай здоров.
В тот же день мы собрались в парткоме и подобрали людей для нового избирательного участка. Заведующим агитпунктом назначили недавно вставшего на учет после демобилизации полковника запаса, поэта Матвея Крючкина. Через два месяца, когда подводились итоги выборной кампании, этот участок оказался одним из лучших в нашем Краснопресненском районе.
Незадолго до ее завершения Дмитрий Алексеевич позвонил в партком по какому-то «текущему вопросу» и во время разговора спросил, как идут дела «на новом твоем избирательном участке». Получив ответ, что все нормально, удовлетворенно хмыкнул и, прощаясь, сказал:
— Вот видишь, как полезно прислушиваться к советам.
Это звучало несколько иронически! Но ведь и советы, очевидно, могут иметь различную «форму»…
ПОСОВЕТУЕМСЯ
Однажды после пленума правления Союза или общего собрания писателей-москвичей, не помню уже точно, Дмитрий Алексеевич сказал:
— Заходи завтра с утра. Посоветуемся…
К девяти я был на Старой площади и вошел в подъезд соседнего со зданием горкома партии дома ЦК. Теперь Дмитрий Алексеевич работал в Центральном Комитете, заведовал Отделом культуры.
В кабинете его не было.
— Вызвало руководство, но, думаю, ненадолго, — сообщил мне заведующий секретариатом отдела Георгий Дьяконов. — Зайдете ко мне или здесь подождите, поговорите с Антониной Васильевной?
— Со мной он посидит. Со мной… Дмитрий Алексеевич велел дожидаться и не уходить никуда — ни на шаг от меня! — улыбнулась секретарша.
Обстановка в отделе была на редкость доброжелательная и уважительная к посетителям. Любым. Вне зависимости от рангов. И в то же время, пожалуй, строгой. Как-то вот так же, дожидаясь приема, я стал свидетелем такой сценки.
В приемную вошел весьма известный кинорежиссер и потребовал, чтобы Антонина Васильевна доложила о его приходе «шефу» немедленно.
— Простите, вы условились на этот час? — спросила она.
— Да нет… Забегал здесь к… — он назвал фамилию одного из руководящих товарищей, — теперь хочу увидеть Дмитрия Алексеевича.
— Он не разрешает докладывать ему во время беседы.
— Вот еще! Я пройду сам. — Кинорежиссер решительно шагнул к обитой черной клеенкой двери, скрылся в кабинете и… через несколько секунд появился обратно, покрасневший, бормоча что-то себе под нос.
Антонина Васильевна еле заметно подмигнула мне.
— Запишите меня на завтра, точно на двенадцать… ноль-ноль, — стремясь иронией прикрыть неловкость своего положения, сказал кинорежиссер и преувеличенно вежливо, театрально раскланялся.
— До свидания. Будем ждать.
…Дмитрий Алексеевич пришел минут через пятнадцать.
— Извини. Сам понимаешь — служба. Входи. — Он явно чем-то был расстроен, хотя старался не подавать виду. — Срочное поручение, — добавил он, занимая место за столом. — А хотел поговорить с тобой по широкому кругу вопросов. Придется в другой раз.
— Скажите, когда? Я приду.
— Нет, садись. Сейчас, только напишу нашим товарищам в отделе, что надо срочно подготовить, и побеседуем.
Размашисто и нервно, немного наискось, он начал писать толстым карандашом в большом блокноте.
Кабинет Дмитрия Алексеевича в ЦК был чуть побольше и посветлее — в три окна, — чем в горкоме. Но обставлен так же скромно и строго. Помимо письменного стола был здесь еще большой стол для совещаний. На письменном, как всегда, стопки книг и журналов.
Когда только читает он их? А что читал он много, внимательно следя за художественной литературой и критикой, не говоря уже об общеполитических изданиях, это мне было хорошо известно. Возможно, Дмитрий Алексеевич обладал особой способностью быстрого чтения. Во всяком случае, много раз приходилось убеждаться в осведомленности его в том, что нового появилось в литературе и как оно оценивается критикой.
…Я смотрел на знакомое его лицо, энергичное, подвижное, утомленное, и неосознанная тревога закрадывалась в душу. В лице отражалась усталость и проглядывалась болезненность — в желтоватых бликах на висках, в тенях под глазами. Дмитрий Алексеевич никогда не жаловался на недомогание, даже своим ближайшим сотрудникам.
Написав, что нужно, он позвонил, передал листки Антонине Васильевне и, как только за ней закрылась дверь, потер обеими ладонями виски, глазницы.
— Вот в чем дело, Виктор. В Московской твоей организации состоят человек двадцать — двадцать пять писателей еврейской национальности, пишущих на идиш. Они ставят вопрос, были у меня недавно, чтобы им предоставить возможность шире печатать свои произведения на этом языке. В переводах на русский они издаются. В Биробиджане есть газеты и журнал, но там немало своих авторов. Как ты, секретарь парткома, смотришь на вопрос?
— У меня тоже был разговор с Вергелисом. Думаю, что им надо помочь. Может быть, нам создать альманах? Выпускать раза два в год?
— Почему альманах? Почему раза два в год? И вообще, почему москвичам, пишущим на еврейском языке, надо отдать предпочтение, скажем, перед армянскими или татарскими писателями, проживающими тоже в Москве? Такие ведь есть…
— Но в Ереване и Казани есть национальные издательства! База. А в Биробиджане она маломощная. Предлагаю альманах, чтобы попробовать, как пойдет дело.
Дмитрий Алексеевич усмехнулся.
— Что-то не вижу в постановке проблемы широты, политической полноты, местничеством оно попахивает…
— Я откровенно, а вы смеетесь.
— Что откровенно говоришь, я знаю. Учитываю. Не первый раз вижу. Ну, а как же быть, если еврейские писатели, живущие на Украине, например, тоже захотят выпускать альманах? Ведь во всем Союзе писателей пишущих на идиш наберется полсотни, а может быть, и побольше. И среди них есть талантливые литераторы. Нет, дорогой мой, будем издавать журнал! Месячный! Всесоюзный! Он объединит товарищей. В принципе я договорился с руководством, получил поддержку. Будем вносить предложение. Не возражаешь?
В этом формальном по существу вопросе — ведь решение о выпуске журнала было, очевидно, предрешено — отразился стиль отношений Дмитрия Алексеевича с «низовыми» работниками. Он перепроверял их мнением свои умозаключения и планы, подчеркивая тем самым доверие к ним, уважение к знанию ими обстановки, будь то организация писателей или художников, коллектив театра или киностудии. И еще что важно отметить, если говорить о взаимоотношениях его с ними, это всегдашнее желание прояснить проблему или вопрос до конца, до ее общественно-политической, творческой и организационной сущности. Сколько раз, бывало, беседуя о том или ином произведении, он, выслушав твою точку зрения и прямо, без обиняков, высказав свою, «под занавес» почти всегда обобщал, подводил итоги разговору с позиций политических, общегосударственных или философских.
Так он сделал в тот раз в разговоре об этом журнале.
— Наш журнал на еврейском языке прежде всего побудит лучше работать товарищей, пишущих на идиш, хотя их и немного. Большинство литераторов еврейской национальности воспитаны на культуре русской, украинской, грузинской и в полной мере овладели тайнами второго своего родного языка. И это очень хорошо. Это прогрессивно. Те же, кто не может писать на языке союзной республики, объединятся вокруг своего журнала. А если посмотреть шире, журнал этот, очевидно, привлечет к себе внимание передовой части литераторов, пишущих на еврейском языке, в других странах. И через него они будут узнавать правду о Советском Союзе, о национальной политике нашей партии. Следовательно, журнал поможет борьбе нашей партии за дружбу между народами. А это основа нашей ленинской внешней политики…
Завершив свое рассуждение, Дмитрий Алексеевич спросил меня еще о чем-то, а затем снова стал «советоваться».
— Вскорости, — сказал он, — предстоит назначить другого оргсекретаря правления Союза писателей СССР. Это не твоя епархия, не Московская организация. Предложение о кандидатурах вносит секретариат правления. Однако мне хотелось бы знать, как, по твоему разумению, отнесутся москвичи к таким фигурам?
И он назвал два имени.
Здесь следует сказать, что с Дмитрием Алексеевичем можно было спорить. Мне даже кажется, что он любил, когда собеседник в чем-то не соглашался с ним, настойчиво доказывал свое. Трудно, конечно, было с ним спорить. Иногда он взрывался и, если аргументация твоя хромала или была легковесной, говорил обидные вещи. Но каждый раз после такого «взрыва» он обязательно либо извинялся, либо жестом, улыбкой, шуткой показывал, что не надо обижаться на его срыв, на тон им сказанного.
— Н., — сказал я, — резок и немного заносчив. На посту оргсекретаря, боюсь, не завоюет авторитета.
— Авторитет у него есть! Он хороший писатель, коммунист. А я ведь тоже резок, разве не знаешь?
— Я говорю об авторитете среди товарищей, а он складывается в значительной мере на основе доброжелательности человека к людям, особенно если он занимает «пост». Что касается вашей… резкости, то она у меня вот здесь, — и я похлопал себя по шее.
Дмитрий Алексеевич рассмеялся.
— Ладно, ладно! Тебе достается, может, и побольше, потому что у тебя «пост» такой… нелегкий. Ну, а о другом что скажешь?
— Он нам хорошо знаком. Товарищи его уважают, кстати, и за доброжелательность. К тому же он хороший организатор, проверен на деле, когда работал в Союзе несколько лет назад.
— Я такого же мнения. А он согласится? Без нажима?
— Думаю — да.
— Ну что ж, тогда у меня все. Пока обо всем, что говорили, до решения — никому.
— Слушаюсь!
— Опять ты с подтекстом! Сразу и обижаешься. «Слушаюсь»! Видите ли, не нужно было мне напоминать тебе о конфиденсе… Преодолевай, брат, эту никчемную обидчивость.
— Да не обидчивость это, — запротестовал я, — просто так.
— Рожками боднул со своей лысины! Из озорства, что ли? — Дмитрий Алексеевич снова рассмеялся и протянул руку: — Ну, бывай, брат…
«ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВСТВЕННИЦА»
В горкоме партии было совещание. Тянулось оно довольно долго и завершилось уже после окончания рабочего дня, часов в девять вечера.
Я вышел из подъезда в зимний московский вечер. Свежевыпавший снег покрывал тротуар, улицу, одел в кружева кроны деревьев в сквере Старой площади. Было не холодно — легкий морозец, меньше десяти градусов. Снег еще не скрипел под подошвами ботинок, а лишь делал мягкими шаги.
У подъезда соседнего дома ЦК партии стоял человек в осеннем пальто и меховой шапке-ушанке. Очевидно, ждал машину. Когда я приблизился, он окликнул меня:
— Виктор! Ты куда направляешься?
Это был Дмитрий Алексеевич.
— До дому, до хаты. Голова гудит. Заседали.
— А знаешь что? Пойдем-ка пешочком. Красота пошагать по Москве в такой зимний вечер! Подышим…
Я согласился. Дмитрий Алексеевич отпустил подкатившую машину, и мы пошли. По улице Куйбышева, уже опустевшей, узкой, сжатой массивными домами.
Тротуары ее уже чистили дворники, ритмично орудуя метлами, благо снег еще не улежался, не спрессовали его прохожие. За ГУМом мы свернули на Красную площадь, светлую, сверкающую, — такой я не видел ее еще никогда. Мавзолей Ленина был похож на сказочный маленький замок. Над четко очерченными белой каймой зубцами Кремлевской стены, над куполом здания правительства ало и ярко реял государственный флаг Советского Союза.
Мы шли молча и споро. Лишь когда, обогнув Исторический музей, стали спускаться к Александровскому саду, Дмитрий Алексеевич нарушил молчание.
— Не часто, но я хожу этим путем или через Кремль пешком, — сказал он. — И каждый раз как будто ветер истории касается меня. Великой истории России, Октябрьской революции, нашего пути в будущее. Не усмехайся этим словам. Они лишь кажутся пышными погрязшим в «текучке». Да, ветер истории… И он меня освежает.
Мы вошли в чугунные ворота Александровского сада. Ни одного человека на аллеях. Лишь у Вечного огня памяти павшим в Великой Отечественной войне замерли фигуры солдат почетного караула, часовых Родины. Огонь иногда вспыхивал сильнее, и тогда голубые блики ложились на одежду, лица, автоматы часовых, на елочки у постамента…
Мы постояли немного у Вечного огня, а когда двинулись дальше, Дмитрий Алексеевич начал читать… «Орлеанскую девственницу» Вольтера:
Я не рожден святыню славословить, Мой слабый глас не взыдет до небес, Но должен я вас ныне приготовить К услышанью Иоанниных чудес. Она спасла французские лилеи, В боях ее девической рукой Поражены заморские злодеи, Могучею блистая красотой, Она была под юбкою герой.Мы дошли уже до конца Александровского сада, точнее — до выхода из него у Боровицких ворот Кремля, а Дмитрий Алексеевич все читал и читал звучные, яростные, часто ядовитые стихи великого вольнодумца далекого восемнадцатого века.
И еще мы бродили долго по все затихающим улицам Москвы. Прошли по улице Фрунзе, стекающей к Кремлю от Арбатской площади, по самому кривому арбатскому «ущелью», по Садовой в сторону улицы Горького. А он все читал и читал «Орлеанскую девственницу», теперь уже песнь вторую, почти без запинки, лишь очень редко ошибаясь в том или ином слове и тут же поправляясь.
— Ух, озорник, ух, как он песочит церковников и глупость людскую! — говорил иногда Дмитрий Алексеевич в паузах, когда приходилось ждать зеленого света у светофоров.
У героини конь обязан быть; У злого ль конюха его просить? И вдруг осел явился перед нею, Трубя, красуясь, изгибая шею. Уже подседлан он и взнуздан был, Пленяя блеском золотых удил, Копытом в нетерпеньи землю роя, Как лучший конь фракийского героя. Сверкали крылья на его спине, На них летел он часто в вышине… Пока же я тебя предупреждаю, Что тот осел довольно близок к раю.Поначалу я немного удивился: с чего бы ему «угощать» меня старой поэмой, стихами? Но чем дальше слушал обычно резковатый его голос, немного торопливо, но четко произносимые фразы, тем поражался все больше. Теперь уже памяти человека. То, что Дмитрий Алексеевич великолепно знал «текущую» литературу, мне было известно. Он читал множество выходящих из печати, «свежих» книг — произведений современных писателей. Об этом рассказывали библиотекари и писатели, беседовавшие с ним о своих новых работах. Он смотрел все выходящие в театрах спектакли и часто бывал на концертах. Он внимательно знакомился с выставками живописных и скульптурных произведений. Оказывается, находил он время при огромнейшей своей занятости и теперь, и ранее на то, чтобы знакомиться с русской и иностранной классикой. Притом как знакомиться! Наизусть запоминать полюбившееся…
Как-то потом я рассказал о нашей вечерней прогулке по Москве и что он читал мне «Орлеанскую девственницу» по памяти заведующему секретариатом Отдела культуры Георгию Дьяконову.
— Он и мне читал! — воскликнул Георгий. — И не только эту поэму. «Теркина» еще, «Онегина»… От «А» до «Я».
Где-то около площади Восстания Дмитрий Алексеевич закончил читать третью песнь поэмы:
Так ночью сумрачное божество С чернеющего трона своего Бросает вниз на нас мечты и маки И усыпляет нас в неверном мраке.— Ну, пожалуй, хватит!
— Здорово, — сказал я. — Вот уж не предполагал…
— Что партийный деятель даже «Орлеанскую» почему-то прочитал и запомнил? — прервал меня он. — Каюсь, люблю Вольтера. Люблю вообще хорошие стихи и хорошую прозу. Да и, кроме того, как же мне при моем деле не знать литературы? Чувствовал бы себя иначе по-дурацки и попадал бы впросак! Ты же первый заговорил бы со мной о новом романе Георгия Маркова или рассказах Сергея Антонова и увидел бы, что я ни бе ни ме, «плаваю» и… что бы подумал?
— Объять необъятное невозможно, — сказал я.
Дмитрий Алексеевич остановился.
— Ну, это ты ляпнул, секретарь! — В тоне его прозвучали резкие нотки. — Ну, не ожидал от тебя такой дурацкой формулировки. Ты что же, хочешь прикрыть ею, как многие прикрывают, свою инертность, равнодушие, безразличие, лень?
— Дмитрий Алексеевич! Да вы что, серьезно?
— Да, серьезно, — совсем уже резким тоном отрезал он. — Давно, тыщи лет, говорят: «Лень — мать всех пороков». Верно говорят люди…
Но сейчас же улыбнулся. Хорошая, мягкая улыбка тронула его выразительные губы. Вздохнул.
— Конечно, объять необъятное невозможно. И эта формулировка придумана народом. Однако считаю, что, осознавая это, нельзя ею оправдываться. Считаю, что в своей области, как это говорится, надо знать все об одном и много обо всем. Во всяком случае, стремиться к этому постоянно, хоть это и ох как трудно! Сутки-то состоят из двадцати четырех часов. А жизнь… не так уж протяженна.
Мы распрощались у станции «Маяковская». Я поехал домой на метро. Что же, еще одни урок дал мне этот человек… Были и еще уроки.
ДОВЕРИЕ И ДОВЕРЧИВОСТЬ
В Московской организации состоит более четверти всех членов Союза писателей СССР и очень многие, наиболее известные и талантливые прозаики и поэты, драматурги и критики. Поэтому каждое общее или партийное собрание в нашей организации всегда было для нее значительным событием. На собраниях обсуждались итоги труда и общественной деятельности писателей-москвичей, важные вопросы направления и дальнейшего развития советской литературы, существенные проблемы творчества.
Естественно, что наш партком и руководство Московской организации всегда много думали над тем, как сформулировать повестку дня, кому поручить доклад, какие советы дать этому товарищу, чтобы его выступление заинтересовало, вызвало желание коммунистов взять слово и высказаться. Конечно, партком советовался о повестке дня, как обычно, с райкомом и горкомом партии и в этот раз. Один ум, как говорят, хорошо, а два — лучше.
На общем партийном собрании тогда было намечено обсудить актуальный вопрос о современной теме в творчестве писателей-москвичей, и в первую очередь коммунистов, и тем самым об их ответственности за дальнейший подъем литературы социалистического реализма. А докладчику мы решили посоветовать не ограничиться анализом положительных явлений и покритиковать неверное понимание проблем, проявившееся в рассуждениях некоторых наших товарищей на обсуждениях в секциях и на страницах газет и журналов. Например, о якобы необходимости так называемого «пафоса дистанции» для создания произведений на современную тему или следовании «теории бесконфликтности».
Однако не смогли мы окончательно решить важнейший вопрос: кому поручить сделать на собрании доклад?
Было у нас три кандидатуры. Какой из них отдать предпочтение, чтобы доклад получился интересным? Я позвонил Борису Сергеевичу Рюрикову. В то время он работал заместителем заведующего Отделом культуры ЦК. Рюриков, один из крупнейших критиков и литературоведов, превосходно знал «продукцию» писателей и многих из них лично. Высокий, чуть сутулый, худощавый и рыжеволосый, Борис Сергеевич часто появлялся на обсуждениях книг в ЦДЛ, и его не надо было упрашивать выступать. Если произведение интересовало его, он прямо высказывал свое мнение о нем, неторопливо, аргументированно, с юмором. Нередко мы советовались с ним по текущим делам. Но на этот раз Борис Сергеевич, выслушав, кого мы намечаем в докладчики на собрании, отказался дать свою рекомендацию.
— Вопрос на повестке дня серьезный. Важно, чтобы выступил крупный писатель. Среди тех, кого вы назвали, двое как будто подходят. Но знаете, посоветуйтесь с Дмитрием Алексеевичем. Он сейчас немного нездоров, сидит дома, а все же к телефону подходит…
Я позвонил Антонине Васильевне и попросил ее выяснить, сможет ли поговорить со мной по телефону три минуты «шеф». Дмитрий Алексеевич сказал, что «если сложное дело», я приехал бы к нему теперь же.
Дмитрий Алексеевич занимал небольшую квартиру на Кутузовском. Скромно обставленную, с огромным количеством книг в кабинете, в «общей» комнате, в передней.
Встретил он меня веселой шуткой, хотя чувствовал себя, видимо, не очень-то хорошо. Покашливал. Потирал грудь. В домашнем теплом пиджаке, в темных тапочках, он совсем не производил впечатление строгого, суховатого человека, как «при исполнении».
Усадив меня в кресло, извинился, что «заставил» приехать, а затем сам повел разговор.
— Вот что, Виктор, о твоем деле чуть потом. А сейчас, чтобы не забыть («Он-то забудет! Как бы не так!» — подумал я), хочу тебе в двух словах сказать вот о чем. За последние лет десять ваша парторганизация приняла в партию ряд хороших писателей: Прилежаеву, Скорино, Первенцева, Михалкова, Казанцева, недавно Катаева. Но думаю, что среди беспартийного творческого актива у вас есть еще немало таких товарищей, которые тянутся к партии, которым глубоко дороги ее идеалы. Пораскиньте мозгами! Может быть, кто-либо из них по ложной скромности, или, что, конечно, хуже, из-за остатков невытравленной обывательщины стесняются прийти к тебе, подать заявление. Помогите им сделать этот важный шаг в своей жизни. Нет, нет, отнюдь я не зову проводить «призыв в партию» или как-то «тащить» в наши ряды людей вообще. Вопрос стоит иначе; а именно, повторю: помогать надо тактично и умно, давая понять, что прием в партию — доверие партии к нашей народной интеллигенции. И вот тут нельзя ошибиться! Доверять — одно, проявить доверчивость — другое… А в таком деле она преступление.
— Я не могу не согласиться с вами, Дмитрий Алексеевич. Будем шевелить мозгами. У нас действительно есть в организации достойные товарищи. Например…
— Подожди, не называй имен. Не торопись показать, что ты ух какой умный, все знаешь, на все имеешь ответ. Посоветуйся с коммунистами. С Гусом — этот человек один из наиболее грамотных, знающих марксистов среди критиков и к тому же замсекретаря парткома. С Васильевым Аркадием, с Исаковским, Сергеем Сергеевичем Смирновым… Дело пополнения рядов — ответственнейшее дело… Ну, а теперь давай твой вопрос.
Я рассказал, что мы готовим собрание и в чем у нас пока нет единого мнения. Назвал кандидатуры докладчиков.
Дмитрий Алексеевич откинулся в кресле и некоторое время раздумывал, даже иногда пошевеливал губами, точно повторяя названные мной фамилии писателей.
— Ну что же, — начал он, приняв, очевидно, решение, — все трое подходят. И тот, и другой, и третий сделают доклады, за которые тебе краснеть не придется, и поправлять их по принципиальным идейным вопросам будет не нужно… — И вдруг спросил: — А четвертой кандидатуры у вас нет? Или у тебя лично?
Я развел руками…
Дмитрий Алексеевич подмигнул.
— А у меня есть! Только что мы говорили о доверии. Так вот, как ты посмотришь на то, чтобы оказать доверив и… поручить выступление на партийном собрании молодому коммунисту, еще кандидату в члены партии… Катаеву Валентину Петровичу?!
Теперь я уже задумался и не сразу дал ответ.
Катаев, один из крупнейших советских писателей, одно время мало принимал участия в общественной жизни нашей Московской писательской организации. Потом редактировал журнал «Юность», потом стал чаще бывать на обсуждениях… И не так давно пришел в партком и сказал о своем желании вступить в КПСС. Я очень уважал его за большой талант и большой острый ум и был искренне рад, когда это случилось. Конечно же Валентин Петрович сможет сделать отличнейший доклад. И действительно, такое партийное поручение будет проявлением доверия к нему как к молодому коммунисту. Но — согласится ли он?
Такой полувопрос я и задал Дмитрию Алексеевичу.
Он отреагировал, как обычно на такие неуверенные вопросы или мнения, взрывчато:
— Что я, бабка-угадка тебе! Что, ты хочешь поставить меня в дурацкое положение?! Скажу — «да», а он — «нет». Тогда выйдет — зря я болтал, так? Нет уж, секретарь, извольте сами, если откровенно согласились с моим предложением, проводить его в жизнь.
И, как всегда, Дмитрий Алексеевич сразу же отошел и спокойно, хотя и не без некоторой иронии («посоветую тебе как старший по званию»), сказал, что если с Валентином Петровичем поговорить по душам, он, наверное, согласится… Потом предложил чаю…
Катаев согласился сделать доклад и выступил на общем собрании великолепно, умно и остро, что предопределило активный дальнейший разговор в прениях. Вышестоящие партийные органы оценили потом это собрание хорошо, как нужное и полезное для Московской писательской организации…
Слов нет, много помогал мне в работе Дмитрий Алексеевич. Да разве одному мне?! Многим и многим. Вероятно, мне только казалось, что мне особенно много. Во всяком случае, в период моего секретарства в Московской организации писателей не проходило, пожалуй, и недели без того, чтобы я не слышал его голос по телефону: то он наводил какую-нибудь справку, то давал совет…
Когда же закончилось мое секретарство, он сказал:
— Пойдешь работать в кино. Там вскоре будут организационные перемены. Надо привлечь к кино больше литераторов.
И вскоре состоялось решение о создании Государственного комитета кинематографии Совета Министров СССР.
На Новодевичьем кладбище серая плита со стелой лежит над могилой Дмитрия Алексеевича Поликарпова. Дата рождения — 1905 год, дата смерти — 1965.
Он умер от сердечного приступа в самом расцвете творческих сил. Короткая черточка между двумя датами вмещает его жизнь, прекрасную и полезную жизнь горевшего и сгоревшего на огне своего темперамента человека. Замечательного человека.
Я узнал о скоропостижной смерти Дмитрия Алексеевича, возвратившись из командировки в Бразилию, на аэродроме «Шереметьево». Встречавшие сказали:
— Знаешь? Поликарпова вчера похоронили.
Радость возвращения на родину померкла. Большую утрату понесла наша культура, хотя не был Дмитрий Алексеевич ни поэтом, ни художником. Он обладал другим, не менее редким, чем художественный, талантом содействовать людям в их делах на благо родины, творческим людям в особенности. Мир твоему праху. Многие, очень многие тебя не забудут. Никогда не забудут.
ЛЮДИ И ЖИЗНЬ НА ДРУГОМ БЕРЕГУ
ИЗ ПАРИЖСКИХ ЗАПИСЕЙ
СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ
Одна из самых известных улиц Парижа — авеню Елисейские поля — широкий проспект, обрамленный невысокими платанами. Он протянулся километра на два от площади Согласия до площади де Голля (ранее — Звезды). Небольшая круглая площадь Ронд пуан (Круглая точка) делит Елисейские поля на две почти равные, но резко отличающиеся друг от друга части.
От Ронд пуан до площади де Голля — так сказать, «городская» половина авеню. По обеим сторонам его — широченные тротуары, шести-семиэтажные дома, яркие витрины дорогих магазинов, первоклассные кинотеатры, кафе, кабаре, редакции крупных газет.
Другая часть Елисейских полей, от Ронд пуан до площади Согласия, пересекает старый парк, и она почти не застроена.
Между этой парковой частью авеню и Сеной есть два огромных здания под полукруглыми крышами. Это Большой и Малый дворцы. Они никогда не были резиденциями королей или президентов. Построили их для Парижской выставки в самом начале нашего века. В Малом дворце уже давно помещается Музей искусств парижского муниципалитета, а Большой отдан университету — Сорбонне — для популяризации наук и различных выставок.
В музее Малого дворца экспонируются картины и фарфор, ковры и старая мебель, эстампы, книги, монеты и т. д. Нередко устраиваются выставки работ художников прошлого и наших современников. Несколько лет назад там была, например, выставка Анри Матисса. В экспозиции ее были несколько полотен из советских музеев — Эрмитажа, имени A. С. Пушкина и других.
Однажды я прошел по его залам. Запомнилось мало. Пожалуй, только ковры и причудливая мебель XVIII века. А вот Большой дворец посетить мне не удавалось, хотя друзья не раз советовали побывать в расположенном в этом здании особенном музее, посвященном достижениям науки и техники, — Дворце открытий.
…Я вышел из отеля воскресным утром, как обычно, пораньше.
В утренние часы, особенно в воскресенье, в парковой части Елисейских полей малолюдно. Туристы, как говорят французы, еще принимают «пети дежене» — маленький завтрак, а парижские мамы и бабушки с малышами выходят сюда, как и в другие парки и скверы, попозже.
Прошагав по хрустящим гравийным тропинкам под гигантскими каштанами более полукилометра, почти до улицы Мариньи, я встретил не более десятка прохожих.
До десяти, до открытия музея, времени было еще много, и, чтобы не дожидаться около его входа, я присел на скамью в тени старого дерева-гиганта. За стволами деревьев и кустарников прямо передо мной виднелся золоченый переплет ограды Елисейского дворца — резиденции президента Французской республики.
Слышно было, как возились в кронах деревьев воробьи и ворковали горлинки.
По краю проезжей части авеню несколько плотников сооружали трибуны для приглашенных на традиционный парад в честь Национального праздника Франции — 14 июля, дня взятия народом Бастилии.
Однако стук молотков и шум проносившихся за моей спиной машин мало нарушали своеобразный покой и тишину парка.
Один из немногих прохожих, пожилой сухощавый человек в форменной каскетке швейцара отеля или служителя какого-то оффиса, остановился перед скамьей, на которой я сидел.
— Разрешите, мсье?!
— Пожалуйста.
Усевшись, он снял каскетку, пригладил редкие, седеющие волосы и глубоко вздохнул.
— Хорошо!
— Очень!
Ему, видимо, хотелось поговорить, и, помолчав немного, он сказал:
— Извините. Вот вы курите. Но это же вредно!
— Привычка.
— Я, между прочим, тоже курю. Только мало…
— Хотите?
— Американские? О, вы иностранец, американец? — в голосе его послышалась настороженность.
— Нет. Русский… из Москвы.
Он сделал непроизвольное движение, точно хотел отодвинуться, и поправил галстук. Потом улыбнулся.
— Может быть, вы шутите?
— Нисколько.
— Странно.
— Почему?
— Извините, мсье. Но я в первый раз в жизни, а я уже немолод, как видите, разговариваю с русским, советским. Можно задать вам вопрос?
— Ну конечно! Любой!
— Во время войны… мы очень вас любили. Потом вы сделали бомбу и стали угрожать всем. Зачем вы хотите подчинить себе весь мир и нас, французов?
Я не выдержал и рассмеялся. Он немного смутился:
— Простите, мсье, за этот прямой вопрос.
— Простите меня за несдержанность. Но, ей-богу, ваши слова не могут не вызвать у советских людей смеха. Со всей искренностью отвечу вам — это сущая чепуха! Никогда, слышите ли, никогда советские люди и не помышляли о том, чтобы кого-нибудь «подчинять», угнетать.
— Нет, мсье, простите, вы говорите это неискренне! Всем известно, что коммунисты требуют мировой революции. Разве не так?
— Не так. Коммунисты действительно считают, что, рано или поздно, социализм сменит капиталистический строй. Но каждый народ совершит свою социалистическую революцию по-своему.
Мой собеседник недоверчиво покачал головой.
— Это все пропаганда. А потом… бросите бомбу, придут казаки…
Он, не договорив, махнул рукой.
— Теперь кавалерия не в моде, — попытался пошутить я.
— По привычке придут, — сказал он сухо и недобро усмехнулся. — Ведь они уже были здесь. Вот именно здесь, на Елисейских полях, стоял их лагерь. Посмотрите.
Я поднял голову и увидел на ребристом сером стволе могучего дерева, метрах в четырех над нами, ржавый железный крюк, еле выступавший из складок коры.
— Это осталось с тех пор, — продолжал мой собеседник, указывая на крюк. — Сюда казаки привязывали веревки от своих шатров или поводья лошадей…
Что ж! Это возможно. Ведь после разгрома Наполеона русские войска вступили в Париж, и некоторые части армии Александра I стояли лагерем в пределах столицы Франции, а казаки Платова где-то здесь, на тогдашней окраине города. Помнится, французский романист Дрюон писал об этом… Может быть, действительно этот ржавый крюк в теле каштана — вещественное свидетельство далекой эпохи? Но что ответить моему собеседнику? А не ответить нельзя. Это было бы нечестно — не ответить.
Он встал и надел каскетку.
— Мне пора идти на работу, мсье, — сказал он. — Спасибо за беседу. Извините.
— Одну минутку, — остановил я его и сказал примерно следующее: — Трудно несколькими словами переубедить вас. Но прошу — подумайте! Вы ведь знаете — русские пришли в тысяча восемьсот тринадцатом году в Париж, после того как Наполеон побывал с мечом в Москве. Не мы начинали эту войну. Не собирались начинать мы войну и против фашистской Германии. Уже почти полвека назад советское правительство предложило всем государствам ликвидировать свои вооруженные силы. С тех пор оно не перестает предлагать всеобщее разоружение.
Подумайте, мсье, об этих фактах истории! И вспомните еще, что в двух мировых войнах мы были союзниками против агрессора. И что в Париже есть площадь Сталинграда — города на нашей великой реке Волге. И не случайно, особенно последние годы, между нашими государствами все шире развивается сотрудничество, торговля. Мы ведь всегда были и будем за дружбу и мир…
Мой собеседник промолчал, отсалютовал по-армейски и, повернувшись, быстро зашагал по аллее. А я посидел еще минут десять и пошел к переходу через авеню Елисейских полей. Сегодня, в воскресенье, широченная авеню казалась просторнее. Триумфальная арка вдали четко вырисовывалась на фоне неба.
Обогнув на той стороне небольшой сквер с памятником Клемансо, я вышел на авеню Александра III и зашагал по направлению к Сене.
Справа от меня поднялась колоннада фасада Большого дворца, слева за деревьями открылось кокетливое здание Малого. Над фасадом Большого четверка тонконогих коней мчала в небо колесницу бога Меркурия.
В основном корпусе Большого дворца расположены планетарий и несколько выставочных и лекционных залов. В одном из них весной, в год столетия со дня рождения В. И. Ленина, была выставка, посвященная жизни великого человека. Ленинская выставка пользовалась огромным успехом. Тысячи парижан посетили ее.
А в связи с пятидесятилетием Советского Союза здесь была открыта другая выставка — о достижениях нашей страны, тоже привлекшая большое внимание парижан.
Вход в музей Дворец открытий находится на другой стороне здания, на авеню Франклина Рузвельта. Вход украшен скульптурами. По краям цветники. Входные билеты продавала в холле седая женщина.
— Осмотр мы рекомендуем, мсье, начать со второго этажа. Вот по этой лестнице поднимайтесь направо, — сказала она.
После солнечной улицы в зале, куда я прошел, было очень темно. Дневной свет еле сочился сквозь синие шторы. Лишь через несколько минут смог разглядеть карты звездного неба, астрономические схемы, фотовитрины.
Как в планетарии, на полусферическом потолке искрились звезды. Топорща тонкие рожки, желтел серпик луны. Мерцали туманности. Тускло светящийся хвост кометы поднимался над горизонтом.
Экспозицией «Вселенная» начинался первый, астрономический раздел Дворца открытий. Посетители знакомятся здесь с общими характеристиками нашей Галактики. В следующем зале — он тоже в синем полумраке — рассказывается о солнечной системе. Помимо схем и витражей, тут было несколько моделей в движении. Дальше, в небольшой комнате, в черном кубическом шатре медленно вращался рельефный лунный глобус метра полтора в диаметре. А перед ним в наклонном плоском ящике за стеклом на белой ткани — четыре крупинки, каждая не больше гречишного зерна. Крупинки неровные, серого, чуть коричневатого оттенка. Такие невзрачные и маленькие. Но нельзя было без волнения глядеть на них! Ведь это было реальное лунное вещество! Невольно я подумал, что менее полувека назад идея полета «вне Земли», в космос, казалась далекой, почти фантастической мечтой. И вспомнил Константина Эдуардовича Циолковского. Встречи и беседы с этим удивительнейшим человеком в светелке его домика на Коровинской улице в Калуге, на краю города, над широким простором поймы Оки и потом в его новом доме, на той же улице, называемой уже улицей Циолковского, в нагорной ее части, в хорошем, просторном доме, подаренном ему советской властью к семидесятипятилетнему юбилею.
Много лет прошло с тех пор. И все же разве можно забыть тихий, глуховатый голос старика в седой, курчавой бороде, улыбающегося глазами совсем молодыми?! И его слова:
«Пройдет еще много лет, прежде чем человек шагнет в космос. Может быть, сто, может быть, двести лет… Но я верю, я уверен. Земное притяжение будет преодолено. Ракеты сначала завоюют атмосферу и сменят аэропланы, потом околоземное пространство…»
В следующем зале Дворца открытий рассказывалось, что сделано наукой и техникой в последние годы в решении величественной проблемы завоевания космоса.
В том зале тоже есть глобус. Он тоже медленно вращается. Это модель нашей Земли, увиденной «со стороны» — из космического корабля. Голубоватая, пестрая, в светлых закорючках циклонических вихрей, в темных пятнах океанов и желтовато-зеленых материков, проступающих через хаос белых облачных масс. Вокруг, на стенах зала, витражи с фотографиями и схемами спутников и первых космических кораблей. Среди них портрет Юрия Гагарина. К сожалению, портрет неважный, не передающий даже в малой степени обаяния этого человека. Рядом на стене и фотографии американских космонавтов, побывавших на Луне. Есть портреты Ньютона и других ученых. Но увы, не увидел я портрета Циолковского!
За «космическим» залом в нескольких небольших комнатах экспозиция, посвященная планетам солнечной системы и вечным странникам вселенной — кометам и метеоритам.
Небольшая витрина с каменными и железными «небесными скитальцами». И фотовитрина, мимо которой я прошел сначала, не обратив внимания на то, о чем говорили снимки и схемы под ее стеклянной одеждой. Лишь случайно обернувшись, я увидел в центре этой витрины фотографию, которую когда-то сделал сам!
…Пологий склон горы. Серое небо над ним. И сотни сваленных, вырванных из земли с корнями вековых таежных деревьев, как бы кем-то уложенных бесконечными рядами, вершинами в одном направлении.
Старая моя фотография! Какими судьбами она попала сюда? Она сделана бог знает как давно, во время экспедиции профессора Леонида Алексеевича Кулика в центр Сибири, в Тунгусский — эвенкийский край, к месту падения гигантского метеорита 1908 года.
«Большой Тунгусский метеорит», — читаю я под своей старой фотографией и схемой места падения, копией начерченной тогда самим Куликом. А ниже несколько слов на пишущей машинке:
«Метеорит имел вес около сорока тысяч тонн. Профессор Кулик исследовал место падения и обнаружил более двухсот кратеров диаметром от 1 до 50 метров. Ели и сосны обожжены взрывом и лежат на земле. На площади до восьми тысяч квадратных километров погибло 80 миллионов деревьев».
Да, все это так! Огненный смерч от взрыва «небесного скитальца», ворвавшегося в земную атмосферу со своею космической скоростью, действительно разметал тайгу на огромной площади там, в междуречье Подкаменной Тунгуски и Хатанги. Как сейчас, я вижу перед собой с вершины горы, куда мы с Леонидом Алексеевичем взобрались нагруженные геодезическими приборами, цепь таких же конических гор — холмов, полукольцом охватывающих долину Большого болота и лежащий лес на их склонах.
Молодая поросль березок и осин, пробиваясь через скелеты поверженных таежных великанов, уже тянется к солнцу, и поэтому горы вокруг покрыты будто зеленым ковром со странным, темным штриховым рисунком.
Я фотографирую «страну мертвого леса», к сожалению, на черно-белые пластинки. И поэтому вот сейчас перед моими глазами за стеклом витрины парижского Дворца открытий в общем-то серенькая, невыразительная фотография. Да еще выцвела она с годами.
…И все же я вижу голубое, чистое небо над горами, зеленеющие их склоны; бурое, поросшее багульником дно долины в пятнах и вмятинах, похожих на кратеры; серо-стальные, уже побеленные дождями и ветрами ряды стволов сосен и кедров, сваленных фантасмагорическим вихрем, и лиловые метелки цветов иван-чая, мешающие мне снимать деревья крупным планом. Я слышу восторженный голос Леонида Алексеевича Кулика:
«Посмотрите, посмотрите, Витторио! Совершенно ясно — центр падения был именно здесь, в этой долине! Отсюда ударная волна воздуха, возникшая при падении, покатилась во все стороны и развалила лес по радиусам. На запад, юг, восток и север! А теперь за работу! Ставьте треногу теодолита! Будем привязывать вершины гор к нашей геодезической сетке и называть эти безымянные сопки. Это наше право, право первых, пришедших сюда, на белое пятно на карте… Устанавливайте теодолит на треноге, Витторио!»
Леонид Алексеевич размахивает руками, смеется. Он несказанно рад. Я тоже счастлив всей полнотой возможного человеческого счастья, особого, невероятно яркого счастья первооткрывателей.
«Вот эту горушку назовем пиком академика Вернадского, — продолжает Кулик. — Владимир Иванович, конечно, будет ругаться… Но ничего! Он так много помогал нам в подготовке экспедиции. Сопку справа давайте окрестим вершиной Хладни. Чех много сделал для метеоритики… Ну а эту, на которой наконец вы сейчас установили наш теодолит, первый теодолит в этой точке земного шара, тоже посвятим ученому-метеоритчику Фарингтону. Следующую же отдадим французам. Паскалю? Согласны? Салютуем им!»
Кулик рывком срывает с плеча винтовку, и три выстрела хлопают и тонут в безмолвии «страны мертвого леса».
Мрачна панорама катастрофы вокруг нас…
«Тогда страшно было… Ой, паря, страшно», — слышу я хрипловатый голос старого эвенка Лючеткана. Мы с Леонидом Алексеевичем уговариваем его стать нашим проводником от Подкаменной Тунгуски в безлюдный район к северу от нее. По собранным Куликом в первой поездке в Сибирь свидетельствам очевидцев полета в небе раскаленного тела — болида и расчетам, там должен был упасть метеорит 30 июня 1908 года…
Год назад он ведь уже добрался до «страны мертвого леса».
«…Тогда небо гремел. Огонь с неба шел. Тайгу палил. Олешек палил. Деревья падали. Ой, страшно, страшно было. Нет, туда тебя, Кулик, не поведу. Плохо будет. Погибнем…» И отказался быть проводником…
— Вам плохо, мсье?
Я оборачиваюсь. Позади меня стоит тот самый пожилой француз, мой собеседник в парке на Елисейских полях.
Он участливо смотрит на меня:
— Вы нездоровы, мсье? Вы стоите уже несколько минут с закрытыми глазами перед этим стендом.
— Да нет, я просто задумался. Вспомнил… молодость.
Опять он, наверно, не поверил мне и предложил проводить к выходу. Я согласился. Как-нибудь в другой раз обязательно приду во Дворец открытий для свидания с прошлым, с молодостью и тогда досмотрю экспозицию музея. Прощай, старая фотография!
Служитель молча ведет меня кратчайшим путем вниз, мимо стендов раздела химии, где разноцветными шариками на сложных проволочных конструкциях светятся модели молекул — простых и огромных, сложных полимеров, где на стендах пластмассы и другие вещества, ставшие сущими в природе по воле человека.
Экспозиция Дворца открытий огромна. Она охватывает все основные отрасли науки. Это великолепный центр наглядной пропаганды знаний, поисков, свершений человеческого гения.
— Оревуар, мсье. Приходите еще. Лучше в прохладную погоду. А о том, что вы мне сказали там, я буду думать…
Мы останавливаемся у входа в холл, чтобы пожать друг другу руку.
В этот момент в дверь стремительно вошли двое.
— Пардон, мсье. Пардон.
Невысокий, кругленький, темноглазый господин, в отлично сшитом костюме, отскочил в сторону, освобождая мне путь. Я поблагодарил его и шагнул в дверь. В это время служитель наклонился к нему и что-то сказал. Невысокий господин заулыбался и устремился ко мне:
— Мсье! Мсье! Одну минутку. Разрешите представиться. Арну, помощник хранителя. Как вы себя чувствуете?
— Спасибо. Нормально.
— Разрешите приветствовать вас. Вы из Москвы?
Говорил он так же темпераментно и быстро, как и двигался.
— Да. Вот немного познакомился с вашим интереснейшим дворцом.
— Немного? Очень жаль. И все же осведомлюсь о вашем впечатлении?
— Я как раз хотел сказать, что очень доволен посещением, что экспозиция у вас богатая, разносторонняя, часто оригинальна, с выдумкой.
— Может быть, разрешите пригласить вас присесть? Вот здесь. На две минуты. — Он повернулся к служителю: — Мсье Жан, проводите коллегу, — тут он произнес фамилию, которую я не запомнил, — в кабинет директора. — И снова атаковал меня: — Садитесь, садитесь, пожалуйста. И разрешите вас спросить. Вы, конечно, ученый?
— Нет, литератор.
— О, превосходно! — воскликнул он.
Однако можно было понять, что он подумал: «Ну и это неплохо».
— Наш служитель, мсье Жан, сказал мне, — продолжал помощник хранителя, — что у вас закружилась голова в зале, посвященном метеоритам. Может быть, вы нуждаетесь в медицинской помощи? Так жарко сегодня!
— Нет, спасибо, мсье. Я просто задумался у стенда Тунгусского метеорита. Я как бы шагнул в молодость.
— Пардон?
— Там, на стенде, есть фотография… Я сделал ее более сорока лет назад… в экспедиции профессора Кулика…
Мсье Арну вскинул руки:
— О, это удивительно! Удивительно! Простите, я не специалист по астрономии… Но, насколько я помню, не найдено ни одного кусочка этого гигантского метеорита?
И я рассказал ему об истории поисков «тунгусского дива».
Тогда мы не нашли осколков метеорита ни в долине, ни на склонах гор, окружающих место его падения. Не нашел их профессор Кулик, побывавший здесь еще раз в тридцатых годах. Он героически погиб в годы второй мировой войны. Его исследования продолжали сотрудники Отдела метеоритики Минералогического музея Академии наук СССР и молодые исследователи из Тюмени, Уфы, Свердловска, Ленинграда в пятидесятых и шестидесятых годах. Они тоже не нашли осколков.
Тайна катастрофы в далеком таежном краю так и осталась тайной. Многие ученые считают, что эта катастрофа вызвана взрывом ядра небольшой кометы, столкнувшейся с Землей 30 июня 1908 года. Некоторые писатели-фантасты утверждают, что в тот день над котловиной меж гор имени Вернадского, Хладни, Фарингтона, Паскаля произошел атомный взрыв и здесь погиб космический корабль разведчиков иных цивилизаций вселенной.
— Удивительно! — снова вскидывает вверх руки мой собеседник. — А может быть, они и правы? Но, простите, вы сейчас назвали имена известных ученых, в том числе французского…
— Их именами профессор Кулик окрестил вершины конических гор там, в краю эвенков-тунгусов.
— Но это же прекрасно! Вспомнить о нашем ученом!
Затем стремительный помощник хранителя, с трудом сдерживавшийся во время моего рассказа, засыпал меня вопросами. Его интересовало многое, но главным образом, как в Советском Союзе пропагандируется наука, какие есть музеи, популяризирующие научно-технические знания, кроме известного ему Политехнического, что самое интересное в этих музеях.
В его вопросах, в реакции на мои ответы чувствовался искренний интерес к тому, что делается у нас в области научной популяризации. Особенно его заинтересовала работа общества «Знание», о котором, к сожалению, я мог ему сообщить только самые общие сведения. Но и они привлекли его внимание.
— Я слышал о нем. Это, несомненно, замечательное общество! — воскликнул он. — Более миллиона членов! Ученые, которые приезжают со своими лекциями на заводы, в колхозы, в далекие маленькие города… Это замечательно! Я буду писать в это ваше общество. Обязательно! Срочно!
Потом мсье Арну стал говорить о том, что он лично чрезвычайно удовлетворен развивающимися контактами между французскими и советскими учеными.
— Это правильно. Это нужно для прогресса, для всего человечества, — говорил он. — Это отлично, великолепно — работать вместе. Это обогащает! Это радует нас, французов!
Мне приятно, что французские популяризаторы науки и техники интересуются делами наших ученых и, видимо, искренне приветствуют франко-советское сотрудничество в науке. Мы вспоминаем с моим собеседником, что оно традиционно. И в давние времена были примеры — Мечников работал с Пастером, потом Жолио-Кюри и Ланжевен с советскими учеными. Теперь это сотрудничество приносит все большие и большие плоды — в области цветного телевидения, в области изучения элементарных частиц. В Серпухове, например, на сверхмощном ускорителе уже сделаны важные открытия с помощью сконструированной французскими учеными пузырьковой камеры «Мирабель». А французский лазерный отражатель на наших автоматах, побывавших на Луне? Он позволил уточнить расстояние от Земли до ее естественного спутника. Вот только почему во Дворце открытий не рассказано об этом?
Помощник хранителя уверяет меня, что такая экспозиция скоро будет, что уже есть у них материалы по луноходу и кораблю «Союз» и еще немало интересных экспонатов, например, в области океанологии.
— Мировой океан, так же как и космос, — будущее человечества, более близкое будущее… И мы сотрудничаем с вами в этой области тоже. Встречи ваших и наших руководящих деятелей, — говорит он, — исторические события для нашей дружбы. И для развития сотрудничества в науке.
Более часа шла у нас беседа, до тех пор, пока помощника хранителя не подозвали к телефону. Вернувшись, он извинился, что задержал меня своей «болтовней», и мы распрощались.
Полуденный зной летних парижских улиц охватил меня. Вот когда действительно можно почувствовать себя плохо! Но я чувствую прилив сил, снова вспоминая молодость. Такую ли жару переносил в путешествиях по Сибири, по Средней Азии!..
В зыбком мареве над кронами деревьев точно колышется стройный силуэт Эйфелевой башни. В конце прошлого века, когда инженер Эйфель создал и осуществил свой дерзкий проект, парижане насмехались над этим замечательным сооружением. Тогда считали, что оно портит Париж! Теперь Эйфелева башня — один из символов. К сожалению, глядя отсюда, видишь неподалеку небоскреб на Монпарнасе… Панорамы Парижа меняются.
Я иду к площади Альма.
Потом сворачиваю на тихое авеню Георга Пятого. В домах на этом авеню очень дорогие апартаменты, фешенебельные отели, театр-кабаре. Но улица эта ничем особым не примечательна. Я быстро прохожу ее и поднимаюсь на веранду кафе «Александер».
В полуденные часы в будние дни, как, впрочем, и в других кафе и бистро, посетителей обычно в нем бывает много. Служивый люд Парижа да и приезжие завтракают именно в таких ресторанчиках. Сегодня же летнее воскресенье, и на веранде, помимо меня, всего-то трое посетителей. Гарсон быстро приносит мне «крокемесье», кофе и стакан воды со льдом. Позавтракав, я закуриваю и думаю о сегодняшней, такой неожиданной встрече с прошлым, со служителем Дворца открытий и беседе с помощником его хранителя. Думаю о том, что развитие сотрудничества в науке важно и потому, что поможет взаимопониманию между нами, советскими людьми и французским народом. Впрочем, точнее будет сказать — пониманию простыми французами нашей жизни, наших свершений, нашей политики. Им ведь так путают мозги, как говорится, «справа и слева». Вот взять хотя бы того же служителя музея Дворца открытий, моего мимолетного знакомого мсье Жана.
Пусть же наука, благородное сотрудничество наших и французских ученых помогут ему да и таким же, как он, хорошим, честным, трудолюбивым людям Франции отринуть воспитанное бесчестной пропагандой недоверие к нам, понять истину интернационального братства людей труда во имя их счастья на земле. Все-таки хорошо, что в далекой сибирской тайге стоящие хороводом вокруг широкой долины суровые горы полвека несут имена ученых разных национальностей! Очень хорошо!
Снова передо мной скромный стенд, посвященный «тунгусскому диву». Карта-схема места его падения, начерченная Леонидом Алексеевичем Куликом, и моя старая фотография. Пологий склон горы… лежащие мертвые великаны деревья, серое небо над ним…
А над Парижем светло-сиреневое небо в легких облаках и глухой гул от ворчания моторов и шелеста шин…
ГАВРСКАЯ УЛИЦА
Гаврская улица заинтересовала меня, когда я читал роман современного французского писателя Поля Гимара «Гаврская улица». Гимар жил в доме на этой улице, на пятом этаже. И в окна своей квартиры изо дня в день наблюдал за маленьким старичком, продававшим на улице лотерейные билеты. Старичок этот и стал героем романа — Жюльеном Легри.
Жюльен Легри — один из тех, кто оказался за бортом жизни. Он так же несчастен и беден, как вечерние нищие на Больших бульварах, и живет в страшном одиночестве. За много-много часов, проведенных на углу Гаврской улицы, в тысячной толпе прохожих, он выделил несколько из них и мысленно познакомился с ними. Ему понравились восемнадцатилетняя красавица-блондинка Катрин и молодой, наверное служащий, Франсуа. Старик мечтатель Легри захотел познакомить их. Ему кажется, что если Катрин и Франсуа встретятся, то обязательно, полюбят друг друга и будут счастливы. Но приезжали и уезжали они куда-то за город на разных поездах и всегда проходили мимо Легри по Гаврской улице в разное время. Наконец они встретились и потянулись друг к другу. Как раз в тот час, когда Легри умирал на панели, убитый хрустальной пепельницей, которую маленькая девочка, играя, выбросила с шестого этажа…
Поль Гимар рассказывал, что настоящий продавец лотерейных билетов с Гаврской улицы покончил с собой. Но писатель не захотел такой жестокой смерти своему литературному герою.
Другие герои его романа, Катрин и Франсуа, тоже несчастны и одиноки.
Катрин, чтобы получить роль в кинокартине, становится любовницей продюсера; Франсуа вынужден заниматься работой, которая ему совсем не по душе. Встретившись, они все же не стали счастливыми и остались одинокими. И другие люди современного Парижа, о которых рассказывает Поль Гимар, тоже одиноки. Блуждая по джунглям современного буржуазного города, они не видят впереди ничего, за что стоило бы бороться, к чему стоило бы стремиться, кроме заработка, денег.
Французский писатель реалистически рассказал о жизни простых парижан. Рассказ его правдив. Но когда Гимар пытается обобщать, то говорит о неизбежности одиночества, отчужденности человека в современном мире вообще, о непознаваемости «подлинной сущности чего бы то ни было».
Приехав в Париж, я несколько раз добирался на метро до вокзала Сен-Лазар и потом бродил по Гаврской улице.
Мне хотелось увидеть героев романа Гимара.
…Вокзал Сен-Лазар, пожалуй, самый большой в Париже. Северный, Восточный и Лионский мне показались не такими массивными и менее людными и шумными. А старый огромный вокзал Орсей почти в центре города, на левом берегу Сены в Латинском квартале, теперь превращен в гостиницу.
Вокзал Сен-Лазар принимает и отправляет поезда в направлении Бретани и Нормандии. Отсюда путь в крупнейший северный порт Франции — Гавр, в курортные городки на побережье Ламанша и океана — Гранвиль, Довиль и другие. К нему же тяготеют густонаселенные пригороды столицы.
Огромная сизая глыбина вокзала Сен-Лазар нависает над мрачноватым зданием отеля «Терминус», прямо напротив его фасада, и маленькой Гаврской площадью.
От нее и начинается Гаврская улица. Она идет к бойкому пятиугольному перекрестку бульвара Осман и улиц Рима, Троншет, Обер и Прованс. Она всего-то длиной метров двести. Неширока и, по существу, ничем особенно не примечательна. Однако она хорошо известна очень многим парижанам. Тысячи рабочих и служащих, обитателей пригородов Сен-Жермен, Мезон-Лаффит, Корбейль, Ла Фретт и других, ежедневно проходят по ней по утрам, направляясь в город от вокзала Сен-Лазар, а вечером — возвращаясь домой. И еще известна она тем, что в конце Гаврской улицы, на бульваре Осман, находится крупный парижский универмаг «О Прентан» («Весной»). Да и на самой этой улице множество популярных, недорогих магазинов обуви, одежды.
Над входом в магазин «Весной» — большие полукруглые ниши. На их стенах рекламные рисунки. Сегодня — огромные, метровые, закрытые глаза красавиц, опушенные длинными ресницами, и под ними надпись: «Покупайте все с закрытыми глазами». Через неделю появятся два силуэта новомодных пальто или сапожек…
Я наблюдал за людьми, наполняющими Гаврскую улицу, и увидел героев Гимара.
Вот спешит на работу, четко постукивая каблучками, изящная блондинка, совсем еще молоденькая. Губы, брови и веки ее в меру подкрашены. Она лижет замороженный крем из вафельного фунтика, купленного на углу Гаврской площади. Продавщица взяла у нее франк, поднесла пустой фунтик, вращая его потихоньку, под кран, нажала рычажок — и готово. Он наполнился замороженным кремом, который и поднимается над его краями желто-розовой спиралью.
Девушка лакомится, но лицо у нее озабоченное. Это, наверное, и есть Катрин! А вот и другие персонажи. Неожиданно от стены, точно он был спрятан внутри нее, отделяется высокий худой человек и, чуть ли не отталкивая Катрин, идет к недокуренной, кем-то брошенной сигарете. Схватив ее точным, привычным движением пальцев, он, ворча, снова скрывается в стене. Нет, конечно, за выступом зеркальной витрины обувного магазина. И тут в толпе появляется продавец лотерейных билетов. Они защеплены в палку, и он несет их, как пестрый плакат. Только этот продавец не старик, как в романе Гимара, он молод, и его, пожалуй, скорее можно принять за Франсуа. Впрочем, таких, как Франсуа, довольно много среди прохожих — сильных, неважно одетых молодых парижан, озабоченных, как и Катрин.
Где-то неподалеку раздаются звуки знаменитого бравурного марша из «Кармен». Большинство прохожих, не оглядываясь, продолжают свой путь. Сегодняшние герои Гимара успели привыкнуть к концертам на панели Гаврской улицы. Музыканты расположились в закоулочке у высокого забора, за которым ремонтируется дом. Забор залеплен рекламами кинофильмов. На афишах кто-то в кого-то стреляет, куда-то тащат обнаженную красавицу…
Я пересекаю улицу, подхожу поближе и вижу, что играют марш четверо слепцов. Они очень плохо одеты и грязны. Картонная коробочка со словом «мерси», выставленная на середину тротуара, совсем пуста. Прохожие обходят ее, точно это мина. Вдруг — дзинь! Около коробки падают две большие светлые монетки по пять старых франков. Сейчас на них не купишь даже пирожок. Музыканты их не видят, но бросают играть и ползут на звук от удара металла о панель…
Кончилась недлинная Гаврская улица. Начался бульвар Осман. За магазином «Весной», почти рядом, другой огромный универсальный магазин — «Лафайет», далее — всегда бурлящий перекресток бульвара Осман с торговой улицей Шоссе Д’Антен.
Около магазинов-гигантов перед витринами на тротуаре, один за другим, столы-прилавки с обувью, носками, бельем, сумками, парфюмерией, хозяйственными товарами; стойки, обвешанные кофточками, легкими платьицами, косынками, шарфами, галстуками.
Вокруг прилавков роятся французские хозяйки и туристы. А там, где есть хоть крошечный укромный уголок, его занимают то продавец лотерейных билетов, то женщина с корзиной цветов.
Вот сидит паренек, нахлобучив на глаза кепку, и перед ним пять шоколадно-коричневых щенков спаниелей. Они лежат, вытянувшись, рядком, неподвижно, и перед каждым — маленькая плетеная чашечка. Только в одной несколько мелких монеток.
С балкона пятого этажа здания отеля «Эксельсиор-Опера», где я останавливался несколько раз, далеко просматривается уходящая на восток улица-траншея Лафайет. К этой авеню около отеля выходит узкий проулочек с рекламами магазина одежды «Пассаж Д’Антен» и баром.
Почти под балконом стоит газетный киоск. В нем по утрам я покупаю газеты, и, несмотря на вежливое «мерси» и «оревуар, мсье», чувствую на себе отчужденный взгляд одинокого человека — усталой, пожилой женщины-киоскера.
Поблизости на улице Лафайет есть крошечное кафе — бар. Такие называют во Франции бистро. Говорят, это слово родилось в то время, когда в Париже стояли войска союзников, победившие Наполеона. Русские офицеры якобы всегда торопили официантов — гарсонов в ресторанах словами: «быстрей, быстрей». Отсюда и появилось название «бистро». В таких кафе за стойкой бара можно позавтракать, выпить стакан вина или пива, купить мелочь, вроде зажигалок, бритвенных лезвий, конверты и марки и т. п. Я покупал в этом бистро сигареты. За полукруглым высоким прилавком, обычным в таких кафе-барах, двойник той Катрин, которую я встретил на Гаврской улице. Она очень хочет казаться веселой и модной. Она выкрасила волосы в черный цвет. Это принято было тогда в Париже — красить волосы с юных лет в черный или соломенный цвета или делать их совсем седыми, с голубоватым отливом.
Почему же так часто видим озабоченные, грустные глаза у парижан? Однозначно ответить на этот вопрос, конечно, невозможно. Но, вероятно, основная причина состоит в том, что год от году французам приходится все больше экономить на всем. Я имею в виду, конечно, простых французов — рабочих, мелких служащих и мелких буржуа, владельцев маленьких магазинчиков, бистро. Дело в том, что цены на продукты питания и товары широкого потребления, коммунальные услуги растут в Париже постоянно и неуклонно. Как и везде на Западе.
Десять лет назад бифштекс в кафе фирмы «Табако» или маленьком ресторанчике стоил пять — восемь франков, теперь, в начале семидесятых годов, двенадцать — пятнадцать; мужская сорочка в недорогом магазине пятнадцать — двадцать, теперь тридцать — сорок и более; билет в метро полфранка — теперь франк десять сантимов и т. д.[19]
Зарплата же рабочих и служащих повышается отнюдь не такими темпами.
Снижение покупательной способности большинства населения города бьет по доходам не только хозяев маленьких «дел», но и крупных компаний. Но они «нажимают» на поставщиков продуктов из деревни, а те снижают или замораживают закупочные цены, что ведет к обеднению фермеров. Нажимают они и на фабрикантов, которые стремятся рационализировать производство и давят на рабочих.
Поэтому финансово-промышленные гиганты и полугиганты страдают мало, прибыли к ним все же текут. Маленькие «дела» все хиреют и хиреют. А в Париже гигантское количество мелких предпринимателей. Еще недавно здесь были десятки тысяч небольших лавочек, всяких мастерских, небольших гостиниц — типа «меблированных комнат», парикмахерских, фотоателье, крошечных кафе и ресторанчиков.
Теперь этих предприятий, может быть, не меньше. Но множество их хозяев разорилось, потонуло в хаосе волн торгового моря, а их «дела» перешли в руки более денежных владельцев, крупных компаний. Остальные не имеют никакой уверенности в будущем.
На улице Лафайет есть книжный магазин. Проходя мимо, я очень редко видел внутри него покупателей. Однажды я зашел туда и спросил хозяина, как идут у него дела? Как он ухитряется держать магазин, почти не торгуя?
Веселый молодой парень, сын хозяина, ответил мне шутливо и охотно:
— Пускаем пузыри, но еще не тонем! Папа говорит: надо держаться, времена изменятся. Я же считаю, что лучше все это послать к черту, пока мы не обанкротились. Может быть, купите новый роман Франсуазы Саган?! Всего десять франков…
Оранжевые буквы слова «сольд» — остаток, распродажа — все чаще появляются сейчас на витринах небольших магазинов. Сольдирование товаров, уценку их на десять, а иногда и на сорок — пятьдесят процентов в широких масштабах проводят торговцы обычно в конце каждого сезона на обувь, одежду, ткани. Так все же можно распродать часть товаров: осенью — летних, весной — осенних. Иначе они станут немодными и могут совсем залежаться.
Сольдирование вошло в практику торговли на Западе давно. Но теперь очень много мелких магазинов в Париже сольдируют многие товары в течение всего года.
На улице Фобур Сен-Дени в витринах каждого второго магазина как-то я видел эти плакаты со словом «сольд», а у дверей некоторых еще и флажки, тоже ярко-оранжевые, весело трепетавшие на ветру.
Разорение миллионов мелких буржуа и растущие экономические тяготы жизни рабочих и служащих современного западного мира, в том числе и парижан, порождают озабоченных и отчужденных людей, не видящих будущего для себя и своих детей. Порождают и пессимизм, который демобилизует, запугивает, лишает сил руки, иссушает ум, озлобляет душу. К сожалению, некоторые французские писатели, рассказывая о жизни людей, рассказывая честно, как Гимар, не находят для своих героев другого выхода, кроме гибели или смиренного прозябания.
Недавно я прочитал в газетах о самоубийстве известного французского писателя Анри де Монтерлана, члена академии, одного из «бессмертных».
В своем творчестве он был почти антиподом Полю Гимару, создавая в своих романах образы «сильных людей», высокомерных, ставящих себя выше других. По-американски — «суперменов».
Почему же писатель решил покончить счеты с жизнью?
Думается, критик Патрик де Росбо угадал почему…
«За максимальной твердостью и жестокой оболочкой писателя и его персонажей сказывалась паническая боязнь современного мира, из которого они пытались бежать, чтобы спрятаться от действительности», — писал критик.
Анри де Монтерлан, видимо, понял, что культ отчужденной «сильной личности» в конечном итоге ведет к античеловеческой идеологии фашизма, к превращению человечества в стадо полуроботов, морлоков, безраздельно подчиненных некоей «элите»…
Этот пессимистический вывод ужаснул писателя.
Однажды, поднимаясь в лифте Эйфелевой башни, я обратил внимание на сетки, натянутые вокруг ее стройных конструкций. Они мешали любоваться Парижем. Это были сетки против… самоубийц! Лишь в последнее десятилетие около четырехсот человек ушли из жизни, бросаясь в бездну с площадок башни.
А вообще статистика самоубийств западного мира сухими цифрами говорит, что все больше людей во Франции, Англии, Испании, Швеции и особенно США лишают себя жизни по самым разным причинам, но все же, в конечном счете, из-за экономических трудностей и отчужденности, трагического своего одиночества в безграничном океане жизни индивидуалистического буржуазного общества.
О ТЕАТРАХ И МАГАХ
На площади Опера есть широкоизвестное кафе «Мир». Красные зонты над столиками, выставленными на тротуар, охраняют головы посетителей от солнца и дождя в летние дни. Зимой в кафе «Мир», как во многих других кафе, устраивается своего рода теплица: ставятся стеклянные стены и над ними стелется легкая крыша. От угловых его столиков видна вся площадь Опера, исток Итальянского бульвара и авеню Опера, идущей к Лувру, и улица Мира. Кроме того, в этом кафе не так тесно, чем во многих других, расставлены столики.
Однажды на углу Итальянского бульвара мне встретился известный историк искусства и кинокритик Жорж Садуль. Вместе с ним мы сели за столик в этом кафе. Вокруг нас, как обычно, спокойно ходили гарсоны, выполняя простые заказы посетителей: стакан пива или содовой со льдом, бутылочка воды «Фанта» или кофе. Редко кто требовал мороженое или какую-нибудь еду. На этом бойком месте люди отдыхали, назначали свидания, деловые и любовные.
Разговор наш с Жоржем Садулем начался, естественно, с обсуждения новых фильмов. Только что появилась лента «Мужчина и женщина» Клода Лелюша, и мы с радостью отметили ее успех как произведения реалистического и чистого, что выгодно отличало ее от надвигавшегося на экраны западного мира потока фильмов грязных, наполненных сексом и насилием.
Потом беседу нашу заняла театральная тема, возможно, потому, что напротив нас было здание Гран Опера. Его тогда только начинали чистить.
Садуль хмыкнул неодобрительно: он был из тех французов, которые осуждали решение стереть со стен парижских домов вековую «патину».
— Вам приходилось, конечно, бывать на спектаклях Гран Опера? — спросил он.
— К сожалению, нет.
— И не тратьте время и большие деньги. Билет там стоит невероятно дорого. По сравнению с вашим Большим дороже раза в три-четыре.
— А что и где вы посоветуете мне посмотреть?
— Театры простых французов, — категорически заявил Садуль. — Постановки в «Пакра», «Бобино», «Вье Коломбье», в театрах предместий… Там действительно бывает весь Париж.
— Но ведь когда в Гран Опера премьера, в газетах пишут, что именно там бывает «ту ле монд» (весь свет).
— Не прикидывайтесь непонимающим! Там бывает Париж богатых. Впрочем, я не отговариваю вас от посещения Гран Опера. Иногда и там бывают неплохие балеты. Например, когда приезжает ваш Большой или оперная труппа Ла Скала.
Мы посмеялись и разошлись по своим делам.
Потом, увы, я увидел милейшего Жоржа Садуля лишь однажды мельком. На каком-то кинофестивале. Вскоре он умер.
По своим делам мне нужно было идти на бульвар Осман мимо здания Оперы.
Оно большое, но какое-то приземистое. Широкая лестница, входы — под арками. Над ними — лоджии между сдвоенных колонн. Под карнизом крыши — лепные венки. Вход обрамляют две скульптурные группы: танцуют обнаженные женщины — музы, простирают крылья гении.
В украшении фасада Оперы архитектор-строитель Гарнье, думается мне, перестарался и позаимствовал слишком много пышности у итальянских зодчих. Я обхожу здание по улице имени композитора Скриба. На нее выходит боковая пристройка — бывшая императорская гостиная. Теперь в ней музей и библиотека, где сохраняются эскизы декораций и макеты постановок всех спектаклей, а также клавиры почти за сто лет существования Гран Опера.
Сейчас эта сторона здания чистится. Рабочие скребут стены щетками, обнажая белый, чуть желтоватый камень кладки. Старинные фонари на высоких торшерах сторожат вход в музей.
Всего в Париже сейчас семьдесят девять театров, не считая концертных залов и варьете. Главные театры города, помимо Гран Опера, — старый мольеровский, драматический «Комеди франсез» на уютной площади недалеко от Лувра и театр «Одеон», откуда пошел «Комеди франсез». Есть еще два драматических театра — имени Сары Бернар и Шателе. Они расположены друг против друга на площади Шателе. Это самые крупные театры Парижа. Зал Шателе вмещает три тысячи шестьсот зрителей; имени Сары Бернар лишь немного меньше. Широкую известность завоевал сравнительно молодой театр, расположенный в здании Дворца Шайо, на правом берегу Сены, напротив Эйфелевой башни. Зал его расположен в подземелье под дворцом. Этим театром до самой своей смерти руководил замечательный режиссер Жан Виллар, и часто его до сих пор так и называют — «Театр Виллара».
Десятки других театров, играющих пьесы, иногда одну и ту же целый сезон, или предлагающих сборные программы концертного типа, невелики, они обычно вмещают до пятисот зрителей. Один из таких театров — Пакра — находится на бульваре Бомарше.
Вскоре после разговора с Садулем я и пошел туда вместе со своими друзьями — советскими сотрудниками ЮНЕСКО.
Была суббота. Хотя до начала спектакля оставалось минут пятнадцать, нам пришлось поискать в зале свободные места. Они здесь не нумерованы. Наконец мы устроились на балконе и огляделись. Дым от сигарет волнами ходил над головами зрителей, занявших партер. Продавщицы брикетиков мороженого и конфет сновали по проходам. Стоял шум, как на вокзале. Прямо против нас, на противоположном балконе, молодая женщина держала на коленях годовалого сынишку, который иногда вдруг начинал пронзительно верещать. А слева от меня, через два-три кресла, устроилась другая мать с двумя ребятами, мальчиком и девочкой лет по семи-восьми. В зале и еще были дети самых разных возрастов. Но главную массу посетителей составляли просто одетые мужчины и женщины средних лет, очевидно мелкие служащие, лавочники, рабочие — простой люд Парижа.
За занавесом ударил гонг. Зажглись цветные софиты, и на авансцену выпорхнула солидная тетя в пачках. Раздались робкие хлопки. Кто-то крикнул: «Бон суар!» Тетя ответила воздушным поцелуем, объявила первый номер, крикнула «айе» и нырнула за начавший движение занавес.
По правде говоря, первое отделение сборной программы театра Пакра было малоинтересным. Коллет Ривер пела душещипательные песенки, прыгал и извивался «человек-лягушка», некие Патриция и Виктор Станцевали сценку «Эсмеральда и Квазимодо».
Однако и эти номера имели успех. Им аплодировали, подсвистывали. Особенно шумно зал принял фельетониста; он издевался над теснотой и грязью в метро, над грубостью полицейских, над торговцами мясом, день ото дня повышающими цены.
В антракте зрители ринулись кто в фойе, выпить стакан пива или содовой, кто на улицу, глотнуть свежего воздуха. В зале к концу первого отделения стало нестерпимо душно.
В фойе к нам подошел человек с бородой Сусанина, извинился и спросил, какие мы русские.
— Вы говорите между собой на языке, который мне немного знаком, — добавил он.
— Из Советского Союза.
— Давно?
— Нет, всего несколько дней. Но, простите, мсье, что вам угодно?
Французский «Сусанин» ухмыльнулся:
— Если вы оттуда недавно, я хотел бы, с вашего разрешения, поговорить с вами. Если вы, конечно, не побоитесь.
Мы рассмеялись.
— Профессор (учитель) лицея Эрко. Клод Франсуа Эрко, — церемонно представился он, но сразу же как-то потеплел и заговорил быстро и темпераментно, как обычно говорят французы: — Давно, очень давно я был в России. Еще в царской России. Юношей. У родственников. И сохранил о ней самые теплые воспоминания. Вольга! Какая это красота! Петербург. Белые ночи! Так ведь по-русски — белые ночи.
— Приезжайте опять, милости просим.
— Спасибо! Да. Может быть. Но сейчас я хочу вам сказать вот что — мы, французы, любим ваш народ. Это традиция. И еще больше полюбили в годы последней войны. Вы отлично сражались. И еще хочу вам заявить открыто: я огорчен, что Советская страна не хочет участвовать во всемирном общечеловеческом прогрессе.
Снова — увы, в который раз! — в разных вариациях одно и то же! Мне вспомнился служитель Дворца открытий, беседа с ним в парке Елисейских полей.
— Что вы под этим понимаете?
— Как что? Народы должны объединиться на основе идей гуманизма и социального мира. Интеллигенция должна возглавить это объединение и примирить так называемые классовые противоречия…
Позиция его была нам хорошо знакома. Еще фабианцы выдвинули эту наивную идею. И ее часто пропагандируют современные буржуазные философы и социологи.
— Простите, мсье Эрко! Да неужели вы верите в то, что те, кто владеет богатствами в мире капитала, Ротшильд или Рокфеллер например, дадут вам, интеллигенту, согласие отказаться от своей власти и своей прибыли и тем самым снять, как вы говорите, так называемые классовые противоречия?
— Верю, верю, верю! — почти закричал он. — Это произойдет, обязательно. Конечно, постепенно!
— Значит, по-вашему, все придет на основе гуманизма и социального мира само собой?
Мсье Эрко осекся.
— Нет, не придет само собой, дорогой профессор. А в реальном мире уже есть опыт создания общества, где нет хозяев. В нескольких странах. И это общество прекрасно развивается, многого достигло, несмотря на все трудности, выпавшие на его долю, на войны горячие и холодные.
Зазвенел звонок, и мы вернулись в зал. Во втором отделении выступал композитор, певец и поэт Франсис Лемарк. Он спел десятка полтора песенок, многие из которых хорошо известны в Советской стране: «На рассвете», «Солдаты идут», «Париж», «Шофер». Лемарку аккомпанировали рояль, контрабас, гитара, аккордеон и ударник. Он пел, близко подойдя к микрофону, скупыми жестами или движением бровей подчеркивая иногда то или иное место в песне. Как только он замолкал, зал бешено аплодировал.
Под конец в душном зале Пакра прозвучала мелодия «Подмосковных вечеров».
— В моем переводе, — сказал артист перед исполнением этой песни, — музыка — Соловей Седой.
Почти все зрители стоя провожали Франсиса Лемарка. Ясно было, что простые французы любят его. Однако выступать часто ему не приходится. Мне говорили, что владельцы театров и антрепренеры концертов обходят вниманием этого артиста. Он считается почти коммунистом, слишком близким народу.
Лемарк не единственный композитор, по-настоящему работающий для народа Франции.
Прекрасные песни создал Жан Ферре. Его «Товарищи», «Мою Францию», «Парижскую коммуну» исполняют в концертах и поют простые люди Парижа.
Широко известно и творчество Жоржа Брессанса. Он о себе говорит: «Я человек пригородов», и его любят в «Красном поясе» — рабочих районах окраин французской столицы.
Большой успех песен вообще у публики породил новую отрасль бизнеса — «шоу-бизнес», промышленность песни. Один из королей этой промышленности Старк стремится эксплуатировать уже завоевавших известность исполнителей и «создает» новых. Он хвастал в печати, что затратил три миллиона франков на рекламу выступлений Мирей Матье.
Огромная реклама поддерживала и развивала успех исполнителя джазовых песенок Джона Холлидея — француза, взявшего себе американский псевдоним. В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов он стал как бы европейским эмиссаром жанра заокеанской ритмической песни… И сделался, пожалуй, первым «идолом» эстрады в Париже. Однажды, когда еще только начиналась слава Холлидея, я слушал его песенки в концертном зале «Олимпии». Он появился на сцене в яркой, пестрой рубашке и спел под джаз, подтанцовывая, несколько коротких песенок. Помню, в одной десятки раз повторялись слова припева «бон шанс» (успеха). Он желал успеха покинувшей его возлюбленной.
Зал «Олимпии» реагировал на выступление Холлидея невероятно экспансивно. Множество девиц и юношей, но больше девиц, вскочили со своих мест и протиснулись к барьеру сцены. Они кричали, подпевали, подхлопывали, свистели… А он ритмично извивался на помосте, держа в руках микрофон с длинным шнуром.
Однако не только Холлидей и другие исполнители джазовых ритмических песенок пользовались успехом у парижан.
Мелодичные произведения Лемарка, Ферре, Брессанса и некоторых других композиторов нашли своих популярных исполнителей.
Рабочий паренек, шахтер Сальваторе Адамо и Жильбер Беко, например, особенно в конце шестидесятых и семидесятые годы, завоевали большую любовь пригородов Парижа, простых людей Франции.
…По выходе из театра мои спутники сели в такси — им надо было ехать домой в сторону, противоположную площади Республики. А я пошел по бульвару Бомарше, к своему отелю Эксельсиор Опера.
Было свежо, лунно и очень тихо. В полумраке полуночной улицы быстро растаяли фигуры зрителей спектакля в Пакра, и скоро впереди меня осталась лишь сутулая фигура в светлом пальто с поднятым воротником. Обгоняя ее, я узнал профессора Эрко.
— Можно вам сопутствовать? — спросил он.
Некоторое время мы шли молча. Потом Эрко вдруг заговорил, и непонятное вначале для меня волнение зазвучало в его голосе.
— Вам покажется это, вероятно, смешным. Но, может быть, вы все же поймете мое состояние. Только что я был среди людей. Вместе. Слушал великого артиста. Теперь один. В годы Сопротивления в гестапо погиб мой сын. Потом умерла жена. У меня работа, ученики. Я люблю их. И все же у меня места в жизни нет.
Он говорил об отчужденности людей в том мире, где он живет. Иногда так быстро, что я не понимал некоторые его слова. Но какое это имело значение? Рядом шел старый человек, до ужаса одинокий. Трагически одинокий.
«Да разве он один такой! — думал я. — Ведь большинство тех интеллигентов, с кем мне приходилось встречаться в этом чужом мире, отчуждены друг от друга, даже в рамках своей профессии или коллектива на работе. Впрочем, есть ли здесь «коллективы» в нашем понимании? В оффисах учреждений, в конторах фирм? Насколько я узнал жизнь на Западе, их там нет. Лишь там они есть, где есть рабочий класс…»
Не доходя до площади Республики, на углу улицы Шарло, мсье Эрко остановился и стал прощаться.
— Спасибо, что вы меня выслушали, — сказал он.
Я вспомнил строки Поля Элюара:
Наши дети будут смеяться Над черной легендой о человеке, Который был одинок.— Это сказал француз. Мы с ним согласны! — добавил я.
Профессор Эрко чуть-чуть улыбнулся, еще раз сказал «спасибо» и пошел сутулясь по узкой улочке.
Причудливые тени от ветвей и редких осенних листьев каштанов рябили его светлое пальто и тротуар.
Больше я не бывал в театре Пакра. Но постановки в некоторых других театрах «простых французов» повидал в последующие годы.
Такие театры работают главным образом на окраинах французской столицы, в пригородах Обервийе, Сен-Дени, Вильжюиф, Нантере, Жанвийе.
В Обервийе есть общественный театр — «Театр коммуны». Его организовал немного более десяти лет назад энтузиаст театра для народа Габриель Гарран. Он же создал потом в Сен-Дени постоянно работающий театр имени Жерара Филипа. Ему помог муниципалитет, где большинство депутатов — коммунисты. Он дает театру дотацию в несколько сот тысяч франков в год.
В Обервийе, в муниципальном «Театре коммуны», я смотрел спектакль труппы из ГДР — «Мать» Бертольта Брехта. Как хорошо принимали ее зрители — рабочие заводов и фабрик! Не хуже, чем своего любимца Франсиса Лемарка публика в Пакра. В «Театре коммуны» поставлена недавно интересная сатирическая пьеса «Продавец города» Жана Ниша.
И еще мне пришлось увидеть оригинальный спектакль «Театра солнца» в ангаре патронного завода, что недалеко от станции метро «Венсенский замок». Здесь на пяти небольших сценах, соединенных подмостками, актеры театра с увлечением разыгрывали короткие сценки из истории Французской революции 1789 года.
Театры «Красного пояса» поистине народные. В их репертуаре есть пьесы историко-революционные и рассказывающие о жизни людей нашего времени. Обычно в реалистическом ключе.
Десятки других малых театров Парижа и, прежде всего, театры района Монпарнаса, которые в прошлом дали немало примеров смелых поисков в искусстве и создавали спектакли, критикующие буржуазный мир, — ныне, увы, почти все превратились в коммерческие увеселительные заведения для туристов и элиты. Исключение представляет, пожалуй, один театр — «Ателье» на Монмартре. Его руководитель Андре Барсак последовательно работает над постановкой серьезных спектаклей по произведениям классиков и прогрессивных драматургов, в том числе русских и советских авторов. Его знают москвичи. Недавно Барсак, увы, умер.
Но много раз упомянутый в романах и воспоминаниях писателей уютный театр «Бобино», а также театры «Гэте Монпарнас» и «Монпарнас гэте» да и театры в других районах Парижа — «Жимназ» и «Грамон», «Порт Сен-Мартен», и «Вье Коломбье» («Старая голубятня») и многие другие — соревнуются с начала шестидесятых годов в постановке экстравагантных пьес модернистов, вроде Ионеско, или откровенно сексуальных, лишенных иногда и элементарного приличия и серьезной мысли, спектаклей.
В конце шестидесятых годов на подмостках этих театров поставили американскую пьесу «Волосы». Актеры появлялись в одном из актов спектакля на сцене совсем без одежды. Другие малые театры также начали для оживления использовать стриптиз в разных формате. Даже в главные театры города стал проникать тлетворный декаданс. На тех сценах, где играли (и играют, конечно) классику — Мольера, Шекспира, Чехова, нет-нет да и ворвется спектакль с весьма скабрезными эпизодами. В варьете и кабаре наряду со стриптизами часто появляются нелепые «номера» поп-искусства. Мадам Марно, например, сначала играет на скрипке несложную мелодию, а потом залезает в бочку с водой и, выбравшись из нее, мокрая, снова играет ту же мелодию. А в одном из театров «играли» «Опус № 2» господина Джонса. Его ассистент брил ему волосы на голове. И в зал несся усиленный микрофоном до скрежета гусениц танка звук срезаемых волос… И все же, просматривая сводную афишу семидесяти девяти театров Парижа, всегда можно найти то, что стоит посмотреть, что сулит знакомство с подлинным театральным искусством и талантливыми артистами Франции и многих других стран. Особенно много найдут те, кто любит музыку и песню. Этих жанров, кстати, по-моему, меньше коснулось разложение. Концертные программы даются и в небольших театрах и в специальных залах типа «Олимпия», «АБЦ».
Там вы можете услышать Адамо, Беко, Мерваль, Далиду, Матье и многих других отличных песенных исполнителей или концерты высокопрофессиональных оркестров: «Оркестр де Пари», «Ламурё», «Консерватуар», «Па де Лу», исполняющих произведения классиков и современных композиторов, в том числе волнующую сюиту «Париж» Жака Ибера.
В Париже в театрах и концертных залах постоянно выступают труппы и отдельные исполнители со всех концов мира. И очень радостно, что несколько раз в году в сводных афишах, в рекламных еженедельниках «Парископ» или «Алло, Пари» можно увидеть извещения о гастролях прославленных советских театральных музыкальных и танцевальных коллективов и исполнителей. Играет свои замечательные кукольные пьесы театр Сергея Образцова, показывает непревзойденное мастерство коллектив ансамбля Игоря Моисеева, играют Ойстрах или Рихтер. Огромным успехом всегда пользуются в Париже оперные и балетные спектакля Большого театра. Что такое «Большой», знают все парижане.
Сезон 1971/72 года некоторые французские театральные обозреватели называли даже «русским годом» в парижских театрах.
В конце 1972 года сотни тысяч парижан посетили концертные программы национального искусства пятнадцати наших союзных республик в Большом зале порт де Версаль, посвященные пятидесятилетию СССР. И в последующие годы хорошие традиции культурного обмена сохранились.
…Однажды, несколько лет назад, в воскресное утро мы сидели в номере отеля «Руаяль Монсо», который занимал режиссер Сергей Юткевич, и обсуждали вопрос, куда пойти сегодня. Хотелось побывать в каком-нибудь театре.
Сергей Иосифович, листая рекламный еженедельник «Алло, Пари», рассуждал вслух:
— Это ерунда. Это тоже. «Волосы» я видел. Странно и противно. Стоп! Вот куда пойдем! На «Фестиваль магов», в «Олимпию». Такое бывает редко!
На том и порешили.
«Олимпия» — один из самых модных мюзик-холлов, а точней, концертных залов столицы Франции. Билеты здесь дорогие. Самые дешевые, на дневной сеанс, двадцать пять франков. К сожалению, когда мы пришли, и этих дешевых уже не было.
— Лишний раз не сходите в кино, — сказал Юткевич. — Покупаем все равно и дорогие.
Устроители международного «Фестиваля магов» сообщали в афишах у входа в «Олимпию», что на представлении, которое нас ожидает, выступят «самые знаменитые маги и кудесники в мире», участники недавно закончившегося в Париже международного «конгресса» магов.
В небольшом фойе начиналась психологическая подготовка зрителей. На низком постаменте стоял незакрытый гроб, обитый черным, и в нем лежал скелет в каких-то пыльных тряпках, как бы в полуистлевшей одежде.
Над входами в зрительный зал справа и слева распростерли свои крылья из черного крепа огромные, стилизованные летучие мыши. В дальнем углу мигали красные огни чьих-то глаз, то ли совы, то ли дьявола, и колыхалось что-то белое. Откуда-то сверху гудел мрачную мелодию динамик.
Сцена зрительного зала тоже была украшена черным крепом.
…На сцену стали выходить обычные фокусники, которые с большим или меньшим искусством протыкали себя длинными иглами, «растворяли» в воздухе легко одетых девиц — ассистентов, «распиливали» женщину дисковой пилой. Знаменитый наш Кио показывал номера получше.
«Международные маги» были явно невысокого уровня. Но в программе все же показали нам два по-разному хороших номера.
«Гипнотизер-магнетизер» Доминик Вебб, пригласив на сцену пятнадцать человек, усыпил их и затем заставил танцевать то, что каждый хочет. Было смешно смотреть, как немолодая дама с блаженной улыбкой пыталась вальсировать, двое парней дергались в шейке, девушка в красных брючках крутила хула-хуп и т. д. А потом «гипнотизер-магнетизер» заорал во всю глотку: «Всем стало жарко, очень-очень жарко», — подопытные зрители стали стаскивать с себя одежды. На сцене стало твориться что-то невообразимое. Но как только один «подопечный» начал снимать с себя трусики, а девушка в красных брючках, освободившись от них, дошла до грани стриптиза, — ассистенты отводили их под руки за кулисы.
Другой номер — «гималайского йога» Сурами Дев Мурти — был иного жанра. Под заунывную музыку раскрылся занавес. В центре сцены мы увидели большого полного мужчину индийского типа. У него были ниспадавшие на плечи иссиня-черные волосы с седыми прядями. Он сидел, как будда, поджав ноги, с обнаженным торсом, в шальварах. Рядом с ним расположились два щупленьких паренька в той же позе. Когда «будда» сделал знак глазами, пареньки поднялись, как на пружинах, и чистенько показали каскад обычных фигур «гуттаперчевых мальчиков». Они забрасывали ноги за голову, превращались в колеса, прогнувшись назад и просунув голову между ног, прыгали лягушками и т. д.
Но вот «будда» снова сделал знак глазами. Пареньки убежали и через несколько секунд возвратились с циновкой, которую постелили перед своим наставником. Потом служитель принес две бутылки и разбил их молотком над циновкой.
— Уважаемые гости! Приглашаем вас на сцену убедиться, что разбиты настоящие бутылки, — сказал ведущий программу.
Несколько человек вышли на этот зов. В том числе на сцену поднялся и сидевший рядом со мной краснолицый, солидный господин.
Когда он возвратился, я увидел в его пальцах осколок стекла. Тем временем Сурами Дев Мурти, несколько раз глубоко вздохнув, поднялся, лег на циновку спиной и стал медленно поворачиваться то в одну, то в другую сторону. Музыка стихла. И тогда мы все услышали характерный хруст раздавливаемого стекла.
Через минуту на сцену снова вышли «гуттаперчевые мальчики» с широкой доской и матрасиком. Они положили матрасик на живот и грудь йога, покрыли доской и встали на нее, делая пригласительные жесты в сторону зала. Не посмотреть поближе звали они, а встать рядом с ними!
Несколько человек, поднявшихся на сцену, не решались на это. Тогда из-за кулис появились трое служителей и шагнули на доску. Когда на ней оказалось пятеро, «будда» немного раздвинул локти и стал делать глубокие вдохи и выдохи. И было хорошо видно, как поднимался его живот, поднимались матрасик, и доска, и стоящие на ней люди.
Наконец они спрыгнули, заиграла музыка. Йог встал и повернулся к залу спиной. Она была испещрена ямками и бороздами. В некоторых из них поблескивали стеклышки. И лишь на левом боку я увидел тоненькую розовую черточку незначительного пореза.
После окончания представления мы увидели Сурами Дев Мурти в фойе. Он бесплатно раздавал посетителям рекламные листки и продавал желающим книжечку: «Каждый может стать йогом, став учеником великого гималайского йога Сурами Дев Мурти».
— Плиз, плиз, мистер, — повторял он, протягивая книжечки, и искательно улыбался. А в глазах его, больших, темных, чуть выпуклых, были усталость и тоска.
— Все-таки не зря я вас затянул на «Фестиваль магов». Гималайский йог великолепен, — сказал Сергей Иосифович, когда мы вышли на солнечный, шумный бульвар. — Но, откровенно говоря, я ожидал большего от этого «фестиваля». Думал, покажут какие-нибудь мистерии. Сейчас ведь Запад увлечен черной магией, спиритуализмом, кабалистикой, черт те чем! Вы знаете, сколько сейчас гадалок в Париже? Более тысячи. А в США — десятки тысяч!
Вернувшись в отель, я развернул новый номер кинематографического еженедельника «Синемонд». Как всегда, в нем было несколько рецензий и пересказов содержания новых фильмов, фотографии «звезд», хроника из их жизни, рекламные объявления и так называемые гороскопы — схемы предсказаний и советов, как вести себя, чтобы добиться успеха и счастья.
«Если вы родились под знаком Девы, вас ожидает в июле радость. Остерегайтесь воды…» и т. д. Раньше я как-то не обращал внимания на эти публикации, хотя они появляются во многих журналах и газетах Запада. Но со времени «Фестиваля магов», просматривая повременные издания, невольно отмечаю, что нередко им отводится не меньше места, чем сообщениям, например, о научно-технических достижениях! Несколько лет назад этого не было. И в то же время подмостки многих театров, не говоря уже о залах варьете, захватывают в последние годы разнузданный секс, культ насилия и откровенная мистика. Причем всеобщность этого явления отражается и в других областях искусства, в том числе кино.
В Голливуде режиссер Хичкок, — такой жирный самодовольный дядя, — выпускает один за другим фильмы «Птицы», «Газовый свет» и др., где ужасы помножены на ужасы. Они становятся модными, и десятки других режиссеров по заказу кинофирм начинают выпускать десятки, сотни «фильмов ужасов». Почти все они замешаны на мистике, проявлении «потусторонних» сил, главным образом зла. Герои их вампиры, одержимые дьяволом и т. п.
Фильм «Экзерсис» («Изгнание дьявола») в семидесятые годы был одним из самых доходных для кинофирмы, его выпустившей на экраны. «Фильмы ужасов» даже потеснили в прокате сексуальные, порнографические, в последние годы уже приевшиеся западной публике.
И все это составляет основу «массовой культуры» в современном буржуазном обществе Запада! Поневоле задумаешься о том, что ради бизнеса, выгоды его правящий класс усиленно насаждает в народных массах мракобесие и всеобщую аморальность и, по существу, «саморазвращается»…
«ЖАР-ПТИЦА»
Телефоны в номерах парижских отелей обычно не имеют прямого выхода в городскую сеть. С нужным абонентом соединяет дежурная на коммутаторе. Она же принимает поручения — «мессажи» от тех, кто не застанет вас дома и пожелает что-нибудь передать. Такие импровизированные телефонограммы дежурная передает портье, и он вручает их вам, когда вы возвращаетесь, вместе с ключом от номера. Это очень удобно.
В тот день портье подал мне странный мессаж. Мадам Елена Кесельринг сообщала, что она несколько раз звонила днем и будет звонить в девять вечера, а если я приду поздно, просила передать дежурной на коммутаторе, когда мне удобно будет ее выслушать по телефону или лично.
Никакой мадам Елены Кесельринг я не встречал ни в Париже, ни на родине.
«Искательница знакомства», — подумалось мне, и я уже хотел сказать портье, чтобы он передал телефонистке: для такой-то дома меня не будет. Но потом решил, что она ищет меня по поручению знакомых и друзей.
Точно в девять вечера в номере зазвонил телефон.
— Добрый вечер, мсье. Говорит Елена Кесельринг. Извините. — Неизвестная говорила по-русски с небольшим акцентом.
— Здравствуйте. Простите, но я вас не знаю. Что вам угодно?
— Мне поручили пригласить вас в ближайшую пятницу выступить с лекцией о советском кино или литературе.
Кажется, дело прояснилось. Кесельринг говорит по-русски. Очевидно, она общественница в советской колонии и… Но почему она «мадам», а ко мне обращается «мсье»?
— Простите, кто вам поручил передать мне это приглашение?
— Наше общество «Жар-птица».
Да, дело прояснилось. Но совсем не в том плане!
«Жар-птица». Мне было знакомо название этого общества, а точнее — киноклуба русских эмигрантов в Париже.
Я вспомнил, как лет десять назад встречался с господином Хохловым, заведующим отделом культуры эмигрантской газеты «Русские новости», и листал эту газету. На ее страницах среди статей и очерков было много объявлений и уведомлений. Запомнилось, очевидно, из-за экзотического заголовка объявление киноклуба «Жар-птица» о предстоящей демонстрации в этом клубе наших фильмов: «Дом с мезонином» и «Евгений Онегин». В объявлении также сообщалось, что запись в члены клуба будет производиться в кафе «Малакоф», на площади Трокадеро, и в книжном магазине мадам Сияльской. Объявление это было напечатано рядом с уведомлением о богослужениях в православных храмах Трех святителей, Святой троицы и Божьей матери.
«Русские новости» — еженедельная газета русской эмиграции во Франции — начала выходить в послевоенные годы. В то время немало обосновавшихся в этой стране русских, украинцев, евреев, пройдя школу в рядах Сопротивления немецко-фашистским захватчикам, осознало трагическую ошибку своей жизни. Десятки тысяч мелких буржуа, дворян, интеллигентов, которые бежали от революции, стали просить советское правительство о возвращении на родину и, получив визу, вернулись; многие другие, укоренившиеся во Франции, изменили свое поведение по отношению к советской власти.
Газета «Русские новости» и стала в какой-то мере выразителем просоветских настроений части белоэмиграции. Можно было предполагать, киноклуб «Жар-птица», судя по тому, что его члены собирались на просмотры наших фильмов, объединял именно таких беглецов из России и их потомков. Тем не менее я сказал мадам Кесельринг, что еще не знаю, будет ли у меня свободное время в пятницу, и что сообщу ей об этом на следующий день.
Русская эмиграция в Париже, во Франции — явление одновременно и ясное и сложное.
Первого живого белоэмигранта я увидел еще до войны. Это был писатель Куприн. Седой, дряхлеющий человек с потухшими глазами за стеклами очков вел неторопливую беседу в Доме литераторов. Облик его совсем не соответствовал тому образу, который жил в моем воображении, и мне было грустно. Как много потерял этот старик, прожив как эмигрант много лет там, в далеком, неизвестном и враждебном мире!
Затем были знакомства с литераторами Любимовым и Велле, с дочерью Куприна — Ксенией, вернувшимися на родину после войны. Они рассказывали о размежевании в белой эмиграции, которое зрело еще в то время, когда по Советской стране победно шагали первые пятилетки, и которое захватило, как они говорили, «большинство русских» в годы войны. Тогда даже многие представители «верхушки», привилегированного слоя белоэмиграции, «переоценивали ценности». Некоторые даже титулованные особы включались в борьбу с фашизмом. Например, графиня Оболенская. Она стала в ряды Сопротивления, активно в нем участвовала и погибла в гестапо.
Впоследствии, в конце пятидесятых и в шестидесятые годы, уже во Франции я встречался с русскими людьми, точнее бывшими русскими, «осознавшими», «переоценившими», ставшими, как они говорили, «безоговорочно» на сторону новой России, но уже насовсем осевшими в Париже, Бордо, Марселе.
Запомнился профессор Фролов. Мы разговорились с ним в магазине русской книги «Глоб», куда он пришел на встречу с советскими писателями Львом Никулиным, Николаем Чуковским, Сергеем Антоновым.
Профессор Фролов читал большинство произведений этих писателей и многих других.
— Я не могу жить без русской книги,— говорил он.— Книга заменяет мне потерянную родину. Увы, потерянную навсегда! У меня семья уже полуфранцузская. Тронуться с места для нас невозможно. И теперь книги как-то утоляют голод по отчизне.
Голод по отчизне! Неизбывный, всегдашний, сосущий душу. Об этом почти всегда говорят теперь те, кто покинул, предал ее после Октября.
— Простите, но мне не пришлось вас читать. У вас есть книги? — спросил меня Фролов, когда кто-то нас познакомил.
Я ответил, что последняя моя книжка — это очерки о Париже.
Примерно через год он написал мне в Москву, что нашел и прочитал книжку «Совсем немного Парижа», поблагодарил за эту работу, но и сделал несколько незначительных замечаний.
Больше встреч было у меня с потомками эмигрантов. Среди них немало таких, которые занимают заметное место в современном искусстве Франции, особенно в киноискусстве.
Настоящая, русская фамилия знаменитого кинорежиссера Роже Вадима — Племянников. Актрисы Марина Влади, Одиль Версуа и Элен Валье по родителям — Поляковы. Известный актер Оссейн — бакинец Гуссейнов, сценарист и режиссер (вспомните фильм «Господин такси») Алекс Жоффе — киевлянин по происхождению Александр Иоффе и т. д.
Представители второго и третьего поколений русской послереволюционной эмиграции, естественно, значительно отличаются от своих отцов и дедов. Но и среди них, вжившихся во французское общество, немало людей хорошо настроенных по отношению к Советской стране и очень интересующихся ее историческими достижениями.
Однажды мы встретились на киностудии Булонь-Бийянкур с Мариной Влади. Там озвучивался на французский язык фильм Сергея Юткевича «Сюжет для небольшого рассказа». Она в нем играла роль Лики Мизиновой.
Когда мы вышли из просмотрового зала, глаза у нее были предательски красны.
— Да, я плакала! — сказала она. — У меня всегда сами текут слезы, когда я смотрю русские, советские фильмы.
Когда же Марина везла меня в отель па своей маленькой красной машине «Рено», она сказала, что в этом году снова, в третий раз, повезет своих двух сыновей в подмосковный пионерлагерь и что сама будет очень рада, когда сядет в самолет, летящий в Россию.
— И ребята мои ждут не дождутся этого дня. Вы не можете себе представить, как им, полуфранцузам, нравится у нас,— и поправилась: — у вас.
Потом она рассказала мне о своих первых шагах на общественном поприще. Ее избрали членом Президентского совета ассоциации «Франция — СССР».
— Я никогда не думала, что общественная деятельность — это так интересно, так захватывает! Мне хочется принести пользу на этом поприще. Пользу франко-советской дружбе, делу мира.
К этой теме она неизменно возвращалась и во время других наших встреч, в Париже и в Москве, когда стала женой Владимира Высоцкого. В тот вечер вспомнилась еще и более давняя, в 1960 году, встреча с представительницей третьего поколения эмиграции — студенткой Сорбонны Любой Анкундиновой.
Она работала переводчицей в отделе культуры. Национальной советской выставки в Париже. По внешнему виду — волосы по плечам, умело подведенные глаза, сумочка-чемоданчик с длинным ремешком по тогдашней последней моде и нарочито грубой формы туфли — она выглядела настоящей парижанкой. Но была удивительно стеснительна и скромна.
Заведующий отделом культуры Карасев шутил: «Не переделал Париж наших тургеневских девушек».
В первые дни после открытия выставки, в священные для французов часы завтрака, когда наступало некоторое затишье и уменьшался непрерывный поток посетителей, Люба Анкундинова медленно бродила по другим отделам выставки, рассказывающим о достижениях нашей науки и техники, о промышленном развитии и сельском хозяйстве. Она внимательно рассматривала модели спутников и ледокола-атомохода «Ленин», макеты гигантских электростанций и доменных печей, витрины и диорамы, с которых на нее смотрели желтеющие нивы, бескрайние плантации хлопка и буйно цветущие сады.
Как-то я застал ее стоящей перед стендом, посвященным нашим южным курортам. Она смотрела на подсвеченную с тыла большую цветную фотографию Артека. Синее море. Сотни загорелых, веселых ребят на пляже. Светлые здания в окаймлении зелени парка.
— Нравится? — спросил я ее.
Она чуть вздрогнула и смущенно улыбнулась:
— Очень красиво… И удивительно знаете что?
— Именно?
— Что мы очень мало знаем о… России. В нашей семье, — продолжала она после небольшой паузы, — дома говорят по-русски. Мама до сих пор пьет чай только из самовара. Смешно?
— Почему же? У меня дома тоже есть самовар. Правда, ставим мы его редко.
— Я в другом смысле. Самовар у нас как бы символ… родины! И мы воспринимаем ее, как что-то далекое-далекое, в каком-то тумане, точно видим ее в никеле самоварного бока, — «Самоварную» Россию!..
— От этого мы далеко ушли!
— Вот-вот, мсье. Об этом я и хочу сказать. Эта выставка как откровение, как окно в реальный ваш мир, который мы совсем мало знаем.
Люба Анкундинова была не одинока в такой оценке нашей Национальной выставки. Тогда впервые сотни тысяч парижан воочию убедились, сколь недостаточна, неправдива информация о советской действительности во Франции да и других странах капиталистического мира.
Впоследствии мы не раз беседовали с Любой, и она поделилась со мной своей мечтой — стать учительницей.
— Но это очень трудно для нас, нефранцузов, — получить место преподавателя, — говорила она. — Даже для тех, кто родился здесь, существует незримый барьер, отгораживающий нас от французского общества.
Белоэмигранты да и вообще эмигранты из других стран — чехи, поляки, литовцы, получив право жить во Франции, даже став владельцами кафе или заняв место клерков в конторах фирм, не слились с французским обществом «своего круга». Внешне все у них иногда обстоит благополучно. Снималась приличная квартирка, покупалась машина, в летнее время была возможность поехать на две недели в Испанию (самые дешевые туры) или, в лучшем случае, в Довиль или Ниццу на море. Но даже родившиеся здесь, воспитанные в здешних школах — лицеях, бывшие русские люди, за редким исключением, не находили себе по-настоящему новой родины.
…На другой день после звонка мадам Кесельринг я порасспросил у друзей о том, что представляет собой сейчас киноклуб «Жар-птица», и получил совет согласиться на выступление. «Там обычно собираются только просоветски настроенные эмигранты. Поезжайте, поговорите. Ведь вы не новичок, встречались и с врагами!»
Действительно, встречаться с врагами в путешествиях за рубежом мне приходилось не раз.
Старая эмиграция, или белоэмиграция, давно расслоилась. Активных врагов среди тех, кто боролся с революцией или удрал от нее со страха и до сих пор активно выступает против нас, теперь немного. Однако у новой эмиграции совсем другое лицо.
В некоторых западноевропейских странах и странах американского континента осели тысячи предателей и изменников периода второй мировой войны. Бывшие полицаи, старосты и другие прислужники оккупантов, «воины» так называемой РОА («русской освободительной армии») Власова, кое-кто из вывезенных немецкими захватчиками из СССР насильно, в общем «перемещенные лица». Они составили контингент этой новой эмиграции. Его и принял в свои объятия антисоветский «народно-трудовой союз» (НТС), питаемый разведками некоторых стран, и всякие иные антисоветские и антикоммунистические «комитеты» и «общества». Поддерживали и подкармливали их и полиция и «голоса» радио. Нанимали в шпионы, для диверсий и провокаций различные разведки.
Во время первой поездки во Францию делегации писателей, нас несколько дней донимали трое мужчин в далеко не новых костюмах и женщина в заношенной вязаной кофточке. Они регулярно являлись к дверям нашего отеля по утрам, в час, когда мы отправлялись на очередную экскурсию или на встречу с французскими коллегами, пытались втянуть нас в разговор и совали в руки тоненькие брошюрки и листовки: «Почитайте правду о себе». Мы не обращали на них внимания. Они ругались, проклинали советскую власть, явно добиваясь скандала на улице с вмешательством полиции, протоколом и газетной заметкой об этом на следующий день. Не добившись своего, уходили, пообещав вернуться.
Одного из этих энтээсовцев я приметил. Он был рыжеват, глаза его слезились и бегали. У него, как у пропойцы, дрожали руки, и он то и дело совал их в карманы обтрепанных брюк.
Как-то этот тип «случайно» встретил нас с писателем Сергеем Антоновым на бульваре Капуцинов.
— Привет старым знакомым! — воскликнул он, бросившись к нам с протянутыми руками. — Давайте я покажу вам Париж!
Я очень редко ругаюсь, На этот раз, пожалуй, это было необходимо, потому что наиболее убедительно для такого «знакомого» — крепкое слово. Сергей Антонов удивленно взглянул на меня: «Ну и ну!» Провокатор отстал…
Труднее было отделаться от подобных типов во время работы нашей Национальной выставки. Иногда они доставляли неприятные минуты гидам-экскурсоводам, задавая провокационные вопросы, выкрикивая что-нибудь вроде: «Это все пропаганда!»
В этих случаях на помощь гидам всегда приходили посетители-французы: заставляли провокаторов замолчать.
То же происходило во время встреч-бесед с посетителями в музыкальном салоне главного павильона выставки. На извещение по радио о предстоящей беседе с советскими литераторами, медиками или инженерами в небольшой салон набивалось множество народу. Стульев не хватало. Десятки людей стояли вдоль стен.
На таких встречах я рассказывал собравшимся о современной советской литературе. Конечно, рассказ этот был очень короток. Читать лекции в таких случаях не надо. Важно сообщить самое главное и быть готовым отвечать на различные вопросы о нашей стране.
После одного такого пятнадцатиминутного выступления на меня обрушился град вопросов и о литературе, и о том, например, как поставлено у нас образование детей, сколько стоит билет в кино, обучение в университете, проезд в метро, читают ли советские люди французских писателей и т. д.
Мне приходилось встречаться с самыми различными аудиториями в разных странах. Но, пожалуй, наиболее любознательными, активно интересующимися были посетители этой нашей выставки в Париже да и вообще другие аудитории во Франции.
В этом, несомненно, сказывается интерес к Советской стране, к нашему народу, традиционно живущий во французском народе и все более возрастающий.
Тогда, примерно в середине беседы, из группы, сгрудившейся недалеко от входа в музыкальный салон, вдруг раздались громкие выкрики на ломаном французском языке:
— Не слушайте его! Он все врет! Он коммунист из КГБ!
Аудитория зашумела. Женщина, задававшая мне вопросы о школе, вскочила со стула и закричала:
— Убирайтесь! Не мешайте! Стыдно!..
Ее гневную реакцию поддержали многие. Раздались возмущенные голоса:
— Вон!.. Чего смотрит полиция? Выставите их! — У входа в салон произошла легкая потасовка, и провокаторы ретировались.
Женщина снова встала и, обращаясь к нам, извинилась и просила продолжать беседу. Я стал отвечать на вопросы. Но перед этим сказал несколько слов о тех, кто предал свою родину. Осуждение их как предателей встретило полное одобрение слушателей.
Примерно с середины шестидесятых годов энтээсовская публика в Париже стала проявлять себя редко. Власти, взяв курс на сближение и сотрудничество с Советским Союзом, уже не смотрели сквозь пальцы на антисоветскую деятельность бывших полицаев и власовцев. И многие из них перекочевали в другие страны.
…Киноклуб «Жар-птица» для своего очередного собрания снял зал в помещении Музея восточного искусства Гимэ. Недалеко от площади Трокадеро.
В слякотный, дождливый вечер я вышел из такси перед мрачноватым зданием этого музея, не зная, в какой подъезд надо войти. В этот момент из-под каштана ко мне устремились пожилая женщина с зонтиком и паренек лет восемнадцати в художнической блузе.
— Мы мсье Сытин?
— Да.
— О, мы так беспокоились! Жорж поехал за вами в отель и не застал. Сказали, что вы уже ушли. Разрешите представиться — Елена Кесельринг.
В хорошем, но требующем ремонта зале музея Гимэ, уже собрались приглашенные — человек двести. Это были в подавляющем большинстве пожилые и старые люди. Седины. Седины. Поблескивают очки. Вот пробирается к своему месту, опираясь на трость, совсем дряхлый человек профессорского вида. Мадам Кесельринг взволнованно мнет в пальцах листочек бумаги. На ее платье блестят дождевые капли.
— Господа! Прошу внимания, — начинает она и подносит близко к глазам свой листочек.
«Здесь не встреча-беседа, как на выставке или где-нибудь во время приема в редакции или в оффисе кинофирмы. Здесь можно рассказать о советском кино поподробнее», — думаю я в то время, как говорит Кесельринг. А она представляет меня и благодарит за согласие приехать.
После лекции были десятки вопросов — в записках и устно. Члены клуба «Жар-птица» горячо интересовались всем, что происходит в киноискусстве Советской страны, и вообще новостями нашей культуры.
Вопросы были без подвохов. Большинство — на тему о том, что снимает тот или иной знакомый аудитории по фильмам режиссер или что будут играть Смоктуновский, Самойлова, Бондарчук, Савельева, Баталов.
Среди этих вопросов были и более общие. Например, об отношении нашем к поветрию секса, охватившему западное искусство. Спросил об этом человек профессорского вида с тростью и добавил, что, по его мнению, сексофилия пришла в Европу из-за океана.
Я ответил, что — если говорить о театре — то пьесы «Волосы» или «О, Калькутта» действительно импортированы из США. Что же касается эпатирования публики сексуальным и порнографией в кино, то, пожалуй, первыми начали это делать шведские, датские и западногерманские фирмы. Американцы же, начав серийный выпуск секс-фильмов через захваченный ими во всем мире прокат, глобально загрязнили экраны. Даже в некоторых странах ислама идут теперь секс-фильмы! Лишь в Советской стране производство и продажа порнографии уголовно наказуемы. Она не проникает ни в кино, ни на подмостки театров. И это отнюдь не ущемляет свободу творчества. Мы это осуществляем во имя защиты основ высокой морали и воспитания тех, кому принадлежит будущее.
Зал приветствовал такой ответ.
Был и еще один интересный общий вопрос: почему на экранах Парижа так редко появляются советские фильмы?
Я ответил, что с этим вопросом лучше было бы обратиться в Национальный центр кино министерства культуры Франции, и затем приоткрыл немного перед аудиторией ту кухню, где прокатные фирмы тасуют репертуар кинотеатров Парижа и где очень сильно влияние заокеанских «Семи сестер» — крупнейших кинофирм США.
Когда был объявлен перерыв до начала демонстрации фильма, — устроители получили из фильмотеки нашего посольства ленту режиссера И. Хейфица «Человек из города С.», — ко мне подошел человек с тростью.
Вблизи он оказался совсем дряхлым стариком, видно, за восемьдесят.
— Профессор Герц, — представился он. — Разрешите, милостивый государь, приватный вопрос?
— Пожалуйста!
— Я слышал, что граф Игнатьев, выехавший в Россию, умер. Это верно?
— Если вы имеете в виду Алексея Алексеевича Игнатьева, генерал-лейтенанта Советской Армии и в то же время известного писателя, то, увы, это верно. Он умер уже лет десять назад.
Старик пожевал губами:
— Да, Алексей Алексеевич. Кавалергард его величества. Военный атташе во Франции. Мы много спорили с графом. Тогда. Давно. Очень давно. Что же…
Старик снял очки и уставился на меня выцветшими, в красных жилках, глазами.
— Что же, теперь я могу сказать, — он был прав, Алекс, признав законность воли народа, прав! Извините. Спасибо. Прощайте.
Он отошел ссутулившись, постукивая тростью. Перед ним расступались, а меня окружили и снова спрашивали, благодарили, приглашали выступить еще.
Сияющая мадам Кесельринг еле спасла меня от этих людей, оторванных, может быть, навсегда от родины и потому несчастных, несмотря на кажущееся иногда внешнее благополучие.
Случилось так, что в тот же вечер судьба уготовила мне еще одну встречу с «соотечественниками». Один из моих парижских знакомых, Алекс М., узнав, что я сегодня выступал с лекцией в «Жар-птице», предложил поужинать в русском ресторане.
— Продолжите свои наблюдения за остатками русской эмиграции. За стаканом чая из самовара! — сказал он.
Мне никогда еще не приходилось бывать в русских ресторанах во Франции, и я согласился, оговорив, что не пойду в очень дорогой «Максим», или в кабаки вроде «У Распутина», или «Московские звезды», где обычно развлекаются пьяные американцы.
Мой друг выбрал из двух десятков русских ресторанов Парижа ресторан «Прага», недалеко от площади де Голля. Он оказался крохотным — в два небольших зала. Стены их украшали виды Москвы и Праги, а стойку бара — огромный самовар. Деревянные скамьи вдоль стен и старые «венские» стулья. В углу елочка в кадке.
Почти все столики были свободны. Лишь два или три были заняты явно нерусскими.
— Поздно уже, — сказал мой знакомый парижанин. — А так обычно здесь всегда кто-нибудь сидит перед рюмкой водки на сон грядущий, из тех, кого вы зовете «осколками». Все же с двумя я вас познакомлю. Заказывайте что-нибудь отечественное. Здесь обычно бывают блины, борщ, всегда есть икра, селедочка, раки.
— Попробуем раков.
— Отлично. Гарсон. Тебя зовут Ванья?
— Так точно, мсье!
Гарсон был немолод, лысоват, нос луковкой. Он записал заказ и помчался на кухню. Тогда мой парижанин перешел на французский язык.
— Этот Ванья попал в Париж как кур в ощип. Был у немцев в плену. Работал на ферме где-то в Баварии. После освобождения американцы его напугали, что таких, как он, в Союзе сажают за решетку, и он домой не вернулся. Какими-то судьбами оказался здесь… и вот. Но кажется, сейчас он хлопочет, чтобы ему разрешили вернуться. Хотите поговорить с ним?
— Ни капельки. Трусов ненавижу.
— Тогда русский из этого ресторанчика номер два.
— Лучше сказать «русский» в кавычках!
— Пусть так. У этого судьба другая. Он был у Деникина. Штабс-капитан. В Париже сначала подметал улицы. Потом работал шофером такси. Гардеробщиком. Теперь — бармен.
Мы подошли к стойке. Сухощавый старик, много за семьдесят, мыл пивные кружки.
— Две рюмки водки, капитан, — сказал ему мой знакомый. — И себе налейте. Выпьем, как говорят в России, «со свиданьицем». Этот мсье из Москвы.
В потухших глазах бармена что-то засветилось.
— Соколов, — представился он почти шепотом. — Очень рад. Всегда рад видеть человека… — он помялся немного и договорил: — приехавшего с родины. Потерянной родины.
Неподдельное волнение и тоска зазвучали в его голосе.
— Разрешите спросить вас, мсье, — продолжал он, — вы бывали в Ростове-на-Дону?
— Много раз.
— У меня там сестра. Младшая. Она врач. Неделю назад я имел от нее письмо, она получила новую квартиру! Две комнаты, все удобства. За двенадцать рублей в месяц. Шестьдесят франков! Непостижимо! Неужели это правда? Я плачу сто пятьдесят за одну комнату. Она зовет меня. Как вы думаете — мне можно будет поехать? У меня сын погиб в Сопротивлении.
Бывший деникинец оказался болтливым. Хорошо, что раки варятся быстро. «Ванья» подал их на стол, и штабс-капитан прекратил свои излияния.
Когда мы вышли из «Праги», было уже за полночь.
— История им отомстила, — сказал мой знакомый парижанин. — Вероятно, это закономерно для тех, кто бросает отчий дом.
— Для тех, кто пытается идти против истории, так будет точнее, — сказал я.
— Вы имеете в виду и социальный смысл отступничества?
— Именно. Иначе правильно понять и оценить поступки этих людей нельзя.
— Пожалуй, вы правы. В таком же положении у нас сейчас здесь оказались и венгры и чехи, покинувшие свои страны. Не случайно вы называете их «осколками» разбитого вдребезги старого мира…
— Несомненно. Им осталась лишь «Жар-птица», перо которой уже не добыть.
Великий и прекрасный город глухо шумел.
Под крышами его, может быть, как нигде, разны и странны судьбы людей.
«АЛОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ» ПАРИЖА
В Париж самолет из Москвы прибывал обычно в аэропорт Ле Бурже. Он сравнительно недалеко от центра города. До городского аэровокзала по набережной Кэ Д’Орсе километров двадцать пять. А до окраинных районов города совсем близко. Аэропорт Ле Бурже входит в границы «Большого Парижа», или, как говорят во Франции, парижского «агломерата», включающего десятки пригородов.
По дороге в город, сразу же по выезде из аэропорта, — группы новых домов того общемирового типа, который получил название «современных стандартных жилых зданий», домов в пять — девять этажей, с широкими окнами, лоджиями, балконами для каждой квартиры. Они сложены из серых бетонных панелей или облицованы светлой керамической плиткой. Примерно такими же домами застраиваются многие новые районы и в Москве.
К центру города от аэропорта можно проехать разными путями. Одна из магистралей проходит мимо северного пригорода Парижа — Сен-Дени.
Уже в нескольких километрах от Ле Бурже вдоль шоссе появляются заборы, за которыми громоздятся корпуса заводов и фабрик, затем снова светлые жилые дома, и за ними крыши старого поселка, зеленые купы каштанов и шпиль древнего собора. Это и есть знаменитый городок Сен-Дени.
В давние годы он был центром роялизма, загородной вотчиной французских королей. В наше время это, может быть, самый известный и прочный оплот левых сил, звено «алого ожерелья» Парижа, или, иначе, «Красного пояса» французской столицы.
Теперь в Сен-Дени живет более ста тысяч, и он важный промышленный центр. И уже много лет здесь в муниципалитете большинство принадлежит коммунистам и бессменно, более тридцати лет, мэром избирается Огюст Жилло.
Мэр Сен-Дени — поистине замечательный человек. Родина его Лонжюмо. Там В. И. Ленин в начале века организовал партийную большевистскую школу. В молодости рабочий-кузнец Огюст Жилло, приезжал в Москву. Ему хотелось видеть, что создали в России рабочие и крестьяне. И остался в нашей стране на несколько лет — работать на заводе «Серп и молот».
В 1938 году Жилло вернулся на родину и стал активным деятелем рабочего движения. В годы оккупации Франции немецко-фашистскими захватчиками он работал в подполье, был храбрым воином Сопротивления.
…В начале шестидесятых годов небольшая делегация Общества советско-французской дружбы посетила, по его приглашению, Сен-Дени. Тогда я впервые и побывал в «Красном поясе» Парижа.
Центр этого города — площадь имени Виктора Гюго, великого писателя, патриота и борца против монархизма. Это очень по-французски — назвать так площадь в городе бывшей вотчине королей.
На восточной стороне площади в небо устремляется стрельчатая колокольня и башенки церкви — собора Сен-Дени. Сложенная из серого камня еще в XII веке, колокольня имеет высоту сто восемь метров! Собор — одно из самых замечательный сооружений средневековья в стиле ранней готики. Узорная каменная резьба украшает его портал и арочные окна. Каменные и свинцовые переплеты огромного, круглого, многоцветного витража на фасаде вызывают восхищение мастерами, создавшими это чудо архитектурного искусства.
Много видел собор Сен-Дени. Здесь были похоронены почти все французские короли от Дагобера до Людовика XVIII и королева-отравительница Екатерина Медичи.
В этом храме Жанна Д’Арк освящала свое оружие перед походом.
В первые годы Великой французской революции Конвент, по призыву Барре, постановил разрушить его как символ и святыню монархизма. Гробницы королей были разбиты, но собор не разрушен.
Реставрировав монархию, Наполеон вернул его церковникам. В середине прошлого века храм Сен-Дени полностью реставрировали. Сохранившиеся скульптуры надгробий и саркофаги возвращены на свое место.
Фасадом на юг на площади имени Виктора Гюго стоит и муниципалитет — мэрия города. Здание муниципалитета четырехэтажное, увенчанное башенкой с часами. Сооружено оно сравнительно недавно — в конце прошлого века. Немного под уклон от него идет главная улица города — авеню Республики. Ее пересекают несколько маленьких, уютных улочек. Они застроены простыми, невысокими домами. На подоконниках много цветов, и часто можно увидеть то кошку, то лохматую голову черного или серого пуделя.
Когда наша делегация вошла в здание муниципалитета, мы остановились, удивленные. В глубине простого холла на щитах были развешаны красочные фотографии видов Москвы: Красной площади, университета на Ленинских горах, новостроек Юго-Запада, Большого театра, улицы Горького. Один из щитов занимали диаграммы, посвященные плану развития столицы Советского Союза. Муниципалитет устроил эту выставку в честь побратимства Сен-Дени и Киевского района Москвы.
Нас провели в комнату для приема посетителей на третьем этаже муниципалитета. Окна ее в цветных стеклах, и поэтому в ней странное, какое-то мерцающее освещение.
Мы уселись вокруг большого стола. Вошел сухощавый человек среднего роста, мэр Огюст Жилло. В темных волосах его совсем немного седины. На лацкане пиджака узкая красная ленточка — знак боевого ордена.
Глуховатым голосом, четко выговаривая каждое слово, что характерно для французских общественных деятелей, вообще, как правило, хороших ораторов, Огюст Жилло приветствовал нас по-русски и затем начал рассказывать о характере и методах работы городского самоуправления — муниципалитета.
— Нам, конечно, нелегко работать, — говорил он. — В буржуазной стране, живущей по своим, буржуазный законам, муниципалитеты таких городов, где большинство депутатов-советников — коммунисты, а их десятки во Франции, представляют собой как бы острова. Мы не можем действовать против законов. Мы работаем в их трудных рамках и стремимся в этих условиях сделать побольше для народа. И в сфере материальной и в сфере просвещения. Наш муниципалитет располагает скромными средствами. Тем не менее, накапливая их, мы используем деньги в первую очередь на то, чтобы улучшить жилищные условия. Вы ведь знаете, как много еще в Париже трущоб, перенаселенных квартир. Особенно плохо обстоит дело в этом отношении в рабочих пригородных районах. И вот мы строим дома для рабочих. Простые, но со всеми удобствами. И будем строить. Несколько лет назад нам удалось построить родильный дом, где применяют ваш, советский метод обезболивания родов, и он прославился на всю округу. Муниципалитет стремится улучшить коммунальное обслуживание жителей. Поддерживать в нашем городе чистоту. Помогать тем рабочим, которые по возрасту или долгой болезни не в состоянии трудиться. На очереди — сооружение школы для дошкольников, по-вашему — детского сада и яслей. А в мечтах еще и театр!
Огюст Жилло улыбнулся:
— Да, пока в мечтах, но мы реальные политики. Мы знаем, что мечту надо завоевывать, и мы ее завоюем.
Это он произнес уже серьезным тоном, вложив в свои слова и другой, более глубокий смысл.
Долго шла у нас беседа с мэром Сен-Дени. Потом вдвоем с поэтом Михаилом Лукониным я до вечера бродил по улицам городка. Многие из них своими названиями напоминают о славных уроженцах Сен-Дени, героях борьбы за народное счастье.
Рядом с собором на площади Виктора Гюго высятся мрачные стены огромного здания, похожего на тюрьму. Это старое аббатство. Аббатство огибает улица Вайяна Кутюрье, одного из основателей Французской коммунистической партии. Ее продолжение носит имя героини Сопротивления Даниель Казанова, а улица поблизости названа по имени героя-патриота Габриэль Пери. В северной части Сен-Дени есть проезд имени уроженца города поэта Поля Элюара и улица Дегейтера, автора музыки «Интернационала». Он тоже родился здесь, на узкой, тихой и сейчас, рю Алуэтт в доме № 2. Могила Пьера Дегейтера недалеко, на кладбище Сен-Дени, тоже тихом, в густой зелени кустарников. На могиле Дегейтера надгробие со словами: «Мы наш, мы новый мир построим», его портрет, серп и молот.
Ближе к площади Виктора Гюго некоторые улицы города, например авеню Республики, внешне похожи — витринами своих магазинов, многолюдьем — на улицы самого Парижа. И все же мы скоро отметили характерную особенность Сен-Дени: здесь почти все прохожие были французами. Иностранцы-туристы встречались лишь у со-собора и аббатства.
В районе площади Виктора Гюго, за муниципалитетом, расположен центральный рынок — большое сараеобразное здание. Внутри него — длинные прилавки и удивительная мешанина предлагаемых покупателю товаров. Отгородив для себя небольшой участок на прилавке пластмассовой занавеской или барьерчиком из дощечек, один продавец торговал фруктами, другой — детским бельем, далее покупателю отвешивали мясо или рыбу, демонстрировали ткани или посуду, садовый инструмент, чулки и носки, парфюмерию, писчебумажные принадлежности, бакалейные товары и т. д.
За крытым рынком, в небольшом сквере, было его продолжение, палатки и столики — прилавки под зонтами и навесами. Торговля здесь, хотя товары предлагались те же, почему-то шла оживленнее. Вертелись вихрастые озорные ребята, пожилые женщины спорили о ценах с продавцами.
Неподалеку от выхода из этого сквера-рынка к нам с Лукониным подошли двое немолодых французов. Оказывается, они искали нас уже более часа по улочкам северной части города, узнав в мэрии, что приехавшие из Москвы гости пошли в этом направлении. Они назвались Роше и Дюрантоном, рабочими-металлистами, и попросили разрешения немного поговорить с нами. Мы присели на лавочку, и началась оживленная беседа. Обе стороны хотели узнать как можно больше о жизни, одна — Советской страны, другая — рабочих Сен-Дени.
И несмотря на то что мы с Лукониным имели немалый журналистский опыт бесед с самыми разными людьми, двое французских рабочих побили нас, непрерывно атакуя самыми разными конкретными вопросами.
Мы отвечали, например, на такие: каков заработок рабочего-металлиста; о системе обучения в средней школе и цене билета в кино; о том, что такое «колхоз» и о размерах пенсий и т. д.
— Правда ли, что в России рабочий может купить на всю свою месячную зарплату лишь пару ботинок? — спросил Дюрантон.
— Если понадобится, то и десять! — ответил Луконин.
— Вот видишь, Жан! — в полном восторге вскричал тогда Дюрантон; он был старше Роше, но экспансивней. — Вот видишь! А что пишут в буржуйских газетах? Брешут, сукины дети, что у вас рабочим не хватает денег, чтобы одеваться и обуваться.
Жан посмеялся горячности своего товарища и сразу же задал следующий вопрос…
Нам лишь изредка удавалось спросить у них что-либо… И все же мы узнали от наших неистовых интервьюеров, может быть, самое важное.
В те годы во Франции бесчинствовали профашисты, оасовцы. А в городке Мурмелоне, куда дважды за столетие немцы приходили с мечом, маршировали батальоны бундесвера, приглашенные сюда для совместных военных учений. В общем, в политической атмосфере страны были милитаристические и антисоветские веяния.
— Как вы и ваши товарищи на заводе смотрят на возможность возрождения фашизма? — спросили мы.
— Мы смотрим так! — ответил за обоих Роше. — Вот! — И, сжав кулак, крепкий рабочий кулак, грохнул им по спинке скамьи.
Уже солнце скрылось за крышами, когда нашу беседу прервали товарищи, разыскавшие нас по поручению Огюста Жилло. Они предложили нам, пока еще светло, осмотреть новостройки Сен-Дени.
Мы расцеловались на прощание с Роше и Дюрантоном.
— Русские и французы, соединяйтесь! — сказал Жан, крепко пожимая нам руки.
— Мы всегда будем вместе, — добавил Дюрантон.
В Париж мы возвращались по улице Фобур Сен-Дени. Фобур — это значит: предместье.
Улица Фобур Сен-Дени тянется на несколько километров по предместью, проходит между Северным и Восточным вокзалами и кончается у арки Сен-Дени на Больших бульварах.
Лет триста назад здесь был край Парижа, было внешнее оборонительное кольцо укреплений — вал, крепостная стена.
Впоследствии, как мне ни хотелось, но я не мог выкроить, время, чтобы поехать еще раз в Сен-Дени. В муниципалитете там по-прежнему большинство принадлежало коммунистам, и еще несколько лет мэром работал Огюст Жилло. Я поздравил его лишь как-то по телефону с переизбранием на этот пост и осуществлением его мечты — созданием в Сен-Дени театра имени Жерара Филипа.
— Большое спасибо! — ответил мне мэр. — Приезжайте, когда сможете в другой раз. У нас есть еще некоторые другие успехи.
Теперь Огюст Жилло по состоянию здоровья ушел на пенсию. Но он остался почетным мэром города, в котором по воле народа был «первым лицом» тридцать пять лет!
Сен-Дени — одно из звеньев «алого ожерелья» Парижа, его «Красного пояса».
По крайней мере в десятке городов — предместий Парижа, где сейчас значительно более миллиона жителей и большая пролетарская прослойка, так же как в Сен-Дени, муниципалитетами руководят левые силы. Муниципалитеты эти ведут огромную, исторически важную работу: в условиях буржуазного общества и его законов пестуют ростки общества социалистического. Там родилось и развивается будущее французского народа.
Трудно и напряженно идет процесс рождения и развития этого будущего. Но он идет! В «Красном поясе» Парижа коммунисты, нередко в сотрудничестве с социалистами и другими левыми силами, наглядно доказывают трудящимся возможности более совершенного человеческого общества.
Муниципалитеты в «Красном поясе» строят жилые дома для рабочих и ведут борьбу за их материальные нужды. Строят школы, библиотеки, больницы, ясли, клубы, спортзалы, организуют театры и художественные выставки. В последние годы Французская коммунистическая партия договаривается с партией социалистической о совместных действиях по широкой программе подготовки социальных преобразований во всей стране. Это открывает новые хорошие возможности и для развития городов «Красного пояса».
В некоторых из этих городов я тоже побывал. Например, в Шуази ле Руа — «королевском Шуази», так он стал называться, когда Людовик XV построил на землях селения Шуази загородный дворец для своей любовницы мадам Помпадур. За минувшие столетия селение слилось с «Большим Парижем». Там появились промышленные предприятия, и теперь это один из трудовых районов французской столицы.
Муниципалитет пригорода расположился в бывшем дворце Помпадур. Огромные деревья обрамляют его фасад и небольшую площадь, похожую на лужайку, с клумбой ярких цветов в центре. За дворцом, украшенным портиками, башенками, балюстрадами в смешанном стиле Возрождения и рококо, между деревьями я вижу светлые стены современных домов в четыре и пять этажей, а дальше — двенадцатиэтажные «башни».
— Это наши новостройки! — говорит советник муниципалитета, встречавший нас. — Большинство сооружено на деньги, выделенные из бюджета мэрии, но часть полукооперативные. Они строились на смешанные средства — наши и личные. В последние годы таким образом нам удалось несколько уменьшить нужду в жилищах, дать тысячам рабочих приличные, хотя и небольшие, квартиры. А несколько лет назад они ютились по шесть-семь человек в комнате, в домах, где нередко не было не только газа, но и водопровода и канализации… Впрочем, и сейчас таких жилищ, к сожалению, еще немало в нашем городе и во всем Париже.
Бывший дворец Помпадур внутри оказался безвкусно роскошным. Везде лепные украшения — по карнизам, над дверьми, у каминов. Мы не стали осматривать его подробно и попросили показать что-нибудь связанное с деятельностью муниципалитета.
— Тогда идемте в школу для дошкольников. Это совсем недалеко, — явно обрадовался хозяин — тогдашний мэр Франсис Дюпюи.
Школа для дошкольников, или, по-нашему, детский сад, расположилась за невысоким забором, среди зелени газонов и молодых деревьев, в плоском двухэтажном здании с широчайшими, как в аэропортах или новых универмагах, окнами во всю стену.
Когда мы подошли к калитке, из дверей детского сада потянулась вереница карапузов с мамами, дедушками и бабушками. Вечерело, их вели по домам. Пришлось немного подождать, пока эта процессия проследовала мимо нас.
Внутри здания было очень светло и чисто. На первом этаже комнаты-классы, с выходом в длинный холл, коридор, предназначались для ребят-одногодков. Каждый класс — для одного возраста: четырехлетних, пятилетних и т. д. Мебель, гардины — все из пластических масс. Нигде ни одного кусочка ткани!
В углу каждого класса — игрушки на полочках и столиках. На одной из стен — сотни ребячьих рисунков.
Директор школы для дошкольников рассказывала:
— В классах дети проводят несколько часов в день, мы их учим здесь начальной грамоте, занимаем играми и стараемся прививать им художественный вкус и любовь к прекрасному. Уже четырехлеток учим рисовать, понимать, что такое перспектива, красота формы, игра цвета. Дети с огромным увлечением рисуют. Конечно, наивно было бы думать, что здесь родятся художники. Хотя как знать!
За комнатами-классами — столовая. Отсюда идет лестница на второй этаж, который занимают широкие палаты — дортуары, спальни. Окна их полуприкрыты жалюзи, и поэтому в палатах полумрак и много воздуха.
— Хорошая у вас школа для дошкольников, — говорим мы на прощание директрисе. Она очень довольна и дарит нам ребячьи рисунки.
Один из них сейчас лежит передо мной. Синее-синее небо. Зеленая-зеленая лужайка, и на ней девочка с большими синими глазами, в пестром платьице. Волосы у нее рыжеватые, стоят торчком. Она улыбается и, подняв руку, точно приветствует, или прощается, или просто, от полноты радости жизни, машет ею.
Рисунок надписан: «Жанна, 6 лет».
Приезжая во Францию, я всегда хотел побывать не с официальной делегацией, а индивидуально, как литератор, на промышленных предприятиях Парижа, например на автомобильных заводах «Рено» или фабриках обувной фирмы Андре. Но это оказалось слишком трудно организовать. По многим причинам, а главное, потому, что владельцы и директоры заводов и фабрик обставляли свое согласие на такие посещения рядом условий, которые делали невозможными откровенные разговоры с работающими на этих предприятиях. Посещение же их с делегацией почти не дает возможности вести такие беседы.
Поэтому встречи с трудовым людом Парижа были у меня чаще на улицах и в кафе, особенно в дни работы нашей Национальной выставки. Но встречаться с простыми людьми приходилось и в иной обстановке.
Неправильно думать, что весь пролетариат Парижа сосредоточен в пригородах «Красного пояса». В ряде районов — аррондисманах — самой столицы есть крупные заводы и фабрики, и там же живет немало рабочих.
Например, в районе Булонь-Бийянкур, где расположены огромные автомобильные заводы «Рено», или в XIII районе — аррондисмане, — занимающем юго-восточную часть Парижа. Здесь несколько десятков фабрик и заводов.
В этих районах левые организации (я имею в виду, конечно, коммунистические и близкие к ним, а отнюдь не гошистов) оказывают немалое влияние на общественную жизнь. В последние годы трудовой народ не раз поднимал здесь свой голос против американского империализма и его грязной войны в Индокитае. В мэриях и клубах этих районов часто проходят интересные и важные собрания, митинги, конференции, где обсуждаются вопросы внутренней жизни страны и международные дела, высказываются претензии к властям. В последние годы тут, так же как в «Красном поясе», нередко организуются очень интересные публичные дискуссии «ассамбле-деба», то есть «собрания-споры».
В конце 1970 года в районах «Большого Парижа» и в некоторых других городах Франции такие «ассамбле-деба» проходили чуть ли не еженедельно, и в них участвовало несколько сотен тысяч человек! Инициаторами и организаторами «ассамбле-деба» были коммунисты. Причем в дискуссиях-спорах по широкому кругу вопросов с социалистами, членами правящей партии и представителями других политических групп участвуют нередко руководители ФКП. В зале кинотеатра «Маркада» (VIII аррондисман) в присутствии более двух тысяч человек дискуссию вел тогда заместитель генерального секретаря Французской коммунистической партии Жорж Марше. Выступали на других «ассамбле-деба» Жак Дюкло, Ле Руа, Плисонье, Бийу, Фрашон.
Шумно и остро проходят такие собрания. В залах, как говорится, дым стоит коромыслом. И крайне важно, что ораторы, защищающие принципы и позиции ФКП, всегда получают одобрение большинства. Четкая и ясная программа коммунистов позволяет им недвусмысленно и ясно отвечать на все жгучие вопросы современной жизни. Естественно, это импонирует тем, кто приходит на «ассамбле-деба».
Помимо такой новой формы массово-политической работы, во многих районах Парижа левые силы нередко устраивают различные вечера и встречи не только с политическими и общественными деятелями, но, например, по линии ассоциации «Франция — СССР», ячейки которой есть по всей стране и во многих аррондисманах.
Мне запомнился вечер в XIII аррондисмане. В этом районе Парижа много промышленных предприятий. Поэтому естественно, что на встречу с группой советских литераторов и ученых в зал мэрии собрались главным образом рабочие и атмосфера была подлинно дружеской и теплой.
Мы — профессор-экономист, радиожурналист и я — вначале коротко рассказали о последних новостях жизни Советской страны, крупных новостройках, новых книгах и фильмах. Потом, как всегда на таких встречах, нас атаковали самыми разными вопросами.
Вопросы эти, с одной стороны, убедительно показывали огромный интерес трудового люда Парижа к жизни Советской страны и советских людей, а с другой — с несомненностью говорили все о той же недостаточной информированности парижан о жизни в Советской стране.
Буржуазная печать, радио и телевидение, не говоря уже о кино как средстве массовой информации, до сих пор очень мало сообщают правды о том, что происходит в СССР и вообще в странах социалистического содружества. Факты советской действительности освещаются тенденциозно, зачастую грубо извращаются. Лишь «Юманите» и другие коммунистические издания говорят о нас правду.
Поэтому на встречах и во время бесед до сих пор сыплются как из рога изобилия такие же наивные вопросы, как и те, которые задавали нам с Лукониным десять лет назад рабочие в Сен-Дени: «Может ли советский рабочий купить на всю свою месячную зарплату пару ботинок?»
Почти три часа продолжалась наша встреча в мэрии XIII аррондисмана. Уже поздним вечером мы покинули мэрию и, отказавшись от машины, пошли к метро на площади Италии. Мы шли по улицам другого мира и беседовали о том, что в этом огромном городе, таком необычайно разноликом и многогранном, зреет будущее талантливого и свободолюбивого французского народа, растут силы социализма, об «алом ожерелье» Парижа, где эти силы уже выявляют себя весомо и зримо.
ХАМСИН
Хамсин, горячий ветер аравийских пустынь, дул три дня и три ночи. Трепал листья финиковых пальм на бересту Тигра и завывал за окнами моего номера в отеле «Багдад».
Хамсин принес с собой тончайшую пыль, и над городом даже в полуденное время солнце с трудом, еле-еле, прорвалось через желтый сухой туман, объявший все.
Улицы и круглые площади древней столицы Арабского халифата выглядели как на плохих, выцветших фотографиях. Прохожие, прижимая к лицам полы халатов, шарфы или платки, шагали торопливо, сутулясь, навстречу ветру. Черные покрывала женщин вздувались, открывая шаровары и маленькие ступни ног в сандалиях. Машины шли медленно, с зажженными фарами.
Пыль проникала внутрь машин и даже в хорошо закрытые помещения. В моем номере уже через несколько часов после начала бури все было покрыто седым слоем пыли… И когда мы с профессором-востоковедом Ахмедом Ахмедовичем Искандеровым сели обедать, мельчайшие песчинки противно захрустели на зубах.
Мы досадовали: хамсин заставил отложить нашу поездку по стране. Особенно было досадно мне, ибо время моего пребывания в Ираке было ограничено несколькими днями.
— Ничего не поделаешь. Будем по-восточному спокойно принимать превратности судьбы, — сказал, усмехаясь, Искандеров, когда я в который раз послал проклятие капризам здешней природы. — И давайте после деловых разговоров — им-то хамсин не помешает — посетим Национальный музей Ирака. Окунемся в прошлое этой страны.
Так мы и сделали.
Музей занимает современное здание на улице, с севера на юг пересекающей правобережную, новую часть Багдада.
Обширный квадратный двор замыкают глухие серые стены. Плоское здание без окон. Лишь поверху идет застекленная галерея. Поднимаемся на второй этаж. В первом небольшом зале в шкафах и ящиках-витринах орудия людей каменного века, найденные в долинах гор на севере страны. Некоторые предметы датированы. Они стотысячелетней давности. И все же ничего особенно интересного в этой экспозиции нет. Кремневые скребки и ножи, наконечники стрел и копий — такие предметы есть в любом историческом музее. Но, шагнув за порог следующего зала, я увидел, как заволновался Искандеров, прильнув к витрине. Нелепые маленькие фигурки из мрамора и глины лежали на ее полках, цветные окатыши бус и ожерелий, щербатые коричневые чаши, похожие на пиалы, обломки керамики со странными значками клинописи — первыми материализованными словами в истории человечества.
Да, на все это нельзя было смотреть без волнения.
Пять, шесть, а может быть, и более тысячелетий назад руки шумерийцев, обитавших на здешней земле, создали эти простые и удивительные вещи! Пока еще точно неизвестно, откуда пришли в Двуречье — Месопотамию греков или Сенаар иудеев — шумеры и аккадцы и создали здесь, видимо, самую древнюю цивилизацию.
Они строили настоящие дома и замки-крепости, знали колесо, умели обрабатывать металл, изобрели письменность и календарь.
На стене зала я вижу маску женщины-шумерийки. Широкое, губастое лицо. Миндалевидные глазницы. Пышная прическа — волнами уложенные волосы. Такие прически можно встретить и сейчас.
…Свистит и воет за стенами музея хамсин. Мельчайшая пыль пробивается и сюда, казалось бы, в герметически закрытое помещение. Окон здесь нет. Окна пропускали бы безжалостно яркие и горячие лучи солнца, и трудно было бы тогда поддерживать более или менее ровную температуру, что необходимо для любых хранилищ.
Служитель в платке характерного рисунка — в черно-белую клетку — и коричневом халате до пят сметает метелкой из перьев пыль со стекол шкафов и стен.
Он показывает нам дальнейший маршрут осмотра, хотя и так понятно, куда надо идти.
Следующий зал посвящен первому вавилонскому царству, созданному амореями после крушения под натиском племен варваров шумеро-аккадской цивилизации. Наше время отделяет от него почти четыре тысячи лет.
В зале музея не много вещей — свидетелей той эпохи. Снова глиняные и каменные таблички с клинописью, украшения, статуэтки, орудия труда из камня и металла. Есть и крупные скульптуры и барельефы. Фигуры львов и странных зверей — драконов с длинными шеями и когтистыми, птичьими задними лапами.
Первое вавилонское царство было разгромлено ассирийцами. Оно вскоре возродилось и почти пятнадцать веков было культурным, торгово-экономическим центром и Двуречья, и земель от Средиземного моря до Персидского залива.
Ассирии в музее отведено особенно много места. Целое крыло первого этажа. Вдоль стен одного из залов стоят огромные керамические картины-барельефы. На них изображены люди в профиль, больше мужчины с завитыми бородами, в длинных халатах до пят. Люди на этих картинах то приветствуют кого-то, подняв правую руку, иногда с чашей, или потрясают оружием. Есть картина, где изображена колесная повозка. На другой — сцена сражения. На третьей — жертвоприношение.
В том же зале статуи человеко-быков и фигура женщины с ношей на голове. Маска царя Саргона. Как будто ухмыляется он в свою волнистую бороду. Женская маска из города Нимруда. Широкие брови. Прямой нос. Полные губы в странной — то ли насмешливой, то ли призывной — улыбке. Этот скульптурный портрет-маску называют ассирийской Моной Лизой, ассирийской Джокондой.
Мы тихо переговариваемся с Искандеровым. Музей интересен. Музей волнует. И все же как он неполон, сколь многого в нем не хватает! Искандеров говорит, что археологи-немцы, а потом особенно англичане, проводившие раскопки Ниневии, Нимруда и других ассирийских городов, а также Вавилона, увезли из Ирака огромное количество исторических ценностей.
— Обратите внимание, — говорит Искандеров, — вот стела с клинописью на глыбе черного базальта. Это копия. Ее сняли в одном из европейских музеев, где находится оригинал. А вот еще одна копия — статуи. И еще — керамического орнамента. Впрочем, в здешней земле, наверное, осталось еще великое множество, как вы говорите, «вещей-свидетелей»…
Мы идем дальше по залам музея. Здесь то, что добыто при раскопках Вавилона в период его расцвета, при Навуходоносоре II. Целый угол занимает большой макет «Вавилонской башни» — храма Эсагилу, главного бога Бэла-Мардука.
Башня представляет собой ступенчатую пирамиду. В натуре она имела высоту около ста метров и семь этажей, каждый из которых был окрашен в свой цвет. В ротонде, венчающей пирамиду, стоял идол из золота и перед ним стол и скамьи из того же металла. Общий вес всех этих предметов — двадцать четыре тонны.
«Вавилонская башня» в своей архитектурной основе повторяет элементы «зиккуратов» — ступенчатых пирамид, храмов богов ассирийско-аккадского периода. В Ниневии, Нимруде и других городах стояли несколько «зиккуратов». Интересно — ступенчатые пирамиды Саккара в древнем Египте, что на левом берегу Нила, недалеко от Каира, напоминают храмы цивилизации Двуречья. Но, как известно, египетские пирамиды не храмы, а могильники. А вот ацтеки и майя на Юкатанском полуострове американского континента строили очень похожие на «зиккураты» здания-пирамиды… Это обстоятельство и ряд других фактов навели некоторых ученых на мысль о древнейших связях первых цивилизаций между собой.
И об этом мы говорим с Искандеровым в тихих залах музея, под свист и завывание хамсина за его стенами.
Завершается экспозиция истории Двуречья предметным рассказом об арабском ее периоде. Второе вавилонское царство было потрясено натиском скифов, потом в Двуречье владычествовали персы. Александр Македонский, победив персидскую деспотию, задумал возродить Вавилон, сделать его столицей своей огромной империи, но не успел. Он умер в Вавилоне. С тех пор этот город постигло забвение. А в Двуречье снова сменялись народы и власти. Наконец оно было завоевано арабами. Столицей Арабского халифата стали другие города, и в конечном счете Багдад.
Залы музея, посвященные арабской истории, резко отличаются по характеру экспонатов от предыдущих. Здесь нет статуй богов и царей, нет барельефов со сценами из быта людей далекого прошлого, каменных картин сражений и охот. Нет изваяний животных, ни мифических, ни реальных.
Законы ислама запрещают изображение в любой форме людей и животных. И поэтому «вещи-свидетели» древней арабской истории — это только различные предметы и орудия быта, оружие, затейливые фрески и орнаменты мечетей и дворцов. Художники того времени изощрялись лишь в создании сложных, часто прекрасных, резных рисунков на камне и в мозаических украшениях, в основе своей имеющих геометрические фигуры и очертания растений.
Во внутреннем дворе клубилась песчаная пыль. Горячий ветер трепал, крутил, пригибал к земле только что распустившиеся олеандры и апрельские розы. Нежные белые и палевые цветы посерели, и лепестки их сворачивались, убитые дыханием хамсина. Прикрывая рот и нос руками, мы поспешили к машине.
…Ночью я часто просыпался. Было душно. За окнами стонала буря. Скрипели жалюзи. Где-то методично хлопала незапертая дверь. Помимо моей воли мысль возвращалась к вещам — свидетелям истории Двуречья, к его переменчивой и страшной судьбе.
…Завтра-послезавтра мы поедем по стране и обязательно посетим Вавилон, в переводе — Врата божьи. Вероятно, останки этого полумиллионного города величественны. И мне вспоминаются развалины такого же огромного города древности — Мерва в Туркмении, уничтоженного Чингисханом «не так давно», всего шесть столетий назад…
Вавилон погиб более чем на тысячу лет ранее. Но ведь он был, пожалуй, грандиознее? В моем воображении возникают ступенчатый, разноцветный «зиккурат» Бэла-Мардука на макете в музее, прямые улицы Вавилона, застроенные трех-четырехэтажными домами, импозантные, украшенные изразцами ворота, дворцы.
Хамсин стих так же внезапно, как начался. Под вечер к нам в отель пришли багдадские знакомые — арабы — и Николай Дубин, представитель Совэкспортфильма. Они предложили пойти на набережную, подышать относительной прохладой, сменившей удушающий зной.
Мутная луна висела высоко. Коричневая вода Тигра еще рябилась мелкими волнами и дышала свежестью. Мы были далеко не единственными, кто пришел к Тигру. Набережную заполняли гуляющие. Заняты были почти все столики маленьких ресторанчиков под навесами или под открытым небом. Около каждого горели костры, дымились жаровни. Тут же в ямах или чанах плескались полуметровые рыбины. Почти все ресторанчики специализировались на рыбной кухне. Причем главным образом на приготовлении «масхуба» — печеной рыбы.
Посетители сами выбирали себе «масхуба». Повар убивал рыбу, потрошил, распластывал и, растопырив на специальных палочках или железных прутьях, как бы прислонял сбоку притушенного костра или жаровни. Пока она пеклась таким образом, заказчики отведывали традиционные закуски — не менее десятка сортов. Большой набор закусок, от «хамуса» — тертых орехов с оливковым маслом и какими-то специями — до козьего сыра, — характерное угощение всех арабских народов. Потом на стол подают «масхуба», целиком, на блюде или просто на куске фанеры.
Конечно, ни я, ни Искандеров не отказались попробовать это редкое блюдо. Печеная рыба была ароматной и нежной. Четыре-пять тысяч лет назад на том же самом месте на берегу Тигра люди первых цивилизаций вот так же пекли и ели рыбу, только что пойманную в исторической реке… Интересно, что именно способы приготовления многих видов пищи сохранились тысячелетия. У всех народов.
На следующее утро мы выехали на юг страны. Воздух теперь был прозрачен, и я впервые явственно увидел Багдад. Красивую круглую площадь Свободы со сквером в центре ее, легкий арочный мост, перешагнувший через Тигр, пальмовые рощи и сады правобережья, обрамляющие светлые здания. Правобережье — новый район Багдада. Оно застраивается современными домами, сменяющими хибары прежних времен.
Вдали поднимаются трубы новых заводов и фабрик. На окраине города знакомое здание Национального музея.
Магистраль переходит в хорошо заасфальтированное, совершенно прямое шоссе. Песчаные языки лежат на нем, как снег после поземки. «Волга» обгоняет грузовики с высокими бортами и автобусы, полные мужчин в белых бурнусах, с клетчатыми платками на головах. Над кабинами водителей машин полощутся зеленые, а иногда еще и красные флаги. Это едут паломники к святым местам мусульман-шиитов — Ель-Куфу и Кербала. А навстречу идут грузовики с зерном первого весеннего урожая ячменя из первых кооперативных хозяйств. Тянутся вереницы осликов, нагруженных дровами, тростником, овощами. Сразу же за пригородами Багдада по обеим сторонам шоссе поля, изрезанные арыками, сады, пыльные фонтаны финиковых пальм. Плоская желто-коричневая равнина, без конца и края. Лишь иногда на гладкой, действительно как стол, поверхности сухой, потрескавшейся земли можно увидеть невысокие холмики. Они то расположены группами, то тянутся один за другим по прямой линии. Это следы бывших поселений и оросительных каналов. В древности вся равнина между Тигром и Евфратом орошалась и была заселена.
На горизонте появляется темная полоска. Скоро становится видно, что это пальмовая роща, сады. Маленький поселок белых домиков-кубиков. На арке ворот, ведущих во двор двухэтажного здания, арабская вязь надписи и государственный флаг Иракской республики.
Наш спутник, чиновник министерства культуры и информации, переводит надпись: «Кооперативное хозяйство». Иракская республика взяла курс на постепенное объединение мелких крестьянских хозяйств в кооперативные объединения — некоторое подобие наших колхозов.
Проезжаем мостик через неширокий канал, дающий воду и жизнь этому оазису. И снова ровное, прямое шоссе без конца и края, желтовато-коричневое мертвое пространство пустыни на некогда плодородной земле… Да, плодородной, очень плодородной. Если напоить ее водой, солнце поможет земледельцу снять два-три урожая зерновых в год. Плодовое дерево — яблоня, груша или персик — начинают плодоносить уже на третье лето после посадки!
Снова темная полоска вдали — опять оазис. Снова мостики через арыки. Пальмовые рощи, сады, поля сжатого уже ячменя и вымахавшей на два метра кукурузы. Белые и коричневые глинобитные домики. Городок Хилла. При въезде в него бурые голые холмы. Лишь чахлые кустики степных трав кое-где уцепились за трещины на их склонах.
Шофер тормозит машину около фанерной стрелки на обочине, указывающей на «проселочную» дорогу, ведущую вправо. На стрелке слова по-арабски и английски: «Вавилон — 2 км».
Нет, сейчас мы не свернем с шоссе. Мы вернемся сюда после посещения столицы южной провинции республики города Кербала, мечети в Ель-Куфу и замечательных памятников арабского зодчества мечетей-мавзолеев Аль-Ашра и Аль-Аббас в Кербале. Нас пригласили ознакомиться с этими святынями мусульман-шиитов, их Меккой.
Часа два езды по прямой ленте шоссе, разрезающей плоскую равнину, мимо редких небольших поселков с садами и полянами вокруг них. По обочинам шоссе часто стоят небольшие шалашики из тростниковых циновок или фанерных щитов. Над ними зеленые и красные флажки. Около — большие глиняные сосуды. Это места отдыха для паломников, которые, исполняя обет, пешком идут к святым местам. Таких теперь не очень много. И все же почти в каждой такой «гостинице» на нашем пути отдыхают по нескольку человек.
Ель-Куфу — маленький городок, почти весь застроенный только глинобитными домиками. Он одна из мусульманских святынь: здесь могила и мечеть одного из религиозных вождей шиитов. Кербала тоже священное для них место — там мавзолей Аль-Ашра, имама Али, внука Магомета.
Два гигантских минарета, облицованные листовым золотом, сторожат величественный, в каменной резьбе, портал ее входа. Боковые крылья здания в голубой, красной, зеленой и золотой мозаике. Мечеть-мавзолей венчает гигантский купол, также крытый листовым золотом. Внутренние стены храма сплошь в серебре и хрустале, и поэтому там все вокруг искрится и мерцает. В центре, за решеткой из толстых серебряных прутьев, отполированных до блеска губами и руками паломников, гробница имама.
Иноземцам сюда вход закрыт. Для нас, друзей, было сделано исключение. Сам главный настоятель мечети любезно показывал нам этот храм. А потом мы долго беседовали с ним и с губернатором провинции Кербала.
Последние столетия Ирак, по-арабски Страна берегов, был под властью оккупантов. Завоеватели совершенно не беспокоились о том, чтобы помогать арабам развивать свое народное хозяйство. Они сосали нефть, открытую в северо-восточной провинции, в Моссуле, вывозили исторические ценности, нещадно эксплуатировали земледельцев. И то, что давало жизнь землям Двуречья в прошлом — оросительные системы, — окончательно пришло в упадок.
— Вы проехали уже немало по нашей стране, — говорил нам губернатор, — и вы видели много мертвой земли. Мертвой потому, что ее не поили водой. Очень плодородной. Ведь все пространство между Тигром и Евфратом — речные наносы. Как в дельте Нила, которая кормила и кормит миллионы людей. И главное сейчас в нашей провинции да и во многих других в Ираке — оживить землю. Оживить по-современному, с помощью науки и техники, общественного труда. Вы видели наши первые кооперативные хозяйства? Они еще невелики. Они еще малосильны. Однако именно там рождается будущее Двуречья. Там применяются каналокопатели, тракторы, другая сельскохозяйственная техника. Там есть агрономы. Там используется опыт ирригации в вашей стране. Я сам видел в Узбекистане, в Голодной степи, где теперь поля хлопка и сады, что можно сделать с пустыней. Нам надо еще много трудиться. Мы это знаем…
— Так, так, — кивал головой, соглашаясь с ним, настоятель мечети. — Кто не трудится, тот не вкусит счастья. Иншаллах. — Мулла был образованный и, видно, неглупый человек.
Мы вернулись к перекрестку около городка Хилла по другой дороге и съехали с шоссе на проселок, ведущий к Вавилону. Очень скоро вдали показались зеленые купы деревьев. Волнение охватило нас. Искандеров даже подался вперед, вглядываясь в ничем в общем-то не примечательные холмы — песок, камни, чахлые травы. Мы ждем — вот-вот должно показаться что-то необычайное. Вавилон… Огромный город. Мы знаем, что от него давно остались лишь развалины, руины. И все же…
«Волга» огибает несколько поросших колючками бугров. Пыльные акации и тамариски. Несколько хижин, сложенных из кусков камня и кирпича-сырца. Небольшая площадь и на ней сверкающие эмалью изразцовой облицовки ворота богини любви и плодородия ассирийцев и вавилонян Иштар. Ворота эти реконструкция, однако полностью восстановившая те, которые были построены тысячелетия тому назад. Вплоть до деталей, до изразцовых глазурованных цветных кирпичей и драконов и львов на ее стенах. В восемь рядов, по два зверя на каждом из фасов четырехугольных башен и по три на их выступающих боковинах. Они рельефно выделяются на густо-синем фоне основной облицовки.
На удлиненных мордах драконов завитые рога. У них чешуйчатые тела, львиные хвосты и львиные передние лапы, а задние с огромными орлиными когтями. Львы такого же размера — высотой в половину человеческого роста, они золотисто-оранжевого цвета.
За воротами под акациями стоит небольшой современный дом — местный музей. Он небогатый и в миниатюре повторяет экспозиции вавилонского раздела Национального музея в Багдаде. Хранитель музея отсутствует. А сторож очень плохо говорит по-английски, да и вообще как гид он нам показать ничего, очевидно, не сможет. Мы идем дальше. Туда, где был Вавилон. Бурые, желтоватые холмы, бугры, ямы раскопов, поросшие колючками и чахлой травой, битый кирпич, хрустящие под ногами черепки, песчаные наносы… Тишина. Ни птиц, ни даже насекомых. Лишь маленькие ящерицы, быстро просеменив лапками, скрываются в трещинах. В ямах раскопов глубиной в пять-шесть метров видно остатки фундаментов и стен домов, сложенных из широких плоских кирпичей, и груды обломков. Мы идем над бывшим городом. Прах тысячелетий покрыл руины его дворцов, храмов и жилых домов. На поверхности земли, куда ни кинь взгляд, теперь лишь холмы и бугры. На окраине гигантского, в тысячи квадратных метров, кладбища-города — рощи финиковых пальм. Там течет Евфрат. Высится новенькое странное здание — коробка без окон, — построенное недавно, как и ворота богини Иштар. Это реконструкция посвященного ей древнего храма.
Ориентируясь по плану Вавилона, взятому в музее, мы пробираемся по тропкам среди руин и раскопов к тому району, где археологи и реставраторы расчистили одну из улиц города — улицу Процессий, когда-то проводившую к большому дворцу царей… Впрочем, улицу не расчистили, а «выкопали». На ее мостовую из широких каменных плит нужно спускаться по лестнице.
Улица Процессий не широка. Всего-то метров шесть-семь. Ее сжимают глухие стены домов. Примерно в три этажа. Они сложены из плоских седых кирпичей того времени. На стенах выпуклые фигуры-барельефы драконов в три-четыре ряда. Головы их обращены в одну сторону — к дворцу, которого нет. Драконы такие же, как в облицовке ворот Иштар. Но разница между ними огромная — эти настоящие.
На некоторых кирпичах в стенах Искандеров находит еле заметные черточки клинописи. Древние строители маркировали иногда материал своими именами или именами богов.
Улицы-ущелья, сжатые стенами домов без окон, утверждают археологи, характерны для Вавилона и вообще древних городов Двуречья. Мрачны, наверное, с нашей точки зрения были эти города-крепости далекого прошлого…
Главный дворец властителей Нововавилонского царства совершенно разрушен, так же как и «Вавилонская башня» — Эсагила. Они не восстановлены.
С улицы Процессий мы поднимаемся из прошлого к современности. Снова перед нами бугры, ямы раскопов. Кое-где стены восстановленных домов выступают из них, как бы прорастают над поверхностью земли и кажутся лишними.
Мы шагаем, спотыкаясь, по обломкам кирпичей над дворцом царей, над «висячими садами» Семирамиды, над «Вавилонской башней»…
На более или менее расчищенной площадке, изваяние из черного камня — «Вавилонский лев». Скульптура, добытая из праха времен. Могучий лев над распростертым человеком.
Лев символизировал с тех времен мощь, силу, победоносность.
Львы использовались в войсках царей Двуречья, а потом арабских халифов. Известно, что халиф Ал-Муктадир держал в своей армии более ста львов.
До вечера мы бродили там, где был великий город древности. Трудно было вообразить на месте бесформенных буро-желтых бугров и ям раскопов величественный храм Бэла-Мардука, стометровой высоты семиступенчатый «зиккурат» Эсагилу, дворец Навуходоносора с сотнями залов и садами на террасах — «висячими садами» Семирамиды, крепостную стену, с четырехугольными зубчатыми башнями, очертившую город по граням гигантского квадрата.
Возвращаясь обратно к воротам богини Иштар, мы снова прошли мимо изваяния вавилонского льва. На гранитном постаменте его седым слоем лежала пыль аравийских пустынь, принесенная отшумевшим хамсином. Слой ее был тонок, как папиросная бумага.
— Саван истории, — усмехнулся Искандеров, проведя пальцем по платформе постамента. — Он почти не заметен современникам. Но он ох как силен! И сколько еще неизвестного нам скрывает он, наслаиваясь многими годами на земле Двуречья!
Багдад встретил нас вечерними огнями. Современный Багдад! А древняя столица огромного арабского государства халифов ведь тоже давно уже погребена под саваном истории…
Основанный халифом ал Мансуром в VIII веке, Багдад назывался «Мадинат ас-Салям», что значит Город мира. Три стены, такие же мощные, как кремлевские, опоясывали его. Багдад того времени был городом роскошных дворцов и мечетей, подземных залов с бассейнами для отдыха в летнюю жару и крытыми рынками, куда свозились товары с трех континентов. В нем работали водопровод, бумагоделательные, стеклодувные, оружейные и другие мастерские…
Почти ничего не осталось от Багдада халифов. С тех пор как внук Чингисхана взял его штурмом, убил последнего халифа аббасидской династии и разрушил город, он не возродился. Заново отстраивать его стали лишь через пять столетий. И сейчас названия некоторых районов и улиц Багдада напоминают о прошлом. Например, улица халифа Гарун ар Рашида, идущая на север от площади ал Тахрир, параллельно Тигру, и крытый рынок — «сук». Да некоторые сооружения эпохи аббасидов: ворота Баб аль Вастани, мусульманская школа аль Мустынсыра, так называемый «аббасидский дворец» на берегу реки и некоторые другие. Но эти памятники архитектуры, так же как ворота Иштар в Вавилоне, реконструированы, построены заново уже в наше время. В качестве строительного материала для них частично использованы кирпичи, взятые из развалин древнего Багдада, причем, может быть, те же кирпичи, которые привозились из Вавилона или разрушенной незадолго до рождения столицы халифов — столицы парфянского царства Ктесифона. Так уж повелось в истории: последующие цивилизации использовали для строительства камень и кирпич сооружений, созданных поверженными народами. В Риме и Париже, например, в средине века дворцы и храмы возводились из камня, добытого еще римскими рабами.
Руины Ктесифона находятся километрах в тридцати от Багдада. Там еще стоит часть гигантской арки главного зала дворца. А вокруг нечто вроде «парка культуры и отдыха»: карусели, кафе, стадион, лавочки, этнографический музей. Они подчеркивают мрачность здешних руин.
По дороге на Ктесифон, по другим главным дорогам, ведущим из Багдада на Басру, на Моссул, как только позади остаются пригороды — кварталы новых домов и вилл, — в степном просторе встают дымящие трубы кирпичных заводов.
Современный Багдад строится. Строится интенсивно. Светлые многоэтажные дома возводятся на окраинах, на правобережье да и на улицах старого города, вернее — города времен оккупации его турками и англичанами. На улице Гарун ар Рашида, рядом со старым рынком, есть целый квартал превосходных зданий, где размещаются официальные ведомства республики и банки. Недавно еще застройка Багдада шла стихийно, а проекты зданий создавались главным образом английскими архитекторами. Теперь правительство Иракской республики осуществляет реконструкцию столицы по плану и силами своих архитекторов.
— Пройдет еще немного времени, и вы не узнаете Багдада, — говорил мне Али-Хаммад, генеральный директор телевидения, — так же как не узнают вашу Москву люди, не видавшие ее, скажем, со времен второй мировой войны. Наша революция принесла Ираку независимость от колониализма, и мы пошли по пути истинного прогресса. Во всех аспектах. Это трудно — идти вперед. Но мы пойдем, и мы благодарны вашему правительству, что оно понимает, как это трудно, и не отказывает в экономической помощи и, что, может быть, еще важней, в моральной, политической поддержке. И мы верим в великое будущее Двуречья.
Когда наш самолет начал снижаться и стюардесса объявила, что через несколько минут он приземлится в Багдаде и что нужно пристегнуть привязные ремни и не курить, я невольно поглядел в окно. Далеко внизу, где медленно-медленно уходила под срез крыла буро-желтая земля, творилось что-то непонятное. Необозримая равнина справа, казалось, как бы закрыта плотным серым покрывалом. Вглядевшись, я увидел, что от края этого покрывала космами, острыми языками наискось тянутся темные тени. Через несколько минут, когда самолет снизился, стало видно, как эти языки движутся, наступают, наплывают, взвихривая пыль, и она, поднимаясь, сливается с темной массой «покрывала», застлавшего очень скоро полнеба. Я понял — это стремительно надвигается буря, ветер аравийских пустынь хамсин.
Самолет обогнал бурю. И в Багдад хамсин пришел лишь тогда, когда мы были в своем отеле.
ВСТРЕЧА С БРАЗИЛИЕЙ
«ГОРОД НА РЕКЕ, КОТОРОЙ НЕТ»
Неправдоподобно синий с изумрудным отливом океан. Изрезанное бухтами и заливами побережье. Покрытые темной зеленью лесов хребты гор прижимают к воде золотистые дуги пляжей или обрываются в белую пену прибоя коричневыми скалами. А в долинах, на сложном узоре улиц, поблескивают миллионы окон белых и розовых домов.
Таким мне увиделось Рио-де-Жанейро и его окрестности первый раз, когда я пролетел над ним на юг Южной Америки.
Тогда сделать остановку и познакомиться с прославленным своей красотой городом, как этого ни хотелось, мне не довелось. Но вот апрельским вечером, когда стремительные тропические сумерки сиреневым валом катились с Атлантики, мы вышли из самолета в аэропорту бывшей столицы самой крупной страны южной Америки — Бразилии. Душная жара охватила нас. Неожиданности в этом не было. Кто не знает, что даже в осенние и зимние месяцы в Рио температура редко падает ниже 20—25 градусов, а воздух здесь всегда насыщен влагой. Но попервоначалу климат здешних мест оказывает свое влияние даже на привыкших к «перемене мест» путешественников.
От тягостного зноя я особенно не страдал на пустынных дорогах Туниса и в котловине (четыреста метров ниже уровня моря!) «Мертвого моря». И все же первую ночь в отеле «Толедо» на Копакабане провел почти без сна. Впрочем, думается, не только потому, что было душно, простыни были влажны и кусали мелкие злые блохи. (Они, кстати сказать, в Рио есть везде — в кино, театре, такси и самом лучшем отеле.) В открытое окно вместе с легким бризом доносился непривычный, мерный рокот извечного прибоя. Он и мешал спать.
Всегда, день и ночь, даже при полном безветрии, океанские волны набегают на трехкилометровую дугу знаменитого пляжа.
Впрочем, Копакабана, когда-то священное место праздников коренных жителей — индейцев, — это не пляж, а огромный курорт, хотя и является одним из центральных районов Рио-де-Жанейро.
По всей протяженности его идет авенида Атлантик. С одной стороны ее — океан, а с другой — фронт современных отелей в десять — пятнадцать этажей. За ними, в сторону гор, вдоль улиц Барато Рибейро, Тонелейрос и еще двух-трех поуже и потише, — кварталы жилых домов, магазинов и отелей рангом ниже.
Еще вечером я обежал эти кварталы, в общем ничем особенно не примечательные. Здесь обилие ресторанов, тратторий и таверн-закусочных и кофейных баров. В каждом из них, даже самом захудалом, можно выпить чашечку отличнейшего кофе. Стоит она столько же, сколько коробка спичек!
Запах кофе — вот, пожалуй, что действительно отличает улицы и переулки района Копакабана от районов иных городов стран западного полушария.
Кофе! По статистике четыре миллиона жителей Рио-де-Жанейро — кариока — выпивают ежедневно сорок тонн его.
Да простят мне читатели неоригинальность, но рассказ свой о встречах в Бразилии я начну с пресловутого курорта Копакабана.
Длинные волны рождали примерно двухметровой высоты прибой, когда в первое же утро я вышел на пляж. Подумаешь, н страшено! И я полез в сине-зеленую воду, в грохот и плеск, поднырнул, как полагается, под очередную волну и закачался на других, метрах в тридцати — сорока от берега. Акулы, как мне сказали, здесь появляются очень редко, а когда их обнаруживают спасательно-сторожевые лодки, вывешивается специальный сигнал. Однако не хищные рыбы Атлантики подстерегают на Копакабане неопытного купальщика. Оказывается, здесь легко войти в океан и трудно выйти обратно! Если не знаешь приемов, если растеряешься. Прибойная волна сначала всей своей массой швыряет тебя на песок. Затем, откатываясь, она хватает тебя за ноги и с неодолимой силой тащит за собой.
Раз пять я пытался вырваться из объятий теплых и светлых волн, хлебнул немного горькой водицы, разбил колено и, по правде сказать, немного испугался.
Все же мне удалось наконец выбраться на песок, и тут только обратил я внимание на то, что лишь несколько парней выплывают за линию, где разбиваются волны, а все остальные — сотни людей — купаются в прибрежной зоне.
Потом и я купался так же.
Пляж Копакабаны живет своей, особой в мире жизнью.
Утром здесь полно туристов и кариока, которые загорают и плещутся в океане, играют в мяч и волейбол. По всем улицам Копакабаны разгуливают мужчины в трусах или шортах, женщины в шортиках и распашонках, а кто и в лифчиках. Из отелей туристы идут купаться только в таком виде. Раздевалок на пляже нет. И поэтому в отелях есть специальные лифты для «мокрых», возвращающихся с улицы, в прохладу атмосферы «эр кондишн». Уже часов с одиннадцати в Рио на прямом солнце лучше долго не находиться. К этому времени с пляжа Копакабаны уводят в тень поперечных улиц свои тележки под зонтами даже продавцы мороженого и кока-колы.
Но широкая, метров пятьдесят, полоса чудесного светло-золотистого песка пляжа не пустеет. Ее захватывают мальчишки. Окрашенные в один темно-коричневый тон, почти такие же темные, как негритята, они начинают футбольные баталии. Тела их блестят от пота, им конечно же очень жарко! Но они самоотреченно гоняют мячи весь период полуденной сиесты. Впрочем, где еще можно играть с мячом ребятам в Рио? В городе нет ни метра свободной земли. Дворы — колодцы, а на окраинах склоны «морро» (гор) заняты либо фавеллами, которые лепятся ярусами, как ласточкины гнезда, либо недоступно круты и покрыты зарослями-джунглями.
Вот и гоняют мячи мальчишки на пляже Копакабаны да и в других прибрежных районах города — Ипанема, Леблон, Фламенго — в самое, что называется, пекло. Когда же солнце начинает клониться к западу, их прогоняют купальщики, затопляющие пляж по «второму заходу», и… настоящие футболисты!
Часам к четырем пополудни почти ежедневно, а по пятницам и субботам беспременно, на Копакабане появляются в трусах и майках цветов своих команд футбольные команды городских районов, крупных предприятий и даже окрестных городков. Иногда сразу восемь — десять команд. Со своими тренерами, капитанами, в полных составах.
И тогда, потеснив купальщиков ближе к воде, на всем протяжении знаменитого пляжа начинаются состязания сразу на четырех-пяти песчаных «полях».
По всем правилам настоящего футбола. Два тайма — дотемна, до шести часов вечера. Тысячи и тысячи болельщиков наблюдают за этими фантастическими играми с внешнего тротуара авениды Атлантик, с балконов и из окон отелей.
Честно говоря, я не являюсь страстным любителем футбола и не обладаю знанием тонкостей этой игры. Но когда друзья привели меня в предвечерний час смотреть футбол на Копакабане, так до последнего свистка рефери и я оставался там. Стиснутый настоящими болельщиками, задыхаясь от духоты, — было тридцать в тени, — получая толчки и рискуя быть сброшенным с тротуара под колеса бешено мчащихся за моей спиной машин, я смотрел, как играли команды городского района Ипанема с портовиками. Лишь дуновение легкого бриза, иногда прилетавшее с моря, немного смягчало жару. Тем не менее состязание шло в таком темпе, который не часто увидишь на прохладных зеленых стадионах Европы. Играющим было невероятно трудно. Ведь они играли на мягком песке и они были босые. Да, да, босые!
Справа от меня в двух шагах стоял статный пожилой бразилец. Вначале я не обратил на него внимания. Потом мне показалось странным его спокойствие. Он не кричал, не хватался за голову, не размахивал руками, как все другие зрители — от девушек в шортах до убеленных сединами сеньоров в костюмах и при галстуках.
Лишь глаза его, пожалуй, выдавали волнение и заинтересованность происходящим. Еще и еще оглядываясь на такого странного болельщика, я заметил, что взгляд его настойчиво обращается к одному и тому же игроку — невысокому быстрому мулату команды Ипанемы.
И когда тот ловко обвел защитника и точно послал мяч в угол под планку, бразилец улыбнулся. Но и только!
После ужина мы снова вышли на авениду Атлантик подышать ночной свежестью океанских просторов. Пляж Копакабаны был темен и пуст. Лишь напротив сияющего фасада отеля «Калифорния» на фоне белой черты прибоя проглядывались фигуры нескольких рыболовов с гигантскими спиннингами да кое-где, тесно прижавшиеся друг к другу, парочки.
Однако в ночной жизни пляжа, столь контрастной шумящему городу, была еще одна характерная черточка. В сотне метров от нас мы увидели неяркий мерцающий огонек, и когда приблизились к нему, оказалось, что это горели в ямке в песке две свечки. Около них лежали какие-то палочки и бумажки.
— Не трогайте! — предупредил меня один из наших бразильских друзей, когда я наклонился, чтобы рассмотреть их получше. — Это один из ритуалов Макумбы[20]. Кто-то просит помощи у духов, поставив эти свечи. Или, может быть, хочет послать зло в дом своего недруга. Копакабана, по традиции, подходящее место для такого ритуала.
По мягкому песку, да еще в темноте, идти было трудно, и мы, естественно, вспомнили, что здесь несколько часов назад играли в футбол. Среди нас был замечательный советский тренер Гавриил Качалин, и я рассказал ему о своих впечатлениях, о загадочно-спокойном сеньоре, заинтересовавшем меня своим необычным поведением.
— У него черный перстень на левой руке? — спросил наш друг-бразилец.
— Вот этого я не заметил!
— Все же, наверное, это он! Один из тренеров сборной штата. На Копакабане, знаете, во время состязаний городских команд часто можно встретить организаторов нашего футбола. Здесь была начальная школа для многих известных футболистов. Играли здесь и Пеле и Гарринча.
Как это раньше я не догадался! Ну конечно же тренеры настоящих, так сказать, дипломированных команд должны приходить сюда, присматриваться и отбирать наиболее выносливых, быстрых, сообразительных. Тренировки на песке — что может быть лучше для закалки мускулов и воли к победе? И не это ли одна из причин силы бразильского футбола?
Но довольно о футболе, о Копакабане. Ведь это лишь один из районов Рио-де-Жанейро, что в переводе значит — город на январской реке. Конкистадоры-французы, приплыв январским днем 1556 года в глубоко врезавшийся в материк залив Гуанабара, приняли его за устье неизвестной реки и назвали ее «январской». А когда основали поселение — окрестили его именем реки, которой нет. Впоследствии завоевавшие страну португальцы переделали название с французского на свой лад.
Там, где было это поселение, теперь район города называется «центром», хотя на самом деле это совсем не геометрический центр современного Рио-де-Жанейро.
Центр сейчас — это его северная часть, примыкающая к заливу Гуанабара. Здесь порт; аэродром Сантос Дюмона на острове, соединенном дамбой с материком; самая широкая улица города — авенида президента Варгаса и самая знаменитая торговая улица Рио Бранко. До переезда правительства в нынешнюю столицу страны, город Бразилиа, выстроенный на центральном плато в полутора тысячах километрах к западу, здесь размещались министерства и другие центральные учреждения. Теперь здесь банки и конторы различных торговых компаний.
Я не могу найти в этом районе города каких-либо особо примечательных, интересных, отличительных черт.
Осталось в памяти только, что на авениде президента Варгаса есть несколько огромных недостроенных домов. Коробки двадцати-двадцатипятиэтажных небоскребов стоят мертвые и мрачные. Из-за недостатка средств, из-за падения курса крузейро многие стройки законсервированы. А рядом с ними — еще не снесенные, но обреченные — стоят дома прежних эпох, «колониального» стиля, двух-трехэтажные дома, похожие на те, которые мне пришлось видеть на улицах городов, бывших одно время наиболее важными воротами Европы в колониальный мир, — Лиссабоне и Бордо.
К западу от центра — промышленные районы Рио-де-Жанейро. Здесь же великолепный спортивный комплекс со стадионом Маракана и большой парк Сан Кристобаль. Этот район — единственное более или менее ровное место на территории этого города. Горы отступили тут от берега океана на несколько километров.
Ну, а другие районы Рио-де-Жанейро разделены морро, через которые пробиты туннели. По крутым склонам морро змеятся дороги на вершины Донна Марта и Корнавадо. По существу Рио-де-Жанейро состоит как бы из нескольких городов — центра и запада, Фламенго, Ботафого, Урка, Копакабана, Ипанема, Леблон.
Весь Рио прекрасно просматривается с вершины морро Корнавадо.
Мы доехали почти до самой ее макушки на машине и лишь последние метров пятьдесят поднимались пешком, по крутой лестнице, обвитой цветущими кустарниками. Вершину Корнавадо венчает огромная статуя Христа из белого камня, распростершего руки над городом. Двадцать два метра между его ладонями. Эта статуя видна далеко с моря и почти с каждой точки любого района города. С обзорной площадки у ее подножия — незабываемая панорама. За конической сопкой «Сахарная голова» у входа в сине-зеленый залив Гуанабара — неправдоподобно синий с изумрудным отливом океан, а ближе — ряды белых и розовых домов районов города.
Особенно ясно видна отсюда золотистая дуга пляжа Копакабаны и правее от нее — озеро Родриго-де-Фортетос. Далее — пляжи и узкие улицы Ипанемы и Леблона. На берегу озера, недалеко от Ботанического сада, можно разглядеть серую иглу церкви Санта-Мария. Только что, по пути, мы осматривали ее. Таких храмов я еще не видел нигде, хотя в некоторых странах, в Швеции и Франции например, пришлось уже познакомиться с модерной церковной архитектурой. Колокольня Санта-Мария в Рио трехгранная, тонкая, изгибающаяся пирамида с крестом на вершине. Она похожа на обелиск, посвященный космонавтике недалеко от ВДНХ в Москве. Внизу пирамиды — помещение, так сказать «оффис» храма, а само место молений рядом, в овальном, сплошь застекленном зале. В этом зале — ряды деревянных стульев с подлокотниками и кафедра. По краям ее современные статуи — фигуры девы Марии и еще какого-то святого — и большие подсвечники. В центре зала с потолка свешивается на длинной цепи почти до уровня человеческого роста люстра-фонарь. И больше ничего, никаких украшений.
Молящихся в этом храме мы не обнаружили, кроме одной старушки.
Я так подробно рассказал о церкви Санта-Мария потому, что недавно в газетах прочитал занятную заметку. В ней рассказывалось, что в одном из католических храмов Рио-де-Жанейро аббаты Хосе Алвес и Альберто Новарро, в целях привлечения паствы на мессу, решили устроить в нем танцы под джаз с исполнением вокальных номеров «йе-йе». Затея эта кончилась тем, что набившиеся в зал молодые прихожане так растанцевались, что унять их было самим пастырям уже невозможно. И когда от сотрясения начали качаться и трескаться статуи, пришлось вызвать полицию.
Хотя в заметке церковь не была названа — мне думается, что это произошло именно в модерном храме около озера Родриго. Форма его, так сказать, слилась с содержанием!
С обзорных площадок на Санта-Мария и Корнавадо Рио-де-Жанейро очень красив. Он светлый и праздничный. Это ощущение сохраняется и тогда, когда идешь по авенидам его приморских районов, набережным и скверам с цветущими круглый год деревьями и кустарниками. Поток разноцветных машин, много праздных людей — туристов и просто явных бездельников, пестрые рекламы и тенты над выдвинувшимися на тротуары столиками кафе и ресторанов — все это способствует именно такому восприятию города.
Естественно поэтому, что, знакомясь с ним, мы не раз вспоминали Остапа Бендера, мечтавшего о Рио, где все ходят в белых штанах.
Увы, лишь казовой стороной своей создает Рио-де-Жанейро впечатление праздничности.
Обращая внимание на быт кариока, беспристрастный путешественник на каждом шагу увидит приметы черной их жизни в этом светлом городе. Озабоченны лица хозяек, проходящих по улицам с сумками для покупок. День ото дня все ведь дорожает, а курс крузейро падает. И не случайно вчера мы не смогли несколько часов выехать из района Копакабаны в центр. Авениды, ведущие туда, были блокированы демонстрацией домохозяек, требовавших снижения цен. Не может не обратить на себя внимание бедность одежды очень многих прохожих, их дешевые, разбитые сандалии. Белых штанов, кстати, в Рио почти не встретишь.
Но самое страшное проявление гигантского контраста между имущими и большинством неимущих здесь — это фавеллы.
На склонах морро тысячи и тысячи хижин из ящиков, листов ржавого железа и других бросовых материалов. В них живет четверть населения города — более миллиона человек по официальным данным!
В фавеллах нет ни водопровода, ни канализации. Воду приходится носить на руках, нередко на сто и более метров в гору.
В фавеллах царствуют нищета и болезни. И здесь опасно жить еще и потому, что в периоды дождей потоки воды ежегодно не только разрушают «дома» многих обитателей фавелл, но и уносят с собой немало жизней.
В конце минувшего бразильского лета ливни были особенно сильны в морро. Бурные потоки смыли целые районы поселений бедняков, лишив полностью их скудного достояния. По официальным данным, погибло тогда более тысячи человек, главным образом женщин и детей.
Ливневые потоки породили оползни и разрушения полотна шоссейных дорог в морро над Рио. Мы видели на некоторых участках дороги, направляясь к вершине Корнавадо, огромные промоины, заваленные гигантскими камнями и стволами деревьев, принесенных потоками с высоты, и, глядя вниз, в ущелье, где, как мусорные кучи, виднелись останки домишек несчастных обитателей фавелл, содрогались. Страшная трагедия разыгрывалась здесь совсем недавно под блеск молний и громовые удары. А сейчас на камнях у шоссе грелись на горячем солнце огромные, с тарелку, голубые бабочки-махаоны.
Фавеллы. О них часто пишут корреспонденты газет из многих стран мира, побывавшие в Рио. Но очень редко — местные газеты. Трущобы и их обитатели как бы экстерриториальны в этом городе. Туда даже полиция заходит редко, а если ищет кого-либо, то проникает в расположение сеттльмента нищеты и горя целыми отрядами.
Мы не совершали экскурсии в фавеллы. И не потому, что боялись, что нас кто-нибудь обидит («Там все может с вами случиться», — говорили официальные лица). Мы не пошли туда потому, что не хотели выглядеть иностранцами-туристами, ради любопытства заглядывающими в души страдающих людей.
ТРИ ВСТРЕЧИ В ГОРОДЕ СВЯТОГО ПАВЛА
Мы едем со скоростью сто — сто двадцать километров по неширокому, но хорошему шоссе от Рио-де-Жанейро в город Святого Павла — по-португальски Сан-Паулу. Теплый, душный ветер почти не охлаждает лицо. Более тридцати градусов в тени, а солнце тропиков, несмотря на осень, так накалило кузов нашей машины, что сверху к нему нельзя приложить ладони. Нам всем томительно-жарко. В голове у меня звенят бесчисленные маленькие колокольчики. Но конечно же я готов перенести еще большие тяготы, чтобы увидеть и почувствовать еще лучше страну, которая поразила и заинтересовала меня сильнее, чем многие и многие другие.
Бразилия… Страна огромная и необычайно разная. По размеру своему она занимает четвертое место в мире после СССР, Китая и США. Она чуть меньше всей Европы! Она имеет огромные запасы ископаемых богатств, гидроэнергетических ресурсов, и в Амазонии самый большой лес на нашей планете — площадью в половину Европы. Ботаники нашли в этой стране наибольшее разнообразие видов растений, а зоологи определили, что здесь обитает самое большое число видов птиц, летучих мышей, змей и пауков.
Здесь еще очень много свободной, необработанной, неосвоенной необычайно плодородной земли. Я это могу засвидетельствовать. На шестисоткилометровом пути от Рио-де-Жанейро до Сан-Паулу и дальше на крайний юг страны до города Порту Аллегри я видел огромные пространства прерий, лишь немного запятнанных полями или пастбищами.
Итак, мы едем в Сан-Паулу. В нескольких десятков километров от Рио горы, покрытые джунглями, переходят в пологие холмы. И если бы не банановые рощи на их склонах вперемежку с зарослями, перевитыми лианами, если бы не веерные пальмы и огромные кактусы у заправочных бензоколонок, если бы не странные черные коршуны-санитары «уруба», мрачно восседавшие на заборах и одиноких деревьях у селений, можно было бы представить себя мчащимся в знойный летний полдень где-нибудь в районе Нальчика или по дороге на Теберду. Так напоминает общий вид холмистого пути на юг Бразилии предгорья Северного Кавказа.
Ближе к Сан-Паулу облик местности несколько меняется. Здесь больше обработанных полей. Появляются плантации кофе: нескончаемые ряды невысоких деревьев с широкими овальными листьями, насаженными в одной плоскости на прямые ветви. Здесь чаще селения и маленькие городки с узкими улицами, одно-двухэтажными кирпичными побеленными домиками и одной-двумя католическими церквами, приземистыми, но готической архитектуры. Наконец вдали в голубоватой дрожащей дымке, как рассыпанные серые кубики на зеленом сукне, появляется Сан-Паулу. Сотрудник нашего посольства в Бразилии притормаживает машину на гребне холма.
— Там — центр города, — говорит он. — А сам город распластался в долине на десятки километров. Он почти так же велик, как Рио и скоро его перегонит!
До центра Сан-Паулу мы добрались не сразу. Где шоссе втекает в город, окраинные улицы узки и грязны. В одной из них в «пробке» среди сотни машин нам пришлось простоять более получаса. Пожалуй, это было самым неприятным переживанием за все время моего путешествия по Бразилии! Рядом с нашей машиной стоял гигантский камион-рефрижератор, и от его накаленных металлических ребристых боков несло совсем не холодом. К тому же мощный мотор его был, очевидно, неисправен и отравлял все вокруг удушающими волнами отработанного газа. Нам даже пришлось поднять стекла и закупориться. Наконец, как бы ползком, сто раз рискуя сцепиться с пробирающимися почти впритирку другими машинами, водитель вывел нашу машину из «пробки».
Далее были ничем не примечательные улицы, примыкающие к центру, и потом сразу мир небоскребов. Ущелья из стекла и железобетона, расцвеченные рекламами и вывесками невероятного разнообразия.
В шуме и звоне по авенидам неслись потоки машин, почти не задерживаясь у тротуаров. Полицейские в узких беседках-стаканчиках пытались командовать ими, подгоняя водителей, снижавших темп движения.
Даже небольшие сравнительно города имеют схожий облик в Бразилии. В столице штата Парана с древнеиндейским именем Куритиба всего-то два десятка небоскребов и полунебоскребов в центре. Но и здесь есть все другие атрибуты американского города: обилие наглой рекламы, пышные витрины, бьюики и форды, крейслеры и бентли.
Однако Сан-Паулу самый американизированный город в стране. И не только по внешнему облику. Сан-Паулу — крупнейший торгово-промышленный центр Бразилии, центр бизнеса. Здесь базируются могучие банки, промышленные фирмы, владеющие машиностроительными и химическими предприятиями, торговые компании с огромным, всемирным размахом операций. Половина всего кофе, который выпивается на нашей планете, продается и экспортируется через порт Сантус — океанские ворота Сан-Паулу, находящийся, впрочем, довольно далеко от него.
Более половины производства и проката кинофильмов, не последней по доходности отрасли бразильской индустрии, осуществляется бизнесменами-«паулистами». И не случайно поэтому здесь говорят, что в конце концов Сан-Паулу превратится в деловую столицу страны. Что же, это возможно![21]
Бизнес здесь правят американские капиталисты. Их долларовая мощь держит в узде местных финансистов и предпринимателей очень крепко. И конечно, не без основательной выгоды. По сведениям печати, американские компании выкачивают из стран Латинской Америки более 3 миллиардов долларов прибыли в год, причем бо́льшую часть из Бразилии.
На другой день по приезде в Сан-Паулу нас пригласил к себе обедать один из видных деловых людей страны, владелец примерно сорока газет, до двух десятков радио и телевизионных компаний, многих фазенд (имений) и т. д. и т. п. — Ассиз Шатобриан.
В районе Сан-Паулу, носящем название «Европа», районе тихих зеленых улиц, застроенных одно-двухэтажными особняками, «Каза[22] Шатобриана» известна каждому мальчишке. Она недалеко от перекрестка на улице Полония (Польши). Огромные алые и похожие на лилии желтые цветы украшают странные деревья вдоль ее ограды. За ней огромная вольера. Она занимает весь фасад небольшой виллы Шатобриана. Когда мы подходим ближе, возгласы удивления невольно срываются с наших губ. В вольере среди лиан и странных тропических растений и кустарников сверкают синими, красными и голубыми огнями крошечные птички — колибри. Их здесь сотни. Во всех направлениях они чертят пространство зигзагами стремительного полета и лишь иногда подлетают к баночкам с сиропом, развешанным гирляндой, и, засовывая клювики в отверстия специальных сосков, пьют специальный состав — заменитель цветочного нектара, быстро-быстро взмахивая крылышками.
К сожалению, неудобно было задерживаться, наблюдая за ними.
Первая комната «Казы Шатобриана» — гостиная. Стены ее почти доверху заняты шкафами с книгами, на столах альбомы, в том числе советские фотоальбомы, огромные раковины, статуэтки. Не заставляя ждать, нас сразу приглашают дальше, в столовую — большую, продолговатую, в резных деревянных панелях. Одновременно с нами из противоположной двери, ведущей, очевидно, во внутренние апартаменты, вкатывают на кресле хозяина. Нас предупредили, что тяжелый недуг лишил возможности Шатобриана двигаться. Только на одной из полусогнутых рук он имеет возможность шевелить пальцами. И все же он каждый день печатает на специальной машинке собственные статьи для двух-трех своих газет.
Шатобриан полулежит в кресле. Еще почти не седая его голова (а ему за семьдесят) немного наклонена, и поэтому карие глаза смотрят как бы исподлобья. Они светятся жизнью и юмором, они как бы совсем другого, здорового, сильного человека.
Тихо и невнятно приветствует нас хозяин, пытаясь сделать приглашающий жест кистью руки. Его секретарь переводит слова Шатобриана.
— Приветствую вас! Соберитесь с силами пообедать с таким немощным, как я, — говорит он. — И не только поэтому. Ведь я миллионер, а вы коммунисты!
Он улыбается немного кривой улыбкой, потому что губы уже почти не слушаются его.
Обед подается скромный, но с отличным французским вином.
— За ваши успехи в развитии родной страны! Это очень важно — родина! — говорит Шатобриан, когда секретарь подносит к нему рюмку (его кормят, как дитя), и добавляет: — Я люблю свою родину. Я хочу, чтобы она процветала — моя Бразилия.
Нам понятно, что, подчеркивая свой патриотизм, он хочет сказать нам: тяготит его зависимость Бразилии от американского капитала.
Шатобриан бросает искоса хитрющий взгляд.
На лацкане пиджака его поблескивает маленький значок — футбольный мяч, полуобвитый красным флажком.
— Откуда это у вас — значок советской футбольной федерации?
— О, это подарок вашего тренера сеньора Ряшенцева, он любезно посетил больного старика.
И снова хитрющий косой взгляд.
— Недавно был у меня с визитом помощник государственного секретаря США, — продолжает Шатобриан. — Он тоже спросил, что это за значок. Я ответил: русские наградили меня орденом! И что ж, он задумался…
Да, американцам сейчас все чаще и чаще приходится задумываться над результатами своей политики в Латинской Америке. Здесь, в Бразилии, например, несомненно, зреет недовольство их диктатом, их долларовым прессом, другими словами — проявлением своего рода неоколониализма. Причем недовольство это имеет базу и в народе и в среде национальной буржуазии. Поэтому я так подробно и рассказал о встрече с Шатобрианом.
Шатобриан высказался на эту тему в полушутливой форме, намеками. А другой бразильский капиталист, Данте Анкона Лопец, президент нескольких компаний, говорил мне в тот же день вечером о том же без обиняков. Причем довольно широко обобщая явления, хотя и опираясь на факты лишь одной отрасли бизнеса — кинопроката.
— Наши прокатные фирмы и хозяева кинотеатров сейчас зажаты американцами. Дышать невозможно! Вы знаете, сколько они берут процентов с дохода от демонстрации фильмов? Вы не поверите — семьдесят процентов! Семьдесят! — повторяет Лопец по слогам. — На нас — весь коммерческий риск. Мы все должны организовывать. А они — только привозят картины и вывозят доллары. Вы согласились бы на такой бизнес, будучи в нашей шкуре?
— Конечно нет! Это ведь кабальные условия, далеко не взаимовыгодные.
Данте Анкона Лопец, темпераментный потомок испанцев, вскакивает:
— Ну вот! А мы вынуждены отдавать им все сливки! Карамба!
Лопец вдруг сникает и, подавив вздох, садится.
— Только ведь у них везде руки!
…Но вернемся к рассказу о первом нашем вечере в городе Святого Павла, о первой встрече с «паулистами» — работниками искусства.
Побродив немного в тот вечер по центру города, мы взяли такси.
Занимая место рядом с шофером, я увидел перед ветровым стеклом фотографию двух чудесных ребятишек и под ними какую-то надпись по-испански. Сопровождавший нас сотрудник посольства перевел: «Папа, не забывай, что мы существуем».
Вместо наших «Не уверен — не обгоняй» так здесь предупреждают против лихачества. В другом такси была печатная табличка с надписью, исполненной юмора: «Если будешь спать за рулем — проснешься в аду или в раю».
До театра «Арена» было недалеко, но ехали мы все же довольно долго. На центральных улицах Сан-Паулу одностороннее движение, и, чтобы попасть в нужное место, нередко приходится делать основательный крюк. Было уже довольно поздно — двенадцатый час ночи, когда мы добрались до театра «Арена». Тем не менее нас ожидала вся его труппа. Она невелика — человек пятнадцать всего. И сам театр — крошечный, в зале всего 156 мест. Сцена его открытая, выдвинутая немного в партер, почти без оборудования и, по существу, представляет собой эстрадную площадку.
Мы уселись вперемежку с хозяевами на скамьях и стульях, и один из руководителей театра коротко рассказал нам историю «Арены». Театр этот создала группа молодых актеров и режиссеров лет восемь назад. Основатели решили ставить пьесы, которые помогли бы бразильцам осознавать, что они, бразильцы, — народ, который имеет свою культуру и может ее развивать, может быть самостоятельным.
— Многие пьесы, которые мы выбирали, цензура запрещала, — сказал он. — Нам очень туго приходилось не раз. Но нас полюбили зрители. В этом зале часто приходилось ставить дополнительно стулья, беря их взаймы на вечер-другой в соседней таверне. И все же только восемь — десять актеров мы можем оплачивать постоянно. Когда же в пьесе нужно больше действующих лиц, энтузиасты играют в долг. Сейчас мы репетируем «Ревизора». Да, вашего Гоголя. Собралась вся труппа! Хотим создать острый, современный для нашей страны спектакль!
Потом пошли вопросы к нам. Их было бесчисленное множество, самых разных. И наверное, беседовали бы мы в маленьком полуосвещенном зале «Арены» долго, если бы во втором часу ночи не пришел молодой, ладный парень с веселым, необычайно привлекательным взглядом темных глаз. Это был певец-шансонье Толедо. Застенчиво улыбаясь, он извинился за опоздание и пояснил, что выступал по телевидению, а туда его редко пускают, и потому ему нужно было воспользоваться случаем. Толедо тоже хотел включиться в расспросы, но один из присутствующих, композитор Виктор С., запротестовал и попросил его спеть что-нибудь для «русских друзей».
Не чинясь ни капельки, Толедо разыскал где-то за сложенными в углу декорациями гитару, присел и запел. Точнее, под монотонный аккомпанемент он повел выразительным речитативом несложную, но очень приятную мелодию. Почти после каждой строфы в зале вспыхивал смех, кто-то подхлопывал ему, ударяя себя по коленке. Не понимая смысла песенки, — он пел на португальском, — мы все же поддались очарованию исполнения. Закончив первую песенку, Толедо улыбнулся на аплодисменты и запел вторую, Потом третью.
Наверное, уже давно прокричали вторые петухи, когда он перестал петь и мы встали, чтобы поблагодарить его и хозяев и попрощаться.
— Толедо сейчас ежедневно собирает полный зал в нашем театре, — сказали нам. — Он поет у нас бесплатно, помогает по-товарищески.
— У вас я пел бы также задаром, — добавил сам Толедо, улыбаясь своей застенчивой улыбкой. — И мне очень хотелось бы этого!
Потом мы шли по странным тихим и темным авенидам города Святого Павла. Почти все рекламы были погашены, а собственно уличное освещение здесь скудно, как, впрочем, почти во всех городах капиталистического мира. Сверкали лишь то там, то здесь буквы слов «Кока-кола» да «Филипс». Мне почему-то стало очень грустно. Впрочем, вероятно, потому, что в сердце возникла тревога за маленький театр «Арена», окруженный толпой небоскребов, за смелых ребят, которые ведут борьбу за национальное и серьезное театральное искусство, так нужное народу, стараясь вырваться из-под влияния всяческого «бродвейства».
В ушах у меня долго звенел несильный, приятного тембра голос Толедо. Вот его песенка о том, как простой бразильский крестьянин-пастух — гаушо — заблудился в квартале вилл богачей «Европа». Когда он свернул на улицу Кубы — увидел красный свет, а по улице ЮСА[23] его не пустил полицейский, сказав, что «вперед идти тебе нельзя». Тогда бедный гаушо пошел по авениде Бразилии, и закружилась у него голова — движение по ней было и туда и сюда…
Тонкий, изящный сатиризм этой и других песенок Толедо и принес ему славу.
Мы прощались с Сан-Паулу, окидывая его взглядом почти с двухсотметровой высоты, с плоской крыши самого большого тогда дома города — небоскреба «Италия».
Авениды, зажатые другими небоскребами, казались каньонами, прорытыми в скалах из стекла и бетона темными потоками автомашин. И шумел огромный город, как водопад, глухо и неумолчно. Несколько гигантских «королевских пальм» в сквере у национального театра казались отсюда травинками, а стая голубей, пролетевших над их кронами, — горсть снежинок. Несколько старых зданий прошлого и начала нынешнего веков потонули среди небоскребов.
Директор-администратор «Италии» сеньор Альбано угостил нас очень вкусным кокосовым коктейлем.
— За успехи и счастье «паулистов»! — говорю я ему, поднимая стакан.
— Приезжайте еще! — отвечает Альбано. — Мы всегда рады тем людям, которые хотят дружбы!
Думается, что это было сказано искренне. Слишком солнечно было на крыше самого высокого дома в Бразилии.
НА ЮГЕ БРАЗИЛИИ
Чем дальше мы едем на юг, тем становится прохладнее, и вечерами приходится надевать плащи. И все же «холодный» юг Бразилии — это наш самый южный юг! Здесь, в штатах Парана и Риу Гранди до Сул, климат примерно Средиземноморья. Здесь не знают, что такое снег. И двум ребятишкам, привязавшимся к нам в холле отеля «Игуасу», в столице штата Парана — Куритибе — было очень трудно объяснить, что же такое снег. В конце концов они поняли, что он похож на вату из мороженого.
На юге Бразилии исключительно благоприятные условия для землепашества и скотоводства. В районе Куритибы многие долины заняты обширными кофейными плантациями. Далее главными культурами становятся хлопок и пшеница. А на склонах пологих холмов, там, где удалось ликвидировать заросли, круглый год под открытым небом пасутся стада. Так же, как в аргентинской пампе, за ними следят пастухи — «гаушо», оберегая от хищников и воров и наблюдая за тем, чтобы в прудах и колодцах была вода.
Эти края, так же как местность на пути от Рио в Сан-Паулу, напоминают наш Северный Кавказ.
Вот только растительный мир часто удивляет. В Куритибе и ее окрестностях сохранились небольшие рощи странных сосен — араукарий. Издалека они похожи на пинии Италии — этакие длинноногие грибообразные деревья. А вблизи совсем не похожи на деревья. Если обрубить у северной елки все ветви, кроме тех, которые раскинулись во все стороны, опускаясь к земле у комля, и перевернуть ее — получится араукария. Ее крона веер мощных ветвей, приподнятых на макушке вверх, как рожки канделябра. В долине реки Игуасу растут пышные, приземистые пальмы и корнепуски, почти безлистные деревья, цветущие розовыми и фиолетовыми цветами, точно воткнутыми в сучки. Поистине — многообразен растительный мир Бразилии! Даже имя свое эта страна, по удивительному совпадению, получила от названия дерева — «бразил», драгоценного дерева тропических джунглей с необычайно прочной и весьма красивой древесиной.
На крайнем юге Бразилии, у границ ее с Уругваем, расположен город Порту Аллегри, в переводе с испанского — Веселый порт. Когда-то так называли его французы-колонизаторы. Он стоит в устье реки Гуаипа, впадающей здесь в огромное озеро Дие Патос, соединенное с океаном проливом. На проливе этом, собственно, и расположен океанский порт Риу Гранди — порт Большой Реки. Французские открыватели этих берегов и здесь ошиблись — приняли озеро за гигантскую реку, как в то время, когда ставили первые дома в Рио-де-Жанейро. Река здесь Гуаипа!
Мы прилетели в Порту Аллегри на стареньком самолете «Дуглас», похожем на наши первые «ИЛы» и казавшемся крошечным после современных трансокеанских лайнеров.
Почти везде в Бразилии нас встречали очень приветливо. Но в Порту Аллегри особенно тепло, я бы сказал, задушевно и дружески. На аэродром организаторы встречи привезли даже «мисс единственную» — красавицу, избранную королевой на Всемирном конкурсе красоты в прошлом году. «Единственная» — Мария Варгас — оказалась очень милой и скромной девушкой лет двадцати — двадцати двух, яркой брюнеткой. Она прелестно контрастировала с русской красавицей Аллой Ларионовой, украшавшей нашу небольшую делегацию, и местные кинофотооператоры, естественно, это учли!
Порту Аллегри показался мне поначалу маленьким Сан-Паулу. Центр его застроен примерно такими же небоскребами, а на авенидах Боргес-де-Медейрос и Андрадас шумит такой же нескончаемый поток автомашин и сверкают многоцветные рекламы.
Но на другой день, когда мы осматривали его уже при свете дня, оказалось, что Порту Аллегри имеет свои особенности. С двух сторон его омывают воды реки Гуаипа. На северной окраине города она не так широка, и через нее построен современный мост с подъемным центральным пролетом. А на западе устье этой реки так полноводно, что дальние ее берега чуть проглядываются.
На холме над рекой, единственном на плоской равнине, две телевизионные студии. Здесь нам пришлось выступать, и здесь мы познакомились с очень интересным человеком Сержио Жокманом. Он был очень мало похож на бразильца. Русоголовый, изящный, с немного язвительной улыбкой на нервных губах, Сержио пришелся нам по душе своей прямой откровенностью.
— Да, я сын состоятельных родителей. Но я живу своим заработком — комментирую события. Часто это кое-кому не нравится, и в конце концов меня выгонят. Но все же я буду говорить, не оглядываясь на угрозы, на поношения меня, как «левого», буду говорить о мире во всем мире, о том, что судьбы человечества в сотрудничестве, а не вражде людей…
Прощаясь, мы сказали ему, что, если он приедет в Советский Союз, будем рады увидеться с ним и показать ему Москву с Ленинских гор, так же как показал он нам Порту Аллегри с холма телестудий.
— Конечно, я хочу побывать в России. — И добавил еще тише: — На родине своих предков. Мой дед бежал из Петербурга. Давно. Он был участником покушения на Александра Второго. Я вспомнил об этом сейчас, впервые увидев людей из чужой мне сейчас и все же манящей и дорогой почему-то Советской России. Впрочем, дорога мне еще Италия, там родилась моя мать.
Знакомство с городом Порту Аллегри состоялось у нас на второй день после приезда. Но с «гаушо» — так называют себя коренные порту-аллегрийцы — мы встретились в первый же вечер.
В одном из лучших кинотеатров города, «Марокас», в тот вечер впервые показывали «Гамлета» режиссера Григория Козинцева. Отправляясь на премьеру, мы немного нервничали. В Порту Аллегри очень редко демонстрировались советские фильмы. Как и везде в Бразилии, экраны заполоняли американские картины, и бразильцы привыкли к ним, к «вестернам» и «секс-бомбам», джеймс-бондам и примитивным детективам. Пойдут ли они покупать билеты на серьезный, двухсерийный фильм, да еще «Гамлет»? Гамлетов они видели, вероятно, на экранах уже несколько. Ведь до советской экранизации шекспировской трагедии она переводилась на язык кино семнадцать раз!
К счастью, наши опасения не оправдались. Зал «Марокаса» был переполнен. Но не только это обрадовало нас, а и то, как встретили советских киноработников тысячи полторы зрителей. Они встали, когда мы вышли на сцену приветствовать их, и устроили долгую овацию.
Во многих странах мне пришлось последние годы перед началом демонстрации нашего фильма выходить на сцену, подсвеченную «юпитерами», и говорить о гуманистических идеях советского кино, о мире и дружбе между народами. Почти всегда аудитория была отзывчива на мои и моих товарищей слова. Но никогда мне не забыть радость, пережитую на краю света, в бразильском города Порту Аллегри, в тот вечер, радость от сознания того, как огромно то, что есть — Союз Советских Социалистических Республик. Ведь его, наш советский народ, более полувека пробивающий дорогу в будущее людей земли, горячо приветствовали тогда «гаушо».
Мои товарищи также никогда, наверное, не забудут вечер в кино «Марокас» в Порту Аллегри.
В тот вечер, первый вечер на земле штата Риу Гранди до Сул, Алла Ларионова, Эльдар Рязанов и я еще раз испытали большую радость от встречи с простыми людьми Бразилии.
Из кино «Марокас» гид, переводчик и местный фотограф Семен Брейман повез нас в Клуб культуры, созданный в городе общественными усилиями. Там, приурочив открытие именно к нашему приезду, давался старт «Курсам любителей кино».
Клубы любителей кино есть во многих странах. Здесь такой клуб, названный «курсами», начинал работать впервые.
Около пятидесяти человек (нам сказали — главным образом педагогов, врачей, студентов) собрались в зале клубного кафе. Столики его были отодвинуты в сторону. Лишь один оставлен посередине, и около него несколько кресел, для нас — гостей и организаторов курсов. После кратких речей-приветствий профессор местного колледжа сеньор Ронсиф начал вступительную лекцию о современном кинематографе. Сотрудник торгпредства переводил нам его речь отлично, без запинки. Профессор говорил о том, что основоположниками настоящего, современного кинематографа в мире являются русские писатели и режиссеры. Он назвал Толстого, Горького, Достоевского и Чехова теми писателями, которые оказали наибольшее влияние на мировую литературу и, следовательно, на киноискусство, а режиссеров Эйзенштейна и Довженко теми новаторами, которые создали основы современного кино. Не думаю, чтобы этот профессор специально для нас говорил об этом. По своим общеэстетическим концепциям он был чрезвычайно далек от нашего понимания задач и целей литературы и искусства. Очевидно, он старался быть объективным, и только.
В далеком-далеком бразильском городе снова мы увидели проявление интереса к нашей русской и советской культуре, желание познакомиться с ней лучше и, несомненно, какое-то приятие великой гуманистической сути ее.
На другой день после встречи в Клубе культуры и наших пресс-конференций во всех местных газетах появились корреспонденции с довольно точным изложением нашей позиции и даже одобрительными замечаниями!
А в тот вечер я долго не мог заснуть, мысленно повторно переживая все, что произошло за день. Причем невольно я сравнивал приемы, оказанные нам в Порту Аллегри и в городе Куритибе.
Там, в столице штата Парана, нас суховато, но вежливо встретили, а на ужине, устроенном хозяином большинства кинотеатров города бизнесменом Верди, говорились положенные слова о гостеприимстве. Однако никто, кроме двух-трех корреспондентов, к нам не подходил. А когда студенты университета пригласили нас в гости, Вилли Огурцов сообщил нам, что они якобы будут заняты как раз в назначенный для встречи час. И встреча со студентами не состоялась.
Белобрысый, улыбающийся Вилли Огурцов не скрыл свою причастность к полиции. Этот русский парень попал в Бразилию вместе с отцом, бежавшим с оккупированной территории вместе с фашистами. Он все расхваливал нам поначалу свою жизнь в заморской стороне. Причем пределом его мечтаний, как оказалось, было… купить дешевую, подержанную машину, «чтобы можно было катать девочек».
Удивительно примитивным типом оказался этот отпрыск папы — предателя родины, приставленный к нам. Не понравилось нам в столице кофейного штата Парана.
В Порту Аллегри у нас было потом еще много встреч с самыми разными людьми, в том числе с губернатором штата, с префектом, коммерсантами и художниками, писателями и журналистами. И так же, как первые встречи, все другие были или откровенно дружескими, или, во всяком случае, проникнутыми взаимной заинтересованностью.
Однажды в беседе с сеньором Димосом — одним из руководителей крупной фирмы «Дос Диариос», владеющей несколькими фазендами (имениями), я посетовал на то, что в Бразилии нам пока пришлось повидать только города, пригородные виллы и поселки, а времени у нас мало — скоро придется двигаться домой.
Сеньор Димос понял намек и откликнулся на него немедленно — приглашением отправиться завтра же, если мы сможем, в его фазенду Шамба.
Ранним утром, «по холодку» мы выехали познакомиться хотя бы чуть-чуть с бразильской деревней. За новым мостом через реку Гуаипа свернули налево, на узкую дорогу, которая завертелась между невысокими холмами. В долинах, среди фруктовых и цитрусовых деревьев, то и дело мелькали крыши небольших крытых черепицей или листьями домиков хуторов. Обычно неподалеку от них, отодвинув заросли к вершинам холмов, желтело жнивье или, будто посыпанные пухом, распластывались плантации хлопка. Но чаще свободное от кустарников и леса пространство занимали огороженные колючей проволокой выгоны со стадами пестрых коров.
Даже вблизи от столицы штата кругом было много не освоенной еще земли. И мы не встретили по пути ни одной деревни, ни одного поселка, если не считать двух или трех усадеб-фазенд с несколькими строениями поблизости от дома хозяина — фазендейро — или его управляющего. Оказывается, и хутора, как правило, не личные владения «гаушо». Почти все они принадлежат крупным землевладельцам — латифундистам, потомкам колонизаторов края, или компаниям, вроде «Дос Диариос». «Гаушо» лишь арендуют участки.
Плодородная, красноватая земля, ровный теплый климат на всем юге Бразилии дают возможность получать очень высокие урожаи и содержать скот круглый год под открытым небом. Однако бразильское сельское хозяйство развивается очень плохо, а труженики-землепашцы влачат нищенское существование. Об этом постоянно пишут местные газеты и журналы. Обусловлено такое положение вещей низкими закупочными ценами на зерно, хлопок, фрукты, мясо и кожу, которые диктуются торговыми компаниями, реализующими продукты труда «гаушо».
Сеньор Димос видит выход из создавшегося положения только в капитализации бразильской деревни. Он говорил мне:
— Только когда крупные фирмы, вроде нашей, будут владеть землей и по-новому организуют сельскохозяйственное производство, наша деревня достигнет расцвета!
Что ж, как и Шатобриан, он мыслит шире, чем многие. Конечно, крупные фирмы дадут фазендам больше машин и удобрений. Но расцветет ли бразильская деревня тогда? Конечно нет. Так же бедны и бесправны будут те, кто сейчас в условиях полуфеодального хозяйства обрабатывают землю и пасут стада.
Усадьбу фазенды Шамба мы увидели из-за поворота сразу совсем близко.
За небольшим прудом, среди пальм, открылся одноэтажный длинный дом с террасами и лоджиями. Три гигантских дерева затеняли его фасад. Немного поодаль от «каза гранде» (большого дома) проглядывались небольшие строения типа «финских домиков», жилища служащих фазенды, метрах в ста — еще два приземистых каменных сарая.
Сеньор Димос угостил нас в «каза гранде» отличным, как везде в Бразилии, черным кофе и затем повел осматривать хозяйство фазенды.
Оказалось, что все оно — в двух этих сараях. Здесь разместилась лаборатория и пункт искусственного осеменения, телятник и «родильное» отделение, оборудованное автопоилками и кормушками с механизированной подачей корма.
Фазенда Шамба — это своего рода фабрика породистого крупного рогатого скота. Сюда из Англии было завезено стадо гемпширов, которое теперь разрослось и позволяет улучшать местный малопродуктивный скот.
Вначале гемпширы плохо переносили круглогодичное содержание на воле. Особенно молодые. Поэтому-то на фазенде и был построен телятник. Но уже через два-три года «англичанки», как и местные коровы, стали постоянно жить и телиться на пастбищах.
Эти пастбища разбиты на секторы «зеленого конвейера» и удобряются по определенной системе. Нам пояснили, что на «отработанном секторе», то есть где съедена трава, новая вырастает через две-три недели зимой и летом.
Мы прошли на одно из таких пастбищ. За дорогой, обсаженной пальмами и странными деревьями, покрытыми розовыми цветами, лежало ровное поле. С трех сторон его окружал густой лес. У опушки справа, среди кустиков, стояло кучкой стадо буро-пегих коров. Неподалеку, склонившись на седле, казалось, дремал пастух с винтовкой за плечами. Круг лассо свисал с луки его седла.
Там, где было стадо, трава была высокой и сочной. А в двухстах метрах ближе к середине поля начиналась полоса, откуда недавно перегнали коров к опушке. Здесь луг был основательно вытоптан, и красноватая почва проступала на кочках и бугорках. И вся эта широкая полоса земли была похожа на огромное полотно пестрой ткани твид.
— Сюда теперь будут внесены удобрения, — пояснил сеньор Димос, — а пока травостой возобновится, стадо перегоняют в сектор «А», к опушке леса слева отсюда. Там, как видите, уже луг зеленеет.
Действительно, яркая, изумрудная зелень покрывала площадь сектора «А».
Благословен климат юга Бразилии!
В сумерках мы вернулись в Порту Аллегри и стали собираться в обратный путь. Путешествие по Бразилии подходило к концу. Мало пришлось увидеть в этой интереснейшей стране. И все же, подумал я, укладывая свой походный чемодан, встреча с ней состоялась.
К сожалению, не удалось нам побывать в городе Бразилиа, в столице этой страны, выстроенной в полупустынных районах центрального плоскогорья.
Нам рассказывали, что производившие геодезическую и геологическую съемку местности партии и первые группы строителей потеряли там несколько десятков человек, растерзанных ягуарами и умерших от укусов змей.
Но нам посчастливилось дважды увидеться с единственным в мире и, наверное, в истории человечества архитектором, который построил город по своему видению, по своим проектам, — город Бразилиа.
Этот архитектор — Оскар Нимейер.
Когда мы вернулись из поездки на юг в Рио-де-Жанейро, он пригласил нас сначала в мастерскую, а потом на свою виллу на склоне одной из гор, окружающих этот город.
Мастерская Оскара Нимейера на последнем этаже дома в конце авениды Атлантик, она невелика: всего одна комната — зал, я думаю, не более восьмидесяти квадратных метров площадью.
Знаменитый архитектор невысок ростом, очень смугл, с изумительно выразительными, большими карими глазами.
— Здесь мы работаем главным образом над проектами зданий, которые сооружаются в других странах, — сказал он. — Другая моя студия — в городе Бразилиа. Там мне приходится в последние годы проводить несколько месяцев в году. Вы видели, что там выстроено?
Фотографии зданий и интерьеров столицы Бразилии широко известны, и поэтому мы попросили хозяина показать нам какие-нибудь новые его архитектурные решения. Он согласился и положил перед нами два огромных альбома с чертежами и фотографиями.
Здесь были проекты отелей и клиник, административных зданий и вокзалов. Почти все они характеризовались смелостью решения, своеобразием. Но мне запомнились два проекта: отеля где-то на средиземноморском берегу и аэровокзала.
Оскар Нимейер предложил построить тот отель не на крутом берегу и не у самого моря, в полосе пляжа, как, вероятно, решил бы любой другой архитектор, а соединив пляж и вершину нависшей над ним скалы стометровой башней. Вход в это здание он сделал посредине ее — с плоскогорья. Таким образом, отпала необходимость в фуникулере, его заменили обычные лифты.
Другой его проект — аэровокзала — также поразил меня остроумием и смелостью. Знаменитый зодчий предложил здание его сделать овальным и поместить в середине летного поля. Благодаря этому все самолеты могли бы без труда причаливать к нему со всех сторон. Конечно, въезд в этот аэровокзал должен быть через подземный туннель.
Оскар Нимейер сказал нам, что скоро поплывет в Европу с выставкой своих работ, и посетовал на то, что в родной стране ему сейчас работать трудно. Это не требовало пояснений. Оскар Нимейер — лауреат Международной Ленинской премии мира и не скрывает, что он коммунист по своим убеждениям. И, несмотря на то что в Бразилии он один из самых известных людей, в условиях атмосферы разнузданной антикоммунистической пропаганды и репрессий против прогрессивных сил, ему часто, как говорится, «суют палки в колеса», даже иногда вызывают на допросы в полицию.
О популярности этого, пожалуй, лучшего ученика и последователя Ле Корбюзье можно судить хотя бы по тому, что в Рио-де-Жанейро есть авенида Нимейера, а отели, школы и даже рестораны называются его именем во многих других городах страны.
Накануне отъезда из Рио-де-Жанейро домой мы встретились с Оскаром Нимейером еще раз на его вилле.
Вилла эта оригинальна, как и все, что строил и строит архитектор. Она двухэтажная и вписана в ребро скалы среди дремучих джунглей. Задняя стена ее — камень этой скалы. Вилла очень невелика. Гостиная со стеклянными полукруглыми стенами образует второй этаж, а в первом четыре небольших помещения, из окон которых чудесный вид на зеленое ущелье и океан вдали.
Оскар Нимейер и его супруга вспоминали свое посещение Москвы и говорили, что, как только представится возможность, они снова приедут в Советский Союз.
Вскоре после возвращения на родину я прочитал во французских газетах: Оскар Нимейер принял предложение руководства Французской коммунистической партии — создать проект нового здания ЦК партии в Париже.
А через несколько лет увидел его уже построенным.
Как и все или почти все, что создал великий современный зодчий, здание это оригинально, своеобразно. Оно — тоже новое слово в архитектуре. Место для него выбрали в Бельвиле — районе Парижа, прославленном своими революционными традициями, на площади имени полковника Фабиена, героя Сопротивления гитлеровским захватчикам. Стены здания — из стеклянных плит, укрепленных в стальном переплете. Они имеют чуть зеленоватый оттенок и плавно искривлены и поэтому кажутся как бы поставленной на ребро огромной волной, омывающей площадь. С верхнего этажа, хотя здание это и не высотное, видно далеко, видны и Нотр-Дам, и холм Монмартра, и, конечно, Эйфелева башня, и группа небоскребов района Дефанс…
Я любовался Парижем однажды отсюда, так же как с площади у Сакре-Кэр… Но, как всегда, думая о великом городе, вдруг вспомнил Рио-де-Жанейро, мастерскую Нимейера на Копакабане и его виллу у скалы, охваченную буйной зеленью тропических джунглей. И его самого, его большие, выпуклые, теплого коричневого тона грустноватые глаза, глуховатый голос…
— Я люблю свою родину, свою Бразилию… Как бы хотелось увидеть ее шагающей в будущее… Свободной, независимой от… капитализма…
Что ж, мы все хотим этого…
ЛЮДИ НА НИЛЕ
Невысокий худощавый человек появился под вечер в моем номере отеля «Семирамис» в Каире. Складки, идущие от носа к уголкам рта, нервное, сухое лицо.
Это давний знакомый, знаменитый кинорежиссер арабского мира Юсеф Шахин. Он окинул взглядом комнату, задержал на секунду внимание на панораме за широким окном-дверью, ведущим в лоджию. Там в теплых сумерках угасал оранжевый закат, качались на Ниле фелюги с длинными косыми парусами, а дальше, на другом берегу, вспыхивали огнями окна многоэтажных домов района Гизы. Была поздняя осень семидесятого.
— Здравствуйте. Некарашо! — сказал Шахин.
Далее он продолжал по-французски, как всегда, экспрессивно и нервно, изредка вставляя в речь русские слова, главным образом «некарашо», и «я не хотеть». Он рассказал мне о том, что поставленный им кинофильм о дружбе и сотрудничестве между советским и египетским народами, о великом проявлении этой дружбы и сотрудничества, фильм о сооружении Асуанской плотины и гидроэлектростанции здесь, в Каире, неожиданно подвергся убийственной критике.
— Нет, вы подумайте, мсье Ситин, что происходит! — почти кричал он, резко размахивая обеими руками. — После смерти президента Насера у нас подняли голову противники хороших отношений с Советским Союзом. Некарашо! Я считаю, что они, эти люди, дальше своего носа не видят. И они ругают мой фильм потому, что он показывает плодотворность нашей дружбы и сотрудничества. Я не хотеть больше работать! Я не буду переделывать «Люди на Ниле»!
Разволновавшись, Шахин то вскакивал с кресла, то снова садился, лицо его посерело.
— Ради бога, успокойтесь, Джо, — сказал я ему несколько раз, но он продолжал возбужденно, почти истерически, почти в крик, возмущаться статьями в египетских газетах, где его упрекали в «искажении», в «неверном» отражении действий некоторых чиновников — персонажей фильма, которые по ходу повествования тормозили, например, доставку оборудования на стройку в Асуане.
— Некарашо! Тре, тре мове! — бушевал Шахин. — Мелкие политиканы хотят убить, растоптать произведение киноискусства своими мелкими придирками ради своих мелких интересов карьеристов и антидемократов. Как они смеют выступать против прославления подвига строителей Асуана! А в этом суть моего фильма!
С большим трудом удалось успокоить гостя, постепенно переводя разговор на другую тему. Шахину недавно в Москве сделали операцию в ухе. Я и поинтересовался, как он теперь, лучше слышит.
— Очень карашо! — ответил он.
Потом я спросил, как поживает его жена-француженка, мадам Коллет, симпатичная болезненная женщина с большими карими глазами, почти арабскими.
— Спасибо за внимание. Карашо.
* * *
С высоты нескольких километров великая африканская река Нил видится узкой светло-коричневой ленточкой, даже шнурочком, в обрамлении нешироких полосок зелени. А вокруг, вплоть до дымного всегда в здешних краях горизонта, всхолмленная, желтая с черным пустыня покрыта извилистыми, как поверхность мозга, морщинами — руслами «вади», высохших рек и ручьев. Когда-то — а по геологическим понятиям совсем недавно — тысяч десять лет назад всего, здесь шумели тропические джунгли, бродили стада слонов, жирафов и буйволов, таились хищники…
Бо́льшую часть Египта занимает эта пустыня — восточная часть Великой Сахары.
Асуан показался впереди, прямо по курсу самолета. Ленточка Нила была перегорожена строящейся плотиной, как ручеек дощечкой. За ней далеко на юг, меж пологих холмов, простиралась сизо-голубая чаша уже заполнявшегося водохранилища. Ближе по правобережью прижались к кофейного цвета реке две-три сотни домиков. Немного в стороне еще дома-кубики. Белые, как на макете, — поселок строителей. И неподалеку серые бетонные ленты посадочных полос аэродрома на желтом песке, обнимающем Асуан со всех сторон.
…Добравшись до отеля и переодевшись полегче (несмотря на январь, температура воздуха здесь за тридцать), еду с встречавшим директором фильма «Люди на Ниле» на съемки. Хорошее шоссе ведет из поселка к плотине. Но только приблизившись вплотную к ее подножию, или иначе к нижнему бьефу, по серпантину, проложенному в черных скалах, начинаешь поражаться грандиозности этого сооружения. Что величественные пирамиды Гизы! Горным хребтом нависает плотина над грохочущим, бурлящим, в струях, как напряженные бицепсы, в пене потоком. Он вырывается стремительными гигантскими фонтанами из донных ее отверстий.
Вверху, у «края неба», по спине плотины жучками ползают бульдозеры, сооружающие автостраду. На склоне, круто обрывающемся в долину Нила, тоже ведутся работы. Сглаживается, равняется скат, ставятся опоры ЛЭП. Ближе к правому берегу реки в тело плотины врезано здание — белые стены с рядами узких окон — машинного зала гидроэлектростанции. Там уже монтируются первые турбины и генераторы. Одна из турбин, выкрашенная в оранжевый цвет, похожая на огромную лепешку, лежит на большой барже, пришвартованной стальными тросами к черным, гладким, окатанным водой камням немного ниже по течению. В этом месте поток, вырвавшийся из донных отверстий, сливается с другим, более спокойно текущим от левобережья, где в сливной части плотины еще не закрыты все створы нижних водоводов.
Грандиозна панорама Асуанской гидроэлектростанции! Я дивлюсь масштабам сооружения. Спускаюсь к урезу вод потока. Бросаю в него щепочку. Ее подхватывают и несут свитые тугие струи с огромной скоростью…
Кто-то сверху, от дороги, машет рукой и кричит мне что-то. В звенящем грохоте не разобрать, но понять можно: меня предупреждают, чтобы я был осторожен, не сорвался с гладких черных валунов. Выбраться из потока живым вряд ли удалось бы. А мне не хочется уходить от берега укрощаемого Нила. Отсюда открыта вся стройка. Видны другой берег реки и остров, что против городка Асуан. На острове кокосовые пальмы и развалины древнего сооружения.
Я видел много великих рек. Наши сибирские — непревзойденной чистоты и красоты Ангара и неоглядно могучий Амур — пожалуй, больше, мощнее Нила. Но на берегу этой реки ощущаешь особое чувство, воспринимаешь ее по-особенному.
Тысячи лет назад в долине Нила, немного южнее Асуана, в Абу-Симбе, и к северу, в Луксоре, и еще дальше на север, в Саккаре и Гизе, в дельте реки были большие поселения огромного египетского царства. Здесь была одна из колыбелей цивилизации. Древние египтяне достигли немалого в технике и науке, строили сооружения, сохранившиеся до сих пор. Храмы богов и дворцы, гробницы-пирамиды фараонов. Многие годы уходили на их постройку. Величайшая из пирамид Хуфу-Хеопса в Гизе, что на окраине современного Каира, строилась полвека!
А вот Асуанская плотина — пятилетие. Пожалуй, и ее тело уложено больше половины камня и грунта, затраченного на все пирамиды! Но не в грандиозности этого сооружения наших дней, если думать о смысле вещей и человеческих свершений, конечно, главное. Главное в том, с какой целью трудились люди тогда и теперь. Под испепеляющим солнцем тропика Козерога, — а он обвивает земной шар здесь, — в знойном мареве ветров пустыни, дни, месяцы, годы…
Тогда-то по воле и ради тщеславия земных властителей и во славу туманного пантеона богов. Ныне — из желания построить новый дом, новое государство для себя, впервые после долгих лет подчинения феодалам и иностранцам.
Для египтян тысячелетия Нил был добрым и злым одновременно. Добрым, когда спокойный летний паводок приносил на поля феллахов плодородный ил и влагу. Злым, когда (а это бывало часто) паводки превращались в опустошительные наводнения. Голод и болезни тогда уносили в царство теней жителей многих селений.
В конце прошлого века английские инженеры по заказу колониальных властей построили на великой африканской реке подпорную, невысокую, в несколько метров, плотину. Она позволила увеличить немного площадь орошаемых земель. Длинноволокнистый «египетский» хлопчатник, выращиваемый на них, высоко ценился на рынках Европы. Но эта плотина не могла подчинить Нил человеку, спасти от наводнений. Один из английских инженеров писал в то время, что своенравная африканская река всегда будет грозным дамокловым мечом, нависшим над долиной и дельтой Нила, всегда будет время от времени губить посевы, скот, людей.
Опыт советских гидростроителей помог решить дерзкую задачу укрощения Нила. Они создали проект плотины и водохранилища в Асуане, которые, накапливая миллионы кубометров воды, позволят хорошо регулировать сток и одновременно построить гидроэлектростанцию большой мощности и тем самым создать электрический фундамент национальной промышленности освободившегося от феодализма и колониальной зависимости Египта.
…Сухая, звенящая глина под ногами. Однажды смоченная дождем, она затвердела камнем. А недавно в Асуане прошел дождь — впервые за три года! Изнывая от жары, мы медленно поднимались по обочине дороги к гребню плотины. Один за другим нас обгоняют самосвалы Минского автозавода и «ЗИЛы». И вот наконец вершина плотины. С ее гребня открывается простор водохранилища. Поверхность его в мелкой шоколадного цвета ряби. Уровень воды еще не достиг максимальной отметки, и все же обнимаемое холмами рукотворное озеро протянулось до горизонта.
Там, в дальнем его конце, сейчас тоже идут исторического значения работы: там, в Абу-Симбе, распиливаются на блоки и поднимаются на крутой срез прибрежной скалы статуи древних богов и обожествленных властителей Египта. На недоступной для затопления при заполнении чаши водохранилища высоте они будут вновь собраны, реставрированы и сохранятся еще на века и века.
Пройдя по гребню плотины с полкилометра, мы снова спустились вниз, на уровень нижнего бьефа, на плоский полуостров — треугольник, образовавшийся между двумя потоками: слева — от водоспуска и справа — от выходящего из донных отверстий турбинного зала будущей гидроэлектростанции. На полуострове несколько дощатых домиков и палаток. Около одной из них на треноге под зонтом большая съемочная кинокамера. Здесь «полевой стан» группы, создающей фильм «Люди на Ниле».
Из ближайшего домика навстречу выбегает Юсеф Шахин в шортах и расстегнутой рубашке. За ним степенно выходит главный кинооператор картины Александр Шеленков и его жена, тоже оператор, Ван Чен. На головах у них соломенные украинские шляпы — брыли. И все же лица их обгорели на тропическом солнце до красно-бурого тона.
Шахин ведет нас на маленькую веранду одного из домиков и сразу же, шагая из конца в конец ее, начинает возбужденно рассказывать о ходе съемок. Идут они «карашо», и он надеется, что в ближайшие дни завершит работу в Асуане и переедет с группой в Каир.
Шеленков тоже доволен. Но он не скрыл от нас: есть в работе шероховатости. Не всегда, например, вовремя, в назначенный утренний час, когда солнце еще не добралось к зениту и все предметы выглядят рельефнее и снимать лучше, собирались люди на массовки. Нервировало и то, что проявка снятой пленки производилась в Москве, за тридевять земель, и поэтому он, главный оператор, не мог быстро узнавать, есть брак в отснятом материале или нет. То были обычные претензии к организации съемок.
В съемочных группах, особенно в экспедициях, почти всегда случается что-нибудь непредвиденное. Фильм не серийная продукция, а штучная. Всего не предусмотреть. Особенно в необычных условиях. Во время съемок на натуре случается иногда такое, что нарушает планомерный их ход. То погода испортится, то актер или актриса прихворнут, то, как ни стараются ассистенты, не найдется людей нужного «типажа» для массовки и т. д. и т. п.
Но бывает и так: режиссер-постановщик плохо подготовится к съемкам очередного эпизода с вечера, и на следующий день группу лихорадит. Если мизансцена не размечена на местности, оператору приходится искать точки и ракурсы для камеры, а время проходит, солнце поднимается выше, тени меняют вид объектов и т. д. и т. п.
Юсеф Шахин снял до того, как ему поручили постановку фильма «Люди на Ниле», много фильмов. В книге известного французского киноведа Жоржа Садуля «Арабское кино» он назван одним из виднейших режиссеров Арабского Востока. Уже первые его фильмы показали, что он по-настоящему талантлив.
Ко времени постановки «Людей на Ниле» за его плечами был большой опыт. А опыт — везде опыт, в любом деле. В искусстве он тоже много значит.
Шахин ежевечерне, иногда до глубокой ночи, готовился к съемкам на следующий день: он разрабатывал подробную диспозицию по каждому эпизоду и заранее давал группе соответственные указания.
Вечером в тот же день он показал мне очередную свою разработку. В ней было точно расписано по времени, кто и что в съемочной группе должен делать. Начертил он и кроки — схематичные рисунки — мизансцен отдельных кадров.
— Вначале группа удивлялась скрупулезности, детализированности моих указаний, — сказал Шахин, показывая мне все это. — Может быть, некоторые даже обижались, что я им напоминал, например, в каком порядке будем мы снимать или когда точно должен быть готов грим. Потом привыкли, и дело пошло карашо. А знаете, почему я так придирчив к гримерам? — добавил он. — На здешнем солнце грим долго не держится, оползает. Солнце в Асуане сильней, чем «диги» в павильонах «Мосфильма»!
Было уже за полночь, когда в номер Шахина заглянули наши актеры Владимиров и Анатолий Кузнецов. Владимиров, представительный, статный, играл главного советского консультанта на строительстве гидроэлектростанции, Анатолий Кузнецов — его переводчика.
Они искали меня, чтобы предложить пройтись немного по набережной, «освежиться» перед сном. Несмотря на усталость, я согласился.
На недлинной набережной вдоль главной улицы городка, пожалуй, было действительно прохладнее. За парапетом ее шумел странно и грозно темный Нил, лизал черные камни и несся, несся вдаль, в ночь, к краю земли, определить который было трудно. Он уходил куда-то под тусклые звезды. С трудом я различил семиточье ковша Большой Медведицы и нашел низко над горизонтом Полярную. Нил стремился прямо на север.
От реки шло тихое колебание воздуха, более свежего, чем в сотне шагов в стороне.
— Ночью здесь немного жутковато, — сказал Владимиров. — Ощущаешь такое… Точно висишь над бездной, а там, внизу, во тьме, — история человечества! Брр!.. И тысячу… и две тысячи, и пять тысяч лет назад ушедшие в эту бездну люди попирали своими ногами те же черные камни. Причем люди не обезьяноподобные, а культурные люди, тоже строители! И почему-то кажется мне, будто я бывал здесь…
И мне стало немного жутко в этой спокойной и тревожной почему-то одновременно ночи.
— Память рода «гомо сапиенс», что ли? — добавил Владимиров, помолчав. — Ну, а теперь домой, спать, товарищи, спать! Утром Джо стружку снимет, если опоздаем.
На другой день я вылетел в Каир. Надо было переговорить с руководителями египетской киностудии «Мисрфилм» о том, как будем устраивать торжественные премьеры фильма «Люди на Ниле» в Москве и столице Египта. Мы предлагали сначала показать ленту в Советском Союзе, потому что монтировать фильм Шахин должен был на «Мосфильме».
Руководители «Мисрфилм» и министерства культуры Республики Египет не стали возражать против такого предложения. В первый же день мы об этом условились, и до самолета на родину у меня оказалось два дня более или менее свободных. Можно было, сделав необходимые визиты, получше осмотреть Каир.
В столице Египта я бывал раньше. Но каждый раз в суете деловых встреч, пресс-конференций и выступлений на знакомство с городом времени почти не оставалось. И запомнились: жаркие улицы, забитые машинами, цветы жасминного дерева, которые пахли экзотически резко и терпко, — их совали продавцы в окна автомобиля, как только он тормозил в застопорившемся потоке машин на площади Тахрир или проспекте Каср-Нил. Запомнились, конечно, пирамида Хуфу-Хеопса, сфинкс в предместье Гизы и сам Нил кофейного цвета, рассекающий город, фелюги с косыми длинными парусами. На первый взгляд тогда Нил мне показался у́же Невы!
Теперь я спокойно ходил по шумным улицам огромного города (десять лет назад в нем было более четырех миллионов жителей, ныне — около восьми!), изредка останавливаясь, чтобы выпить стакан апельсинового сока. Его тут же готовили, выжимая машинкой из трех-четырех плодов. Несмотря на зиму, было тепло, днем двадцать два — двадцать три градуса. Однажды я добрел до базара — «сука», такого же, как и в других городах арабского мира: в узких улочках тысячи лавчонок. В продаже там — все со всего света, от японских транзисторов до изделий местных кустарей из сафьяна и разнообразной чеканки. Чеканщики трудились в своих лавчонках, и в районе базара, где их было много, воздух, казалось, дребезжал от стука молоточков, которыми они выбивали узоры на латунных заготовках подносов, тарелок, чаш.
Побывал я и около старого кладбища — «Города мертвых». Туда «неверным» вход заказан. Издали кладбище — скопление обычных беленых маленьких домиков окраины; вблизи тысячи мазаров — надмогильных построек, — чаще с куполообразными крышами. Лишь кое-где в «Городе мертвых» маячили фигуры людей, пробегали собаки.
Неподалеку от него, по дороге в аэропорт, стоит «Мертвый дом». За чугунным забором, шагах в ста от уличной магистрали, красивое трехэтажное здание с башенками, шпилями, напоминающее старые замки на Луаре, во Франции. Засохшие пальмы, платаны и кустарники окружают его.
Мне рассказывали, что дом этот принадлежал богатому торговцу французу и он в отместку за что-то не завещал «замок» своим родственникам, а повелел оставить свое владение в неприкосновенности, таким, каким оно было при его жизни. Он даже заранее нанял пожизненного сторожа. Пока этот сторож был жив, вокруг «замка» все зеленело, а когда умер, все погибло. Так и стоит «Мертвый дом» в окружении засохших пальм и платанов — свидетельство мрачного чудачества и неразумной силы законов частнособственнического общества.
В районах Каира, примыкающих к базару и «Городу мертвых», живет трудовой люд. Это один из окраинных, наиболее густонаселенных районов столицы Египта. Впрочем, точнее надо назвать его перенаселенным. Об этом свидетельствует неисчислимое количество детворы, заполонившей переулки, тупички и дворики между двух-трехэтажными «доходными» серыми или желтыми домами, совершенно безликими. Нет здесь ни единого зеленого кустика. Душно, пахнет пылью и каким-то варевом. А ребятишки возятся среди картонных ящиков из-под консервов и другого хлама, смеются, жуют лепешки, скачут через веревочки, гоняют тряпичные мячи.
У домов на стульях около дверей сидят старые женщины в темных одеяниях, закрыв лицо до глаз. В маленьких кофейнях только одни мужчины. Многие в национальных белых балахонах — галабия. Мне говорили, что это не работающие в городе родственники и друзья каирцев из деревень, крестьяне-феллахи. Их пригнало сюда желание хотя что-нибудь заработать или получить от родных и друзей.
Магазины, а точнее — лавчонки, встречаются в этом районе довольно редко. Совсем мало кинотеатров, но много мечетей. Маленьких, иногда обстроенных вплотную жилыми домами, с невысоким минаретом, похожим на трубу.
В Каире вообще огромное количество мусульманских храмов. Среди них несколько знаменитых в исламском мире, например мечеть Мухамеда Али на холме в юго-восточной части города. Ее пятидесятиметровые, острые, как иглы, минареты видны почти со всех концов огромного города.
Пожалуй, не менее знамениты богато украшенные резьбой по камню мечети Хасана, Рафаи и аль Муайада.
Посещение мечети доступно для всех и так же, как пирамид Гизы, входит во все планы туристических маршрутов по городу. Неподалеку от мечети Хасана, памятника периода правления Египтом мамлюками, цитадель Салладина — своего рода маленький кремль.
Накануне отъезда домой, вечером, друзья, работавшие в Каире, увлекли меня к пирамидам, на сеанс «света и музыки». Я бывал уже у Сфинкса и пирамид Гизы несколько раз, но только днем, когда палило солнце, вереницы туристов, изнемогая от жары, почти не слушая гидов, медленно бродили по каменистым тропам, лениво фотографировались у верблюдов или на верблюдах, на расшитых блестками ковровых седлах вместе с погонщиками в национальных арабских одеяниях. Эти погонщики, обгоняя друг друга, на своих дромадерах (одногорбые верблюды) атаковали каждую прибывающую автобусом группу, и по-английски да и на других языках, зная несколько зазывных слов, предлагали желающим прокатиться на верблюде или сфотографироваться.
В тот вечерний час их не было. Точнее, они отдыхали вдали, у костров, около убогих палаток-навесов, а их верблюды пытались подкрепиться сухими колючками тут же, смутными тенями вырисовываясь на закатном небосводе.
Неподалеку от Сфинкса есть ресторан. Почти все столики его расставлены под открытым небом. Тут же смотровая площадка — огорожен кусочек пустыни, и на нем ряды стульев и скамьи. Когда темнеет, их занимают туристы, привезенные на сеанс «света и музыки».
В здешних краях часов в восемь вечера, даже в летнее время, уже темень, ночь поглощает пирамиды, и лишь Сфинкс, который стоит недалеко, метрах в пятидесяти, проглядывается бесформенной глыбой. И вот начинается первый сеанс «света и музыки». Мощные динамики передают увертюру из «Аиды», вспыхивают цветные прожекторы. Сначала высвечивается Сфинкс. Затем столбы света падают на пирамиду Хеопса — желтые, красные, зеленые… Музыка. Теперь уже другие мелодии звучат в пыльном воздухе. Музыка время от времени замолкает, и тогда из динамиков далеко разносится голос диктора. Он рассказывает о пирамидах, о том, кто их строил, когда и зачем… В Гизе две главных. Самая большая Хеопса — построена почти пять тысяч лет назад из двух миллионов трехсот хорошо отесанных блоков желтоватого известняка. Она была облицована голубыми изразцами. Их давно уже обобрали и пустили на украшения. Строили эту самую знаменитую пирамиду сто тысяч рабов почти полвека. Неподалеку от нее пирамиды — усыпальницы фараонов той же династии Хуфу: пирамида Хефрена примерно такого же размера, как Хеопса, и поменьше — пирамида Микерина.
* * *
Прошло несколько месяцев. Юсеф Шахин, закончив съемки в Египте, приехал в Москву и смонтировал на «Мосфильме» картину об Асуане. «Люди на Ниле». Из Каира прибыли руководители египетской киностудии «Мисрфилм». Им и представителям египетского посольства показали эту работу, и она была одобрена. И тогда назначили день премьеры фильма «Люди на Ниле» в московском кинотеатре «Мир». Представить первым советским зрителям фильм «Люди на Ниле», его создателя режиссера Юсефа Шахина и рассказать хотя бы коротко о его творческом пути поручили мне.
Хороший, интересный человек, талантливый кинематографист Юсеф Шахин. Всегда он очень искренно и доброжелательно говорит о советских людях, о нашей стране. Он наш друг и, взявшись за трудную работу — создание фильма «Люди на Ниле», доказал это на деле.
Юсеф Шахин большой, настоящий патриот своей страны.
— Я хочу, и я делаю и буду делать честные фильмы о жизни своего народа, — часто повторяет он в интервью корреспондентам и нам, советским его друзьям.
Но сказать первым нашим зрителям на премьере фильма только это — слишком мало. Каков он как художник, как режиссер?
В книге Жоржа Садуля много справок о работах Шахина. Первый свой фильм он снял около двадцати лет назад. Назывался он «Небо ада». В нем дебютировали впоследствии ставшие очень знаменитыми арабская актриса Хамама и алжирец Омар Шериф. «Небо ада» получило несколько премий и дипломов на международных кинофестивалях и сделало имя Шахина известным в мире кино. Вскоре Шахин снял фильм «Каирский вокзал», потом «Землю», «Продавец колец», «Джамиля». Жорж Садуль назвал Шахина «продолжателем неореализма», прогрессивного направления в киноискусстве, родившегося в Италии в послевоенные годы.
Действительно, в фильмах этого арабского режиссера главные герои почти всегда люди из народа или прогрессивно мыслящие деятели. Он внес новую струю в кинематограф арабских стран, издавна главное внимание уделявший сентиментально-любовным драмам людей обеспеченных и богатых.
В свои фильмы, даже в оперетту «Продавец колец», Шахин всегда вводит социальную проблематику. Не случайно поэтому именно он взялся делать фильм об Асуанском гидроузле — сооружении огромного экономического и социального значения для Египта. Обо всем этом я и рассказал первым советским зрителям на премьере в «Мире» фильма «Люди на Ниле». Зрители тепло встретили фильм. Посол египетской республики благодарил мосфильмовцев за создание фильма о дружбе между советским и египетским народами. И Юсеф Шахин окрыленным и радостным уехал в Каир. Теперь премьера фильма должна была состояться там…
И вдруг… На «Мосфильме» было получено сообщение от «Мисрфилм», что «Люди на Ниле» этой египетской студией не одобрен. В чем дело? Почему? На эти вопросы представители студии давали уклончивые ответы. Вскоре «Мосфильм» получил от Шахина паническую телеграмму. Он сообщал о том, что многие египетские газеты ругают его работу и его самого.
Наконец дело стало проясняться, почему в Каире газеты и студия так реагировали на фильм. Из писем руководителей «Мисрфилм», встреч и разговоров представителей «Мосфильма» с деятелями египетской кинематографии выяснилось, что «Люди на Ниле» не понравились кому-то в новом садатовском правительстве страны. Критика фильма носила явно предвзятый и весьма наивный характер. Причины ее, очевидно, были глубже и значительнее сделанных мелких придирок.
Почему же изменилось отношение к фильму? Ведь сценарий его мы обсуждали вместе с руководителями египетской кинематографии и министерства культуры, совместно одобрили, ведь ответственные люди на первых просмотрах приняли работу Шахина очень благожелательно…
* * *
В тот первый день моего нового посещения столицы Египта, в семидесятом году, в отеле «Семирамис» Юсеф Шахин откровенно сказал о причине такого «поворота» в оценке фильма: подняли голову политики — противники дружбы с Советским Союзом. Тогда они еще не решались выступать по крупным политическим вопросам. Они выбрали мишенью своих нечестных нападок явления искусства и литературы. С опорочивания наших дружеских культурных связей они начали обработку общественного мнения своей страны…
…Когда Юсеф Шахин немного успокоился, я позвонил товарищам из съемочной группы «Мосфильма», вызванным в Каир. Они пришли и сказали, что всемерно помогут режиссеру внести в фильм приемлемые поправки. Тогда Джо совсем успокоился, и разговор пошел о конкретных вещах, о порядке дополнительных съемок и т. д. Потом мы все вместе поужинали, и уже за полночь я вышел проводить Шахина на набережную.
Ночь была безветренная и душная, как почти всегда в здешних краях. Шумел Нил. Вдали через мост Ал-Тахрир, в цепочке ярких огней, как черточки азбуки Морзе, бежали машины. Белая цапля неожиданно возникла на парапете безлюдной набережной. Она нехотя взмахнула крыльями и исчезла, нырнув в тьму.
Тихо урча мотором, из-за поворота к отелю выехало маленькое белобокое каирское такси. Шахин остановил его и стал прощаться.
— Меня здесь все зовут «сумасшедшим Джо». Говорят: «Зачем плывешь против течения?» А я не могу подлаживаться под политиканов. Я знаю, что народу нашей страны нужно дружить с вашим. Я уверен, что кино должно помогать в осмыслении событий, а не развлекать любовными историями. Нет, мсье Ситин, я уеду куда-нибудь… Здесь мне работать не дадут…
Он снова разволновался. Таксист, огромный, толстый человек, невозмутимо ждал. Выпуклые глаза его безучастно смотрели вдоль набережной.
— Да, уеду и буду все равно снимать реалистические фильмы. Да, пусть я сумасшедший!
И он покрутил пальцем у виска.
— Все образуется, Джо, — наконец мне удалось прорваться со своей репликой. — Так говорила когда-то давным-давно мне старая нянька в нашей деревне. Успокойтесь, Джо. Вот будет очередной Московский международный кинофестиваль. Вы приглашены членом жюри. Увидимся в Москве. Приезжайте с мадам Коллет. А сейчас она вас, наверное, заждалась. Передайте ей мой привет…
Откуда-то из тьмы выскочил парнишка в белом галабия с букетиками цветов жасмина на палочках.
— Плиз, плиз! Гуд!
Шахин отмахнулся от мальчишки, и он исчез, точно нырнул в ночь, как недавно белая цапля.
— До встречи в Москве. Доброй ночи, — неожиданно спокойно сказал Шахин.
Мы обнялись, он сел в машину, и она умчалась. А я постоял еще немного, думая о судьбах художников, прогрессивных художников этой страны, явно менявшей политический курс покойного президента Насера.
Впрочем, и в некоторых других странах «третьего мира» нелегко жить и работать таким художникам. Вспомнился Сембен Усман из Сенегала. Хорошо, что международная известность дала ему независимость и «неприкасаемость»… Вспомнился Гауссу Диавара — поэт из Мали, посвятивший много своих произведений образу Ленина.
Как им трудно, как тяжко, когда «политические курсы» в их странах подвергаются давлению неоколониалистов и империалистов. Лишь собственные силы души помогают им жить и творить для своих народов, для будущего родины.
* * *
Творческая судьба Юсефа Шахина далее сложилась так. Он закончил переделку фильма «Люди на Ниле». И тем не менее в Египте его выпустили на экраны на очень короткий срок. Тогда Шахин предложил студии «Мисрфилм» новую тему, но не нашел поддержки своим планам. К тому времени из трех государственных киностудий Египта две были переданы в частное владение. И ему заявили, что «Мисрфилм» загружена. И знаменитый режиссер уехал в Алжир. Там он снял фильм «Воробей» — фильм о патриотизме и стойкости простых египтян перед лицом израильской агрессии. Судьба этого фильма оказалась такой же нелегкой. В Каире власти его запретили показывать. Потом Шахин получил возможность сделать фильм «Возвращение блудного сына», собрав деньги на постановку по крохам от разных продюсеров.
В фильме «Возвращение блудного сына» Шахин снова рассказывал главным образом о простых людях своей страны и вел разговор со зрителем о патриотизме, о необходимости для каждого гражданина честно выполнять свой долг перед родиной.
Новую свою работу он привез на X Московский международный кинофестиваль летом семьдесят седьмого.
На второй или третий день после начала фестиваля Юсеф Шахин зашел к нам в номер гостиницы «Россия», где находился «штаб» советской киноделегации. Как и семь лет назад в номере отеля «Семирамис», он двигался быстро, говорил экспансивно и, казалось, излучал энергию. И все же он был каким-то другим. Меньше жестикулировал. Произносил слова медленнее. Около глаз его прибавилось морщинок, резче обозначилась складка, идущая от носа к уголкам рта.
Мы обнялись.
— Садитесь, Джо, закуривайте!
— Не курю больше. Вот посмотрите.
Он расстегнул верхние пуговицы сорочки. От горла вниз по его груди белел ровный рубец.
— Была операция на сердце. Но теперь все карашо. Три месяца отдыха, и вот я здесь с новым фильмом «Возвращение блудного сына». Вы его видели?
— Видел. Работа хорошая.
Шахин радостно улыбнулся.
— Карашо? А может быть, некарашо? Скажите честно!
— Да нет, все в порядке.
Усевшись в кресло, он рассказал о своих делах. Когда задумал новую картину — «Блудного», пришлось снова убеждать, ругаться, настаивать, просить. Государственная киностудия «Мисрфилм» субсидии не дала. Частные кинофирмы предлагали делать развлекательный, коммерческий фильм…
— Вы знаете, друзья, — говорил он, — сейчас в Каире такие типично буржуазные фильмы стали финансировать несколько продюсеров, заработавших деньги на спекуляциях разными импортными товарами или получивших тайно кредиты от голливудских «Семи сестер»[24]. Занялась этим делом даже Магда[25]. А государственная студия снизила уровень производства. Мне пришлось собирать деньги у товарищей, помогли алжирские друзья, те, которые субсидировали постановку «Воробья». Очень трудно было. Наверное, поэтому и сердце у меня сломалось, и пришлось его ремонтировать капитально. Хорошо, что успел до операции закончить съемки.
Юсеф Шахин потирает рукой рубец на груди и некоторое время молчит. А я вспоминаю первую, давнюю, много лет назад, с ним встречу в Бейруте. Тогда он впервые показывал свой фильм-оперетту «Продавец колец» с участием прославленной ливанской певицы Фейруз. И у меня щемит сердце: очень Джо изменился с тех пор! Внешне. Ведь он не стар, ему нет пятидесяти. Но не только сердце у него больное. Я уже говорил, что в период работы над фильмом «Люди на Ниле» ему пришлось перенести сложнейшую операцию уха. Блистательно сделал ее в Москве профессор Преображенский, спас Джо от прогрессирующей глухоты.
Однако по-прежнему он горячится, речь его экспрессивна, и охвачен он новым замыслом.
— Есть проект сделать фильм, — говорит Шахин, — совместный фильм трех-четырех арабских стран — Алжира, Сирии, Ливана. Фильм о борьбе за мир на Ближнем Востоке. Фильм о людях, отдающих себя интересам и судьбам будущих поколений. Детей, внуков и правнуков. Реализм и современная романтика должны стать его основой. Как у вашего великого Довженко!
Пожалуй, действительно в творчестве Юсефа Шахина прорывается «довженковское» — романтическая приподнятость, пафос, размах в постановке проблем жизни.
— Я беседовал вчера с вашим министром кинематографии. Он меня принял так тепло, он тре симпатик! Может быть, советские киностудии, «Мосфильм» примут участие в создании такого фильма? Я так завидую, по-хорошему завидую советским режиссерам. Какие у них возможности для работы! Конечно, свои трудности у вас есть. Но совсем другие, чем у нас, не финансовые, не организационные, а творческие, без которых вообще не может рождаться искусство. «Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за них на бой». По-моему, это бесспорно! Разве не так? И поэтому, потому, что у вас столь широки возможности для художника в его главном призвании бороться со злом во имя добра и счастья людей, вас все более и более любят кинематографисты во всем мире.
Шахин поднял руку и показал на флаги стран — участниц московского кинофестиваля, в тесном строю колышимых теплым июльским ветром над балюстрадой восточного фасада гостиницы «Россия».
— Кинематографисты из девяноста стран приехали в Москву. Так ведь? — спросил Шахин.
— Девяноста двух, если быть точным.
— И каждый раз к вам на Московский кинофестиваль их приезжает все больше и больше?
— Да.
Шахин немного помолчал, потом задумчиво, тихо сказал:
— «За гуманизм в киноискусстве, мир и дружбу между народами». Какой великолепный, глубокий по смыслу, боевой и человечный девиз выбрали вы для своего кинофестиваля. Это и мой девиз с тех пор, как я понял, что художник не может жить в башне из слоновой кости, что должен он работать для счастья людей. Только так! Я люблю людей. Свой народ… Простите, что отнял у вас много времени.
Шахин поднялся.
— Обьенто (до скорой встречи)! Завтра я уже должен уехать. Но в Москве надеюсь быть зимой.
— Обьенто, Джо! Всегда рады видеть вас. Привет мадам Коллет.
Шахин тепло улыбнулся.
— Она са ва (в порядке).
И вышел, чуть сутулясь. Раньше я этого не замечал.
Юсеф Шахин, знаменитый арабский кинорежиссер, снова пошел в бой.
…С помощью друзей-кинематографистов в Алжире, Ливии, на родине он собрал денег и снял фильм «Александрия. Почему?». Это кинорассказ о своей молодости, о людях разной политической ориентации в период борьбы с фашистскими захватчиками в Северной Африке в начале сороковых годов. Свои симпатии в фильме он отдал тем его героям, которые были за независимость Египта, за борьбу с фашизмом и империализмом. Огромный успех имела «Александрия. Почему?» на кинофестивале африканских стран и стран арабского мира в Карфагене…
Юсеф Шахин приехал и на XI Московский международный кинофестиваль. Мы, конечно, опять встретились. Джо по-прежнему экспансивен, полон творческой энергии. Как всегда, настроен дружески к нам, к Советской стране.
— Москва очен, очен карашо, — говорит он по-русски и продолжает по-французски: — Маяковский писал: «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой страны Москва». Я говорю вместо Париж Москва. И хочу умереть все же на родине. Хотя очень, очень трудно там теперь… Вы понимаете?
— Конечно, понимаем…
Юсеф Шахин снова вернулся в мир, где так трудно честному художнику, в мир, где настоящий художник объят всегда тяжкой атмосферой неуверенности в завтрашнем дне, где всегда ощущает жестокость общества, разъединяющего людей, где нет у него свободы творить во имя будущего людей и своего народа. В нелегкую жизнь вернулся крупнейший режиссер арабского мира Юсеф Шахин. Пожелаем ему здоровья и новых творческих успехов!
СЕНЕГАЛЬСКИЙ СТРЕЛОК
МАСКИ
Вечереет. Комнату медленно заволакивают сумерки. Резкие черты африканских масок на стене сглаживаются. Теперь видны лишь темные пятна на фоне светлых обоев. Я зажигаю лампу на столе, снимаю с гвоздика крайнюю маску и кладу перед собой.
Она из Анголы. Коричнево-красное дерево. Неведомый умелец вырезал из него странное, злое лицо. Узкие глаза-щели. Прямой заостренный нос. Тонкие губы кривятся в полуулыбке. В ней надменность или презрительность. От негроидного типа у маски лишь курчавые волосы, вырезанные особенно тщательно. Среди ангольцев я не видел таких лиц. Возможно, что в глубинах страны, среди множества племен, есть и такое, люди которого столь не похожи на других черных африканцев. И может быть, это племя теперь во вражде к новому, революционному порядку в Анголе? Потому безвестный ваятель-резчик и сделал эту маску немного зловещей, недоброй, показал лицо врага своего народа.
Снимаю со стены и кладу рядом другую маску. Она сделана из дерева серого, как бетон, цвета. Она плоская, вроде барельефа. Глаза у нее тоже узкие, но рот губастый, а нос утолщенный. Маска чуть заметно улыбается. Она добрая. Это работа известного конголезского мастера Манжонго. Он живет[26] в небольшом белом домике в саванне, километрах в тридцати от Браззавиля — столицы Народной Республики Конго. Сыновья помогают ему делать деревянные скульптуры. Его домик в саванне наполнен ими, и передняя большая комната похожа на музей. На стенах и на скамьях здесь сотни масок и статуэток.
И другие маски своей маленькой коллекции раскладываю на столе: из стран Западной Африки — Мали и Сенегала, Гвинеи и Гамбии, Гвинеи-Бисау. Из черного, до блеска отполированного сначала шкуркой, а потом ладонями мастера дерева — эбена. Они в общем похожи одна на другую. Оскалом рта, вырезом глаз, иногда, несмотря на широкую улыбку, угрюмым или веселым выражением. В то же время все они очень разные. Одна похожа на скульптурный портрет, другая стилизованная и, видимо, изображает какое-то чудовище джунглей или духа из огромного пантеона африканских языческих божеств.
Кроме того, как и другие произведения любого художественного промысла Черного континента, произведения из глины, стекла, раковин, скорлупы ореха, серебра и т. д., хотя они и массовые изделия, несут на себе отпечаток индивидуальности людей, их создавших. Нет двух одинаковых масок!
Маски Африки — отзвук, эхо прошлого населяющих ее народов и племен. Они были предметом культовых церемоний и обрядов, так же как статуэтки, бывшие тотемы, священные охранители домашних очагов, охотничьих угодий, стад, здоровья.
Старые маски и скульптуры теперь трудно найти в самой Африке. Они собраны в музеях Европы и за океаном. Но и молодые государства континента создают свои хранилища предметов древних культов и художественного творчества народов.
Я был в таком музее в Конакри — столице Республики Гвинея. Он еще не устроен как следует, занимает небольшой домик, и его экспонаты систематизированы лишь приблизительно. Энтузиасты работники музея собрали здесь все же довольно большую коллекцию, главным образом скульптур-статуэток старых времен, барабанов — тамтамов и оружия — копий, луков и стрел, щитов. Многие из них попорчены временем, изгрызены термитами и муравьями. Даже крепчайшее «железное» дерево, черный и серый эбен, и всем известное красное легко поддаются челюстям этих насекомых саванны.
Обычная высота статуэток от четверти метра до метра. Чаще это изображения женщин с замысловатыми прическами и сидящими на их головах стилизованными птицами, обезьянами или украшенные рогами антилоп — символ плодородия.
Есть в музее, конечно, и маски. В древности таких масок, как в моей коллекции, делали мало. Для культовых обрядов изготовлялись большие, как щиты, маски из палочек, шкур зверей и змей, стеблей трав и лиан и украшались перьями птиц джунглей и орнаментами из ракушек. С помощью ремешков такие маски укреплялись на голове и плечах колдунов или танцоров, исполнявших ритуальные танцы.
Теперь обрядовые маски делают лишь в глухих районах некоторые племена, например, догонов в Мали. Догоны демонстрируют их «в деле». Они показывают добравшимся к ним туристам в известной мере модернизированные церемонии — танцевальные аттракционы в масках на различные темы, например, охота, уборка урожая, праздник луны и т. п.
Помимо старых ритуальных масок в музее в Конакри собраны также и современные изделия художественного промысла Западной Африки.
В наши дни здесь развилось массовое производство деревянной скульптуры — масок, статуэток и различных украшений. В столице Мали Бамако, в Национальном институте искусств, помимо факультетов, где обучают музыке, живописи и ваянию, театральному искусству, есть мастерские для обучения резьбе по дереву и изготовлению всяческих вещиц из металла, главным образом серебра. В других странах этого региона есть своего рода частные школы ваятелей-резчиков, в том числе семейные, как у Манжонго. Они образуются вокруг заслуживших себе известность мастеров.
А в больших городах Черной Африки на окраинах построены для туристов так называемые «деревни искусства». Это несколько хижин характерной для данной местности архитектуры, крытых жесткой желтой травой саванн или пальмовыми листьями. Они служат киосками для торговли предметами художественного промысла. А в тени деревьев здесь же ремесленники изготовляют маски, статуэтки, барабаны-тамтамы, браслеты и броши из металла и раковин. В Бамако есть даже своего рода торговый и ремесленный центр сувенирного промысла — пассаж «Артизана». В нем расположено несколько десятков мастерских и прилавки для продажи изделий.
Массовость производства масок и статуэток, украшений, конечно, отразилась на их художественном качестве. И все же они являются теми «вещами-свидетелями», которые, когда на них смотришь, будят воображение и воспоминания. Но главное, пожалуй, для каждого, кто заинтересовался жизнью огромного Черного континента, — это то, что они помогают яснее представить себе своеобразие трагической истории населяющих его народов.
Древняя история африканцев плохо изучена. Далеко не достаточно знаем мы и о более близких временах жизни многих племен и народностей, издавна заселявших континент к югу от Сахары. Однако совершенно ясно, что когда из Северной, «белой» Африки на юг хлынули арабские завоеватели, то именно они, и особенно их религия — ислам, сломали древнюю африканскую культуру. Подчиняя себе народы, арабы не устанавливали тех колониальных порядков, которые характеризовали отношения пришельцев-европейцев и аборигенов в последующие времена. Завоеватели накладывали на племена и народности налоги, брали рабов в свою армию и для услуг, но оставляли «самоуправление», характерное для племенного общинного строя. В джунглях и саваннах оставались властители-царьки, короли и князьки, племенные вожди. Позднее, особенно в Западной Африке, складывались даже крупные государства, например царство Мали, занимавшее огромную территорию от Нила до Атлантики. Но арабы везде насильно обращали африканцев в ислам, и это наложило на местную культуру особый отпечаток. В некоторых регионах ислам укрепился, вошел в быт и стал определять отношения между людьми и их культуру. Как известно, законы Корана запрещают изображение в рисунке или скульптуре живых существ — человека и всех животных. Поэтому древнее искусство африканцев — скульптура по дереву — в этих регионах «ушло в подполье»… В других местах государственная религия арабских завоевателей, насильственно воспринятая, в значительной степени преобразовалась, а точнее — вошла в своеобразный симбиоз с языческими верованиями аборигенов. Это наблюдается во многих районах и в наше время.
В Западной Африке, например, в деревнях некоторых племен сосуществуют муллы, марабуты (исламские священники-учителя) и колдуны. Здесь живы еще некоторые культовые обряды и ритуальные церемонии заклинания духов, жертвоприношений им. До сих пор с соответствующим ритуалом где-то изготовляются и «настоящие» маски и тотемы. Но они редко попадают на рынок к туристам. В моей маленькой коллекции, пожалуй, есть только одна такая — из Анголы, подаренная министром культуры Джасинто. Другие — произведения современных мастеров и ремесленников. И все же изделия художественного ремесла, африканская деревянная скульптура в особенности, — это, повторяю, эхо далеких времен, доносящее до наших дней своеобразие и дух материальной культуры доарабского периода жизни народов и народностей Африки южнее Сахары. В то же время в известной степени развитие художественных ремесел здесь в новейшее время порождено колониализмом, потребностями рынка. Европейцев-колонизаторов завораживала экзотика завоеванных стран. В Европе и США охотно покупали маски. Потому их и делали… Все, кому не лень…
ГОРЕ́
Самолет садится на аэродром столицы Сенегала — Дакара — со стороны океана. Снижаясь, он проносится над узкой грядой черных камней в белой пене, далеко вдающейся в просторы Атлантики. Это и есть Зеленый мыс — крайняя западная точка Африканского континента. Тогда справа в иллюминаторы виден весь полуостров, на котором построен Дакар. Даже с высоты птичьего полета можно определить, что это современный город. Серая лента автострады очерчивает его по кромке скалистого побережья. Белые многоэтажные дома толпятся в центре. Зеленые куполы могучих сейб и платанов закрывают дома поменьше. В хорошо укрытом от волн заливе — сотни судов в огромном порту.
Приближаясь к аэродрому, самолет пролетает над маленьким маячком Зеленого мыса. Неподалеку на островерхом холме, схожем с терриконом, другой маяк, побольше. У подножья холма, на красноватом фоне земли, среди зеленых и желтых лоскутов полей и садов, признак тропической Африки — приземистые баобабы, как тумбы, увенчанные шапками невероятно корявых ветвей.
И еще видно с самолета, что по другую сторону полуострова, километрах в трех от берега, на еле заметной ряби океанской волны четко вырисовывается силуэт длинного, узкого острова, похожего своими очертаниями на гигантский танкер.
— Остров Горе́ — невольничий остров, — сказал мне сосед по рейсу, указывая на него, когда мне пришлось в первый раз посетить Дакар. — Может быть, такое же страшное место на земле, как Освенцим или Дахау…
Я посетил этот островок. Катерок дотопал до него меньше чем за полчаса. Причалили у старой пристани с подветренной стороны, прямо к плоским камням широких ступеней, вырубленных в скале, которые спускались к самой воде. Они были выщерблены волнами, отполированы ногами людей. Мы поднялись и обошли пол-островка, почти безлюдного в наши дни. Лишь сторожевой пост есть теперь здесь.
Мы осмотрели полуразрушенные приземистые строения и казематы старого форта, дворы, обнесенные каменными, ныне обрушившимися во многих местах стенами. Из кладки их кое-где высовывались проржавевшие толстые железные стержни с кольцами. Дворы служили загонами для невольников. Здесь они жили иногда месяцами в ожидании кораблей, которые отвозили их главным образом за океан, в латифундии и на фермы завоевателей Нового Света.
Подсчитать точно, сколько прошло невольников через «перевалочную базу» острова Горе́, невозможно. Историки лишь приблизительно определяют: из всей Западной Африки было перевезено в Южную и Северную Америки и в Европу более ста миллионов рабов! Осмысливая эту цифру, нужно иметь в виду, что примерно только половина невольников, погруженных на борт судов, достигала живыми гаваней за океаном.
Начали работорговлю португальцы и испанцы, потом «подключились» к этому прибыльному «бизнесу» голландцы, французы, англичане… Огромный флот занимался этим «делом» в XVII—XVIII веках. И оно в значительной мере способствовало освоению земель и благосостоянию колонистов в Новом Свете. Понятно, что работорговля принесла огромные богатства и метрополиям, завладевшим африканскими просторами.
Помнится, осматривая красивый город Бордо, любуясь дворцами и особняками XVIII — начала XIX столетия в самом городе и роскошными виллами вдоль величаво широкой Гаронны, я спросил ректора местного университета, очень живого и умного человека: за счет чего же так богато отстроилась столица Гаскони? Ведь этот в основном сельскохозяйственный и скотоводческий район Франции, в прошлом почти не имевший промышленности, не мог, видимо, накапливать средства для столь широкого и дорогостоящего архитектурного украшения Бордо. Даже если учесть, что в провинции Гасконь испокон веков выращивался виноград и делались на вывоз отличные вина и коньяки. На какой же базе шло огромное строительство в ее столице?
Ректор усмехнулся и ответил:
— На крови рабов… Тогда с пристаней на Гаронне отплывали сотни судов частного владения и муниципалитета, специально занимавшихся добыванием, но больше перевозкой в Новый Свет рабов из наших бывших владений в Западной Африке, да и с Мадагаскара. Львиная доля невольничьих транспортов за океан шла из Дакара. Вы там были? Так вот, есть около него островок Горе́. Там был крупнейший перевалочный пункт работорговли…
Он произнес название островка по-французски, с ударением на последнем слоге. Я подумал, что по-русски оно прозвучит точнее по смыслу — Го́ре…
Итак, европейские колонизаторы, «открыв» Черную Африку, прежде всего значительно обескровили ее, главным образом за счет молодежи. Когда же под влиянием потрясений феодализма, вызванных французской революцией, работорговлю стали запрещать одна страна за другой, начался другой этап колониализма. Африку стали беззастенчиво грабить другими и разными путями и средствами.
Военные и «научные» экспедиции европейцев проникали по рекам в глубь континента и захватывали огромные территории силой оружия или покупали их за гроши у племенных царьков и вождей. К середине прошлого века к югу от Сахары континент был поделен. Лишь Эфиопия и маленькая Либерия сохранили относительную независимость. Колониальные владения Франции, Англии, Португалии, Бельгии и Германии только в западной части Черной Африки в десятки раз были больше по площади, чем размеры метрополий! С тех пор белые там правили, черные работали. Мускулами африканцев возделывались плантации бананов, цитрусовых, кофе, ананасов, добывались железо, медь, золото, алмазы, вырубались ценнейшие породы деревьев — красного, черного и серого эбена. С помощью аборигенов-охотников разгрому подверглась фауна джунглей и саванн; были истреблены миллионы слонов, почти все львы, крокодилы, бегемоты, крупные обезьяны…
В общем колониальное хозяйствование белых принесло им во много раз больше прибылей, чем в свое время торговля людьми! А «взамен» колонизаторы познакомили народности и племена Африки с алкоголизмом, венерическими болезнями, а потом и наркотиками. Лишь самые зачатки культуры им «подарили» колонизаторы. Для коренного населения было построено всего несколько школ и больниц! И вот итог: до крушения колониальной системы уже в наши дни в Черной Африке только три-четыре человека из ста умели читать и писать, а один врач приходился на пятьдесят — сто тысяч коренных жителей!
Однако «туземцам» — так презрительно называли аборигенов континента европейцы — предоставлялось еще «право» — умирать на поле боя за интересы белых хозяев. В первую и вторую мировые войны во французской и английской армиях существовали специальные «колониальные» формирования «зуавов» и «сенегальских стрелков». Их бросали на те участки сражений, где труднее, где можно было ожидать больше потерь в живой силе. Африканцев гибло много, но воевали они отлично, храбро и самоотверженно…
СЕНЕГАЛЬСКИЙ СТРЕЛОК
Он вошел в гостиную советского посольства в Дакаре с достоинством, улыбаясь большим ртом. Немного выпуклые, темные, живые глаза его под густыми бровями и выпуклым высоким лбом светились умом. В курчавых волосах, в небольшой бороде и усах поблескивали серебряные нити. Коричневый с легкой сизоватостью цвет кожи на лице и руках подчеркивался белым в синих разводах просторным балахоном — национальной одеждой «бубу» западных африканцев. Чуть опущенные плечи бугрились мускулами. На ногах были сандалии.
— А вот и метр, — сказал мне советник посольства в Сенегале. — Пойдемте, познакомлю.
Так впервые в Дакаре я увидел африканского писателя и кинорежиссера Сембена Усмана.
В тот же вечер мы уединились с ним на балконе и, потягивая разведенный джин, разговорились. Без всякого жеманства, попросту, как товарищу, он ответил на мои вопросы о своей жизни. А предварительно я рассказал немного о себе, о том, что вот уже второй раз приезжаю в Западную Африку и меня очень интересуют ее люди и проблемы в условиях, когда рухнула колониальная система и десятки африканских стран строят свою национальную государственность.
По опыту я знаю, что для хорошей беседы с совсем незнакомыми людьми, особенно из другого мира, важно начать разговор именно так — представившись, а не выспрашивая с ходу у собеседника то или другое, как делают это обычно корреспонденты газет или радио.
— Детство у меня было обыкновенным для родившихся в крестьянской семье у нас в Сенегале, — сказал Сембен Усман. — Деревня наша в саванне стояла на реке Казаманс. Отец рыбачил. Много ли он мог заработать, продавая улов? Как у вас говорят, с трудом лишь «на хлеб и воду». Впрочем, хлеб мы ели редко… Клочок земли у хижины обрабатывали мать и мы, дети. Выращивали сладкий картофель — бататы, просо — миль — и немного земляного ореха — арахиса — на продажу. С пятнадцати лет я стал помогать отцу рыбачить, потом немного учился в школе в Марсасумме и работал учеником у каменотеса.
Молодежь всегда привлекают города. Мне почему-то особенно хотелось жить в столице, научиться управлять машиной, поездить по стране, увидеть мир… Я пошел пешком в Дакар и после долгих поисков работы нанялся помощником к механику в гараже. Вскоре началась вторая мировая война, и меня мобилизовали во французскую армию. Я стал «сенегальским стрелком».
В армии меня обучили вождению автомобиля и на фронт отправили уже шофером грузовика. Сначала на североафриканский фронт, потом на европейский театр военных действий…
— Стало быть, мы с вами старые комбатанты, — сказал я. — Мне тоже пришлось участвовать в сражениях с фашистами четыре года…
Сембен Усман заулыбался, похлопал меня по спине сильной рукой, на ней тихо зазвенел широкий серебряный браслет.
— А это что? Талисман? — спросил я.
Сембен Усман усмехнулся:
— Нет, просто дорогой мне подарок.
Стал раскуривать большую трубку. Молчание затянулось, — может быть, ему не захотелось больше рассказывать о своей жизни? Но я все-таки жаждал продолжить беседу и задал вопрос:
— Когда же вы стали писать?
— После войны. Попал я в Марсель. Мне понравился этот живой, яркий город. В огромном порту его требовались грузчики. Я был силен и стал докером. Вступил в профсоюз. Он и стал моей главной школой жизни. Товарищи из комитета профсоюза помогли мне понять, что такое колониализм. Вы ведь знаете, что вся почти Африка была поделена между европейскими странами. Колониализм поработил нас, людей темного цвета кожи. Мы, как и во времена рабовладения, были бесправны. И то еще помогли мне понять товарищи, что порабощение существует и в Европе, что есть классы-антагонисты и есть борьба угнетаемых за свое лучшее будущее — социализм, есть всемирная дружба трудящихся. Через несколько лет о жизни докеров-африканцев я и написал свой первый роман. Он называется «Черный докер».
Слушая Сембена Усмана, как это часто бывает, я думал о виденном в Африке, и «вторым планом» в моем сознании проплывали картины, дополняя его рассказ.
…Деревенька в саванне под сенью грибовидных акаций. Пять или шесть хижин, похожих на круглые шатры, крытых желтой, упругой, с острыми краями двухметровых стеблей травой. Неподалеку баобаб, и голые ребятишки сбивают палками с его ветвей плоды, напоминающие желтые огурцы, и сосут их кисло-сладкую мякоть. Несколько голенастых маленьких, с осенних наших цыплят, кур роются в пыли. Черноголовая коза жует жесткий стебелек и бессмысленно смотрит на виднеющийся неподалеку желто-бурый поток. У берега реки покачивается длинная узкая лодка-долбленка. Грудой лежат в ней сети.
Хижины деревеньки без окон. Проемы входов занавешены циновками, мерно колеблющимися на ветру. У очагов, сложенных из черных камней, скрестив ноги, сидят пожилые женщины и старик. Он сосредоточенно курит тяжелую трубку из корня эбенового дерева. Лицо его такое же сморщенное, узловатое.
В нескольких шагах молодая женщина в длинной цветастой юбке с малышом, подвязанным за спину, мерно мотыжит красную потрескавшуюся землю, готовит ее под бататы или арахис. Черная, стриженная наголо головка ребенка болтается за ее плечами в такт движениям рук. Но малыш спит.
С баобаба срывается огромная птица, голова ее белая, бесперая, — это гриф. Медленно начинает он парить в горячем воздухе, поднимаясь все выше и выше…
А потом еще картины. Как в немом кино или на экране телевизора с выключенным звуком… По склону холма, покрытого рыжей осенней травой и пятнами воронок от разрывов снарядов, беззвучно раскрывая рты в крике, бегут, падают, ползут, снова бегут или остаются недвижными наши солдаты. Туда, к вершине холма, где то и дело встают огненно-черные столбы разрывов и искрится россыпь огоньков выстрелов. Еще не полностью развиднелось, еще космы тумана, мешаясь с дымом, тянутся по долине Волхова. Лица солдат кажутся темными… Лихой водитель машины, груженной ящиками с патронами и минами, вырывается из-за прибрежного склона в долину, где идет бой, где мы атакуем. Затормозив резко, он выскакивает из кабины, машет руками и тоже что-то неслышное мне сейчас кричит. И лицо у него тоже совсем темное, только белки глаз и зубы посверкивают, когда поблизости вспыхивает разрыв мины или снаряда. Точно он, этот шофер, не тамбовский или рязанский парень, а человек темнокожий, как Сембен.
И еще картины… Шумная, людная набережная бухты, врезанной в город Марсель. К мосткам у ее парапета привязаны и мерно кивают мачтами сотни катеров и шаланд. Катерок побольше, с туристами, берет курс на еле виднеющийся в синей дали моря остров Иф, тот самый, где был заточен Эдмон, будущий «граф Монте-Кристо» Александра Дюма. Проход в бухту с одной стороны сторожит маяк, а с другой — высокий застроенный холм, увенчанный церковью — собором Нотр Дам гард дю Марсель, что в переводе означает: «Наша дама (божия матерь), сторож (хранитель) Марселя».
В синей дали на траверзе острова Иф появляется большой океанский корабль. Огибая маяк, он направляется в порт города, самый крупный порт Средиземного моря. Там темнокожие и белые докеры разгрузят его, обливаясь по́том под жарким солнцем юга Франции. А вечером сменят просоленную робу и пойдут в убогие мансарды — свое нищенское жилье… Марсельский порт вошел в историю борьбы трудящихся. Здесь произошло знаменитое Марсельское восстание. Там родилась «Марсельеза».
«Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног…»
Там и заявил о себе впервые крупнейший писатель современной Африки — Сембен Усман, написав роман «Черный докер».
ПОЧЕМУ — КИНО?
С Сембеном Усманом мне пришлось встречаться потом много раз. Он приезжал в Москву, я бывал в Дакаре. Мы беседовали во время этих встреч главным образом о кино. Он стал известнейшим писателем-романистом, автором, помимо «Черного докера», еще нескольких книг — «Родина моя, прекрасный мой народ», «Тростинка господа бога», «Почтовый перевод», «Эмитай», «Хала». Почти все эти книги он писал по-французски и сразу же переводил на язык племени волоф, свой родной язык. Некоторые из них ему пришлось издать за свой счет, за счет гонораров французских изданий, мизерным тиражом на языке волоф.
Проза Сембена Усмана лаконична и выразительна, реалистична и всегда социально остра. В романе «Хала», например, речь идет об очень важной проблеме общественной жизни ряда африканских стран, которые под влиянием извне, под нажимом бывших колониальных властителей, не пошли по пути прогрессивных преобразований и приняли «модель» западной буржуазной демократии. В таких странах, в том числе в Сенегале, в условиях такого социального строя, естественно, начала зарождаться собственная, национальная буржуазия, появился местный «черный капитализм».
О реакционной сущности его, бесперспективности и импотенции в отношении подлинного социального прогресса и говорит писатель в романе «Хала». А сюжет повествования построен на основе судьбы, дел богатеющего на эксплуатации простых африканцев африканца-предпринимателя. В конце концов он терпит крах в делах и личной жизни. Его разоряют конкуренты. Его проклинают сородичи. Его семья рушится.
Я думаю, что творчество Сембена Усмана — пример следования методу критического реализма.
Одновременно в начале шестидесятых он начал снимать фильмы, сначала короткометражные, почти документальные, затем художественные полнометражные. По своим сценариям, в том числе на основе романов.
Почему же писатель Сембен Усман стал кинорежиссером?
Однажды, когда только что вышел из печати его роман «Хала», я прилетел в Дакар из Гвинеи-Бисау. Между нами повелось находить друг друга в Дакаре или Москве, и я сообщил ему о приезде через его друга Полена Виейра, работавшего на телевидении кинокритика и тоже постановщика нескольких фильмов. Сембен Усман позвонил мне и пригласил приехать к нему домой — он немного прихворнул…
…Маленький белый домик писателя стоит на самом берегу океана, километрах в двадцати к северо-западу от Дакара. В десяти шагах о черные камни ритмично бьет всегдашний прибой. Чайки, резко вскрикивая, реют над волнами, ныряют в них за рыбешками. Белесое небо, — оно почти всегда здесь такое, как в степи, — со всех сторон открыто. Солнце уже не так палит — близится вечер. Мы сидим на веранде, она фасадом к океану. Тростниковую крышу ее поддерживает деревянный столб в центре, и потому похожа она на шатер или хижину в саванне.
Двигаясь пластично, точно в медленном танце, жена Сембена подает пиво, сэндвичи и лед. За юбку ее цепляется малыш лет трех, глазастый и курчавый. Это Муса, младший сын. Он смотрит на белого гостя не то чтобы удивленно, скорее с некоторым пренебрежением или превосходством. А старший в Москве, учится в Энергетическом институте. Сембен Усман расспрашивает меня о Москве, о здоровье кинорежиссера Марка Донского (лет десять назад он стажировался у него на Киностудии имени М. Горького), потом о Гвинее-Бисау. Его интересует прежде всего настроение освободившихся менее года назад от колониальной власти португальцев людей этой маленькой страны — соседа Сенегала на юге. Я рассказываю, что все, с кем мне пришлось повстречаться и беседовать в городе Бисау и в селениях, улыбчивы и радостны, что друг к другу обращаются, начиная речь словом «товарищ», что везде идет восстановление разрушенного во время боев с колонизаторами или ими самими сознательно перед уходом из страны. Повреждено там все — ирригационные сооружения, причалы в порту, оборудование предприятий. Освободившемуся народу приходится трудно, но он не только принялся восстанавливать порушенное — сооружаются первые школы и больницы. Он работает с радостью. Вот что особенно бросилось мне в глаза, отмечаю я, — во всех делах в Бисау принимают участие женщины! На островах и в районе Морас меня познакомили с молодыми женщинами — комиссарами по социальным вопросам. Они занимаются организацией медицинского обслуживания, ликвидацией неграмотности, помощью матерям и многодетным семьям. Такие же комиссары самоотверженно работали у нас в России после победы советской власти над интервентами и белогвардейцами более полувека назад. Их называли женоргами — женскими организаторами. Они многое сделали!
— Слышишь, мать? — повернулся Сембен, улыбаясь, к жене. — Твои мечты там, в Бисау, уже проводятся в жизнь! — И, обращаясь ко мне, добавил: — В Сенегале сами понимаете, несколько иная социально-политическая обстановка. У нас, особенно в деревне, еще сильно влияние исламских законов, принижающих женщину. Да и порядки нашей буржуазно-демократической республики, хотя власти и говорят о приятии идей социализма, не способствуют широкому привлечению слабого пола к общественной и государственной деятельности.
Жена Сембена Усмана тонкими пальцами ласково проводит по головке сына.
— Как только он немного подрастет, обязательно снова буду работать, — говорит она. — Обязательно! И комиссаром не побоюсь стать!
— Ты и так у меня комиссар! — смеется Сембен. — По домашним делам.
— Нам теперь этого мало!
Да, мало… Великие исторические события произошли на Африканском континенте в последние десятилетия. Пробудилось национальное самосознание и чувство человеческого достоинства населяющих его народов. Африканцы стали ощущать себя людьми среди людей. Женщины тоже.
Правда, не везде, не во всех освободившихся странах, этот процесс становления новой жизни и мироощущения проходит одинаково. Но в Гвинее-Бисау и в Республике Гвинея, например[27], где взят курс на социалистические преобразования, народ раскрепостился и женщины все более вовлекаются в общественную жизнь, в производство, в управление делами.
Я вспоминаю снова комиссара по социальным вопросам района Морас в Гвинее-Бисау, юную женщину, которую все зовут ее партизанским именем Аржентина. Энергичную, живую, веселую, напористую. Как она атаковала министра Манекаса, который приехал с нами в «ее» район!
— Почему ты, Манекас, до сих нор не прислал машину-вездеход? Ты знаешь, что она нужна, чтобы помогать больным в джунглях, привозить в больницу рожениц!
И министр смущенно оправдывался.
Малышу Сембена Усмана скучно. Он начинает хныкать, и мать уводит его в дом. А мы продолжаем разговор. Теперь рассказывает Сембен Усман о главном в своей жизни — о своей творческой работе. Мне не нужно задавать наводящих вопросов.
Сембен оттолкнулся от проблемы положения женщин в освободившихся странах Африки и говорит сначала о сложностях, трудностях дорог в будущее, по которым идут эти страны.
— Одни, — говорит он, — приняли социалистическую ориентацию, другие лишь прокламируют ее, третьи перенимают порядки буржуазной демократии. Но всем им в той или иной степени угрожает империализм колониализмом в новой форме. Ограбленных и униженных ранее он хочет продолжать грабить и унижать современным, «законным» путем. «Законным» с точки зрения морали империалиста — путем кабальных договоров с молодыми государствами. Империализм пытается сохранить прежде всего свои экономические позиции. Ведь иностранные монополии до сих пор владеют во многих африканских странах рудниками и приисками, плантациями и фабриками, держат в своих руках торговлю. И чтобы править экономикой и политикой, неоколонизаторы поддерживают реакционные силы и пытаются всячески мешать национальному объединению, процессу сближения народностей и племен. Подкуп, заговоры, убийства прогрессивных деятелей — все они используют.
— Вы знаете, — продолжает Сембен Усман, — что сотни народностей и племен Африки к югу от Сахары говорят на разных языках и наречиях, многие из них издавна враждовали друг с другом. Эту данность ваши ученые называют «трайбализмом». Неоколонизаторы используют ее, натравливая африканцев друг на друга. Гнусный принцип «разделяй и властвуй» был и остается для всех поработителей во всей истории человечества одним из главнейших в политике. Что же мы, африканцы, можем противопоставить неоколониализму?
Ваша Октябрьская революция в конечном счете породила наше освобождение и указала главное направление в борьбе за свое счастье. Нам, очевидно, надо твердо и определенно идти по пути социалистических преобразований и крепить дружбу и единство между народами. И это все яснее и яснее понимают народы Африки. Но, как я уже сказал, вы это знаете, общественно-политический строй в разных африканских странах сложился на сегодняшний день по-разному и движение к социализму в некоторых странах заторможено с помощью неоколониалистов, их подлой политики и экономического нажима. О, как я их ненавижу!
Почти выкрикнул эту фразу Сембен Усман и надолго замолчал. Пыхтел трубкой. Я тоже молчал. Смотрел на темнеющий океан, на разгоравшийся закат. Чайки улетели куда-то. Белая пена прибоя то покрывала, то обнажала черные камни…
Я подумал о том, что знаменитый африканский писатель правильно понимает суть происходящих на континенте явлений в жизни его народов. Конечно же только борьба за социалистическое будущее может принести им подлинную свободу и национальную самостоятельность, благосостояние и процветание, развитие культуры. Сембен Усман — патриот Африки. Поэтому в своем творчестве, в книгах и кинофильмах, он стремится выразить свое прогрессивное политическое кредо. При большом таланте художника в этом сила его и причина известности.
Выколотив пепел из потухшей трубки, Сембен опять наполнил ее табаком и снова закурил.
— Вопрос, важнейший вопрос для нас, всей новой африканской интеллигенции и особенно работников искусства, — заговорил он, попыхивая ароматным дымом, — помочь всем народностям и племенам, — а их, повторю, сотни, — осознать в полной мере, что они люди, настоящие люди, а не полулюди, не «низшая раса», как даже декретировано, например, в Южной Африке законами ЮАР, гнусным апартеидом. Помочь мы можем — через борьбу за культуру и искусство. И не только просвещением, образованием, приобщением к вашей, скажем, европейской и особенно социалистической культуре и достижениям мировой науки и техники. Не только! Мы должны этому способствовать! Но одновременно мы должны создавать на основе наших древних постижений свою африканскую, новую культуру и искусство. Вы, конечно, покупали здесь, в Сенегале, в Мали и Гвинее, везде, где побывали, маски? — вдруг неожиданно спросил он.
— Да… Для меня даже изделия для туристов имеют ценность. Ведь это, как я говорю, «вещи-свидетели». Они помогают воспоминаниям о путешествиях…
Сембен Усман усмехнулся.
— Для вас — воспоминания. Для нас — это эхо далеких времен, наследие предков. В ремесленных поделках мало настоящего искусства. И все же они отражают материальную и духовную культуру прошлого Черной Африки. Как амфоры и статуэтки древней Греции. Они ведь тоже были, за исключением творений великих скульпторов, ремесленными поделками — предметами быта. Так вот, такие «вещи-свидетели», как вы говорите, есть одно из проявлений древней национальной культуры, традиций в нашем современном обществе. Одно из проявлений! Есть еще у нас национальная ритмическая музыка, танцы, легенды, народные обряды. Они в своей основе также корнями уходят в далекое прошлое, причем в значительной мере они общие для всех народов и народностей Черной Африки! В этом суть, в этом значение объединяющего нас, африканцев, национального народного искусства и, если хотите, интернационализм его. Я убежден глубоко, что, сберегая и развивая национальное африканское искусство, мы поможем всем людям континента жить дружно и подняться на новую ступень культуры, современной культуры, победить вредные пережитки прошлого, в том числе такое явление, как трайбализм. Сил тогда у нас прибавится, чтобы навсегда разделаться с империализмом и неоколониализмом. Ради этого стоит жить! Вот поэтому-то я и стал заниматься кино, снимать фильмы, — продолжал Сембен. — Ленин верно сказал: «Кино — важнейшее из искусств». Так ведь он сказал? Пятнадцать лет назад, сделав несколько короткометражек, я поехал в страну Ленина, в вашу страну, поучиться. Для Института кинематографии я был уже староват, да и пять лет затрачивать на учебу не мог. Пришлось стать стажером на Студии имени М. Горького. И мне очень повезло, что наставником моим стал Марк Донской. Мастер кино высшего класса и обаятельный человек!
Вернувшись из Москвы, я сделал документальный фильм «Человек с тележкой» — о солдате, вернувшемся с фронта, который кормил себя и семью, развозя товары на двухколесной тележке. А потом…
— Мне ваши работы в кино довольно хорошо известны, — сказал я, пользуясь паузой в рассказе Сембена. — Многие из них, например, «Почтовый перевод» и экранизация романа «Эмитай», демонстрировались на экранах Советского Союза. Другие ваши фильмы есть в коллекциях Госфильмофонда. Если не секрет, скажите, пожалуйста, собираетесь ли вы крутить фильмы еще? Или после романа «Хала» задумали сразу же писать новый роман?
— Надо делать фильмы, — ответил он. — Буду экранизировать «Хала». Одну минутку…
Сембен Усман встал и ушел в дом. Вскоре он вернулся, держа в руках небольшую в желтой обложке книжку, и протянул ее мне.
— Прошу вас принять сувенир. Это «Хала».
На чистой странице за обложкой было написано:
«Моему товарищу Виктору Сытину, за мир, дружбу между народами, за конечную победу коммунистов. Сембен».
— Буду экранизировать этот роман, — повторил он. — Хотя вы знаете, как у нас трудно собирать деньги на съемки. Местные власти мне не помогут. Придется создавать своего рода кооператив. Фильм будет на языке народа волоф, моем родном языке. Первый фильм! Для зрителей-африканцев очень нужно, чтобы с экрана звучала родная речь. Ведь она тоже элемент культуры. Она тоже выражает душу Черной Африки, душу как символ народных традиций, национальной культуры. А познание и развитие их — мы уже говорили об этом — поможет народностям и племенам объединиться в общей борьбе с империализмом и неоколониализмом за свое лучшее будущее… Простите, я повторяюсь…
На этом наша беседа угасла. Было уже поздно. Мне пора было возвращаться в свой отель. Я распрощался с семьей Сембена. С хозяином мы крепко обнялись.
…Предместья Дакара спали. Но на улицах в центре, около баров и ресторанов, еще было людно. Из окон этих заведений доносились ритмы джазовой музыки. Ритмы древней Африки? Да. Но как далека эта модернизированная музыка от подлинно национальной!
Как ремесленные поделки для туристов — подумалось мне. Нет, наверно! В ней все же прослушивались отзвуки народных мелодий и ритмов, душа подлинной Африки.
ДУША АФРИКИ
Современное широкооконное здание Политехнического института в столице республики Гвинея — Конакри — празднично освещено. У входа толпятся студенты. Сегодня вечером для них будет показан советский фильм «Черное солнце». Фильм о трагической судьбе лидера одной из африканских стран, павшего жертвой заговора сил реакции. Прототип героя фильма — великий патриот континента Патрис Лумумба.
Мне очень интересно, как будут реагировать на советскую ленту студенты института, поймут ли некоторую усложненность сюжета, условность «суда совести» в заключительных диалогах уже мертвых его героев Тусомбе и Барта. Меня беспокоит еще и то, что в зале будет нестерпимо душно и жарко. Термометр на одной из колонн у входа показывает тридцать с гаком, а влажность воздуха очень высока.
Однако напрасно я волновался! Актовый зал остался заполненным до конца демонстрации фильма. Более того, — все зрители еще часа два оставались на своих местах, слушая выступления своих товарищей, обсуждавших «Черное солнце».
Все ораторы, за исключением, пожалуй, одного, хорошо поняли происходившее на экране. Они сочувствовали судьбе Тусомбе, сопереживали с ним его трагедию и уловили ясно ее причины.
— Фильм показывает, — говорили они, — что он поверил тем, кому верить было нельзя, проявил к ним либерализм, не организовал народные массы против реакционеров…
— Такие фильмы помогают узнавать жизнь, учат бороться и побеждать, — сказал один из последних выступавших. — Африке, как хлеб, необходимы фильмы об африканцах и их делах.
Только ли Африке? — подумалось мне тогда. Нам тоже нужны ленты о жизни людей Черного континента, чтобы лучше понять его настоящее и будущее.
Сила эмоционального воздействия киноискусства на зрителей огромна. Вспомнилось, как увлеченно смотрели наши фильмы «Освобождение», «Горячий снег», «Белое солнце пустыни» в кинотеатрах Бисау и Луанды, хотя они были на незнакомом зрителям русском языке и снабжены лишь титрами на португальском. А среди этих зрителей, дай бог, была треть таких, которые могли читать титры. И тем не менее выкриками, топотом, свистом они выражали свой восторг, когда советские воины проявляли героизм, когда победой венчалось их правое дело. Да и в других аудиториях освободившихся стран историко-революционные и военно-патриотические советские фильмы — я был свидетелем этому — радовали и воодушевляли большинство зрителей. Кино помогало им лучше осмысливать события современной истории в своих странах, поднимало их общественное самосознание.
Правильно сделал Сембен Усман, занявшись кино, созданием фильмов о жизни людей Черной Африки! Однако этим не ограничился Сембен в своем стремлении участвовать в борьбе за становление национальной новой африканской культуры и киноискусства. Он стал одним из организаторов Панафриканской федерации кинематографистов, или сокращенно ФЕПАСИ, межнационального объединения творческих киноработников Африки.
ФЕПАСИ подняло знамя борьбы против засилия западных кинофирм, захвативших во многих странах континента прокат фильмов. Фирмы эти выкачивают доходы от проката картин и не дают денег на производство национальных лент. Кроме того, они насыщают кинотеатры Африки низкопробной, развлекательной или пропагандирующей буржуазные устои жизни западной кинопродукцией и тем самым наносят вред культурному развитию в освободившихся странах.
ФЕПАСИ объявило войну идеологии империализма и неоколониализма в самом киноискусстве и стало поддерживать прогрессивное в национальном африканском кино. Она еще слаба, эта организация, она не имеет прочной финансовой базы. Но она существует, действует!
Сембен Усман снял фильм по своему роману «Хала» на языке волоф и сразу же занялся другим. Он закончил его летом 1977 года, в канун X Московского Международного кинофестиваля.
— Я привез новый фильм «Цеддо», в нем рассказывается история легендарная, — сказал мне Сембен при встрече в холле гостиницы «Россия», где шел фестиваль, весьма ощутимо похлопывая по плечу и спине. — Больше ничего не скажу. Только одно: «Цеддо» — это название одного из небольших племен. Тема фильма историческая. Но… Посмотришь его, брат?
Улыбаясь своим большим ртом, он еще раз хлопнул меня по плечу, окликнул проходившего мимо Полена Виейра и заговорил с ним на глуховатом, ритмичном, странном языке. Сказав несколько фраз, обернулся.
— Вот это и есть наш родной язык — волоф. Ничего нет в нем общего с европейскими.
— В нем слышатся звуки тамтама, пожалуй, — сказал я.
Полей Виейра поднял на меня такие же, как у Сембена, чуть выпуклые, яркие карие глаза.
— Интересное восприятие! Пожалуй, действительно…
— Я же говорил, что в самой речи африканских народов — помните? — тоже таится их душа! — воскликнул Сембен и снова заулыбался.
…И вот он звучит, этот экзотический для нас язык волоф, с экрана концертного зала «Россия». Титры по-французски и голос переводчика мешают ощущать его как следует. Все же внезапно родившееся у меня предположение, что в нем слышатся звуки тамтама, наверное, правильно! Однако во время просмотра не до раздумий по этому поводу. Сейчас нужно внимательно смотреть фильм, потому что читаемые титры никогда не могут полностью и точно передать диалог и нужно дополнительное усилие, чтобы хорошо понять по изобразительной фактуре смысл и содержание происходящего на экране.
Любое кинопроизведение пересказать трудно. Тем более трудно то, в основе которого лежит незнакомая жизнь народа малоизвестного или совсем неизвестного. Я, например, никогда не слышал, что есть в западной африканской саванне народность цеддо. Знал, что есть волоф, фулбе, сусу, мандинго, бамбара, мали и многие другие. Побывав несколько раз в Западной Африке, я стал даже различать их этнические особенности. Но о племени цеддо не имел никакого представления.
Сембен Усман снимал фильм непосредственно на земле этого племени и его мужчин, женщин, детей. Это были высокие, стройные, гибкие люди, воины и охотники. Пожалуй, более всего они походили на воинственных скотоводов и охотников большой западноафриканской народности фулбе.
Фильм «Цеддо» рассказывал вот о чем.
Внутри племени шла борьба. Вождь его стремился сохранить целостность племени, его традиции, обычаи и порядки, его независимость и свободу. Противостоял ему исламский проповедник. Опираясь на обращенных в мусульманство, он (и белый торговец рабами в сговоре с ним) хотел сам стать вождем и, чтобы заставить вождя быть более сговорчивым, похитил его дочь. В конце концов вождя заговорщики убивают. Гибнут один за другим верные ему воины. Проповедник становится вождем, и тогда дочь получает возможность вернуться в родную деревню. В финале фильма гордая, не сломленная горем красавица африканка идет по площади в центре деревни к навесу, под которым важно восседает узурпатор. Приблизившись к нему, она выхватывает у сопровождающего стража длинное кремневое ружье и стреляет в нового вождя.
Последний кадр… Медленно-медленно идет на экране прекрасная женщина, прямо на смотрящих фильм. Мстительница и символ борьбы за свободу своего племени. Вот ее лицо, спокойное и страшное, красивое и волнующее, занимает весь экран. Вот на нем только одни глаза, одни темные, жуткие, как дула пистолетов, нацеленных в твои глаза, светящиеся из своих глубин глаза Африки, глаза, вобравшие в себя ее боль, страдания, свободолюбие, силу жизни, ее тайны!
Они часто мерещатся мне с тех пор. Они, как маски, говорят о непознанном. Они тянут к себе…
Смысл фильма «Цеддо» не однозначен. Но главная его идея состоит в том, к чему не раз возвращался в наших с ним беседах Сембен Усман: значительны и сильны национальные самосознание и древняя культура народов Африки, сохранившиеся вопреки пришельцам. И это должно давать силу народам и племенам в борьбе за независимость и лучшее будущее на основе самостоятельного развития.
Браво, «сенегальский стрелок»!
Через несколько месяцев я побывал в другом краю Черного континента — в Восточной Африке, в Эфиопии. Там произошли события, в корне изменившие социальный строй, жизнь этой древней страны. Ветры революции веют над ней, преображают ее. Там покончено с феодальной монархией и в трудной борьбе народ утверждает свое право жить свободно, строить прогрессивное, социалистическое общество. Об этом я не могу здесь рассказывать подробно. Скажу только, что в новой Эфиопии пристально изучают опыт Великой Октябрьской социалистической революции, марксистско-ленинскую теорию. На главной площади столицы страны — Аддис-Абебы — установлены три огромных портрета: Маркс, Энгельс, Ленин. В области культуры в Эфиопии также происходит крутой поворот. Главной темой произведений большинства писателей, художников, композиторов здесь становится борьба народа за независимость, за свой революционный путь развития — против контрреволюции и сепаратизма, направляемых империализмом. Главным героем — простой человек, подлинный хозяин древней земли: крестьянин, рабочий, ремесленник и воин народной милиции, «человек с ружьем». Феодально-монархический строй в этой стране не стремился развивать прогрессивное искусство, в том числе кинематографическое. Там не было даже маленькой киностудии. А сейчас собираются, объединяются небольшие силы кинематографистов, главным образом документалистов, чтобы начать создавать свое национальное киноискусство.
Один из деятелей культуры новой Эфиопии говорил мне:
— У нас еще нет кино. Но оно будет! Мы используем опыт в этой области работников советского кино и передового кино некоторых стран Африки. В первую очередь творческий опыт сенегальца Сембена Усмана! Мы еще мало его знаем, но то, что знаем о нем и его фильмах, говорит: он наш брат, наш старший товарищ!
Поездка в Эфиопию пополнила мою маленькую коллекцию африканских масок. В ней появилась еще одна, без символических украшений, маленькая, из красноватого дерева, вырезанная рядовым ремесленником. Но она примечательна тем, что изображает лицо воина, простого человека, крестьянина или рабочего, взявшегося за оружие, чтобы бороться за лучшую жизнь, свое счастье. На лице его выражение решимости и воли. Мастер бессознательно, стихийно отразил в форме древней, в традициях давних современность, новь, социальную весну своей родины.
…Майский Ташкент чарует живой, свежей зеленью деревьев, цветами в скверах. Еще не жгучим, ярким солнцем. Легким бризом, текущим незримо с недалеких гор. Глаз радуется новостройкам. Возведенные после землетрясения всего-то за десяток с небольшим лет огромные здания, каждое своеобразно, имеет свое «лицо». Все они в светлых тонах, оригинально украшены без «украшательства» портиками или балюстрадами, балконами или лоджиями, орнаментом из фигурного бетона или плиток.
Майский Ташкент в этот год выглядит особенно оживленным и праздничным. Здесь проходил Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки. Перед фасадом шестнадцатиэтажной новой гостиницы «Узбекистан» ветер развевал многоцветные флаги восьмидесяти государств.
Я прилетел в столицу «страны белого золота» ненадолго, чтобы повидаться с друзьями, обретенными во время поездок в Африку, в том числе с Сембеном Усманом. И вот я вижу его глыбистую фигуру в сине-белом бубу в холле гостиницы. Рядом с ним высокая, гибкая африканка. Она тоже в национальном наряде и прическе: множество косичек-жгутиков свешиваются по обе стороны ее губастого коричнево-оливкового лица. Она совсем не красавица. Но глаза ее прекрасны. Где я видел такие?
Сембен крепко обнимает меня, целует, похлопывает по спине. Мы оба рады встрече.
— Викто́р, брат, — говорит он, — очень хорошо, что вы здесь, в этом прекрасном городе.
Потом он оборачивается, жестом подзывает спутницу.
— Героиня фильма «Цеддо». Простая наша женщина, которая стала актрисой. И я ее открыл, — не без гордости добавляет он.
Имя героини звучит экзотически — Табара́ Ньджай.
Она подает гибкую руку — узкая кисть, тонкие пальцы — и произносит несколько слов на том странном языке волоф, в котором почудились мне звуки тамтама, когда я впервые его услышал.
Так вот она, дочь вождя племени цеддо, мстительница за свой порабощенный народ! На экране она была красивее, эффектнее. В кино так случается часто. Но глаза ее, поразившие и запомнившиеся в последних кадрах фильма, оказались и наяву завораживающе странными и чуть страшными. И еще что-то неопределенно знакомое было в чертах лица Табара́ Ньджай. Что?
Сембен потянул меня за руку.
— Пойдемте посидим где-нибудь, поговорим. А Табара́, наверное, сейчас повезут куда-нибудь по фестивальным делам.
Мы поднялись в мой номер, на шестой этаж, и вышли на балкон. Как прибой, шумел внизу огромный город. Клубились вдоль улиц и в парках кроны карагачей и лип. Светлые дома ступеньками уходили к горизонту, очерченному силуэтом синих гор.
Сембен с удовольствием, раздувая ноздри широкого носа, вдыхал сухой, чистый воздух открывавшегося простора.
— Ваш фильм «Цеддо» на здешнем фестивале, как и на московском прошлый год, очень понравился, — сказал я. — В «Правде» писали, что это «картина глубоко народная и национальная по своей форме», что она «украсила программу ташкентского смотра».
— Как здесь хорошо, — задумчиво произнес Сембен в ответ.
И можно было понять его так, что рад он и успеху своей работы, и вообще приезду в нашу страну, и что нравится ему у нас очень. Я стал рассказывать ему о недавней поездке в Эфиопию, о ярких приметах нового, подлинно революционного в этой стране, о борьбе, которую ведет ее народ с врагами внутренними и внешними.
— К сожалению, у эфиопов нет еще своей кинематографии. А кино так могло бы помочь им в их борьбе за свое будущее.
На лице Сембена появилось выражение то ли озабоченности, то ли тревоги. Он закурил, глубоко вздохнул.
— Всем нам, африканцам, предстоит еще много-много борьбы, — задумчиво сказал он. — Новому старое грозит отовсюду. Победить его можно только единством. Дружбой между нашими народами. И теми, кто уже построил социализм.
— Вы будете снимать новый фильм?
— Нет. В ближайшее время нет. Я начал писать роман. Тема? Угроза со стороны сил внутренней реакции прогрессу народов Африки к югу от Сахары. А может быть, исторический, о Самори — великом черном борце против колонизаторов. Потом, может быть, и сниму на эту тему фильм. А пока буду писать еще и статьи, публицистику для радио, телевидения. Вы же знаете, в большинстве стран Африки реакционные силы, торгаши и политики не выпускают на экраны наши фильмы, фильмы, созданные африканцами, и вообще прогрессивные картины. И надо пытаться высказываться через печать — романы и статьи, радио и телевидение. Надо и эти каналы информации вместе с кино больше использовать для становления нашей национальной культуры, для борьбы за лучшее будущее Африки, разоблачать империализм и неоколониализм, укреплять единство и дружбу.
На следующий день Сембен Усман выступил на ту же примерно тему на симпозиуме кинематографистов трех континентов, собравшемся в рамках Ташкентского кинофестиваля, выступил блестяще! Ему долго аплодировали, признавая его лидерство в современной литературе и кино Африки.
Как-то, сметая тонкую городскую пыль со своих масок и статуэток, я вдруг в одной из них — головке женщины-африканки — увидел что-то знакомое. Память подсказала — похожа она на лицо Табара́ Ньджай! Так вот почему героиня «Цеддо» там, в Ташкенте, напомнила что-то.
Статуэтка была из Сенегала, и, наверно, вырезал ее из эбена ремесленник-художник племени волоф или другого близкого ему по крови и древней самобытной культуре. Она еще жива, она еще не размылась временем и потоками достижений пришлых цивилизаций. И я подумал снова о том, как важно для будущего сохранять национальную культуру прошлого племен и народов Африки, да и вообще всех народов земли. Это не менее важно, чем исчезающие виды растений и животных!
«БИТВА НА РЕЛЬСАХ»
Сухощавый, стройный немолодой человек с тонким, одухотворенным лицом ученого или поэта, в сером костюме, перекинув белый плащ через левую руку, стоял перед маленькой церквушкой в лесах — она реставрировалась — и внимательно ее рассматривал. Иногда он чуть поворачивал голову, обращал взор на другой такой же древний храм неподалеку или окидывал взглядом старинное строение — боярские палаты. За его спиной высилась бетонно-стеклянная громада гостиницы «Россия», к восточному ее входу подъезжали и отъезжали машины, толпились люди чуть ли не со всех краев света. Над балюстрадой лопотали национальные флаги почти сотни государств. Шумел Московский международный кинофестиваль.
Когда я подошел ближе, человек обернулся — это был знаменитый французский кинорежиссер Рене Клеман — улыбнулся, поздоровался и сказал:
— О мсье, я не перестаю наслаждаться этой историей в камне. Много лет прошло с тех пор, как мне пришлось оставить занятия архитектурой. Но подлинные произведения искусства зодчих, известных и безвестных, волнуют меня по-прежнему. Архитектура ведь, как теперь принято говорить, «самовыражение» первых художников, появившихся в истории человечества! Не правда ли? Как хорошо, что вы, свершив свою революцию, не отказались от культуры прошлого. Я уважаю вас за это…
И добавил:
— Конечно, не только за это. За многое. За то, что вы сокрушили фашизм, за…
— О, Рене! Вот вы где! Я так и знала…
От подъезда гостиницы быстрыми шажками, почти бегом, к нам приблизилась в меру полная невысокая женщина в мантилье-накидке. Ее округлое лицо обрамляли чуть седеющие светлые локоны, глаза светились радостью и добротой.
— О, мсье Виктор! — узнав, повернулась она ко мне. — Очень, очень рада вас видеть тут, в Москве. Комант’алле ву? Какой хороший погода.
Говорила она по-русски довольно хорошо и «для практики», как сказала как-то, еще в Париже, старалась изъясняться на языке своих родителей, давно выехавших из России.
— Рене! Вы опоздаете на заседание жюри кинофестиваля. Уже приходила наш номер симпатичная секретарь, беспокоилась. Идемте же! Аллон вит, Рене. Извините нас, мсье Виктор!
Рене Клеман развел руками — ничего не поделаешь. Поклонился.
— Обьенто́!
Эта встреча была в июле семьдесят третьего. В тот приезд Клемана в Москву мы встречались еще много раз, но, к сожалению, все урывками. Он был занят много в жюри конкурса художественных фильмов, а в свободное время устремлялся в музеи. Белла Клеман как-то шутливо пожаловалась, что она должна будет, вернувшись домой после кинофестиваля, лечь в больницу и лечиться от переутомления.
А познакомились мы года за три до того в Париже…
На небольшой площади, где стоит один из известнейших театров Парижа «Одеон», есть кафе-ресторан «Ше-Гренье». В тот раз Жан Шницер, критик и киновед, автор нескольких хороших книг о советском кино, очень милый человек, и его жена Люда, литературная переводчица, пригласили меня позавтракать в этом ресторанчике, специализировавшемся на рыбных блюдах.
Он невелик: один зал с крытой верандой, обвитой виноградом, захватившей и часть тротуара. Сквозь зеленый занавес листьев виден театр «Одеон»… Здание его давно не ремонтировалось, выглядит обшарпанным и каким-то заброшенным. Впрочем, как и многие другие парижские театры, он переживает кризис. Билеты на спектакли дороги, посещаемость невысокая… Исключение составляют кабаре-варьете и некоторые концертные залы, например «Олимпия», с программами, рассчитанными главным образом на туристов.
Об известном затухании театрального искусства во Франции и начинается у нас разговор со Шницерами. Но вскоре приходит Рене Клеман, усталый, прямо со съемок. Он в отлично сшитом и отглаженном светлом костюме. Не в пример другим режиссерам, обычно нарочито небрежно носящим блузы разных фасонов и из разных материалов, джинсы и «отрицающим» галстуки, Клеман одевается всегда, пожалуй, даже слишком строго, всегда подтянут, собран… Это одна из черт его характера — собранность. Однако она не порождает «застегнутости», не ведет к молчаливой отчужденности и сухости в обращении с людьми. В беседе Рене Клеман обычно по-французски раскован, щедро делится своими мыслями, любит шутку и острое слово…
В ресторанчике «Ше-Гренье» есть фирменное блюдо, «спесиалите» — фаршированная форель, и к нему подают отличное сухое белое вино типа «Божоле».
Клеман поднял бокал, прищуриваясь, посмотрел на отливающее опалом вино и предложил выпить за историческую дружбу французской и русской культуры. «Включая советскую», — добавил он. А затем, естественно, пошел разговор о нашем киноискусстве.
Французы вообще любят за столом серьезную беседу, а точнее — на серьезные темы. Даже в деловых кругах принято обговаривать существо сделок и контрактов сначала в кафе или ресторане, за завтраком или обедом, а затем уже оформлять их в оффисах договорами и соглашениями на бумаге.
Жан Шницер спросил Клемана, как идут съемки его нового фильма «Дом под деревьями».
— Осталось немного. Но «немного» иногда очень много в нашем искусстве, — ответил он с какой-то грустью в голосе.
— Это самое чуть-чуть! — воскликнул Шницер.
— Да. И желание сделать получше, как можно более приблизиться к замыслу, к тому, что видишь с самого начала, готовясь к съемкам. Импровизация в процессе делания фильма вообще возможна, допустима, более того — неизбежна. Моя работа на площадке не составляет исключения, я тоже импровизирую — и в довольно широком диапазоне, в зависимости от потенций актеров, мастерства оператора. Но всегда в пределах замысла, конструкции «увиденного» фильма, еще тогда, когда размышляю над сценарием… Подготовка к съемкам, начиная с этого периода, всегда отнимает у меня много сил и времени.
— И вы, метр, наверное, уже сейчас задумываете новый фильм? — продолжал свои вопросы Шницер.
Клеман усмехнулся.
— У каждого режиссера есть идеи… Часто не материализующиеся. Несбывающиеся.
Ответ был уклончивым, и все же очевидное нежелание продолжать разговор в этом направлении не остановило критика.
— А вы, метр, не думаете вернуться к своей коронной теме, я имею в виду антифашистскую? — спросила Шницер. — И продолжить серию своих замечательных фильмов: «Битва на рельсах», «Проклятые», «Запрещенные игры»… Кстати, вот здесь, на площади Одеон, в сорок четвертом, в дни освобождения Парижа, со своими товарищами, воинами Сопротивления, дрался с оккупантами Эрнст Хемингуэй…
— Не исключено! Может быть, и вернусь, — оживился Клеман. — К сожалению, мне не пришлось участвовать в освобождении Парижа и встретиться там с великим писателем Хемингуэем. Я участвовал в Сопротивлении на юге Франции, снимал действия «маки́», сделал документальный фильм о том, как герои Сопротивления боролись с оккупантами на железных дорогах. Фильм этот так и назывался — «Те, что на рельсах». Увиденное тогда и перечувствованное впоследствии воплотилось в замысел моей уже игровой ленты «Битва на рельсах». Эта работа, мне рассказывали, понравилась и советским зрителям? — Клеман обернулся ко мне: — Надеюсь, это правда?
— Сущая правда. «Битва на рельсах» и другие ваши антифашистские фильмы очепь тепло встречены в Советском Союзе. Например, «Проклятые» и «Запрещенные игры».
— А на другие темы?
— «У стен Малапаги»! Я, и не только я, считаю эту ленту одним из самых выдающихся гуманистических кинопроизведений. Вообще ваше творчество — целая эпоха во французском кинематографе!
Сказал я это совершенно искренне, не помышляя польстить Клеману. Еще лет пятнадцать тому назад, впервые увидев «Битву на рельсах», я был потрясен суровым и мужественным киноповествованием о героических делах французских патриотов в то время, когда они вели неравную борьбу с жестоким врагом, захватившим их родину. Потом появились другие ленты Клемана — «Проклятые», «У стен Малапаги», «Запрещенные игры», заслуженно получившие призы на Международном кинофестивале в Каннах в конце сороковых и начале пятидесятых годов. Тогда Каннский кинофестиваль был еще не столь тенденциозно коммерческим. Поэтому и творчество Рене Клемана, так же как и работы итальянских неореалистов Де Сика, Де Сантиса, Росселини и Висконти, завоевывало себе призы и внимание. Их творчество стало взлетом западного кино на крыльях прогрессивных идей, сочувствия и любви к простым людям, людям труда и тем, кто противостоял реакции во всех ее формах и видах, в том числе фашизму…
Некоторые и из последующих лент Репе Клемана также, несомненно, были прогрессивными в своей сути, по заложенным в них мыслям. Например, фильм «Горит ли Париж?» — об освобождении столицы Франции, появившийся на экранах в начале шестидесятых годов…
…Рене Клеман, выслушав сказанное мной о его творчестве, почему-то снова грустно усмехнулся, но ничего не сказал. Маленькими глотками он допивал свой кофе, глядя сквозь кружево листьев на мелькающие силуэты прохожих и машин, пересекающих площадь, на фасад знаменитого театра… Вскоре он поставил чашечку, поднялся, извинился, что должен ехать на студию, и ушел.
— Вы задели его больную струну, — сказал тихо Шницер. — Рене сейчас в тисках…
— Каких тисках?
— Об этом вы его спросите сами, когда снова увидитесь. Но мне думается, на него жмут продюсеры.
Вскоре мы тоже покинули уютный ресторанчик и пошли по тихой улочке Одеон, идущей от площади к бульвару Сен-Жермен. Дома прошлых двух столетий сжимают ее, и она точно ущелье. Узкие тротуары замощены побитыми, пообтертыми каменными плитами. Между ними кое-где пробивается чахлая травка. И очень уместны здесь антикварные и букинистические магазины! За пыльными стеклами их нешироких витрин старинный фарфор и африканские маски, позеленевшие изделия из бронзы, вычурная мебель XVII—XVIII веков, книги в кожаных переплетах, выцветшие карты и эстампы…
— Вот этот антикварный магазин часто посещал Хемингуэй. Владелица его была другом писателя, — сказал Шницер, когда мы проходили мимо небольшого магазинчика в два окна. — До войны… А в сорок четвертом судьба распорядилась так, что Хемингуэю с отрядом «маки́» пришлось именно из этих домов выбивать фашистских автоматчиков!
— Это был писатель-воин, — сказал я.
— И главное, человек, который ненавидел войну! — продолжил Шницер. — Помните, что он написал в предисловии к послевоенному изданию «Прощай, оружие!»?
«Я считаю, что все, кто наживается на войне и кто способствует ее разжиганию, должны быть расстреляны в первый же день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться.
Автор этой книги с радостью взял бы на себя миссию организовать такой расстрел…»
— Рене Клеман в этом отношении близок по духу к Хемингуэю…
Я сказал это и снова вспомнил антифашистские фильмы знаменитого французского кинорежиссера. В «Битве на рельсах» и других военных лентах его высокий накал патриотизма и суровая необходимость жестокости в борьбе всегда сочетаются с отвращением к самой сущности насилия. Другими словами, они гуманистичны в полном значении этого слова. Но если у великого американского писателя на это мироощущение в какой-то мере наслаивается пацифизм, то у Клемана такого не чувствуется: Клеман за ярость возмездия по отношению к фашистам, варварам XX века.
Размышления на эту тему пришли ко мне в вечерний час, когда я вернулся в свой номер в отеле после прогулки по Большим бульварам. Меня поразило, что у входов некоторых первоэкранных кинотеатров с афиш-плакатов и увеличенных кадров из фильмов прохожим улыбались подтянутые офицеры вермахта и даже эсэсовцы!
Кинотеатры Больших бульваров — своеобразное зеркало, отражающее, что нового появляется на экранах Парижа, Франции да и других стран Запада. В начале шестидесятых годов, когда еще бушевала «холодная война», здесь чуть ли не каждый второй рекламируемый фильм был либо антисоветским, либо в той или иной степени оправдывал если не гитлеризм, то, во всяком случае, «честных и храбрых» воинов третьего рейха. С наступлением эры разрядки таких фильмов стало значительно меньше. И все же их выпускали киностудии, особенно американские. Вот, например, фильм о генерале Патоне, якобы победителе Роммеля в сражении за Северную Африку. Авторы этой ленты всячески расхваливали Патона, сделали его героем, а в то же время весьма сочувственно показали его противников — гитлеровцев, а советских воинов принизили, даже обсмеяли…
Неправда о второй мировой войне в этом фильме была вопиющей. Но кто из зрителей на Западе мог бы понять это? Бывшие участники Сопротивления? Их все меньше и меньше, ведь прошла уже треть века с тех времен войны. А новые поколения воспитывались на Западе в духе «холодной войны» или политического нигилизма. Лишь пролетарская молодежь своим классовым чутьем могла критически оценивать фильмы, романы, пьесы такого направления. Да и то, очевидно, не всегда, ибо среди лживых произведений о мировой войне на Западе появлялись бесспорно сделанные талантливо, они впечатляли… Тот же «Самый длинный день», фильм, созданный для того, чтобы показать: решающую победу над гитлеровской Германией одержали США и Англия, осуществив высадку своих войск в Нормандии в сорок четвертом. В нем ни слова не сказано, что до этой высадки советские армии разгромили все основные силы вермахта, сокрушили гигантскую военную машину гитлеризма…
К сожалению, размышлял я в тот вечер, на экранах Франции показывают все меньше правдивых фильмов, подобных лентам, созданным Рене Клеманом. К сожалению, замечательная «Битва на рельсах» давно уже не идет в кинотеатрах Парижа. Даже «Горит ли Париж?», появившийся в шестьдесят шестом, невозможно посмотреть. Детективы, насыщенные сексом драмы, глупые комедии составляют основу кинорепертуара, а «серьезное кино» представляют вот такие, искажающие историю или жизненную правду современности, растлевающие идеологически сознание масс, реакционные в своей сущности кинопроизведения…
Перед моим мысленным взором снова и снова появлялись суровые кадры из фильма «Битва на рельсах». Эпизод, рассказывающий, как «маки́» подорвали рельсы и вызвали крушение воинского эшелона гитлеровцев. Сцена расстрела патриотов-железнодорожников эсэсовцами.
И, как это нередко случается, в памяти моей тогда возникла рельефно и зримо трагическая история лейтенанта Альберко…
…В морозную февральскую ночь сорок второго я подремывал, сидя в землянке командного пункта батальона нашей обороны на Волхове. Между траншеями батальона на опушке леса по окраине большой продолговатой болотины, поросшей багульником и чахлыми березками, и позициями врага было шагов двести… В условиях лесисто-болотистой местности это немало и в какой-то мере предохраняло от внезапного нападения. Тем не менее на участке каждой роты были выдвинуты посты боевого охранения. Комбат проверил это сам и, вернувшись на свой КП вскоре после полуночи, скинул шинель, распоясался, сел на топчан и с наслаждением стал пить чай.
— Все тихо, капитан, — сказал он мне. — Фрицы вообще на моем рубеже ведут себя ночами спокойно. Так что можешь продолжать кемарить. Или чайку выпьешь? Запрел он в термосе, однако горяченький, хорош!
Я согласно кивнул. Комбат потянулся к термосу, и в этот момент совсем близко хлопнул винтовочный выстрел, за ним другой.
— Во второй роте… Что еще такое? — Комбат схватил автомат и, нагнувшись, полез из землянки.
Я последовал за ним.
Землянка КП находилась метрах в пятидесяти позади линии траншей, в бугорке, на котором прежде росли три сосны. Именно прежде росли, потому что от них остались лишь расщепленные снарядами разной высоты пеньки. Белесая муть стояла над болотиной. И все было тихо минуту-другую. Потом затарахтели сразу два немецких пулемета и стремительные светлые мухи помчались в нашу сторону. Защелкали и автоматы. Вспыхнула мертвенным огнем осветительная ракета.
Комбат исчез в ходе сообщения. Наша оборона почему-то молчала.
«Неужели они полезли? — мелькнула мысль. — Сомнительно! Наши открыли бы огонь… В чем же дело?»
Еще и еще загорались осветительные ракеты, били «шмайсеры» и пулеметы, несколько раз, повизгивая, проносились над нашими траншеями и звонко разрывались немецкие мины. И вдруг снова стало тихо до звона в ушах и как-то гуще темнота…
Вскоре из хода сообщения к землянке вышел комбат. За ним двое солдат несли человека в полушубке. Он тихо стонал.
— Медсестру, быстро, — приказал комбат вестовому. — А его пока ко мне. Поосторожнее…
Человек в полушубке был ранен, и, очевидно, тяжело. Он хрипло дышал. Когда его внесли в землянку и положили на топчан, даже при свете лампы-коптилки из снарядной гильзы стала видна пузырящаяся на губах пена — страшный признак пробитых легких…
Лицо у него было совсем молодое. Он был в забытьи.
Прибежавшая медсестра осторожно сняла с него полушубок, пропитанный кровью, разрезала блузу и рубашку. На худощавой груди внизу слева чернела и пузырилась пулевая рана.
— Перевяжи — и быстро в санбат, — сказал комбат и, обернувшись ко мне, добавил: — Пойдем наружу, не будем ей мешать…
У землянки мы закурили, и комбат рассказал мне следующее:
— Понимаешь, какая штука, капитан. Наш, из боевого охранения, его… Говорит: «Услышал, шебуршит что-то на нейтралке. Присмотрелся — ползут. Сколько — не сосчитать. Я: «Хальт!» Один приподнялся, говорит не по-русски: «Мой, свой… Нет стреляй». Ясно — фриц. Я — выстрел-предупреждение. Он и другие встали. Ну, тогда я… А когда его притащили другие, двое… лопочут: «Мы партизан…» Вот какая штука, капитан. А может, и вправду они партизаны? Сейчас приведут тех двоих. Они тоже по-русски что-то бормочут и плачут. Товарища им жалко. Да вот и ведут их…
Они были тоже в полушубках, в шапках-ушанках без звездочек. Один высокий, чернявый, нос горбинкой, другой маленький, совсем юный, блондин. Морозный туман поредел, и проявившаяся луна давала возможность увидеть, что в глазах их поблескивают слезы.
— Мы есть группа лейтенанта Альберко, — сказал чернявый. — Просим срочно штаб. Просим сказать, лейтенант живет?
Я влез в землянку. Медсестра закончила перевязку и, склонившись близко к лицу раненого, что-то ему нашептывала.
— Он пришел в сознание, — сказала она. — Говорит, что он лейтенант Альберко или Альберто, не разобрала, был в тылу немцев. С заданием… — И отвернулась.
Я наклонился к раненому — он дышал еще более тяжко, редко. И опять пена пузырилась на его почерневших губах. Но глаза были широко открыты.
— Я… лейтенант Альберко… Товарищ… Прошу говорить штаб… Приказ… сделано… Война на рельса… Дорога Ленинград… Три… Эшелон… Прошу говорить штаб… Прошу…
Лейтенант Альберко умер, когда его принесли в штаб дивизии. В лесном краю за Волховом, в районе деревня Трегубово, бывшей деревни, его могила.
Тогда я не узнал ничего больше о подвиге Альберко и его товарищей. Но через пятнадцать лет случайно встретил (чего только не бывает!) одного из группы — того высокого, чернявого. Он работал слесарем-механиком на «Трехгорке», был кандидатом в члены Коммунистической партии и пришел в Краснопресненский райком на беседу перед утверждением его членом партии на бюро. Как члену бюро райкома, мне пришлось провести с ним беседу.
Конечно, я не узнал боевого товарища лейтенанта Альберко в празднично одетом в черный костюм, немолодом уже рабочем. И фамилия его — Гомес — мне ничего не подсказала. Подумал: вероятно, он испанец, из тех ребят, которые обрели вторую родину в Советской стране после разгрома революции на Иберийском полуострове.
В анкете так и было написано.
— Работаю на «Трехгорке» десять лет. Демобилизовавшись из армии, — немного волнуясь, заговорил Гомес. — Женат, трое детей. Порицаний по службе нет…
По-русски он говорил хорошо, свободно, лишь с чуть заметным акцентом.
— Это все в анкете есть, — сказал я. — И то, что вы служили в действующей армии и награждены медалями и орденом. А вот где воевали?
— В начале Отечественной войны нам, группе испанцев, доверили партизанский рейд. На Волховском фронте. В тыл разгромленной «Голубой дивизии», присланной Гитлеру Франко…
И тогда я вспомнил морозную февральскую ночь на передовой на нашем плацдарме за рекою Волхов.
— Вы, может, знали лейтенанта Альберко?
Гомес вскинул на меня глаза, в них было удивление.
— Он был командиром нашей группы. Но… ведь в анкете об этом не написано!
И Гомес рассказал мне о партизанском рейде их группы и трагическом его конце, о дальнейшем своем ратном пути.
Лейтенант Альберко и его товарищи — одиннадцать человек — более двух месяцев успешно действовали на коммуникациях в тылу врага, главным образом на железнодорожных линиях, ведущих к Новгороду и станции Луга, на подступах к Ленинграду. Они взрывали рельсы, и крушение нескольких эшелонов должны были записать на их счет гитлеровцы. Когда кончилась взрывчатка, группе было приказано, разделившись, выходить на нашем участке обороны. Трое во главе с лейтенантом Альберко благополучно просочились через траншеи врага и уже подползали к нашим, когда их заметил боец охранения…
— Он не виноват, тот солдат, который смертельно ранил командира. Лейтенант так плохо говорил по-русски, — вздохнул Гомес, завершая первую часть своего рассказа. — Очень было тяжело… Лейтенант был таким храбрым, таким хорошим командиром и товарищем во время всего рейда, как мы между собой говорили, рейда… для борьбы с рельсами…
Дня через три после встречи с Рене Клеманом в ресторанчике «Ше-Гренье», мне в отель рано утром позвонила от его имени Белла Клеман и пригласила приехать под вечер на чашку чая «с чем-нибудь по-русски».
Французы, да и не только французы, даже состоятельные люди в странах Запада, вообще редко зовут знакомых к себе домой. «Принимают» гостей обычно в излюбленных ресторанах или кафе.
Клеманы, нарушая этот неписаный закон, очевидно, хотели сделать мне, русскому, приятное, и, конечно, я не отказался, хотя времени у меня было в обрез, скоро надо было возвращаться на родину.
В «светской хронике» таких парижских газет, как, например, «Пари Суар», нередко подробно описываются местожительство «звезд» искусства и их быт. Квартира Рене Клемана на авеню Анри Мартен, в районе Монпарнаса, также упоминалась. Называли ее даже «домашним музеем», «роскошной» и т. д. Оказалось это обычным для буржуазной печати враньем.
Небольшая передняя. Хорошее, высокое зеркало в раме, рядом стойка для зонтиков и тростей. Слева дверь в большую комнату-гостиную. На узких окнах драпри. Несколько кресел прошлого века. Ковер. Люстра над ним. В одном из простенков стеклянная горка с фарфором, главным образом старым, севрским. На стенах несколько полотен. Гостиную полуарка отделяет от небольшого кабинета. Здесь большие, темного дерева шкафы во всю торцовую стену, письменный стол, на нем старинная лампа под абажуром, книги, папки, несколько статуэток и бронзовая чернильница. И полуарка справа. За ней небольшая комнатенка без окон, превращенная в «бар». Полукруглая стойка. Два или три вольтеровских низких кресла, диванчик, между ними низенький, «арабского образца», столик.
В квартире есть и столовая в светлых тонах, и спальни…
Да, в квартире Клеманов есть красивые, наверное, ценные вещи — тот же фарфор, несколько картин и, конечно, книги, старинные, судя по кожаным переплетам, фолианты и т. п. Но «роскошью», «музейным великолепием» в его комнатах, как говорится, не пахнет. Атмосфера их характеризует известный достаток знаменитого кинорежиссера. Но в большей степени она говорит о его любви к искусству и в общем-то скромности. Нет в них показного излишества. И сами хозяева как-то гармонируют с обстановкой своего жилья. Стройный, легко движущийся, седеющий, негромко говорящий хозяин и скромно, но со вкусом одетая немолодая, полнеющая хозяйка со смущенной улыбкой. Показывая свои «апартеман», она зажигает над стойкой бара неяркое бра.
— Может быть, присядем? — говорит она, указывая на кресла в «баре». — Может быть, аперитив? Рене, предложите арманьяк, виски.
Мы усаживаемся и сразу же начинаем разговор о «седьмой музе» — о кино, о его людях. Рене Клеман спрашивает, что сейчас снимают известные ему наши режиссеры.
— К сожалению, — говорит он, — мне пришлось видеть не много советских фильмов. В Париже их почти не показывают. Знаете, почему? По соображениям местной мелкой политики и под давлением могучих заокеанских фирм, все более захватывающих прокат в Европе. Однако то, что я знаю о советском кино, убеждает меня… знаете в чем? У вас есть отличные ленты. «Судьба человека», «Баллада о солдате»… О партизанах, забыл название… Войну вы показываете правдиво. Я тоже стремился к этому. В «Битве на рельсах». В других работах. Но не обижайтесь на то, что я сейчас скажу…
Репе Клеман улыбается и легко касается длинными пальцами моей руки.
— Вы делаете и плохие фильмы! Скучные. Непрофессиональные. Я видел несколько таких. Даже на каннских кинофестивалях. Не обиделись?
— Надо уважать мнение такого мастера, как вы, тем более, надеюсь, нашего друга.
Рене Клеман начинает смеяться.
— Вот, вижу, и обиделись немного. Но послушайте! Послушайте, что я скажу дальше. Даже в плохих ваших фильмах всегда есть мысль! Они не развлекательные пустышки или, того хуже, аморальные в своей сути, как большинство, да, большинство фильмов здесь, у нас, во Франции, в Англии, Америке. Да, в ваших фильмах всегда есть мысль, благородная мысль и любовь к людям. Во всяком случае, стремление к гуманизму настоящее.
Теперь Рене Клеман говорил серьезно. Лицо его в полутьме «бара» выглядело строгим, даже немного жестким.
И я подумал о том, что его труд в искусстве кино тоже, во всяком случае выраженный в большинстве его фильмов, по своей сущности гуманистичен. Даже в тех фильмах, которые преследуют цель именно завлекать зрителя ловко построенной интригой, острыми поворотами сюжета, фильмах «коммерческих». Он никогда не проповедует насилие, не скатывается к антигуманизму, как многие другие кинорежиссеры Запада.
И не только это как-то роднит творчество этого французского художника с нашим, подумал я еще, но и приверженность его к реалистичности. Ему чужды формалистические выверты и в ходе кинорассказа и в изобразительных решениях. Правда, он сошел в некоторых своих работах с позиций неореализма, первым и виднейшим представителем которого был во французском кино. Однако в основе творчества всегда у него была живая жизнь, а не фантасмагория и изыск ради изыска.
…Беседа наша немного затянулась, и в конце концов Белла прервала ее приглашением к столу.
«Чашка чая» была… хорошим, легким ужином. Но и чай тоже был предложен.
За ужином вначале шла «легкая» беседа. О новых парижских модах — разноцветные брюки для женщин и мужчин тогда начинали свое победное шествие по улицам французской столицы, сталкивая в небытие «мини», о зеленых и фиолетовых париках и т. д. Мне все не удавалось улучить момент и задать Клеману вопрос о его планах на ближайшее будущее, творческих планах. Удалось это сделать, когда он сам снова заговорил о кино, спросил, предполагается ли в ближайшие годы устраивать в Москве международные кинофестивали.
Я ответил, что такие кинофестивали теперь стали традиционными и раз от разу привлекают в Москву все больше и больше деятелей кино — режиссеров, актеров, сценаристов, а также и деловых людей — продюсеров.
— Мне очень понравился дух демократизма, непосредственности и хорошая организация ваших фестивалей… Надеюсь и еще побывать. За встречу в Москве!
Клеман поднял тонкую рюмку.
— Буду очень рад приветствовать вас на своей родине, — сказал я в ответ. — А каковы ваши планы, творческие планы, на ближайшее время? Мадам Белла обмолвилась, что вы в ближайшие дни должны уехать на юг. На съемки?
На подвижных, выразительных губах Рене Клемана появилась усмешка. Но, пожалуй, какая-то ироничная.
— Да, надо крутить фильм. Заказ.
И вдруг, наклонившись немного ко мне, с горечью он стал говорить о том, что ему теперь приходится браться за фильмы «коммерческие», потому что продюсеры не дают денег на такие, какие он хотел бы делать…
— Почти все наши французские фирмы в той или иной степени зависят от могучих американских кинокомпаний. Те диктуют. Либо снимайте реакционные, — а такие я не могу, — либо развлекательные. Один-два таких фильма сделаю… Тогда появляется какой-то запас денег на жизнь и можно, потратив немало времени, собрать средства на постановку по сердцу.
— О, жизнь стоит очень дорого, очень дорого! — воскликнула Белла Клеман. — Вы представьте себе, мсье Виктор, эта квартира в год обходится не менее двадцати пяти тысяч франков! А на юге у нас есть еще домик у моря… И потом — Рене ведь человек известный, есть расходы «ноблесс оближ».
— Был бы помоложе, — буркнул Клеман, — можно было бы наплевать на это. Хотя и привыкли к комфорту… А раньше… Как это говорят у вас, «с хлеба на квас» перебивались — и ничего! Помните, мадам?
Теперь мне стали понятны слова, брошенные как-то невзначай Жаном Шницером: «Рене сейчас в тисках…»
Когда мы уже прощались, Рене Клеман, извинившись, прошел в свой «кабинет», а вернувшись, протянул мне книгу «Битва на рельсах». Это была литературная запись известного фильма. На титуле ее он тщательно вывел по-русски: «На память симпатичному другу» — и подписался по-французски.
Вскоре он и приехал в Москву вместе с женой, приглашенный Оргкомитетом на VIII Международный кинофестиваль в качестве члена жюри.
…Вечерний Париж мне всегда особенно правился. Первая встреча с ним состоялась уже давно, более двух десятилетий назад. Она оставила неизгладимый след в памяти. Тогда я шел по улицам великого города, и он казался мне знакомым! Силуэты мостов в ожерелье огней, букинисты на набережной в платанах, мрачноватые стены Лувра, четырехгранная башня Сен-Жак, Нотр-Дам… Все это как будто было видено ранее. Я не сразу понял, почему, не сразу догадался, что французские классики с такой любовью и так зримо описывали Париж, что это врезалось, вплавилось в мозг навсегда еще с юности.
В тот вечер, после «чашки чая» у Клеманов, я пошел «домой», в отель, пешком.
Вышел на набережную. Пересек Марсово поле. Всем известная Эйфелева башня светилась, обвешанная бусами фонарей. На вершине ее мигал желтый огонь маяка. Сиреневое небо в чуть подсвеченных закатом пористых облаках широко раскинулось над этим районом огромного города. Когда-то парижане ненавидели дерзкое и гениальное сооружение инженера Эйфеля и поносили его на чем свет стоит. Теперь техническое чудо конца прошлого века — наиболее известный символ столицы Франции, а парижане, подавляющее число парижан, гордятся ажурной башней и любят ее. Так ненависть переродилась в любовь.
За мостом имени русского царя Александра Третьего я свернул в узкую улочку, шумную, суматошную. И у входа первого же кинотеатра увидел рекламный щит, с которого мне улыбался гитлеровский офицер. В маленьком этом кинотеатрике повторяли фильм начала шестидесятых, еще периода «холодной войны», — клеветнический, антисоветский.
Неужели парижане захотели смотреть его? Неужели они не ненавидят больше фашизм?
Было горько и неприятно подумать о таком парадоксе…
Впрочем, у кассового окошечка в ярко освещенном холле кинотеатра никого за билетами не было…
Я постоял немного около подъезда, услышал две-три иронические реплики прохожих. Ни одни из них не свернул к окошечку кассы.
Конечно же не из коммерческих соображений владелец кинотеатра предлагал публике такой фильм. Не взял же он «Битву на рельсах», чтобы напомнить согражданам и молодежи об особенно трудных и героических годах Сопротивления, о взлете святого патриотизма миллионов французов во время второй мировой!
Любовь иногда требует «топлива»… И наверное, нужно, если иметь в виду самое массовое из искусств, фильмы крупные, завоевавшие ранее признание, время от времени повторять на экранах. Показывать здесь, в Париже, ту же «Битву на рельсах» Рене Клемана.
И конечно, фильмы других прогрессивных художников «седьмой музы». И у нас тоже.
* * *
В последние годы Рене Клеман немного располнел, стал носить очки. Но по-прежнему он порывист в движениях, изящно-точен в речи. Пожалуй, лишь стал более нервозен, иногда саркастичен.
После того Московского кинофестиваля были еще у нас встречи, к сожалению очень кратковременные, и был регулярный, не частный, но регулярный обмен письмами.
Прославленного кинорежиссера прогрессивных взглядов, мне думается, все более сжимали тиски мира западного кино.
Призов за новые работы в Каннах ему не присуждали. На других кинофестивалях — редко.
И он очень был рад, когда узнал, что советское издательство выпустило о нем книгу…
Недавно мы несколько минут говорили о важном — о судьбах современного коммерческого западного кино, его антигуманистичности.
Клеман с нескрываемым отвращением отозвался о некоторых модных фильмах с «начинкой», как он выразился, из секса и насилия.
— Наше искусство сейчас оказывает плохую услугу человечеству, будущему. Либертинаж (вседозволенность) оборачивается реакционностью, — сказал он.
— А может быть, в условиях западного общества — капиталистической формации — существует еще неписаный закон саморазвращения? Ведь проповедь культа насилия, преступности, скотства дает продюсерам деньги. Иначе они не раскошеливались бы на эти темы.
— Что ж, — горько усмехнулся Клеман, — в таком допущении есть зерно…
А совсем недавно я получил от Рене и Беллы Клеман открытку с приветом. Незримые нити симпатии все же тянутся между нами. Я рад этому, потому что верю в Клемана как крупного художника кино, реалиста, уже немало создавшего ценного, и в то, что он еще будет снимать отличные прогрессивные фильмы и продолжать идеологическую «битву на рельсах» во имя будущего, во имя счастья грядущих поколений людей.
Примечания
1
Дерптский, или Юрьевский, университет в годы первой мировой войны был переведен в Воронеж.
(обратно)2
В двадцатых годах на первых воздушных линиях эксплуатировалось несколько самолетов фирмы «Юнкерс» — «Ю-13».
(обратно)3
Дневниковая запись о том, как проходила эта экспедиция, опубликована в моей книге «Путешествия» (1969).
(обратно)4
Историю о том, как он способствовал побегу революционера из тюрьмы, Л. А. Кулик рассказал мне несколько юмористически. Из скромности он умолчал, что был не только исполнителем, но и организатором спасения из тюрьмы города Троицка 12 декабря 1906 года Рукавишникова Владимира Павловича. Об этом стало широко известно лишь через сорок шесть лет, когда в газете «Социалистическая индустрия» была опубликована корреспонденция «Дерзкий побег» (14.II.1973). В. П. Рукавишников в то время по паспорту именовался Федором Яковлевичем Раневым, а партийными кличками его были «Федор» и «Сибиряк». За революционные заслуги В. П. Рукавишников награжден орденом Ленина.
(обратно)5
Теперь город Мары.
(обратно)6
ГИРД — группа изучения реактивного движения, общественная организация, существовавшая в Осоавиахиме в 1931—1933 годах и начавшая работы над первыми ракетами.
(обратно)7
Эти письма К. Э. Циолковского публикуются точно в соответствии с подлинниками, без каких бы то ни было исправлений и купюр.
(обратно)8
РНИИ — Реактивный научно-исследовательский институт. Создан в 1933 году на базе ГИРД и ГДЛ.
(обратно)9
Дом этот снесен в 1974 году.
(обратно)10
Автобиография К. Э. Циолковского, наиболее полная, впервые была опубликована в журнале «Молодая гвардия» в № 11 за 1935 год.
(обратно)11
Б. Н. Воробьев — в то время ученый секретарь комиссии по научному наследию К. Э. Циолковского.
(обратно)12
Рецензия была опубликована в журнале «Техническая книга», № 6 за 1937 год.
(обратно)13
Цитируется по академическому изданию «Творческое наследие академика Сергея Павловича Королева. Избранные труды и документы». Изд-во «Наука», 1980.
(обратно)14
Ракета A. И. Полярного в 1939 году, первая из советских ракет, прошла государственные испытания.
(обратно)15
Тысяча чертей!
(обратно)16
ИПТАП — истребительный противотанковый артиллерийский полк.
(обратно)17
Впоследствии местные охотники обнаружили разбитый самолет и останки экипажа и нескольких пассажиров на крутом склоне одного из хребтов Сихотэ-Алиня. Самолет Святогорова, очевидно, врезался в скалу в тумане или при низкой облачности.
(обратно)18
Трилогия П. A. Бляхина — историко-революционные романы «На рассвете», «Дни мятежные», «Москва в огне».
(обратно)19
К восьмидесятым годам цены поднялись еще процентов на восемьдесят — сто!
(обратно)20
Макумба — система сложных ритуалов культа, вывезенного неграми-рабами из Африки и до сих пор довольно широко распространенного среди цветного населения Бразилии.
(обратно)21
Теперь он, к восьмидесятым годам, превратился в такую столицу, и в нем более восьми миллионов жителей!
(обратно)22
Каза — дом, крепость.
(обратно)23
ЮСА — Соединенные Штаты Америки.
(обратно)24
«Семь сестер» — так называют группу крупнейших американских кинофирм: «XX век ФОКС», «Юнайтед артист», «МГМ» и др.
(обратно)25
Магда — известная египетская киноактриса.
(обратно)26
Манжонго умер в 1980 году.
(обратно)27
Тогда еще этот курс не взяла Ангола, — она была португальской колонией, так же как Мозамбик, — не произошли революционные прогрессивные перемены и в Бенине и Эфиопии.
(обратно)


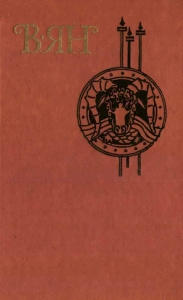



Комментарии к книге «Человек из ночи», Виктор Александрович Сытин
Всего 0 комментариев