Лидия Либединская Воробьевы горы
Памяти
Юрия Николаевича
ЛИБЕДИНСКОГО
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы…
А. ПушкинПРОЛОГ
Какой ветер! Студеный, колючий. Откуда он налетел? Еще на заре, когда Раевский собирался в путь, желтые звезды тихо качались в незамерзающих водах Ангары и мирно спало селение Олонки, укутанное пушистым снегом. Но не успел он отъехать и двадцати верст, как откуда-то из-за леса выкатилось пухлое облако, оно стало расти, расползаться, и вдруг вся земля закружилась, завыла, засвистела в ледяном вихре.
Кони с трудом разбирали дорогу, отфыркивались и жалобно ржали. Но вот дорога свернула от реки, взбежала круто вверх по Александровскому тракту, и Раевского со всех сторон обступила тайга, низкорослая, непроходимая, — березки, осинки, елочки. Здесь было затишнее, ветер улегся, и Раевский, откинув с лица тяжелую овчину, огляделся. Пронзительная стужа пробирала насквозь — мороз-то не меньше тридцати, тут никакие шубы не помогут. Он ворочался в санях, стараясь хоть немного согреться…
Больше тридцати лет прошло с тех пор, как царь сослал Раевского в Сибирь. Казалось, пора бы привыкнуть и к метелям, и к морозам, и к тяжелой трудовой жизни, которую пришлось вести все эти годы. Вон руки какие стали — грубые, корявые. Недаром мужики его за своего считают, ласково зовут «олонским крестьянином». Жалеют. И он старается им добром отплатить. Во все крестьянские дела входит. Грамоте учит — ученому везде легче.
А может, это хорошо, что нет у него лишней свободной минуты и усталость не дает сосредоточиться на тяжелых раздумьях? А то как останешься один на один с небом, с тайгой, с тишиной, навалится тоска, и не знаешь, где силы взять, чтобы совладать с нею. Тоска по друзьям, по родным, по милой теплой курской земле.
Тридцать лет. Прожита длинная жизнь. Недавно новый царь особым манифестом разрешил декабристам возвратиться из ссылки. Возвратиться… А куда он поедет? Нелегкая, страдная жизнь, и не под силу уже изменить ее. Семьей здесь обзавелся. Дуся — жена, сибирячка, простая, добрая, верная. Дети подрастают. Прочно вросли корни в суровую сибирскую землю.
Но что это? Звон? Пение? А может, ветер свистит в таежной чащобе? Окоченевшими пальцами Раевский чуть сдвинул со лба мохнатую шапку, с трудом приподнялся на локтях.
Из-за поворота показалась длинная вереница людей. Впереди всадник с копьем — конвой.
«Господи, по такой погоде не посовестились гнать!» — с ненавистью думал Раевский.
Люди шли пошатываясь, звеня кандалами, с трудом передвигая ноги. Ветер налетал порывами, словно хотел сбить с ног, свалить, навсегда засыпать сухим сибирским снегом. Раевский попридержал коней, свернул на обочину.
Совсем близко мелькнуло лицо конвоира — вместо бороды ледяные сосульки. Лошадь дохнула на Раевского теплым хлебным дыханием. Он глядел на косматые, лиловые от мороза лица узников, на их рваную грязную одежду и чувствовал, как что-то горячее и горькое поднимается в его душе и влажными становятся глаза.
Тридцать лет назад по этим дорогам шли его товарищи, его единомышленники. Рыцари чести и честности. Шли на муку, на каторгу, на погибель. За что?
За то, что хотели водворить на Руси истинную свободу и истинное счастье.
Чтобы на Руси цепь народа разорвать, Чтоб солдатушкам в службе век не вековать, Чтоб везде и всем одинаковый был суд И чтобы никто больше не слыхал про кнут… Чтобы всяк мог смело мыслить и писать, Правду-матушку на весь мир провозглашать; Чтоб на Руси всюду школы основать С тем, чтобы мужичков не могли надувать. Чтобы не было ни вельможей, ни дворян, Дармоедов тех, что живут за счет крестьян…Так поется в прекрасной песне, сочиненной декабристом Вадковским.
Сто двадцать декабристов сослал царь Николай в Сибирь. А заставить их замолчать не смог. Вольный голос лучших сынов России продолжал звучать: Пушкин, Лермонтов, Белинский…
Ветер рвал на узниках лохмотья, подхватывал монотонное пение, нес его по Сибири, по России, по всей земле…
«Откуда силы берут петь-то?» — с тоской подумал Раевский и тут же сам себя укорил: ему ли не помнить — с первой минуты ареста начинается тихое, невидимое, ежеминутное сражение. Главное — не дать сломить себя.
«Понимают ли они, что ждет их?» — мысленно спрашивал Раевский, пропуская партию.
Сколько прекрасных людей умерло в сибирских застенках, не дождавшись окончания срока! Сколько сошло с ума! Раевский невольно вспомнил тяжелые годы заключения. Первый декабрист — называли его. Он был арестован еще в 1822 году за политическую пропаганду в армии и приговорен к смертной казни. А потом помилован — казнь заменили пожизненной ссылкой. Убить время — вот главная тюремная работа. Не с кем словом перекинуться, нет никаких осмысленных занятий. Ему разрешили писать, но чернильница была низкая, широкая — перо обязательно скользнет по стеклу, а кажется, что резанет по сердцу. Он заменил чернильницу пузырьком, часто менял перья, забивал уши корпией. Нельзя поддаваться слабости! А потом стало раздражать шарканье ног на прогулке. Вещи, стены, звуки — все превращалось в невидимых врагов.
Да что это с ним сегодня? Живая сила воспоминания поднялась в его душе, словно и не было этих мучительных лет.
Скорее, скорее в путь!
Раевский крикнул на лошадей, дернул поводья, зарылся с головой в овчинные шубы.
А ветер выл и гнал по белу свету колючие снежные вихри.
…Метель утихла, и вязкий сибирский вечер окутал землю, когда Раевский въехал в Иркутск. Снег летел из-под полозьев, собаки провожали сани отчаянным лаем. С лязганьем и звоном запирались расписные резные ставни, гремели засовы. На деревянных тротуарах попадались редкие прохожие. Они шли бесшумно и мягко, уверенно ступая в негнущихся серых валенках.
Фонарщик с лицом, перепачканным сажей, таская от столба к столбу невысокую деревянную лестницу, зажигал редкие железные фонари. Их мигающий свет лился через круглые отверстия, покалывал глаза, бросая на голубой снег теплые желтые пятна. Тихо. Город засыпал. Только позванивали цепи сторожевых собак, и раздавался тревожный набат поколотки — сторожа обходили свои владения.
Раевский свернул — с главной улицы в узкий, темный переулок. Старинные ветхие дома выходили на улицы, иные углами, иные задними надворными стенами. Кони шли медленно и наконец остановились возле крепких тесовых ворот, украшенных затейливой резьбой.
Здесь жил друг Раевского, учитель словесности Николай Львович Поташинский. Приезжая в Иркутск по делам, Раевский всегда останавливался у него. Николай Львович был дружен со ссыльными декабристами. В его скромном домике можно было прочесть столичные газеты и журналы, узнать о том, что происходит в мире. Много лет назад поселился Николай Львович в Иркутске. Что привело его сюда, никто не знал, сам он об этом не рассказывал и от расспросов уклонялся. Но связи с друзьями юности не порывал — множество писем стекалось в его дом со всех концов России, а порою из-за границы.
Раевский сбросил овчину, вылез из саней и сделал несколько шагов, разминая окоченевшие, затекшие ноги. Потом гулко постучал кнутовищем в ворота. Долго никто не отвечал. Яркие колючие звезды горели в низком черном небе, взблескивал снег, похрапывали лошади, дыша друг другу в уши и просительно поглядывая на хозяина большими, грустными человечьими глазами.
— Сейчас, сейчас, — ласково приговаривал Раевский и все ходил и ходил возле ворот, со скрипом утаптывая снег и звонко хлопая рукавицей о рукавицу.
Наконец где-то (Раевскому показалось, что очень далеко) заскрипела и хлопнула дверь, раздались шаги… Звякнуло тяжелое кольцо на калитке, и хрипловатый мужской голос спросил:
— Откуда гости?
— Олонских принимаете? — живо откликнулся Раевский.
Калитка тотчас отворилась. Высокий худощавый человек с узким продолговатым лицом и острой бородкой, прикрывая ладонью прыгающее пламя свечи, обрадованно взглянул на Раевского:
— Владимир Федосеевич, милости просим!
Распряжены и накормлены уставшие кони. Вынуты из саней деревенские гостинцы — кедровые орехи, брусника, вяленая рыба. Вскипел говорливый самовар, пряно пахнет ноздреватый домашний хлеб, краснеет на блюдечках варенье.
Раскурив длинную трубку и с наслаждением затягиваясь, Раевский удобно устроился в самодельном деревянном кресле. После мучительной дороги домик Николая Львовича казался Раевскому роскошным дворцом. Синие кольца дыма медленно плыли по комнате и исчезали, растворяясь в полутьме, под низким бревенчатым потолком.
— Что новенького в городе? — негромко спросил Владимир Федосеевич, прикрыв ладонью глаза. — Наши Олонки сто двадцать верст от Иркутска, а живем точно на другой планете!
— С тех пор как Волконские и Трубецкие покинули Иркутск и уехали на родину, словно душу вынули из нашего города, — грустно ответил Николай Львович.
— Да, расстались они с Сибирью, — задумчиво проговорил Раевский. — А я вот не могу. Как-то матушка Москва встретила их? Дорого заплатил Трубецкой за сибирское свое житье…
— Четыре дорогих могилы оставил в ограде Знаменского монастыря. Супругу и троих младенцев схоронил, плоть и кровь свою… Не снесли тяжкого нашего житья, — добавил Поташинский.
Друзья помолчали.
Николай Львович отодвинул недопитый стакан чая, встал и прошелся по комнате, стараясь не сбивать пестрые тканые половички.
— Одна радость: друзья не забывают меня в сей таежной глуши… — медленно заговорил он. — Пишут. — Он кашлянул сухо, отрывисто. — Новости есть. И хорошие новости. — Он подошел к тумбе, на которой стояла большая ореховая шкатулка, и, повернув ключ, поднял тяжелую, крышку. — Вольное русское слово. Не видали?
Он протянул Раевскому бережно завернутую в газетный лист книгу.
— Залистана несколько, — словно извиняясь, продолжал он. — Издания эти у нас редкость, переходят из рук в руки… Узнаете? — Голос его дрогнул.
Раевский медленно разворачивал газету. А Николай Львович, словно стараясь заглушить волнение, заговорил быстро, не давая Раевскому слова вставить:
— Подумать только, какими путями добиралась в наши дикие края эта книжица. Из Лондона, сквозь туманы, через моря. Какое путешествие! Под неусыпным оком российской полиции! Распространение сих изданий строго карается законом. Но Россию не запугаешь.
Раевский поглядел на обложку. Сердце его колотилось гулко и часто. Да, верно говорил его дед: в России надо жить долго! Тогда увидишь и поймешь, что жизнь твоя прожита недаром. Вот и он дожил: с обложки глядят на него незабвенные лица товарищей, единомышленников — Рылеев, Пестель, Муравьев-Апостол, Каховский, Бестужев-Рюмин.
Царь повесил их. Но он не смог задушить то, что несли они народу русскому — неслыханные дотоле звуки правды и укоризны. Яркая полярная звезда горит на обложке, разрывая ночь своим немеркнущим светом.
Раевский отер повлажневшие глаза, придвинул свечу. «Полярная звезда». Во времена его молодости под этим названием выпускали журнал декабристы Бестужев и Рылеев. Само название — символ идейной близости издателя нового журнала с декабристами.
Кто же тот, в чье сердце запали звуки правды и укоризны? Чью душу озарил свет далекой звезды? Кто пронес его через всю свою жизнь и воплотил в печатное вольное русское слово?
— Я всегда верил, — тихо заговорил Владимир Федосеевич, и Николай Львович заметил, что у Раевского дрожат руки, — по непременному закону мы оставляем в наследство идею для руководства новому поколению. Эта идея растет, и будет, и должна расти. И никакие препятствия не сожмут ее…
— Да, — так же тихо ответил Николай Львович. — Император Николай убил Пушкина, Грибоедова, Лермонтова. А этот вырвался из тюремной российской клетки, и на весь мир зазвучало страстное слово…
Потрескивали и дымили на столе толстые сальные свечи, разгораясь все ярче, гнали по стенам и потолку неяркие длинные тени. А за стенами плыла густая морозная сибирская ночь. Тяжелым сном спала укутанная снегами Россия.
— Понимает, — словно размышляя, заговорил Раевский. — Кругом душно, тошно, уродливо, страшно. Значит, надо кричать, пусть даже рискуя быть не услышанным, не ожидая помощи. Но его услышат! Кто же этот орел, воспаривший над тьмой российской ночи? — громко спросил он, тяжело ворочаясь в кресле и не выпуская из рук журнала.
— Александр Герцен, московского барина Яковлева сынок, — усмехнувшись, ответил Николай Львович. — В сорок седьмом году уехал из России и остался за границей. Мне друзья писали, что тоскует очень, говорит, что предпочел бы ссылку в Сибирь скитальческой своей жизни на чужбине.
Раевский нетерпеливо махнул рукой.
— Нет, нет! Или мало костей русских покоится в студеной сибирской земле? — Ему представились заиндевевшие, посиневшие лица колодников, которых он встретил сегодня на дороге. Владимир Федосеевич невольно поморщился, как от боли. — Что ждало бы его в России? Колодки… Пусть расскажет людям о Руси. Пришло время поведать миру о могучем и неразгаданном народе нашем…
— Может, встречали его сочинения, еще в России написанные — «Записки одного молодого человека»? — спросил Поташинский.
— Как же, как же, о них весьма восторженно отзывался Белинский, — подхватил Раевский.
— «Сорока-воровка», «Кто виноват?»… Все противу крепостного права. Только в России вопроса этого он, конечно, открыто касаться не мог. Живая собственность — одна из основ нашего общественного порядка. Ну, а в произведениях изящной словесности большее дозволено, — сказал Николай Львович усмехнувшись. — А на чужбине, в журнале своем он открыто говорит о бесчеловечности российского рабства…
— Искандер, значит? — взволнованно перебил друга Раевский.
— Именно так подписывал он свои сочинения.
— Зеленая ветвь на засыхающем древе российского дворянства. Он, насколько мне помнится, сослан был…
— В Вятку, в Новгород.
— Узнаю Россию, — грустно сказал Раевский. — Какова же программа нового журнала? — Он полистал журнал. — Так, так… «Освобождение крестьян от помещиков», «Освобождение слова от цензуры!», «Освобождение податного сословия от побоев!» Разве не за это погибли друзья наши!
Он помолчал, покусывая ус и бережно поглаживая журнал.
— Глубокое мое убеждение, — заговорил он снова, и с трудом сдерживаемое волнение слышно было в его голосе, — что человек, принадлежащий своему владельцу, остается всегда в раболепном состоянии. Не человек созревает до свободы, но свобода делает его человеком и развертывает его способности… Мой друг Пушкин сказал: «…ваш скорбный труд не пропадет, из искры возгорится пламя!» Гении не ошибаются. Загорается в России пламя. Занимается великий пожар…
Каков он, незнакомый наш друг? Свидеться бы с ним.
Кто он, этот удивительный человек, вдали от друзей, от родины ударивший в вечевой «Колокол» и пробудивший в бескрайней России все живое, светлое, вольнолюбивое?
Александр Иванович Герцен! Имя его с благоговением и благодарностью повторяют люди из поколения в поколение.
Больше всего на свете любил Герцен Россию и русский народ. Борьбе за его свободу посвятил он свою жизнь.
Он оставил нам прекрасные книги, и среди них лучшая из лучших — «Былое и думы». В ней рассказал он о своей трудной жизни — борца и революционера.
Конечно, друзья мои, вы обязательно прочтете эту книгу, когда станете взрослыми. И прочтете не один раз.
А я хочу рассказать вам о детстве этого необыкновенного человека. Рассказать о том, как он рос и учился. Дружил и любил. И мечтал. Мечтал посвятить свою жизнь борьбе за счастье народа русского.
Мне хочется, чтобы вы полюбили его. Потому что я верю — тот, кто с детства полюбит Герцена, не сможет вырасти плохим человеком.
Глава первая НЕ ПОНИМАЮТ!
1
Луиза Ивановна стояла на пороге детской и молча наблюдала за сыном. Худенький, бледный, в шерстяных полосатых чулках и китайковых панталонах, Шушка сидел на выкрашенном голубой краской полу и сжимал в руках блестящий топорик. Светлые волосы редки, растут смешными прядками, упрямый выпуклый лобик открыт, глаза большие, серые. Шушка смеялся редко — шумел, ломал, шалил серьезно, словно делал дело.
— Матушка-барыня, сладу с ним нету, — шепотом говорила няня Вера Артамоновна, пригибаясь к самому уху барыни. — С утра расходился, кубики порубил, теперь норовит коню брюхо вспороть.
Мальчик был так поглощен своим занятием, что не замечал присутствия матери.
— Александр, — громко и строго сказала Луиза Ивановна. — Это нельзя!
Шушка долго и пристально, словно возвращаясь откуда-то, глядел на мать. Впервые в жизни (а Шушке шел уже седьмой год!) с ним заговорили строго, первый раз что-то запретили. Он оттолкнул лошадь, растянулся на полу и отчаянно закричал:
— Умираю!
Вера Артамоновна, сухощавая, с маленькой головой, похожая на индюшку в платке, с испугом кинулась к своему питомцу, уговаривая подняться. Но Шушка закрыл глаза, сложил руки и молча лежал на полу, безжизненно вытянувшись.
Луиза Ивановна усмехнулась.
«Отцовский характер, — подумала она, — если не сломить упрямства, потом не исправишь», — и сказала спокойно, обращаясь к Вере Артамоновне:
— Отойдите от него да позовите кого-нибудь. Саша умер, надо его вынести и похоронить…
Не успела она договорить, как мальчика словно пружиной подбросило.
— Нет, нет! — закричал он вскакивая. — Я умер, но я уйду! — и мгновенно исчез из комнаты.
2
Шушка ничего не понимал. Обида стискивала горло и не давала дышать. Сжав кулаки, он пробежал по узкому и темному коридору, с силой толкнул высокие двустворчатые, двери. Они отворились с легким скрипом и пропустили мальчика в залу. Низкое серое небо стыло в длинных, цельного стекла окнах. Редкие крупные снежинки кружились в воздухе и, не долетев до земли, таяли.
Мальчик добежал до середины залы, раскатился на блестящем паркетном полу и, балансируя, остановился. Чинные стулья под чехлами из сурового полотна важно стояли вдоль стен. Поблескивал в углу темно-коричневый рояль, напоминавший в полутьме большого трехногого зверя. Мерно тикали часы на камине, и Шушке казалось, что они тоже приговаривают: нельзя, нельзя… Их размеренный перестук напоминал строгие и непривычные интонации материнского голоса.
«Нельзя, нельзя… Почему нельзя? Что случилось?» До сих пор все в доме любили и баловали его. Мать хотя и не одобряла шалостей, но всегда была ласкова. Отец слова не позволял сказать против своего любимца. Только тетка, княгиня Мария Алексеевна Хованская, чванливая и строгая старуха, каждый раз, увидев Шушку, угрожающе и сердито говорила:
— Погоди, баловник, запру тебя в свой ридикюль или в табакерку спрячу! — И добавляла, обращаясь к брату: — Отдай-ка ты мне своего баловня на исправление, я его шелковым сделаю.
Но Иван Алексеевич хмурился. Шушка понимал — никуда его отец не отдаст.
И вдруг — нельзя!
Он медленно бродил по зале. В камине неярко тлели угли, покрываясь сизой, холодеющей пленкой. Сложенный из розовато-коричневого кафеля, камин этот всегда занимал Шушку.
С двух сторон кафельной арки, куда слуга ставил стоймя длинные поленья, — пастух и пастушка, красивые, юные, почти дети. Пастушку он не любил. Было что-то равнодушное и наглое в ее вечно смеющихся глазах, в фарфоровых ямочках на фарфоровых щечках. Однажды он не утерпел и легонько ударил пастушку каминными щипцами по курносому носу. С тех пор на носу у нее розовая ссадина…
А пастушонка Шушка любил. Он мечтал: а вдруг пастушонок оживет? Они вместе ходили бы гулять, весной пускали по лужам легкие кораблики, играли в солдаты, строили крепости, а когда выросли, вместе убежали бы на войну.
На войну… Шушка вздохнул. Едва только начал помнить себя, слышал он бесконечные рассказы о подвигах русских солдат в войне 1812 года. Засыпая, мальчик воображал себя на поле боя. Вот он командует огромным войском, и солдаты беспрекословно повинуются ему, а вот скачет на коне впереди полка, за ним топот копыт, яростные крики, звон сабель.
Но это только мечты…
Смотреть за Шушкой приставлены две няньки — Вера Артамоновна и мадам Прево, Лизавета Ивановна, женщина по натуре своей добрейшая, но ворчливая.
Вот сиди и смотри, как две старушки, расположившись в мягких маленьких креслицах, вяжут что-то бесконечное — спицы так быстро мелькают в их пальцах, что Шушке порой кажется, будто спиц и вовсе нет, — да препираются, укоряя друг друга бог знает в чем.
Не понимают они его! А поговорить не с кем. Всегда один. Только вот Берта… Берта — большая собака. Шушка любил ее, катался на ней верхом. Но ведь она собака. Что она может сказать ему? Разве что лизнет руку или, повизгивая, потрется мордой о плечо.
Шушка поежился от холода — в зале было прохладно, камин не обогревал ее, — погладил пастушонка по гладкой холодной щеке и медленным шагом пошел на половину к дяде. Там жил его единственный друг — старый немец Кало.
3
Кало в стеганом ватном халате и шапочке с кисточкой сидел на табурете возле окна и тщательно вытачивал из дерева маленькие кегли. Подняв голову, он поверх очков взглянул на вошедшего мальчика и, заметив, что тот расстроен, отложил работу. Немец молча и ласково погладил Шушку по мягким волосам. И тут обида хлынула наружу из Шушкиного сердца. Он судорожно всхлипнул, крупные прозрачные слезы медленно скатились по его щекам:.
— Что, мой друг, — ласково заговорил Кало, — будем картинки вырезывать или, может, посмотрим нашу книгу?
«Наша книга» — это детская энциклопедия в четырех томах, с множеством красивых гравюр и длинным, малопонятным названием: «Свет зримый в лицах, или Величие и многообразность зиждителевых намерений, открывающихся в природе и во нравах, объясненные физическими и нравственными изображениями, украшенными достойным сих предметов словом, в пользу великого состояния людям, а наипаче молодым витиям, стихотворцам, живописцам и другим художникам. Перевел с немецкого языка на российский Иван Хмельницкий. Цена на здешней комментаторной бумаге 3 р. 50 коп., а на любской 4 р. СПБ. 1773».
Шушка любил рту книгу и так часто перечитывал ее заглавие, пытаясь разобраться в его смысле, что затвердил наизусть. Они с Кало без конца читали и перечитывали энциклопедию, рассматривали картинки. А когда добирались до конца и Кало с облегченным вздохом перелистывал последнюю страницу, Шушка восклицал с радостной готовностью:
— Кало, дорогой, завтра мы начнем читать сначала!
Но сегодня Шушка даже не расслышал вопроса, Быстро и сбивчиво стал он рассказывать, что порубил кубики не потому, что хотел их испортить или обидеть няню Веру Артамоновну. Нет, на кубиках были изображены такие красивые картинки — на одном макушка ярко-зеленого дерева, на другом — голова белого барашка, на третьем — трава с пестрыми цветами. И он думал, что если разрубить кубики, то внутри тоже будут картинки, такие же красивые, только совсем другие, таинственные, неизвестные. Вот он и разрубил первый кубик, но там оказался всего-навсего белый кусок дерева. Шушка не поверил и стал рубить кубики один за другим.
А тут взгляд его упал на большого коня карей масти. Конь был обтянут настоящей шкурой, седло из красной кожи поскрипывало, когда Шушка садился на него. И мальчик вдруг подумал, что конь, наверное, тоже деревянный, и если ударить его топором, то обнаружится белое обыкновенное дерево с коричневыми сучками, как на поленьях. Шушка кинулся к лошади, но тут вошла Луиза Ивановна…
Он говорил, задыхаясь от волнения. Кало плохо понимал его и, чтобы успокоить, осторожно поглаживал своей большой красно-бурой рукой его длинные белые пальцы с ноготками, по-детски кругло и коротко обстриженными.
— Не надо волноваться, мой друг, — наконец рассудительно заговорил Кало. — Конечно, это очень обидно, простое дерево, а вы думали, там цветы, звери, дома…
Шушка облегченно вздохнул и закивал головой. «Милый Кало, как легко с ним!»
— Но зачем же ломать? Люди трудились, они вытачивали из дерева кубики, потом клеили хорошие картинки. Вам нравятся коробочки, которые я клею для вас? Маменька права — ломать нельзя.
Опять это «нельзя»! Но в устах Кало оно звучало совсем не обидно, и Шушка преданно потерся головой о ватный рукав его халата. Кало растрогала немудреная детская ласка.
— Вы хороший мальчик, — смущенно и ворчливо проговорил он. — Очень хороший. А не вспомним ли мы лучше, какой скоро праздник?
Глава вторая ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
1
Солнце грело по-весеннему жарко, а Иван Алексеевич все не разрешал Шушке сменить синий суконный армячок, подбитый белым заячьим мехом, на легкое пальто. После обеда подали коляску, и Шушка вместе с Кало поехали на Москву-реку смотреть ледоход.
Коляска мягко катилась вниз по бульварам, весеннее солнце, дробясь и вспыхивая, горело в огромных, как озерки, синих лужах, и из-под звонких лошадиных копыт вылетали снопы ослепительно веселых брызг. Легкий шум, колеса катятся по воде, и, если перегнуться через край коляски, видно, как поток воды, мутной и пенистой, сопровождает их движение. На бульварах по-весеннему мокро, грязно, пустынно, скамейки убраны, деревья стоят без листвы, тоненькие и незащищенные.
Миновали тесную Арбатскую площадь, вымощенную крупным булыжником, блеснули маковки церквей — дальше, дальше, — кучер зычно гикнул, и вот уже Москва-река. Шушке она казалась беспредельной, и он спросил у Кало, куда река течет и где ее конец.
— У реки, мой друг, как и у человеческой жизни, нет конца, — медленно заговорил Кало. — Она вливает свои волны в другую реку, и та несет их дальше, пока не придут волны к морю и не встретятся там с волнами многих, многих рек… — Он помолчал, глядя на плывущие льдины. — Так и люди. Начнет человек какое-нибудь дело, не успеет довести его до конца, а придет другой и продолжит.
Кало сегодня был настроен мечтательно.
— О, мой мальчик, одинокому человеку очень трудно! Надо жить так, чтобы иметь много друзей. Вот я стар и одинок. Мне порою бывает так плохо…
Шушка серьезно смотрел на Кало, сдвинув темные бровки. От напряжения на переносице образовалась смешная недетская морщинка.
Шушка шумно вздохнул и ничего не сказал. Коляска остановилась почти у самой воды. Большие грязно-серые сверху и голубые на срезах льдины плыли по темной воде, тесня и толкая друг друга. Шушка расстегнул ворот, теплый влажный ветер тронул потную шею, пробрался за пазуху.
Мальчик поднял голову: серо-белые облака, повторяя движение льдин, проплывали в небе, они уходили вслед за льдинами, туда, где на холмах розовел Кремль и, словно, второе солнце, только поменьше и потусклей, блестела колокольня Ивана Великого. Шушка побежал вдоль берега, но Кало сердито окликнул его, приказав вернуться. Окликнул вовремя — еще немного и мальчик увяз бы в прибрежной грязи…
Было что-то притягивающее в беспрестанном движении льда и облаков — на них хотелось смотреть не отрываясь. С картавым гомоном поднялась из-за реки черная галочья стая и пронеслась над Шушкиной головой.
Галки-воронки, Несите соломки, Крышу крыть, Чтобы весело жить… —тоненько пропел Шушка, как учила его Вера Артамоновна.
Кало стал по-немецки выговаривать мальчику, что петь на улице неприлично, что он может простудиться, и требовал, чтобы Шушка застегнул воротник. Но Шушка не слушался. Он знал: сегодня можно шалить. Ему простят все, потому что завтра особенный день, день его рождения!
При этой мысли сердце забилось сладко, и он испытующе посмотрел на Кало. Вот уже четыре дня Кало таинственно запирался в своей комнате, и Шушку туда не пускали. Конечно, Кало готовит какой-то сюрприз! Но какой? Шушка еще раз вопросительно и требовательно взглянул на Кало, стараясь поймать его взгляд, но лицо старого немца было таинственно-непроницаемо.
А день уходил. Сиреневыми стали облака, и тут же льдины приняли сиреневый оттенок. В небе, еще бледно-голубом, блеснула первая чистая звездочка.
— Домой, мальчик, домой… — сказал Кало и, взяв Шушку за руку, решительно зашагал к коляске.
2
Шушка так вертелся и дрыгал ногами, что Вера Артамоновна несколько раз до крови поколола себе руки — по приказанию Ивана Алексеевича Шушку каждый вечер зашивали в простыню, чтобы он не вывалился из кровати и не простудился.
— Мука ты моя, чистая мука… — ворчала нянька.
Шаркая туфлями, пришел Иван Алексеевич пожелать сыну спокойной ночи и проверить, хорошо ли он укутан. Вера Артамоновна задула свечу, все погрузилось во мрак, потом выступила из темноты кисейная занавеска на окнах, а в окнах все то же небо с плывущими куда-то облаками.
«А льдины там тоже плывут, плывут…» — в полудремоте думал Шушка, веки тяжелели, но он боролся со сном.
Луиза Ивановна вернулась из театра, от нее свежо пахло духами, мягкая рука скользнула по Шушкиным волосам, забралась за ворот ночной рубашки. Шушка покрутил головой и прижался сонными теплыми губами к руке матери. Луиза Ивановна наклонилась над кроваткой, поцеловала его и вышла.
В углу, в розовой лампадке желтел маленький, чуть колеблющийся огонек. А за дверьми ходили, что-то носили, и Шушке все труднее было поднимать отяжелевшие веки. Раздался цокот копыт, хлопнула дверь — это приехал из клуба дядя Лев Алексеевич. Шушка взглянул в окно и увидел все то же беспрестанное движение облаков, но потом облака почему-то превратились в льдины, а льдины снова в облака, и он уже не понимал, во сне это или наяву…
Когда он открыл глаза, большой солнечный квадрат лежал на крашеном полу детской. Шушка заворочался. К нему подошла мадам Прево и стала распарывать простыню. Шушка сел в постели и огляделся. Возле кровати лежали большие разноцветные свертки. На спинке стула вместо обычного китайкового костюма висел новый, бархатный, с большим круглым белым воротником. На коврике — новенькие, только от сапожника, лакированные туфли с острыми носами и большими бантами.
Быстро вскочив и не слушая церемонных поздравлений мадам Прево и ласкового воркования Веры Артамоновны, Шушка, путаясь в длинной ночной рубашке, кинулся разворачивать свертки. Конечно, он начал с самого большого. Пожарная команда! Здесь и конюшня, и каланча с медным колоколом, и пожарный на вышке, и пожарная машина, запряженная восьмеркой лошадей. А сколько пожарных! Все они в золотых касках и красных мундирах. Сколько ведер, бочек и даже маленькие мешки с настоящим песком! Нужно только несколько, раз повернуть ключ, и все это приходит в движение. Вестовой на каланче звонит в колокол. Мелодичный звон весело раздается по детской, пожарные бегают, вода льется из игрушечного шланга, лошади мчат машину по узеньким рельсам…
Еще свертки, еще игрушки, одна диковиннее другой. Но где же самое главное — то, что своими руками готовил для него Кало? Нет, подарка Кало Шушка не видит среди этих роскошных свертков.
— Умываться, голубчик, умываться, — приговаривала мадам Прево.
Шушка долго и с наслаждением мылся над синим фарфоровым тазом, плеская в лицо холодной водой, разбрызгивал воду по голубому полу, радуясь тому, как пестро и весело отражается в лужицах яркое мартовское солнце. Вера Артамоновна вытирала его хрустящим льняным полотенцем с вышитыми на нем красными и черными курами, и Шушка обнимал ее за шею, гладил холодными порозовевшими пальчиками морщинистые нянькины щеки. Ему так хотелось, чтобы сегодня всем было хорошо!
— Угомону на тебя нету, — добродушно приговаривала Вера Артамоновна, отбиваясь от него. — Одеваться пора! Папенька и маменька давно ждут…
Она надела на мальчика бархатный костюм и повела в столовую. Новые туфли ловко обхватывали ногу, каблучки четко отпечатывали шаг на натертом паркете. Шушка пробежал по зале, мимо камина, помахал рукой пастушонку, взглянул на себя в зеркало. Гладко причесанный, в белом круглом воротнике, он так понравился себе, что ему стало неловко, и, стараясь не задерживаться возле зеркал, он вошел в столовую.
На столе вместо обычного бульона и традиционных котлет большой крендель, румяный, хрустящий, а на нем разноцветной глазурью выведено Шушкино имя. Крендель готовил повар Льва Алексеевича. Такого второго повара нет во всей Москве. Лев Алексеевич очень гордился Алексеем.
А вот и сам Лев Алексеевич идет навстречу племяннику. Он, как всегда, весел и чисто выбрит, от него по-утреннему остро пахнет одеколоном. Он нагибается к племяннику, подставляет для поцелуя душистую розовую щеку и вручает Шушке узел из крахмальной салфетки. Шушке очень хочется немедленно развязать салфетку, но он знает — это нельзя. Няня все время внушает ему, что взрослых надо любить не за подарки, он и любит Льва Алексеевича не за подарки, но все ж так хочется узнать, что приготовил дядя!
Держа в руках подарок, Шушка подходит сначала к отцу, прикладывается губами к его сухой руке, потом идет к Луизе Ивановне. Она целует сына в голову, проводит рукой по щеке, что-то негромко говорит Ивану Алексеевичу, и они переглядываются, улыбаются… Но Шушка все это видит словно в тумане. Где же Кало? Немец появляется в синем фраке и белом жилете, как всегда аккуратный и чопорный, и как ни в чем не бывало здоровается с Шушкой. Что же это? Неужели Шушка ошибся?
Возле Шушкиного прибора новенький хрустальный стаканчик, и на нем красивой матовой вязью выведено: «Шушка». Может, и ему разрешат сегодня отведать сладкого и вязкого красного вина?
Луиза Ивановна зажигает разноцветные свечи на кренделе: семь, по числу лет новорожденного.
— А теперь разрежь крендель, — весело говорит она.
Шушка берет из ее рук большой серебряный нож и вонзает в желтую душистую мякоть — таков обычай: первым разрезать крендель может только сам новорожденный. Корочка с хрустом разламывается, и пряный дух ванили, гвоздики, корицы разносится по комнате.
Разрезая крендель, Шушка заметил на себе пристальный и раздраженный взгляд Льва Алексеевича. Нож замер в его руке. «Дядюшка сердиты? — подумал он. — За что?» — Он поглядел на него вопросительно и тревожно.
Но Лев Алексеевич уже отвернулся от племянника и говорил брату с нескрываемой досадой:
— Понимаешь, повар мой Алексей штуку какую выкинул? Я ли о нем не заботился, хлопотал, чтобы в кухню к государю приняли на обучение, в Английский клуб определил. Холоп, а барином живет, разбогател, женился. Чего еще надо?
— Чем же он вас прогневить изволил? — ехидно спросил Иван Алексеевич. — Крендель как будто на славу приготовлен?
Лев Алексеевич досадливо махнул рукой.
— Хамскому отродью и богатство и талант — все не впрок! Принес, видишь ли, мне пять тысяч ассигнациями и просит на волю отпустить. Ему, оказывается, крепостное состояние ни спать покойно не дает, ни наслаждаться своим положением!
— Что же вы ответили ему? — подчеркнуто вежливо осведомился Иван Алексеевич, но в глазах его поблескивали лукавые искорки.
— Денег не взял, сказал, после смерти моей даром отпущу! — И Лев Алексеевич решительным жестом придвинул тарелку. — Так ты думаешь, на этом мои мучения окончились? Если бы так! Алексей запил, в клубе на него жалуются… И за что господь дал нам такую обузу! Печемся о крепостных, маемся с ними, а благодарности не жди!
Шушка никогда раньше не видел дядюшку в таком раздраженном состоянии и не понимал, почему тот сердится. Ну и отпустил бы себе Алексея на волю. Разве тот и вольный не стал бы готовить ему вкусные кушанья?
Он даже хотел сказать об этом Льву Алексеевичу, но в это время слуга внес на подносе горячий шоколад в тоненьких дымящихся чашечках.
И разом все заговорили о другом.
3
Завтрак близился к концу, когда вдруг за окнами заливисто прозвенел колокольчик и тут же, словно захлебнувшись, смолк — лошади свернули во двор. Луиза Ивановна вопросительно взглянула на Ивана Алексеевича.
— Не по-городскому звонят, из деревни гости, — откашлявшись, сказал Иван Алексеевич.
В комнате появился бесшумный лакей и, остановившись на почтительном расстоянии, доложил Ивану Алексеевичу, что приехала корчевская барыня Наталья Петровна.
— И барышня с ними, — добавил он, метнув лукавый взгляд на Шушку.
«Таня!»
Такого подарка не мог придумать даже Кало. С трудом удерживаясь, чтобы не выскочить из-за стола, Шушка вертел в руках салфетку, умоляюще поглядывая то на отца, то на мать. Но Иван Алексеевич молчал, щурясь на солнечные пятна, разбросанные по полу, и негромко, словно нехотя, произнес:
— Иди встречай гостей!
Шушка мчался по комнатам. Вот наконец полутемная передняя. Вокруг Тани хлопотали Вера Артамоновна и мадам Прево. Они раскутывали ее, снимали пушистые деревенские валенки, приглаживали растрепавшиеся под платками золотистые волосы.
Выросла-то как, голубушка… А красавица, вся в матушку, — прослезившись от радости, приговаривала Вера Артамоновна.
Шушка бежал, раскинув руки, с разбегу налетел на девочку, крепко обнял ее и стал прижиматься губами, носом, лбом к ее холодной, шершавой щеке. Потом выпустил из объятий, отступил на шаг: и правда, выросла-то как! Захочет ли она теперь играть с ним?
— Танхен болела у нас, — говорила Наталья Петровна, обнимая Луизу Ивановну и поправляя рукой темные вьющиеся волосы. — Вот и вытянулась…
Таня и впрямь похудела и побледнела. Глаза увеличились, ноги стали длинные, плечи по-мальчишески угловатые. Подпрыгнув, она положила руки на плечи Шушке и весело покружила по темной передней.
— Ко мне, ко мне, — приговаривала Луиза Ивановна, радуясь приезду неожиданной гостьи.
— Мы к вам ненадолго, — сказала Наталья Петровна. — Танечку к вам, а сама у княгини Марии Алексеевны остановлюсь.
Они прошли на половину Луизы Ивановны, где для приезжих срочно готовили комнату, застилали чистое белье, взбивали подушки, вносили корзины и корзиночки, баулы и саквояжи.
Шушка смотрел на всю эту суету и не верил своему счастью: кончилось одиночество!
4
Наталья Петровна Кучина приходилась племянницей Луизе Ивановне. Но по возрасту они больше походили на сестер. В нелегкие времена свела их судьба, а дружба, завязавшаяся в дни невзгод, куда прочнее праздничного знакомства.
Шел трудный 1812 год. Наполеон захватил Россию, горела Москва. Луиза Ивановна с новорожденным Шушкой приехала в имение Новоселье, Тверской губернии, Корчевского уезда, принадлежавшее Петру Алексеевичу Яковлеву, брату Ивана Алексеевича и отцу Натальи Петровны. Наталья Петровна с готовностью отдала Шушке оставшееся после Тани приданое, и не беда, что на рубашечках, чепчиках, капотцах были розовые ленты и даже коляска была розовая — Шушку это ничуть не смущало; обряженный в девчоночьи наряды, он чувствовал себя превосходно. Наталья Петровна и Луизе Ивановне щедро дарила свои платья, благо роста они были одинакового.
А четырехлетней Тане все это не нравилось. Она ревновала мать к нежданным гостям. Однажды, пробравшись в комнату, где Шушка спал, раскинувшись поперек высокой кровати, Таня схватила его за ногу и хотела сдернуть на пол, но в этот момент в комнату вошла Луиза Ивановна. Ее испуганный возглас остановил девочку.
Наталья Петровна долго и назидательно рассказывала Тане о том, что Луиза Ивановна и Шушка бежали из Москвы, где французы сожгли их дом и все отняли у маленького братца, а его самого чуть не убили — искали, не спрятаны ли в пеленках деньги и драгоценности…
Таня уткнулась головой в колени матери, всхлипыванья становились все тише и реже. Плохо понимая, что говорит мать о проклятых басурманах, разоривших русскую землю, девочка чувствовала, как добрая жалость заполняет все ее существо. Чтобы загладить вину перед маленьким братцем, Таня быстро поднялась, побежала в детскую и, сложив в подол широкого, с оборками платья любимые игрушки, принесла их Шушке. Здесь был черный бархатный негр с каракулевыми волосами — Таня назвала его Вафрик, потому что отец сказал, что негры живут только в Африке, — заяц с красивым и загадочным именем Маргарита и даже большой бубенчик от конской сбруи; его подарил Тане кучер. Впрочем, Шушка только на бубенчик и обратил внимание, его веселый звон радовал мальчика, и он смешно размахивал ручками, пытаясь схватить бубенчик. Вафрика и Маргариту Таня унесла обратно в детскую…
А потом, когда Шушка произнес первые немудреные словечки и сделал первые шаги, Таня вместе с няней Верой Артамоновной осторожно водила его за руки, и он косолапо переступал неверными ножками в тупоносых белых башмаках. Так началась эта детская дружба.
5
Шушка в нетерпении ходил по темному коридору, слушая, как поскрипывают под его ногами крашеные половицы, и поглядывая на запертую дверь, откуда доносились возбужденные голоса, смех. Там переодевались, принаряжались, — Шушку туда не пускали. Вот дверь открылась, запахло духами, мылом, Вера Артамоновна пронесла большой фарфоровый кувшин с теплой, чуть дымящейся водой. Она едва не сбила Шушку с ног.
— Шел бы ты, батюшка, в детскую.
Но Шушка никуда не уходил; он ждал: когда же наконец выйдет Таня? Ему хотелось поскорее показать подарки, игрушки, книги. Шушка волновался и даже забыл о сюрпризе, который готовил для него Кало.
Чинно и торжественно прошел обед. Шушку и Таню увели в детскую отдохнуть после обеда. Солнце опустилось за крыши домов, и неясными стали очертания предметов. Таня рассказывала деревенские новости, как вдруг в детскую вошла мадам Прево и небрежно сказала Шушке, что внизу его спрашивает какой-то человек.
«Вот оно!» — подумал Шушка и, схватив Таню за руку, потащил за собой.
В дверях залы их встретил Кало в турецком костюме, весь сверкающий от блесток и фольги. Откуда-то из глубины лилась медленная нежная музыка. На лице Кало бродила счастливая улыбка. За ним — целая толпа арапчат; Шушка с трудом узнавал дворовых мальчишек: лица вымазаны черной краской, зубы кажутся ослепительно белыми, а белки глаз — голубыми. Арапчата преподнесли Тане и Шушке фрукты в пестрых корзиночках и конфеты в шелковых бонбоньерках.
От неожиданности и восторга дети замерли на пороге, но Кало суетился и просил пройти дальше, в залу. Там полутемно, ряды кресел — совсем как в настоящем театре. На стенах разноцветные фонарики — красные, зеленые, синие, желтые; они покачивались, мерцали. Среди бегущих разноцветных теней должна жить добрая фея, о которой Шушке так интересно рассказывала Луиза Ивановна. И, почувствовав себя прекрасным принцем, Шушка взял Таню за руку и смело переступил порог залы.
Раздался легкий треск, музыка смолкла, и в глубине комнаты завертелся круг из разноцветных огней. Переливаясь и разбрасывая холодные искры, он приближался к середине комнаты, потом уходил в сторону, вытягивался, превращался в скачущего коня или в сияющий подсолнух, а то и в невиданного дракона. Это китайский фейерверк, его привез для Шушки Лев Алексеевич.
Кало буквально сбился с ног, командуя праздником..
Галстук съехал на сторону, он то и дело вытирал платком лоб, на котором выступали крупные капли пота.
— Садитесь, дети, садитесь… И вас прошу, почтенные господа, присутствовать при представлении волшебных картин, — говорил он, глядя поверх Шушкиной головы.
Шушка плохо понимал, что значили эти таинственные; слова, но покорно пошел за Карлом Ивановичем и опустился в мягкое кресло. Он только слышал, как следом за ними вошли в залу отец с матерью, дядя и Наталья Петровна.
На стене, возле которой стоял рояль, Шушка только сейчас заметил белую простыню. Погас свет, и на простыне возникло светлое пятно, оно шевелилось, переползая с одного края на другой, пока не установилось посредине. Пучок лучей бежал из маленького, таинственного ящичка и, упираясь в простыню, образовывал этот светлый квадрат. Кало, склонившись над ящиком, делал руками какие-то таинственные движения. От волнения у Шушки пересохло во рту, и он с трудом ворочал языком, облизывая запекшиеся губы. Что-то появится сейчас в лучах света? Он обернулся к Тане и увидел в темноте ее огромные неподвижные и испуганные глаза. И он снова почувствовал себя сказочным принцем, который должен охранять и беречь ее. Справившись с волнением, он покровительственно похлопал Таню по ладошке.
А на простыне появился слон, он то увеличивался, те уменьшался, переступал большими ватными ногами, вот он даже встал на голову, чего живому слону никогда не сделать. Что это?! Китайцы, японцы, индейцы, а вот и негры…
— Гляди, гляди, совсем как мой Вафрик… — прошептала Таня.
А вот еще негритенок! Он подбежал к старшему, ударил его в живот, и началась драка, самая настоящая драка — так дерутся на улицах мальчишки. Вон как летят перья! А какие странные наряды…
Шушка слышал, как аплодировал Лев Алексеевич: он потешался не меньше детей. Холодно и едко шутил отец, весело переговаривались Луиза Ивановна и Наталья Петровна.
Представление окончено. Снова разноцветные тени китайских фонариков побежали по стенам, и лица родных, которые Шушка знал с рождения, казались незнакомыми и таинственными. Он бросился к Кало и обнял его. Как можно отблагодарить за такое наслаждение? Кало отбивался, смеялся.
— Вы хороший мальчик, вы очень хороший мальчик… — с придыханием твердил он, и Шушка не понимал: смеется Кало или плачет?
К Шушке подошел Лев Алексеевич и передал ему в полное владение и фейерверк, и волшебный фонарь, и ящичек стекол с нарисованными на них картинками.
— Мне пора в клуб, — сказал он.
— А детям пора спать, — добавил Иван Алексеевич.
В дом пришла тишина. Кончился день рождения.
Глава третья ЧТО ДЕЛАТЬ?
Вот уже несколько дней, открывая по утрам глаза, Шушка видел в окне беспросветно серое, не по-весеннему низкое небо — огромная туча опустилась на город и сеяла, сеяла мелким дождем.
На дворе было тепло, парко, почки на деревьях лопнули, и клейкие новорожденные листочки казались неестественно яркими в сравнении с мутным небом и грязной землей. Пришепетывающий звук падающих капель слился с ритмом жизни, его перестали замечать.
И сегодня, проснувшись, Шушка прислушался: ему словно не хватало чего-то. Взглянув в окно и увидев просыхавшую курившуюся паром крышу дома, что стоял напротив, он понял: дождь прекратился. А к полудню туча стала редеть, расползаться, в разрывах засинели промытые кусочки чистого неба.
— Вот как откроется кусок голубого неба и можно будет из него штаны выкроить, — тогда жди погоды… — сказала няня Вера Артамоновна.
Таня и Шушка нетерпеливо поглядывали в окна — можно ли, наконец, сшить таинственные штаны из небесной синевы.
В эти дождливые дни Иван Алексеевич гулять детям не разрешал.
В детской топили жарко, и они томились от духоты и безделья.
Но вот раздался торжествующий возглас мадам Прево:
— Дождь перестал, дети! Дер герр[1] Иван Алексеевич велели рамы выставлять. А вам с Танхен приказано как следует одеться и идти во двор пускать кораблики. Собирайтесь!
Дети не заставили себя просить. Но, уже одевшись, Шушка долго не уходил из комнаты. Точно завороженный смотрел он, как дворовые девушки, стоя на подоконнике, заворотив подолы камчатных юбок, ловкими сильными движениями выставляли рамы. Рама тяжелая, а девушка, рванув ее на себя, легко поднимает над головой и осторожно, чтобы, не дай бог, не уронить, опускает на пол. Шушка подбежал к окну. Там, между рамами, в пыльной, посеревшей за зиму вате сидел маленький плюшевый медвежонок. Это Шушка осенью, когда закладывали на зиму окна, посадил его туда. Он потом очень жалел медвежонка, ему все казалось, что тот нет-нет да и взглянет укоризненно своими маленькими бисерными глазками. А когда наступили морозы, иней покрыл стекла замысловатыми узорами, медвежонка совсем не стало видно, и Шушка часто думал: как-то он там один, маленький?..
И вот медвежонок у Шушки в руках. Сейчас он кажется ему особенно дорогим, как друг после долгой разлуки. Сунув медвежонка в карман пальто и нежно поглаживая его пыльную плюшевую шерстку, Шушка схватил Таню за руку и, не слушая наставлений мадам Прево, семенившей за ними, побежал к двери.
Влажный весенний воздух омыл лицо, заполнил легкие? Дышать доставляло наслаждение. Черные стаи ворон носились над чистыми, покрытыми мелкой клейкой листвой деревьями, наполняя воздух картавым карканьем. Возле каменной стены, отделявшей большой яковлевский сад от соседнего, прокопана канавка для стока талой воды. Сегодня, после многодневных дождей, вода бежала звонким ручейком и, набегая на камешки, пенилась и клубилась, закипая маленькими водоворотами.
Короткая красноватая травка пробивалась между булыжником, которым был вымощен двор. Из конюшни доносилось грустное ржание — видно, лошадь тоже почувствовала прелесть весеннего дня.
Мадам Прево вынесла лукошко, в котором сложены были кораблики и лодочки, выдолбленные из дерева и украшенные белыми полотняными парусами. Но Шушке больше нравились простые и легкие лодочки и пароходики, сделанные из бумаги ловкими руками Кало. Шушка вытаскивал их из карманов целыми пачками. Вскоре вся канава покрылась белым летучим роем.
Шушка усадил медвежонка в кармане так, чтобы морда была наружу и он мог созерцать все происходившее во дворе. Таня принесла кусок доски, поставила поперек канавы: образовалась запруда — небольшое озеро с причудливо изогнутыми берегами. Кораблики толпились в озерке, вертелись юлой, сталкивались и важно проплывали друг мимо друга.
Увлеченные безмятежной игрой, дети не заметили, как в калитку вошли два полицейских солдата и быстро пересекли двор, скрывшись в двери, которая вела в людскую.
Солнце вдруг вырвалось из-за облаков, его горячие лучи брызнули на землю, и лужи сразу стали синими и бездонными.
Резкий, отчаянный крик разрушил медленное течение весеннего дня. Шушка вздрогнул и оглянулся на Таню. Она ответила ему непонимающим взглядом и, ударяя рукой об руку, стряхнула с ладоней мутные капли.
Из людской высыпала толпа. Все были возбуждены, мужчины что-то кричали, женщины причитали и голосили. В яковлевском доме жило человек шестьдесят крепостной прислуги — казалось, сейчас все они собрались — здесь.
Полицейские вели под руку высокого белокурого парня с окладистой бородой. Шушка хорошо знал его. Парня звали Петром, он часто растапливал камин в зале.
Парень отчаянно упирался и громко причитал:
— Или я не верно служил барину?! За что немилость такая? Лучше всю жизнь в рабах ходить, чем двадцать лет солдатскую лямку тянуть!..
— Ежели все этак рассуждать будут, кто царю служить станет? — прикрикнул на него полицейский. — Наше дело подневольное, велел нам твой барин за тобой прийти, вот мы и пришли! Поворачивайся! — И полицейский для пущей убедительности дал парню сильного пинка в спину.
Женщины заголосили еще громче. Кто-то совал в руки несчастному узелок с едой, кто-то хотел обнять, но полицейские грубо отталкивали всех.
Забыв и про кораблики, и про медвежонка, и даже про Таню, Шушка во все глаза смотрел на происходящее. Он еще не совсем ясно понимал, что все это должно, означать, но видел, что человеку плохо, его мучают. Этого стерпеть было нельзя, надо за него заступиться!
А когда Шушка увидел, как полицейский ударил Петра, в глазах у него потемнело, он сжал крепко кулачки и с неистовым, недетским визгом кинулся на полицейского. Шушка колотил его, царапался и кричал, чтобы отпустили несчастного. Оглушенный собственным криком, он ничего не видел и не слышал. Он вцепился в бороду полицейскому солдату. Тот старался осторожно высвободиться, чтобы не покалечить своенравного барчонка. Но пальцы мальчика сжимались все судорожнее, крик становился прерывистым. От гнева, от бессилья, от жалости мутилось в голове.
На крыльце показался Иван Алексеевич. Против обыкновения, он шел быстро, на лице его, обычно брезгливо-равнодушном — испуг, он побледнел. С неожиданной, ловкой легкостью подхватил он сына на руки и, несмотря на то, что тот бился и дрыгал ногами, унес в дом. Таня с громким плачем шла следом.
Иван Алексеевич принес сына в детскую, велел, раздеть и уложить в постель, сам укрыл белым байковым одеялом, напоил водой. Когда мальчик наконец успокоился и закрыл глаза, Иван Алексеевич приказал Вере Артамоновне не отходить от него и ушел к себе.
Но Шушка не спал. Едва отец вышел из комнаты, он сел на постели и, не слушая, что говорила ему няня, спросил:
— Они его увели?
Старушка молча и грустно кивнула головой.
— Куда?
— На цареву службу. Служить ему теперь, что медному котелку. Пропадет парень ни за грош, ни да денежку.
— Долго служить будет?
— И-и, голубчик! Я его не дождусь, а у тебя уж, бог даст, к тому времени свои детки будут…
— Но он не, хочет служить, почему его отдали?
— Молчи, молчи, своеобышный, сладу с тобой, нету! Придут, папенька, увидят, что не спишь, будет мне тогда на орехи.
— А почему дядя Алексея на волю не отпускает?
— Да уймись ты! Или не знаешь, все мы в бариновой воле: хочет продаст, хочет помилует. Так бог повелел. Наш барин хоть и дикой, да не зверь, не жалуемся. Всех мужиков на волю отпустить, кто господ кормить будет? Господа, они к работе не приучены.
— Почему так?
— «Почему, почему»! Много будешь знать, скоро состаришься, — проворчала старуха. — Положено так, и все тут! Не, нашего с тобой ума дело. А что Петра в солдаты барин отдал, как же иначе? Ты вот, батюшка, военным стать хочешь. А если мужик в солдаты не пойдет, кем командовать станешь?
Шушка плохо слушал старую няньку. Сегодня ему открылось что-то новое, что осмыслить и понять сразу было невозможно.
— Таня где?
— Маменька Луиза Ивановна увели ее к себе.
— Позови.
— Папенька разрешат, тогда позову.
— Позови, а то кричать буду!
Шушка уже откинулся на подушку и широко открыл рот, но Вера Артамоновна в испуге послушно встала.
— Дайте срок, — проворчала она. — Вырастете, такой же барин будете, как все… — и, шаркая туфлями, вышла из детской.
Шушка лежал, глядя в дощатый некрашеный потолок. До сих пор все было просто и ясно. Отец и Лев Алексеевич любили, и, баловали его. Кало носил на руках и мастерил для него игрушки. Мать хотя и запрещала шуметь и ломать игрушки, но ласкала и рассказывала смешные немецкие, сказки. Вера Артамоновна одевала и мыла в корыте. Мадам Прево водила гулять. Дворовые убирали дом, готовили еду, чистили и запрягали лошадей, стирали белье, подметали двор. Так было с тех пор, как Шушка помнил себя. Так было — он это твердо знал — задолго до его рождения. А почему так сложилось, над этим он никогда не задумывался. «Такой же барин будете, как все…» — звучали в ушах нянькины слова. «Как все…»
Шушка лежал, беззвучно шевеля губами. Его большие серые глаза были широко открыты, слезы высохли, волосы спутались и растрепались. Нет, таким, как все, он не будет!
Петры и Алексеи, Олены и Марьи всё делают в доме и никогда не жалуются на свою судьбу. А если у них и бывает тяжко на душе, Иван Алексеевич не преминет заметить, что с недовольной физиономией барину на глаза не след, попадаться, своих, мол, бед хватает. Но ведь они тоже хотят жить и радоваться весеннему солнцу. Они хотят иметь теплый дом, вкусную еду и красивую одежду. Почему же у них всего этого нет? Почему Лев Алексеевич может не отпустить на волю Алексея, а Иван Алексеевич отдает в солдаты Петра? Почему люди покорно сносят это? А няня вот говорит, что так и должно быть. Как помочь им?
Глава четвертая ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
В такие дни, как сегодня, Иван Алексеевич ненавидел весь белый свет и готов был говорить гадости самому себе. Во всем теле слабость, вставать не хотелось, ломило руки и ноги, мысль работала вяло.
Не открывая глаз, он протянул руку к бронзовому колокольчику, что стоял на столике возле кровати, и позвонил камердинеру. За дверью послышалось покашливанье, беспорядочная возня. «Как он долго…» — в раздражении думал Иван Алексеевич, а камердинер все не показывался. Наконец дверь со скрипом отворилась и на пороге показалась заспанная и брюзгливая физиономия Никиты Андреевича.
Когда Иван Алексеевич бывал раздражен, он старался говорить вежливо, отчеканивая каждое слово. И он обратился к камердинеру, который уже готовился подать барину стеганый халат на белых мерлушках и шапочку с лиловой кисточкой.
— Очень прошу тебя, голубчик, будь любезен, накапай лекарства в рюмку, капель этак двадцать пять…
Иван Алексеевич уверил всех окружающих, что опасно болен, окружил себя докторами, требовал, чтобы ему без конца прописывали лекарства. А если в доме кто-либо и вправду заболевал, Иван Алексеевич выпивал и его лекарство, да еще жаловался, что врачи пожалели ему пользительного снадобья.
Никита Андреевич отложил в сторону халат и осторожно взял в руки пузырек, с которого свешивался длинный розовый язык рецепта, и стал тщательно капать лекарство в зеленую, на витой толстой ножке, рюмку.
— Раз, два, три… — беззвучно шептал он бледными губами.
Иван Алексеевич подозрительно, из-под нависших бровей наблюдал за ним.
— Двадцать три, двадцать четыре…
— Э-э, голубчик, — скрипучим голосом заговорил Иван Алексеевич, — да ты загубить меня желаешь…
Рука Никиты Андреевича дрогнула, и в рюмку быстро упали одна за другой несколько лишних капель.
— Так я и знал! Видно, и впрямь я всем несносен стал, вот и решил ты, братец, отравить меня… Сказал тебе — двадцать пять, а ты все пятьдесят отсчитал, не поскупился… Я тебя при себе за верность держу, а вот она, твоя верность…
Никита Андреевич сердито выплеснул лекарство из рюмки прямо на пол и стал капать заново. Но Иван Алексеевич остановил его.
— Ничего-то ты не умеешь! Оставь лекарство, подай халат да ступай за газетами…
Камердинер поставил на место пузырек, тщательно закупорил его пробкой и стал одевать барина.
— Да не так, не так! — ворчал Иван Алексеевич. — Или ты руки хочешь мне вывернуть? Что с тобой нонче, батюшка? Совсем извести меня решил…
Поджав губы и насупившись, Никита Андреевич молчал. Он не терпел поучений и нередко огрызался на баринову воркотню, но сегодня понял, что барин раздражен не в меру, и потому лучше промолчать.
Иван Алексеевич умылся и в ожидании газет сидел в кресле. В комнате было душно и полутемно, проветривать он не разрешал, а тяжелые шторы раздергивали днем только наполовину. Иван Алексеевич уверял, что яркий свет вреден для глаз.
Он открыто презирал людей и был уверен, что каждый человек способен на все дурное.
— Люди с совестью и люди без совести поступают одинаково, — утверждал он. — Только те, что совесть имеют, совершив подлость, мучаются, а те, что без совести, испытывают удовольствие.
Вошел Никита Андреевич, держа в руках подогретые газеты. То ли от того, что он резко открыл дверь и легкий ветерок прошел по комнате, то ли от пыли, но Иван Алексеевич чихнул. К несчастью, чихнул он как раз в тот момент, когда взял в руки газеты. Новый поток упреков обрушился на лысеющую голову камердинера.
— Ничего тебе поручить нельзя! Газеты и то согреть не можешь как следует, совсем руки застудил. Нет, нет, видно, все сговорились свести меня в могилу. Пора на покой собираться. Да я, братец, живуч! — вдруг с неожиданной злобой, раздраженно и капризно добавил он. — Со мной не так-то легко управиться…
— Э, барин, все там будем! А кому раньше, кому позже, кто знает? Как господь бог судил, так тому и быть. Даже вашей бариновой власти на это не хватит… — под нос себе пробурчал Никита Андреевич. — Кофе подано, извольте к столу, кушать…
Иван Алексеевич вошел в столовую и быстрым недобрым взглядом окинул сидевших за столом, словно буравчиком каждого просверлил. Лев Алексеевич, Луиза Ивановна, Кало, старший сын Егор Иванович и Шушка с Таней доброжелательно улыбнулись ему. Но их приветливость только пуще раздражила Ивана Алексеевича. И первой жертвой стала Луиза Ивановна.
— Что-то вы, матушка, стареете, — брезгливо заговорил Иван Алексеевич. — Короток бабий век, не успеешь оглянуться, уже старуха!
Словно не заметив, что яркий румянец залил нежное, без единой морщинки лицо Луизы Ивановны и крупные слезы навернулись на ее больших грустных глазах, он обратился к брату:
— А вы все в разъездах, балы да обеды! А сил-то меньше с каждым днем. Глядите-ка, лицом пожелтели, с тела спали. Уж не хворь ли какая завелась?
— Да нет, недавно твой лекарь меня пользовал, так дивился моему здоровью, — стараясь обратить все в шутку, проговорил Лев Алексеевич.
— А вы не слушайте их, им бы лишь деньги получить. Они за деньги какое хочешь здоровье пропишут. Вы меня слушайте, я брат, зла не пожелаю. И я говорю: больны вы, больны. Этак и до могилы себя довести недолго…
Лев Алексеевич еще улыбался, но Иван Алексеевич с удовольствием отметил, что тонкий поджаренный ломтик хлеба, который он с таким аппетитом готовился отправить в рот, остался лежать на тарелке.
Трудно было найти двух людей с характерами столь несхожими, как братья Иван и Лев. Лев Алексеевич был на два года старше брата и говорил ему «ты». Иван Алексеевич говорил Льву Алексеевичу «вы».
Иван Алексеевич гостей не любил и сам из дома почти никуда не выезжал.
Лев Алексеевич редко бывал дома.
— Балы так оживлённы, — жаловался он — по утрам, — что приходится вертеться до изнеможения, потом хоть полдня в постели отлеживайся…
Но в постели он не отлеживался, а с утра приказывал закладывать четверку лошадей и отправлялся в сенат. Три раза в неделю обедал в Английском клубе, по вечерам навещал тетку, сестер или ехал во французский театр. Нередко случалось, что он попадал к середине пьесы и уезжал, не дождавшись конца спектакля.
— Некогда, некогда…
Жизнь его катилась легко.
Домой заезжал ненадолго, отдохнуть и рассказать новости. Рассказывать он был мастер, сам добродушно смеялся своим рассказам и умел рассмешить Ивана Алексеевича, который с годами становился все более замкнутым и раздражительным.
Если бы Ивана Алексеевича спросили, почему ему доставляет радость мучить людей, которые любят его и ближе которых нет у него никого на свете, он не мог бы ответить. Но, начав их мучить, он уже не в силах был остановиться.
— Нет мочи глядеть, как вы губите себя, — продолжал Иван Алексеевич. — Пора, друг, нам делиться да разъезжаться. Тогда делайте, что вздумается.
— Что ж, я не против! — быстро согласился Лев Алексеевич. — За мной дело не станет. С братцем Александром договориться надо. Я давно твержу, что от тройного управления нашего и хозяйство страдает, и крестьяне избаловались. Ведь мы, Яковлевы, все норовистые, мужики не знают, кому угождать.
— А вот вы с братцем и поговорите, съездите к нему. Пока силы на балах не промотали, доведите благое дело до конца. А то я стар и болен…
Лев Алексеевич согласно кивнул головой и, оправившись от смущения, вызванного поучениями брата, стал с аппетитом доедать завтрак.
Иван Алексеевич взглянул на Шушку и Таню, они сидели рядом, чистенькие, аккуратно причесанные, — придраться не к чему. Дети смотрели на него испуганно, но доверчиво. Он решил пощадить их и снова обратил свое раздражение на Луизу Ивановну.
— Пора бы, матушка, о сыне подумать! — заговорил он, сверля ее своими глазами-буравчиками. — А то все наряды да наряды… (Это была выдумка, потому что одевалась Луиза Ивановна очень скромно.) Скоро невесту подыскивать будем, а вы его все при няньках держите, не дело это! Пора к Шушке немца приставить, чтобы учил его уму-разуму да к порядку приучал. Пока я не подумаю, ничего в доме не делается! А у меня сил нет, все болит…
Луиза Ивановна молчала. Она прекрасно понимала, что если бы и посмела сказать о том, что сыну нужен гувернер, Иван Алексеевич из упрямства никогда бы не согласился с ней.
— Сегодня надо Дмитрию Ивановичу Голохвастову за границу написать, чтобы прислал для Шушки ящик немецких книг, пусть читает. Обо всем думай, обо всем… — с глубоким сочувствием к самому себе проговорил Иван Алексеевич и вдруг неожиданно ласково обратился к младшему сыну: — Хоть бы тебя взрослым скорее увидать…
И тут же, словно устыдившись доброго слова, перевел взгляд на Егора Ивановича. Глаза его сразу стали холодными и непроницаемыми.
Иван Алексеевич не любил старшего сына… Мать Егореньки была крепостная. Родился он в подмосковном селе Яковлевых — Покровском. Мальчика взяла к себе сестра Ивана Алексеевича — княгиня Мария Алексеевна Хованская — и воспитала его. Иван Алексеевич незадолго до рождения сына уехал за границу и прожил там несколько лет. А когда вернулся в Россию, княгиня представила ему девятилетнего Егореньку. Иван Алексеевич с ног до головы оглядел сына, холодно положил руку на его по-детски круглое, теплое плечо и, обратясь к сестре, стал выговаривать по-французски за то, что, не спросясь, увезла Егореньку из деревни и вырастила в барстве. С тех пор Егоренька жил при отце. Недавно ему исполнилось семнадцать лет.
Красивый, стройный, с лицом чуть удлиненным и бледным, он сидел напротив Ивана Алексеевича и медленно ел, не поднимая глаз от тарелки — боялся встретиться взглядом с отцом.
Одет он был со всем тщанием, манеры безукоризненные, почтителен. Молчалив, но если скажет слово, всегда к месту. Гордиться бы таким сыном, так нет, все его достоинства будили в душе Ивана Алексеевича лишь глухое раздражение.
Иван Алексеевич долго молча разглядывал его и отвел взгляд. Егор Иванович облегченно вздохнул: пронесло. А Иван Алексеевич заговорил, снова обращаясь к сенатору:
— Газеты смотрел, тревожно в мире становится. Наполеона раздавили, так думаем, войн больше не будет? Неразумное это рассуждение, — быстро говорил он, хотя никто не собирался возражать ему. — Придется еще повоевать и, может быть, скоро, очень скоро! И тогда-то тебя, голубчик, — Иван Алексеевич с несвойственной ему живостью обернулся к Егору Ивановичу, — тебя первого заберут! А с войны редко кто цел-невредим возвращается. Что поделаешь, за веру, царя и отечество…
Бросив косвенный, по-птичьи вбок, взгляд на сына, лицо которого вдруг приобрело голубоватый оттенок, он резко встал, расплескав недопитый кофе, и, шаркая туфлями, ушел к себе.
Все сидели подавленные. Наконец сенатор бросил на стол салфетку и поднялся.
— Мне пора, — проговорил он, наклоняясь к руке Луизы Ивановны. — Видно, и правда, делиться надо…
Луиза Ивановна, с трудом удерживая слезы, поцеловала его в висок, и Лев Алексеевич легкой, танцующей походкой, неожиданной для его полнеющего тела, вышел из комнаты, весь устремленный навстречу веселью, ожидавшему его за стенами дома.
Шушка любил те недолгие часы, когда Лев Алексеевич бывал дома. Его зычный, немного картавый голос разрушал чинное безмолвие яковлевского дома. Племяннику он постоянно привозил в подарок то дорогие игрушки, то диковинные восточные сладости. И когда с грациозным цоканьем отъезжала от подъезда карета сенатора, Шушке всегда становилось грустно.
Вот и сейчас он подошел к окну и, расплющив нос, прижался к запотевшему от дыхания стеклу: кучер тронул вожжи, и карета исчезла, увозя сенатора в неведомый Шушке мир веселья, музыки, шумных споров и ярких огней…
Глава пятая ЛУИЗА ИВАНОВНА
1
Вера Артамоновна собирала детей на прогулку. Потемнела и стала жесткой листва на деревьях, а в траве на бульварах запестрели желтые одуванчики. Небо утратило весеннюю яркость и влажность, стало сухим и бледным. Иван Алексеевич все не мог решить, поедут ли нынче летом в деревню, и отъезд откладывали со дня на день, с недели на неделю.
Кало водил детей гулять на Тверской бульвар, но и там с каждым днем становилось все жарче, молоденькие деревца почти не давали тени, пестрые обручи, которые дети гоняли по дорожкам, поднимали легкие облачка пыли, трава, как и небо, стала сухой и бледной.
— Опять бедняжку до слез довел, — вполголоса проговорила Вера Артамоновна, завязывая ленты на соломенной Таниной шляпке.
— А я, право, на месте барыни, просто взяла бы да уехала на родину, в Штутгарт, — живо отозвалась мадам Прево, доставая из шкапа белое Шушкино пальто с огромными перламутровыми пуговицами. — Какая отрада? Все капризы да неприятности, скука смертная…
— Так-то оно так, — возразила Вера Артамоновна, — да вот что связало по рукам и ногам. — И она, отвернувшись на мгновенье от Тани, указала глазами на Шушку, который стоял возле двери и в нетерпении дергал бронзовую дверную ручку. Ручка поднималась и опускалась с легким звоном. — Взять с собой? Куда? К кому? Покинуть здесь одного? С нашими порядками это и вчуже жаль…
Шушка исподлобья, чуть сдвинув свои пшеничные бровки, смотрел на няньку. Его большие серые глаза потемнели. В комнате воцарилась неловкая тишина.
Старушки поняли, что допустили оплошность, проговорившись при детях, обе засуетились и стали быстро выпроваживать Таню и Шушку.
— Идите, идите, Кало, наверное, устал дожидаться, — ворчливо приговаривала Вера Артамоновна.
Кало, как всегда, аккуратно и не без франтовства одетый, поджидал детей на крыльце. Он бережно принял из рук мадам Прево Шушкино пальто (Иван Алексеевич не разрешал выходить из дома, не взяв с собой пальто и решительно зашагал по тротуару.
Белая, словно из каменных кружев, церковь Рождества в Путинках легко возносила к небу многое множество своих маленьких куполов. Дверь в церковь открыта, там было темно, пахло, как в лесу, теплые трепещущие огоньки свечей мерцали в темноте. С образа, висящего над входом, строго и укоризненно глядел Христос.
Обычно Шушка задерживался, чтобы полюбоваться легкой церковью. Она была так прекрасна, похожая не то на сказочный замок, не то на огромный воздушный торт, какие готовил по праздникам повар Алексей. Но сегодня Шушка ничего не видел. Он даже не заметил, как они прошли мимо кирпично-розовых стен Страстного монастыря, пересекли пыльную площадь и очутились на бульваре. Мальчик напряженно думал о том, что услышал в детской.
Он и раньше замечал, что отец резок с матерью, что его, Шушку, при посторонних называет не сыном, а воспитанником, но значения этому не придавал. Отец был резок со всеми, а обидный смысл слова «воспитанник» от Шушки ускользал. Воспитанник — это тот, кого воспитывают, а Иван Алексеевич, и правда, воспитывал сына: читал нравоучения, баловал…
Но сегодня, словно разбуженный словами Веры Артамоновны, Шушка понял, что за всем этим кроется что-то обидное для него и, главное, для его матери. Но что?
Веселые детские возгласы отвлекли его от непривычных трудных мыслей. «Никому ничего не говорить, ни у кого ничего не спрашивать. Даже Тане не скажу, пока сам всего не узнаю», — решил он.
— О, какой сюрприз, дети, какой приятный сюрприз! — весело повторял Кало и тащил их куда-то вперед.
На боковой скамейке стояла маленькая коляска, запряженная парой белых козочек с голубыми соломенными бантами на рогах. Высокий длинноногий человек в клетчатых панталонах и белом, сомнительной чистоты шейном платке, коверкая русские слова на иностранный лад, громко зазывал детей, приглашая, их прокатиться в коляске.
— Господа и дамы! Я очень рад, что привез вам этот удовольствие. Всего пьятачок… — тщательно выговаривал он трудно произносимое слово, видимо заранее заучив его. — Прошу, садитесь!
Из толпы, окружившей иностранца, вышли вперед два мальчика и нерешительно направились к коляске. За ними следовал гувернер. Он сделал мальчикам знак, и они легко вскочили на подножку. Коляска закачалась на упругих рессорах. Дети уселись на сиденье, и два серебряных пятачка перешли из рук гувернера в ловкую руку хозяина упряжки. Он натянул поводья, и козочки, высоко поднимая неправдоподобно маленькие, цокающие копытца, побежали по дорожке, оглашая бульвар серебряным звоном бубенцов. Солнце тускло отсвечивало в лакированных крыльях коляски. Иностранец бежал рядом, вернее, не бежал, а широко шагал, такие у него были длинные ноги, что ни шаг — три аршина.
Клетчатый иностранец с торжествующим видом стирал клетчатым платком крупные капли пота, выступившие на его смуглом, прорезанном морщинами лбу, и гостеприимным жестом приглашал следующую пару, приговаривая:
— Пьятачок, только пьятачок…
Наконец дошла очередь и до Тани с Шушкой. Когда коляска немного отъехала, Таня вдруг взяла Шушку за руку и как-то многозначительно, не по-детски пожала его теплую ладонь. Шушка с удивлением поднял на нее взгляд и, — посмотрев в карие, затененные пушистыми ресницами глаза, почувствовал, что Таня все понимает и этим коротеньким рукопожатием хочет подбодрить и утешить его. Значит, она знает, о чем говорили мадам Прево и Вера Артамоновна? Все равно, он не станет у нее ни о чем спрашивать! Он должен во всем разобраться сам! Но как он был благодарен Тане за ее безмолвное участие…
Таня не раз слышала разговоры взрослых о том, что Шушка, как они выражались, находится в «ложном» положении. Нередко говорили и о тяжелой жизни Луизы Ивановны, судили-рядили о поведении Ивана Алексеевича. Потому слова, сказанные сегодня Верой Артамоновной, не явились для нее неожиданностью: она сразу поняла, о чем идет речь. А когда увидела напряженные и недоумевающие глаза Шушки, ей стало жаль его, как тогда, в Новоселье, когда она впервые увидела его, голенького и беззащитного. Она чувствовала, что если станет прямо и откровенно выражать сочувствие, гордый и самолюбивый мальчик не примет ее участия. И сейчас, поймав полный признательности взгляд Шушки, она поняла, что поступила правильно.
2
Отпустив детей на прогулку, Луиза Ивановна медленно пошла к себе. Ей не хотелось никого видеть. Обидно было не то, что муж при всех назвал ее старухой и обвинил в равнодушии к сыну. Старуха так старуха, хотя ей не было еще и тридцати лет. Горько, что человек, к которому она была привязана, которому от всей души хотела помочь, облегчить его страдания телесные и душевные, был несправедлив к ней, груб и равнодушен. Что может быть страшнее равнодушия? Сколько раз она подходила к его двери, хотела войти, поделиться своими заботами…
Но когда видела строгую, плотно прикрытую дверь в комнату мужа, ей казалось, что и сердце его так же захлопнуто перед ней. И, постояв в коридоре, Луиза Ивановна уходила к себе. А может, она не права, и надо было идти, не обращая внимания на грубость, быть ласковой с ним? Может, это она виновата, что он стал таким? Будучи по натуре человеком добросердечным, Луиза Ивановна с готовностью принимала вину на себя.
Луиза Ивановна, как ее называли в России, а в девичестве Генриетта Вильгельмина Луиза Гааг родилась в Германии. Семья была небогатая, девушке жилось нелегко. В одном богатом русском семействе, проживавшем в Штутгарте, она познакомилась с посланником Львом Алексеевичем и его младшим братом Иваном Алексеевичем. В конце — 1811 года Иван Алексеевич уехал домой, в Россию и увез с собою Луизу Ивановну.
А потом родился Шушка, и в жизнь ее вошла новая забота и новая радость. Иван Алексеевич, хотя и был привязан к Луизе Ивановне, но венчаться в церкви не стал — не подобало знатному русскому вельможе вступать в брак с непородной немкой. И мальчику дали фамилию Герцен, от немецкого слова Herz, что означает «сердце».
Иван Алексеевич брюзжал и оскорблял Луизу Ивановну дерзкими выходками. Но Луиза Ивановна примирилась со своей невеселой жизнью. И только порой, когда вот так, как сегодня, насмешкам и укорам не было конца, она уходила к себе в комнату и тихо плакала, вспоминая о родине, о семье. Впрочем, у Луизы Ивановны был легкий характер и долго грустить она не умела. Что делать, не в ее воле изменить жизнь, значит, надо жить так, чтобы и в этой нелегкой жизни находить радости. Вот сегодня, например, к обеду будут гости — как хорошо! И Луиза Ивановна тщательно напудрила покрасневший тоненький носик и стала прикладывать к припухшим глазам вату, смоченную в крепком чае, — не дай бог, Иван Алексеевич заметит, что она плакала!
3
Первое, что услышал Шушка, вернувшись с прогулки, был резкий и брюзгливый голос Ивана Алексеевича. И Шушка впервые подумал о том, какой у отца неприятный, недобрый голос.
— Нет, нет, ты, голубчик, расскажи всем, что ты против меня задумал! Расскажи не таясь… — нарочно громко и раздельно говорил Иван Алексеевич.
Шушка поднялся наверх, где находились комнаты отца. Возле двери, что была сейчас открыта, собралось несколько человек прислуги — зрелище в обычное время для яковлевского дома необыкновенное. На пороге, опустив голову и вытянув руки по швам, как провинившийся мальчишка, стоял Никита Андреевич. Большие красные руки его то сжимались в кулаки, то разжимались, лицо от смущения и гнева было не красным и даже не багровым, а кирпично-коричневым.
Иван Алексеевич сидел в кресле, и его быстрые глаза перебегали с одного лица на другое, в них поблескивали и злоба, и торжество, и насмешка…
— Что же ты молчишь, батюшка? — продолжал Иван Алексеевич? — Объясни людям, что ты против барина своего замыслил! — И он сухой, пергаментной рукой указал на пол.
Шушка взглянул туда, куда указывал жилистый палец отца и увидел на полу, возле двери, жирную белую черту, прочерченную мелом. Он сразу понял все.
Каждый день Иван Алексеевич требовал, чтобы камердинер, выходя из комнаты, оставлял дверь приоткрытой. И каждый раз оставался недоволен — то уверял, что дверь открыта недостаточно и Никита Андреевич решил уморить его в духоте, то ворчал, что оставил ее распахнутой и его всего, мол, ветром обдало. Кончались эти стычки тем, что Иван Алексеевич сам поднимался с кресла и притворял дверь.
Сегодня повторилась та же история. И когда Иван Алексеевич, охая и стеная, поднялся с кресла и сам приоткрыл дверь, Никита Андреевич быстро сбегал в гостиную, взял с ломберного столика мелок и провел на полу черту. Уж теперь-то барин не посмеет придраться: сам определил, как открывать дверь. Поняв, что камердинер перехитрил его, Иван Алексеевич пришел в бешенство, созвал слуг и стал стыдить старика, уверяя, что тот задумал против него недоброе дело.
Шушка, как почти все в доме, не любил Никиту Андреевича. Подражая барину, старый камердинер был заносчив и груб с прислугой, во всем старался выказать свое превосходство. Он… даже позволял себе иногда ворчать на Шушку, когда мальчик не в меру шалил. Но сейчас, глядя на растерянное, бурое от стыда и унижения лицо старика, Шушка вдруг испытал чувство вины перед ним и снова (второй раз за сегодняшний день) не по-доброму подумал об отце. Снова тот же вопрос, что и тогда на дворе, когда уводили в солдаты Петра, поднялся в его душе: «А почему они могут так поступать?»
Он еще не отдавал себе отчета в том, кого именно разумел под словом «они». Но, Шушка понимал, что в мире есть разные люди: одни имеют право мучить и миловать, другие должны эти мучения терпеть, а милости принимать как величайшее счастье. Эта мысль приводила за собой другую: к каким людям принадлежит он, Шушка? Сегодняшний разговор в детской окончательно запутал его. Одно Шушка знал твердо: он никогда не станет мучить людей. Но тогда, во дворе, можно было кинуться на участкового и попытаться не позволить ему увезти Петра. А что можно сделать сейчас? Броситься на отца? Но он отцу слова не смел сказать против…
Глава шестая ХВАЛЮ, АЛЕКСАНДР!
Бывают в жизни такие незадачливые дни! Казалось бы, все должно быть хорошо, а надо же…
После стычки с камердинером, настроение Ивана Алексеевича переломилось к лучшему — так меняется погода после пронесшейся грозы. Весь дом облегченно вздохнул.
К обеду вернулся домой сенатор, приехал в гости генерал Милорадович. У Ивана Алексеевича часто бывали его сослуживцы по Измайловскому полку, герои отгремевшей Отечественной войны. Больше всех своих старых товарищей любил Иван Алексеевич Михайлу Андреевича Милорадовича.
Он был прост в обращении, словоохотлив, держался без чванства.
— Легко с ним, — посмеиваясь, говорил Лев Алексеевич, — как стакан воды выпить…
Шушка, который мечтал стать военным, бывал счастлив, когда Милорадович приезжал к отцу. Большого роста, широкий в плечах, с крупными и красивыми чертами лица, он, казалось, сразу заполнял весь яковлевский дом своим громким смехом и говором. Блестящий мундир, высокий султан на шляпе, звезды на груди! А какое множество крестов… У Шушки в глазах рябило: этот — за итальянский поход Суворова, этот — за швейцарский поход 1799 года, а эти — за войну против Наполеона в 1805 году, за русско-турецкую, за освобождение Бухареста… А сколько наград за Отечественную войну!
Шушка любил слушать рассказы Милорадовича. Таких он не слышал ни от кого. И даже после в учебниках по истории не читал. Нередко случалось, что, заслушавшись, он засыпал в гостиной за спиной боевого генерала, и Вера Артамоновна сонного уносила Шушку в детскую. Теперь Милорадович был генерал-губернатором Петербурга, но, приезжая в Москву, он всегда навещал старого друга.
Обед шел оживленно, блюда подавали одно вкуснее другого. Лев Алексеевич в лицах изображал общих знакомых, рассказывал московские новости:
— Вчера бал давали персидскому послу. Персу все понравилось, только удивился: зачем, говорит, на — балу так много старых женщин? Ему объясняют, что это матери и тетки. Что девицы-де одни выезжать не могут. А он снова удивляется: разве нет у них отцов и дядьев?
Лев Алексеевич заливался веселым звонким смехом. Милорадович громко вторил ему, даже Луиза Ивановна улыбалась.
— Знаешь, я иногда жалею, что не остался в армии, — вдруг сказал Иван Алексеевич, искоса поглядывая на блестящий мундир Милорадовича.
Казалось бы, ничего не было в его словах, что могло заставить Михайлу Андреевича насторожиться, но Милорадович, зная манеру своего друга — не щадить никого, ждал подвоха и поспешил возразить:
— Не жалей! От военной службы тупеют. Что может быть лучше вольного житья? (Сам он ни за что на свете не сменил бы мундира на свободное штатское платье.)
— Пусть так. — Глаза Ивана Алексеевича насмешливо блеснули. — Зато в точности знаешь, что тебе в жизни делать. А разве это мало значит? Вот Шушка у нас генералом будет!
Милорадович самодовольно усмехнулся.
— С этим спорить не стану… Взять хотя бы Наполеона…
Он помолчал. Все понимали, что Михаила Андреевич готовится вспрыгнуть на своего любимого конька.
— Не люблю рубак и головорезов, — сказал Лев Алексеевич, нарушая молчание. — А Наполеон именно таков. Да еще захватчик. А захватчики представляются мне опасными безумцами…
— О нет, все это не так просто! — возразил Милорадович, довольный тем, что разговор принимает любезное ему направление. — Наполеон верил в славу. В этом была его сила и его слабость. Конечно, его рассуждения о жизни мало отличаются по уровню своему от рассуждений какого-нибудь его гренадера. Это так, не спорю. Но он навсегда сохранил ту ребяческую серьезность, что тешится саблями и барабанами и без которой человек не может стать истинно военным. Он искренне уважал силу…
Милорадович многозначительно помолчал.
— Как он сейчас, на острове Святой Елены, рассуждает о боге и душе, мне порою кажется, что это четырнадцатилетний школьник — возразил Лев Алексеевич.
— Его мозг всегда был под стать его маленькой дамской ручке… — проворчал Иван Алексеевич.
— Да, но эта маленькая, как ты говоришь, дамская ручка переворошила весь мир! — воскликнул Милорадович, окидывая всех веселым и торжествующим взглядом.
Имя Наполеона сопровождало Шушку с колыбели. Его именем перевиты были младенческие воспоминания. О событиях 1812 года разговаривали без конца, перебирая во всех подробностях. Вера Артамоновна, убаюкивая Шушку, напевала:
Привиделся бессчастный сон — Дуют ветры со вихрями, С хором верхи срывают По самые по окна, По хрустальные по стекла: Француз Москву разоряет, С того конца зажигает, В полон девок забирает…Щушка взглянул на мать. Она сидела красивая, раскрасневшаяся, но взгляд ее был задумчив и грустен.
Луиза Ивановна слушала разговоры мужчин, и ей вспоминался далекий тревожный сентябрьский день 1812 года. Как уговаривала она мужа уехать из Москвы. Но своенравный и упрямый Иван Алексеевич и слышать не хотел об этом. Зачем нарушать течение установившейся от века спокойной и удобной жизни? Зачем покидать дом, где все подчинено его привычкам, его прихотям? Иван Алексеевич не верил, что французы посмеют войти в Москву… А слухи о приближении врага становились все настойчивее и упорнее. Когда Иван Алексеевич, послушавшись уговоров близких, велел наконец готовиться к отъезду, в комнату вошел слуга и доложил, что французы вступили в столицу.
Луиза Ивановна до сих пор не могла без дрожи вспомнить золотисто-голубое московское небо, ставшее багрово-серым от вспыхнувших пожаров. Черные клубы дыма поднимались в небо, и белые прозрачные облака делались грязными, черными. Французские солдаты в касках с конскими хвостами гулко шагали по опустевшему городу, поднимая пыль в тихих московских переулках.
Пожары добрались и до Тверского бульвара, где жили Яковлевы. Дом загорелся. Несколько дней господа и слуги прожили на площади возле Страстного монастыря. Они голодали, страдали от холода и жажды. Кормилица Дарья спрятала Шушку у себя на груди и подпоясалась полотенцем, чтобы мальчик не выпал. Молоко у Дарьи пропало, с большим трудом удалось выпросить у французов хлеба и воды, чтобы накормить голодного Шушку и унять его отчаянный крик.
Промучившись несколько дней, Иван Алексеевич обратился к маршалу Мортье, которого Наполеон назначил губернатором Москвы, с просьбой помочь ему и его семье выбраться из столицы. Но Мортье ответил, что никак не может дать пропуск без соизволения на то Наполеона. Он доложил французскому императору о просьбе Ивана Алексеевича, и Наполеон велел привести Яковлева к себе.
Луиза Ивановна и сейчас не удержалась от улыбки, вспоминая, как страдал Иван Алексеевич, строгий поклонник приличий, что ему предстояло отправиться на аудиенцию к Наполеону в поношенном охотничьем полуфраке с бронзовыми пуговицами и в нечищенных сапогах.
Наполеон милостиво принял Ивана Алексеевича. Жаловался, как ему трудно, сетовал, что русские поджигают города, говорил, что стоит царю Александру только пожелать, и мир будет заключен.
Иван Алексеевич слушал молча и почтительно, но про себя невольно усмехался — что он мог ответить на рассуждения императора? Наполеон предложил Яковлеву отвезти в Петербург письмо и передать в собственные руки Александра I. Он даже рассказал Ивану Алексеевичу о содержании письма: он-де, Наполеон, желает заключить мир.
Иван Алексеевич согласился выполнить волю Наполеона с тем условием, что не только ему, но и всему семейству разрешат выехать из Москвы.
— Зачем вы едете? Чего боитесь? Я велел открыть рынки! — говорил Наполеон в ответ на просьбу Яковлева.
— Да, милостивые государи, — гордо говорил, потирая руки Иван Алексеевич. — Сверх всяких чаяний и возможностей удалось мне совершить свободный и елико спокойный наш выезд из Москвы.
И в который раз слушали все, как, расставшись с родными под Клином, даже не простившись с ними, добрался Иван Алексеевич до передовой линии русских войск. Там его приняли за лицо подозрительное, окружили казаки и отвели на главную квартиру. Генерал Иловайский срочно направил Яковлева в Петербург, к военному министру графу Аракчееву.
— Аракчеев принял меня ласково, — словно в тумане слушал Шушка.
Иван Алексеевич оживился, четкие и круглые, как у птицы, небольшие глаза поблескивали из-под нависших бровей. Куда девалась его утренняя брюзгливость!
— Аракчеев сказал, что государь император приказал взять от меня письмо Наполеона. Письмо-то он взял и даже расписку выдал, а я почти месяц под арестом у него просидел. Никого граф ко мне не допускал. Только государственный секретарь приезжал, по приказанию его величества, о пожаре московском расспросить. Ведь я первый из очевидцев в Петербург явился…
Милорадович нетерпеливо кашлянул, но Иван Алексеевич не заметил его нетерпения и продолжал:
— Однажды явился Аракчеев и объявил, что государь велел меня освободить. Он, государь, прощает-де, что мне пришлось взять пропуск от неприятельского начальства, ибо понимает, что вызвано это особым обстоятельством.
Царь повелел мне немедленно покинуть столицу и впредь въезд в Петербург строго-настрого запретил. Так-то, господа…
Луиза Ивановна слушала знакомый до мельчайших подробностей рассказ мужа и думала о том, что еще недавно о Наполеоне говорили со страхом и ненавистью, потом торжествуя и злорадствуя, а теперь вот с добродушной насмешкой.
Недавно сенатор подарил Шушке карты: на каждую букву карикатура на Наполеона. Один из рисунков особенно забавлял Шушку: Наполеон едет на свинье. А под картинкой двустишье:
Широк француз в плечах, ничто его неймет, Авось либо моя нагайка зашибет…Был герой, стал просто человек. Непрочная вещь — слава.
Наслушавшись с младенчества разговоров о войне, Шушка, как, впрочем, все дети, был отчаянным патриотом. Он ненавидел Наполеона — исконного врага России. Но сейчас, слушая разговоры взрослых, он представлял себе одинокий остров Святой Елены, со всех сторон омываемый неприветливыми волнами, скалистый и серый. А на острове — маленький человек в треугольной шляпе, со скрещенными на груди руками. Он один, совсем один и днем и ночью. Шушка не жалел его, нет! И все же сегодня эта мысль не принесла ему обычного тщеславного удовлетворения.
Одиночество… Он вдруг с необыкновенной остротой вспомнил утренний разговор в детской и подумал о том, что хотя вокруг него множество людей и все они смеются, спорят, шутят, а никто из них даже не подозревает, о чем он думает весь день. Разве это не одиночество?
«А Таня?» — подумал он, с благодарностью вспоминая ее робкий и сочувственный взгляд, коротенькое горячее рукопожатие.
Он под скатертью нашел ее руку, стал перебирать влажные тонкие пальчики.
В комнате было душно, отяжелевшие лепестки цветов бесшумно падали на белоснежную скатерть.
— Наполеон чудовище, что бы вы ни говорили, злое чудовище! — сказала Луиза Ивановна.
Темная прядь вьющихся волос упала на белый высокий лоб. Лев Алексеевич с удовольствием поглядывал на невестку и невольно, с внутренней усмешкой, вспомнил слова брата о том, что Луиза Ивановна стала старухой.
«Да, брат, — мысленно возражал он Ивану Алексеевичу, — мудрено не то, что она при тебе и вправду скоро старухой станет, а то, что до сих пор еще так хороша и свежа…» Но народ любил Наполеона, — возразил Милорадович. — Французские солдаты считали за счастье умереть за него…
Шушка, забывшись, так повернул Танин палец, что едва не вывихнул его. Девочка не выдержала, выдернула руку и, громко вскрикнув, залилась слезами.
Все это произошло так стремительно, что взрослые не сразу поняли, что случилось. Пуще всех напугался сам Шушка. Он кричал и плакал громче Тани. Иван Алексеевич бросился к нему, схватил на руки. Мальчик, который сегодня весь день с недобрым чувством думал об отце, стал вырываться, его ласки раздражали Шушку. Он отталкивал стакан с водой, который подносил ему сенатор, и, взглядывая на Таню, закатывался все громче.
— Да оставьте вы вокруг него хлопотать! — сердито сказала Луиза Ивановна. — Не баловать его надо, а заставить прощения просить!
Милорадович, усадив Таню на колени, осмотрел руку, опустил больной палец в стакан с холодной водой, а потом обвязал руку своим батистовым платком.
— Балуйте, балуйте его! — с сердцем продолжала Луиза Ивановна. — Дождетесь, он голову кому-нибудь свернет…
— Ребенок он, непреднамеренно сделал! — рассердился Иван Алексеевич. — Или не видите, Шушка сам напуган, отпоить его от испуга надо…
Господи, все они ничего не понимают! Шушка плакал не от испуга, не от стыда, а от горя. Как могло случиться, что он причинил боль человеку, который сегодня показал себя самым лучшим его другом? Да разве, попросив прощенья, он загладит свою вину?!
И, вырвавшись из рук отца, Шушка подбежал к Тане. Она тихо всхлипывала. Робко взглянув в большие карие глаза, налитые крупными прозрачными слезами, Шушка взял ее за руку. Таня руки не отняла. И тогда он наклонился и с какой-то неребяческой нежностью поцеловал ее больной палец.
В комнате воцарилось молчание. Первым опомнился Милорадович. Он ласково, по-мужски похлопал Шушку по плечу и сказал своим громким раскатистым голосом:
— Гусар, истинный гусар! Хвалю, Александр… На нынешний вечер передаю тебе свои кресты!
Ловко отколов от мундира множество блестящих. крестов на пестрых ленточках, он насыпал Шушке полную горсть регалий, которыми отмечены были его воинские доблести.
Глава седьмая ГЕНИИ В ЦЕПЯХ
В июле было решено, что в деревню нынче не поедут. «Поздно!» — сказал Иван Алексеевич. Таню забрала к себе Мария Алексеевна Хованская, Шушка снова остался один.
Лето стояло сухое и жаркое. Близился ильин день, а до сих пор не было ни одного дождя. Изредка где-то на краю неба грудились тяжелые свинцовые облака, лениво рокотал гром, но ни одна капля не упала на томящуюся от зноя и жажды землю. Солнце, родившись утром где-то в Замоскворечье, за белыми колокольнями Кремля, медленно всползало на бледное, выцветшее небо и нещадно жгло дома и людей, леса и поля короткими, без блеска, лучами. Потом медленно катилось вниз, за Триумфальные ворота, исчезало в зеленых садах Петровского. Дни проходили один за другим — понедельник похож на вторник, вторник на среду…
Однажды, во время обеда, Иван Алексеевич велел закладывать лошадей. Шушка прислушался.
— От князя Феодора Степановича письмо принесли. Просит пожаловать. Крепостной, мол, у него есть, скульптор. И скульптор этот изваял из мрамора чудо. Князь так и пишет: чудо… — В голосе Ивана Алексеевича слышалось недоверие и насмешка. Он помолчал и добавил, обращаясь к Луизе Ивановне — Его возьмите, пусть поглядит. — Он кивнул головой на Шушку. — Как-никак чудо!
У Шушки от радости даже уши порозовели.
Лошади нетерпеливо перебирали ногами, постукивая копытами о булыжную мостовую, когда Иван Алексеевич наконец показался из дверей подъезда. За ним шли Луиза Ивановна и Шушка, притихший и взволнованный, в белом пикейном костюмчике и черных лакированных туфлях.
Ехать было недалеко, к Патриаршим прудам, но Иван Алексеевич придирчиво осмотрел экипаж, осведомился, взято ли для Шушки пальто, невзирая на жару, обмотал горло шейным платком, узнал, давно ли кормлены кони, и только после этого сел в экипаж.
— Да не гони! Вези осторожно… И чтоб без тряски!
Кучер молчал. Он привык к бариновым поучениям.
Переехали Тверскую, спустились по Бронной на Спиридоновку. Золотилась пыль, жара все не могла угаснуть. Звонили к вечерне, и веселый перезвон плыл в нагретом и плотном воздухе.
Возле чугунных ворот княжеского особняка стояло несколько экипажей. Рыжие закатные отблески лежали на лакированных крыльях колясок, блестели в начищенной конской сбруе. Высокий строгий лакей принял Шушку на руки и бережно опустил на землю. С кряхтеньем вылез из коляски Иван Алексеевич и помог сойти Луизе Ивановне. Она легко шагнула на панель, длинное белое платье чуть приподнялось, и на мгновенье стала видна ее легкая ножка в сером лайковом башмачке. Иван Алексеевич недовольно поморщился.
В садовой беседке, увитой диковинными плетущимися растениями, гостей встретил радушный хозяин. Он поцеловал ручку Луизе Ивановне и погладил Шушку по беленьким мягким волосам.
— Молодец, молодец, совсем взрослый стал… — приветливо сказал он те безразличные слова, которые говорят детям, когда, в сущности, ничего не хотят сказать.
И Шушка почувствовал эту обычную фальшь взрослых, опустил глаза и посмотрел на острые носки своих туфель, покрытые легким слоем пыли; они стали тусклыми, скучными, — дорожки в саду были посыпаны белым речным песком.
— Прошу, господа, в мастерскую! — воскликнул князь, с особенным удовольствием выговаривая слово «мастерскую». — Вы увидите чудо, истинное слово, чудо!
Он прошел вперед по белой шуршащей дорожке. Гости последовали за ним.
В глубине сада был выстроен деревянный павильон со стеклянным куполом, просторный и светлый. Шушка с любопытством оглядывался. Такого он еще никогда не видел. Кадки с водой, корыта с глиной, мешки с таинственным белым порошком. На высоких вертящихся подставках загадочные фигуры, замотанные в мокрые тряпки. На стенах полки, а на полках чего только нет! Белые гипсовые маски, посуда, глиняные фигурки. Тут и гончие собаки, и лошади, и крестьянки в платках, с ведрами на коромысле, мужики в лаптях и поддевках. А вот дама в длинном, как у Луизы Ивановны, платье. Господин удобно расположился в кресле, — фигурка небольшая, а видно, что множество орденов и медалей украшает его грудь. Шушка вгляделся в лицо господина и узнал князя Феодора Степановича.
Шушка хотел было потрогать замешанную в корыте глину, но Луиза Ивановна предупредительно схватила его за руку — испугалась, что он испачкает нарядный костюм.
Хозяин, приветливо приговаривая по-французски, указывал рукой в стеклянную нишу. Шушка тоже поглядел туда и замер от неожиданности и восторга.
Что это?.. Такого гордого страдания он никогда не видел на лицах живых людей. Шушка сразу все понял: высеченный из белого мрамора, прекрасный юноша одинок и несчастен. Крупно-кудрявая голова стремительно откинута назад, в глазах выражение мечтательной решимости, затравленности, независимости. Шушка скользнул взглядом по гибкой шее юноши, по широким, могучим плечам и увидел, что цепи сковывают его прекрасное тело. Руки заложены за спину, и на них тоже цепи. Тонкие, длинные, почти еще детские пальцы напряжены, и такая сила была в них, что Шушка почувствовал: юноша разорвет цепи.
Он слышал за спиной восторженные возгласы женщин, одобрительное покашливание мужчин.
— Как живой!
— Мертвый мрамор кажется теплым!
— Как тонко, как умно!
— Что сим желал изобразить ваятель?
— Скульптура называется «Гений в цепях», — живо отозвался князь Феодор Степанович. Он самодовольно улыбнулся, потирая пухлые белые руки. Его черные глазки весело и гордо поблескивали. — В Подмосковной моей возрос сей талант! Сначала баловался, из глины лепил всякие забавы. Но я сразу понял: тут не просто баловство. Учить его приказал. Бог не велит зарывать талант в землю. Егорий мой крепостной, а мы за крепостных перед богом, как за себя, отвечаем… Егорушка, подойди сюда, не бойся… — позвал он ласково, но Шушка подумал, что так же ласково можно позвать и собаку.
— Вот он, наш герой! — Князь приветливо и величественно вытянул вперед руку. — Знакомьтесь, господа, мой Егорий!
В углу, возле стены, скромно стоял тот, чьими руками было создано все, что украшало мастерскую. Это он вырубил из холодного куска белого мрамора, привезенного из далекой Италии, гордого и страдающего человека.
И хотя Егорий, с его широким скуластым лицом и окладистой русой бородой, коренастый и широкоплечий, совсем не походил на гордого юношу, закованного в цепи, Шушке вдруг показалось, что в глазах Егория, маленьких и твердо-синих, как прозрачные камешки, застыло то же выражение гордого отчаяния, что и у рожденного им «Гения в цепях».
…Домой возвращались в сумерках, по-летнему теплых и бесконечных. Медово пахли липы в палисадниках, гасли в окнах огни, в небе загорались звезды, бледные и чистые.
— Неужели он не отпустит его на волю? — задумчиво сказала Луиза Ивановна. — Такой талант…
— Не тот человек наш друг князь Феодор Степанович, чтобы этакое сокровище из рук выпустить… — возразил Иван Алексеевич.
Шушка резко повернулся на сиденье, глаза его были широко раскрыты. «И этот не отпустит? А почему?!» Он хотел что-то спросить у отца, но в это время коляску качнуло: видно, кучер в темноте проглядел какую-то рытвину.
— А ты, братец, с вывалом решил нас сегодня прокатить! — раздраженно сказал Иван Алексеевич, и не миновать бы скандалу.
Но тут раздался решительный и нарочито звонкий голос Луизы Ивановны:
— Приехали, слава богу, а то мальчик-то наш совсем спит!
Это была неправда, Шушке вовсе не хотелось спать, но он твердо знал: со взрослыми спорить нельзя. Они всегда правы.
Глава восьмая ЕЩЕ ОДИН КАРЛ ИВАНОВИЧ
— Не кажется ли вам, что жара нынче полегчала? — сказал за завтраком Иван Алексеевич. Все молчали, не зная, какого старик ждет ответа. Но Иван Алексеевич проснулся в добром расположении духа, и потому всеобщее молчание не раздражало его, а лишь подтвердило полную и безграничную власть в доме. Он продолжал покровительственным тоном: — А не съездить ли нам после обеда в Лужники, прогуляться?..
Шушка, предвкушая удовольствие, заерзал на стуле, Луиза Ивановна строго взглянула на него, и он тут же притих.
— За город едем, — между тем наставительно говорил Иван Алексеевич. — Уложите с собой несколько пар носков, не ровен час, ноги промочим — вода-то ведь рядом! Да сапог захватите пары две-три…
Луиза Ивановна посмеивалась про себя, но молчала. Она понимала, что такая предусмотрительность бессмысленна и нелепа. Впрочем, если бы она посмела сказать об ртом, ее замечание вызвало лишь поток колкостей и воркотни. А может, что еще хуже, и прогулка бы не состоялась. А так хотелось хоть на несколько часов вырваться из городской духоты, побродить по низкому травянистому берегу Москвы-реки, возле тихой прохладной воды…
Закатные отблески уже лежали на розовых стенах и башнях Новодевичьего монастыря, когда коляска подъехала к Москве-реке. Шушка первым выскочил из экипажа и кинулся к воде, с завистью глядя, как мальчишки плещутся в мутных волнах, визжа и поднимая ослепительные снопы брызг.
— Голову ему напечет, без шляпы побежал, — ворчливо говорил Иван Алексеевич, идя по берегу рядом с Луизой Ивановной. И снова Луиза Ивановна промолчала; солнце клонилось к закату, лучи его стали бессильными, нежаркими, беспокойство Ивана Алексеевича было излишним.
От реки веяло прохладой и тишиной. Зеленели склоны Воробьевых гор, высился на крутом берегу белый Андреевский монастырь. Птицы летали высоко и бесшумно. Медленно проплыла лодка, мерные всплески весел удалялись, глуше становилась дробь падающих капель — тишина.
И вдруг, разрушая покой гаснущего дня, раздался отчаянный крик:
— Тонет! Тонет!
Прямо навстречу Шушке бежал человек в одной рубашке.
— Помогите!
Шушка взглянул на бежавшего человека и узнал в нем француза-гувернера, который сопровождал чернявого юркого мальчика, труса и ябеду. Все глядели туда, куда указывал француз. На белом песчаном мыске, далеко вдававшемся в реку, сгрудилась небольшая толпа. Люди взволнованно спорили о чем-то, толкали друг друга, но никто не трогался с места. Вдруг с той стороны реки, с Воробьевых гор, быстро сбежал казак и как был, в одежде, кинулся в воду. Через минуту он вынырнул. Казак вышел на берег, держа в руках тщедушного, рябого человечка, — его лысая голова беспомощно болталась.
— Еще отходится, покачать надо… — мрачно сказал казак, раздеваясь и отжимая мокрую одежду.
Гувернер-француз кинулся к спасенному, стал поднимать и опускать ему руки, растирать грудь.
— Три его, три! — раздались из толпы сочувственные возгласы.
— Оживает, гляди-ка, оживает!
И правда, вода хлынула изо рта и ушей утопленника, он помотал — головой и открыл мутные серые глаза.
Иван Алексеевич быстро достал из бумажника деньги и предложил присутствующим последовать его примеру. Казаку стали совать деньги.
Казак смущенно почесал в затылке и сначала отказывался:
— Грешно за этакое дело деньги брать, и труда, почитай, никакого не было его спасать, вон он тощой какой, словно кошка…
Потом подумал, помолчал и добавил простодушно, без ужимок:
— А впрочем, мы люди бедные, просить не просим, ну, а коли дают, отчего не взять. Покорнейше благодарим…
Завязав деньги в мокрый платок, казак хотел направиться на ту сторону Москвы-реки, где он пас лошадей, но Иван Алексеевич окликнул его:
— Скажи-ка мне имя твое, голубчик!
Казак оглянулся и назвал себя. Иван Алексеевич быстро записал карандашом на клочке бумаги, услужливо подсунутой ему французом-гувернером.
— По начальству доложу, пусть наградят за подвиг! — сказал он.
Теперь в доме у Яковлевых только и разговоров было, что о происшествии в Лужниках. Судили-рядили на все лады. — Но вот однажды утром лакей доложил, что какой-то немец, а с ним казак желают видеть Ивана Алексеевича.
— Проси, — сказал Иван Алексеевич, и в глазах его загорелось любопытство.
— Благодарить пришли вашу милость, — зычно сказал казак, входя в комнату. — Произведен в урядники!
— Поздравляю, братец, — ласково ответил Иван Алексеевич. Видя, что казак топчется на месте, не зная, куда девать свое огромное тело, он добавил:. — Можешь идти! — и вопросительно поглядел на его спутника.
— Карл Иванович Зонненберг, — пискливым голосом отрекомендовался маленький человечек, надушенный, в завитом белокуром парике. Держался он игриво, но несколько заискивающе. — Заканчиваю немецкую часть воспитания двух вверенных мне молодых людей и перехожу к одному симбирскому помещику, воспитывать его единственного отпрыска! Пришел поблагодарить за милости, оказанные моему спасителю!
Иван Алексеевич поглядывал на Зонненберга с насмешкой, но добродушно. Новый знакомый нравился ему своей нелепостью. И когда немец ушел, Иван Алексеевич сказал Луизе Ивановне:
— Если придет, принимать!
Так в доме Яковлевых появился еще один Карл Иванович.
Глава девятая НОВЫЕ ДРУЗЬЯ
1
Вставать не хотелось. Рано и тихо. Только большая синяя муха с ожесточенным жужжанием назойливо билась о стекло и не давала снова задремать. Слышно, как в переулке дворник шаркал по тротуару жесткой метлой. Шушка зевал и потягивался, ворочался с боку на бок.
Впереди томительный, длинный день…
Никогда одиночество так не тяготило Шушку, как в эти знойные дни. Он с нетерпением ожидал осени, когда снова привезут Таню. Правда, жить ей придется в пансионе, но каждую субботу она будет приезжать к Яковлевым.
Чтобы как-то занять время, Шушка надевал на шею большой, красный с золотом барабан и, отчаянно барабаня длинными палочками, ходил из комнаты в комнату. Его темные бровки были сосредоточенно сдвинуты, казалось, он прислушивался к чему-то, словно искал лад и ритм в упругой барабанной дроби.
А то надевал халатик, подпоясывался зеленым шелковым пояском с серебряной пряжкой и, заложив руки за спину, начинал прыгать с одной стороны порожка на другую, с одной стороны на другую. В такт прыжкам он громко, во все горло распевал краковяк. Вера Артамоновна только вздыхала и зажимала уши.
Шушка слонялся из комнаты в комнату, спускался в людскую и девичью, слушал разговоры дворовых. Дворовые любили его, не стесняясь, говорили при нем о своих бедах, а иногда обращались к Шушке за советом. И он судил и рядил их несложные дела.
— Сразу видать, что не чистой барской крови, — сказал как-то один из крепостных мужиков, молодой веселый парень. Он дружелюбно похлопал Шушку по плечу широкой и сильной ладонью. Шушка покраснел, но спрашивать ничего не стал. Да и зачем спрашивать? Не задавая никому ни одного вопроса, в эти несколько недель он узнал все подробности о встрече отца и матери, о том, как Луиза Ивановна решилась оставить родительский дом, как была спрятана в русском посольстве, в Касселе, у сенатора, как, переодевшись в мужское платье, переехала границу.
Чем заняться? Игрушки? Недавно сенатор привез в подарок кухню с плитой. Только тронешь пружину, все повара и поварята приходят в движение, пекут пироги, рубят котлеты и зелень, таскают воду. Сначала ему игрушка понравилась, и он по нескольку раз в день заводил — кухню. Но поварята с таким однообразием повторяли несложные упражнения, что стали раздражать Шушку, ему захотелось узнать, отчего они, как только тронешь пружинку, принимаются за дело. Он разломал заднюю стенку, вытащил пружину и только тогда успокоился. Успокоились и поварята, и вот уже месяц стоят на шкафу и пылятся…
И на бульваре скучно. Дети почти все разъехались на лето. Ходят два-три мальчика, но держатся как-то стороной, а девочки всё с куклами: катают, таскают на руках и что-то стрекочут друг с другом про платьица, бантики, шляпки. Неинтересно…
Шушка поглядывал на одного мальчика, черноволосого и юркого. Он ему казался живее и занятнее других. Однажды Шушка подошел к нему, заговорил, предложил поиграть в войну. Мальчик охотно согласился. На другой день Шушка принес на бульвар коробку с оловянными солдатиками. С новым товарищем они построили из песка укрепления, сложные ходы и траншеи, сторожевые посты, вал. Расставили солдатиков. А когда Шушка скомандовал «огонь!» и сухой песок веером поднялся над землей, приятель его залился громким плачем и кинулся к гувернеру с жалобами на Шушку. Ему, видите ли, песок попал за ворот и в волосы. Война — тут не только ранить, убить могут! Надо быть храбрым. А этот — трус, да еще ябеда. С тех пор Шушка с ним даже здороваться перестал. А ведь есть где-то мальчик, который тоже мечтает о друге, которому так же грустно и одиноко, как Шушке. Но где он? Как найти его?
Шушка лежал, глядя на дощатый потолок, перебирая взглядом знакомые трещинки, разводы, сучки. Вот этот похож на рыбу, а этот на карлика с бородой, а этот… «Сколько комнат в нашем доме?» — вдруг подумал Шушка, и эта мысль неожиданно заняла его. Он считал и сбивался.
«Надо будет после завтрака пройти по дому и сосчитать все комнаты», — решил он. Жить стало веселее.
После завтрака Шушка отправился в путешествие. Пересчитав комнаты верхнего этажа, где находились спальни отца и матери, детская и маленькая гостиная, он спустился вниз. Прошелся по зале, поговорил с пастушонком, постоял в столовой и в большой гостиной, загибая на каждую комнату по пальцу. Уже не хватало пальцев на руках, и Шушке надоело считать, как вдруг под лестницей, в коридоре, он увидел дверь, на которую раньше не обращал внимание. Шушка не помнил, чтобы кто-нибудь когда-нибудь отворял ее. Он толкнул дверь, она оказалась незапертой.
Мальчик вошел в комнату и в недоумении остановился на пороге. Прямо перед ним на полу была свалена груда книг. По стенам шкафы красного дерева — тоже с книгами. На темно-синих обоях старинные литографии, по углам несколько кресел, обитых выцветшим синим атласом. В комнате пахло пылью и плесенью — видно, зимой здесь не топили, летом не проветривали. Свет падал откуда-то сверху, пересекая комнату пыльными косыми полосами.
Шушка опустился на колени, взял в руки одну из книг, встряхнул ее, и столбики пыли весело заплясали в солнечных лучах. Он и сам не помнил, когда научился читать по-русски, по-немецки, по-французски.
Усевшись на полу, Шушка стал перебирать книги. Большинство было французских, но попадались русские, немецкие и даже английские. Шушка листал твердые, негнущиеся страницы, разглядывал рисунки и виньетки, читал названия.
«Лолота и Фанфан», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Дон-Кихот», Шиллер, Карамзин, Жуковский, Гёте…
Шушка раскрыл тоненькую книгу в кожаном темном переплете, — выгнутые французские буквы легко укладывались в слова. Правда, слова с трудом сплетались в предложения, но с каждой страницей читать становилось легче.
…Юноша, несправедливо оскорбленный отцом, богатым и своенравным стариком, покидает родовой замок. Он готов на любые лишения, лишь бы совершить подвиг, прославить честь рода и тем самым отомстить отцу.
Уже солнечные лучи падали откуда-то с другой стороны, а Шушка все читал.
Так и нашла его мадам Прево на полу. Лицо было мокро от слез, волосы спутаны, красные пятна горели на скулах.
— Что случилось, мой дорогой?! — испуганно воскликнула мадам Прево. — Вас ищут, пора обедать. Что случилось?
Шушка поднял на нее полные слез блестящие глаза и проговорил, всхлипывая:
— Он умер, мадам Прево, он умер!
— О, бог мой! Какое несчастье? Кто умер, мой мальчик?
— Артур, мадам Прево! Но он спас семью от позора! И отец его тоже умер…
— О, бог милостив! Вы все это прочли в книге, я понимаю. Но ведь это неправда…
— Нет, правда, правда! — сердито крикнул Шушка. — Я знаю, что это правда! — И он расплакался обиженно и громко.
— Вы в таком расстройстве, мой маленький! Что скажет ваш батюшка? Конечно, он запретит вам приходить в эту комнату…
Но, к всеобщему удивлению, Иван Алексеевич, когда Луиза Ивановна рассказала ему за обедом обо всем случившемся, не только не выразил негодования, а одобрил поведение сына.
— А и пусть читает, — сказал он. — От книг глупее не станет, при деле будет. Да и по-французски скорее выучится.
— Но, майн герр, книги не детские… — пыталась возразить Луиза Ивановна.
— Э, матушка, все это ваши женские глупости, — раздраженно ответил Иван Алексеевич. — Хуже того, что в жизни случается, ни в одной книге не прочтешь! Что ж вы его от жизни спрятать хотите? — вконец рассердившись, проворчал старик. — Не век ему при мамкиных да нянькиных юбках сидеть, пусть читает! — заключил он тоном, не терпящим возражений, и обратился к брату: — А вы бы, Лев, велели библиотеку в порядок привести. А то как переехали сюда, свалили книги, так они и лежат который год. Непорядок это!
— Да теперь уж не стоит труда! Скоро поделимся, разъедемся, тогда и книгами займусь. Ты знаешь, я до чтения не охотник, некогда…
2
Теперь для Шушки началась новая жизнь. Едва проснувшись, он торопливо съедал бульон и котлеты, выпивал ненавистный стакан молока и спешил вниз, в пыльную и прохладную комнату. Там, примостившись в одном из неудобных кресел с угловатыми жесткими ручками, а то и прямо на полу, он погружался в чтение. Шушка читал все подряд — романы и повести, стихи и драмы, географические и исторические описания и даже репертуар театра томов в пятьдесят.
Какой волшебный мир открывался ему! Он скакал вместе с героями рыцарских романов на взмыленных конях, спасал благородных красавиц от преследований злодеев, осаждал замки и крепости, страдал от измены друзей. Это был прекрасный мир борьбы и страстей, подвигов и путешествий. У него вдруг появилось множество друзей — правда, жили они только в его воображении, но для Шушки это были живые люди, и он иногда ловил себя на том, что разговаривает с ними, спорит, рассказывает о себе. Теперь он не был одинок. Впрочем, смелые герои всегда были одиноки, никто не понимал их благородных устремлений.
Больше того, многие были незаконнорожденными детьми, и это не мешало им прославить честь своего рода. Может, и ему, Шушке, суждено такое? И он уже не так болезненно относился к намекам слуг и родных о ложном положении своем и матери.
Он мечтал о подвигах, о славе…
Пьесу Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Шушка перечитывал раз двадцать, благо, она была в библиотеке в русском переводе. Он полюбил озорного пажа Керубино, ему так хотелось быть таким, как этот мальчик, — ловким и красивым, отчаянным и храбрым… И внешне ему хотелось ну хоть чем-нибудь походить на тех людей, о которых он читал. Иногда он гордо встряхивал головой, надеясь вместо реденьких белых волос обнаружить на голове густую копну каштановых кудрей.
Но увы, кудри не отрастали, а когда Шушка однажды хотел воспротивиться очередной стрижке, то получил хороший нагоняй от Ивана Алексеевича. Отец даже пригрозил, что запрет библиотеку.
Просто беда с этими взрослыми! У Луизы Ивановны была голубая персидская шаль, которую она надевала лишь по праздникам. Шушка давно поглядывал на нее — таким должен быть плащ Керубино. Он попросил шаль у матери, но Луиза Ивановна только плечами пожала в негодовании. И все же однажды вечером, когда мать уехала с сенатором в театр, Шушка пробрался в комнату и, замирая от страха, вытащил заветную шаль из комода. Лихо перекинув ее через плечо, он осторожно спустился в залу.
Как приятно ощущать на плечах прохладные шелковые складки, чувствовать, что длинный шлейф тянется по ступенькам, шуршит, задевая за перила.
Шушка пробежал по зале — шаль, как огромное голубое крыло, летела за ним. Он схватил каминные щипцы — чем не меч? Щипцы оказались тяжелыми, и Шушка с трудом держал их. Но настоящий меч должен быть тяжелым! Размахивая щипцами, он еще раз пробежал по зале. Бегать со щипцами в руках было значительно труднее. Он выдвинул на середину залы стул и сел на него верхом, воображая, что скачет на коне.
Граф выслал Керубино в Болонью, но Керубино не поедет, он обманет графа, он не может покинуть графиню.
«В конце концов потребность сказать кому-нибудь «я вас люблю» сделалась у меня такой властной, что я произношу эти слова один на один с самим собой, когда бегаю в парке, обращаюсь с ними к деревьям, к облакам, к ветру, и эти мои восклицания ветер вместе с облаками уносит вдаль…»
Шушка шептал наизусть слова Керубино и чувствовал, как сердце его переполняется любовью и к воображаемым деревьям, и к облакам, плывущим за окнами в вечернем небе, и к ветру, и ко всем людям на земле… Я вас люблю!
А может, он не Керубино, а Дон-Кихот? За ним погоня!
Он не трус! Он храбро встретит своих преследователей. Шушка натягивает полотняный чехол на стуле — стой, конь, стой! Я ранен, но я буду биться до последней капли крови!
И конь, его верный друг, послушно останавливается. Шушка резко поворачивается, взмахивает мечом, чтобы сразить врага, еще, еще раз, и вдруг — о ужас! — огромная китайская ваза со стуком и звоном, покачнувшись, падает с круглого столика.
Множество мелких осколков устилает пол.
Мало того, что он ослушался матери и взял без спросу шаль, он еще разбил дорогую вазу! Что делать?
Шушка кинулся в людскую. Там было тихо. Василий сидел за столом и, держа на трех пальцах блюдечко с горячим чаем, сосредоточенно дул на него, со свистом втягивая крепкий душистый чай и с хрустом откусывая сахар.
— Василий, помоги, беда! — задыхаясь от бега и волнения, прошептал Шушка.
Василий взглянул на потное и красное лицо барчонка, на голубую атласную шаль, завязанную узлом под подбородком, и весело фыркнул.
— Ну и учудил! Ты словно что царевич из сказки. Или тоже в заморские края собрался?.. — И он звонко расхохотался. Но, увидев на лице мальчика удивление и обиду, Василий посерьезнел и спросил участливо: — Чего сотворил?
— Пойдем в залу, Василий… — попросил Шушка.
Василий медленно поставил блюдечко на стол, перевернул пустую чашку и положил на дно огрызок сахара. Потом перекрестился, встал и пошел вслед за Шушкой.
— Да ты тряпку-то с шеи сними, не ровен час, запутаешься, упадешь, ноги поломаешь…
Увидев разбитую вазу, Василий только закряхтел и почесал в затылке.
— Н-да, дер герр увидит, воркотни не оберешься, — сказал он не очень почтительно. — Ну, ничего, вон там, в углу, глянь-ка, за музыкой, еще одна такая стоит, мы ее сейчас сюда, на вид выволокем, а эту сметем, мигом!
Он принес веник, совок и быстро смел осколки. Шушка со страхом и благодарностью наблюдал, как Василий лез под рояль и осторожно выкатывал оттуда китайскую вазу. Он водрузил ее на место разбитой.
— Видишь, как ладно получилось. Батюшка твой сюда редко ходит, а придет, не заметит. А барыня хватится — не беда!
— Спасибо тебе, Василий, — негромко и раздельно сказал Шушка.
Василий улыбнулся и махнул рукой.
— Не на чем, барин, дело такое, может, и ты за нас когда постоишь…
Глава десятая РАЗДЕЛ
Все на свете имеет конец, — миновало и это знойное тягучее лето. Налетел ветер, нагнал груды тяжелых серых облаков, они толкали друг друга, громоздились и наконец пролились обильным крупным дождем. Потом дождь стал затихать, но совсем не переставал, а все сеял и сеял. Холодно, сыро, серо. Пожелтели и свернулись листья, ветер нес их по улицам и переулкам.
Лев Алексеевич несколько раз ездил к старшему брату, чтобы договориться о встрече для раздела, но каждый раз возвращался ни с чем: то братец болеть изволил, то просто находился в дурном расположении духа. Лев Алексеевич приезжал домой мрачный и раздраженный.
— Ну и норовистые мы, Яковлевы! — в сердцах повторял он.
Иван Алексеевич молча посмеивался.
Наконец однажды, уже в середине зимы, сенатор вернулся возбужденный и, весело потирая руки, сказал:
— Согласился. На той неделе пожалуют!
Иван Алексеевич исподлобья взглянул на брата, который своей танцующей походкой ходил из угла в угол гостиной.
— Уломали? — спросил он насмешливо.
— Уломал, уломал… — торжествующе ответил Лев Алексеевич. Он гордился тем, что так ловко выполнил возложенную на него миссию. «Теперь только бы Иван не испортил дела… — с тревогой думал он. — Этот тоже с норовом…»
Слух о том, что Александр Алексеевич соизволят пожаловать и речь будут вести о разделе, прошел по дому. Среди дворовых началось волнение.
Шушка никогда не видел своего старшего дядюшку и до сих пор мало что слышал о нем. Но теперь с утра до вечера только и разговоров было, что о старшем «братце».
Александр Алексеевич жил один в доме на Тверском бульваре, притеснял дворню и разорял мужиков. Лишенный всяких занятий, он от нечего делать заводил служебные тяжбы — тридцать лет судился из-за Аматиевской скрипки (жил в Италии такой знаменитый скрипичный мастер Амати) — наконец выиграл скрипку, хотя сам на скрипке играть не умел да и к музыке был равнодушен. Потом начал процесс из-за стены, что отделяла его дом от соседнего владения. Несколько лет судился, выиграл стену, которая была ему не нужна. Дворовые обходили его дом, боясь лишний раз попасться на глаза, и бледнели при одном упоминании его имени. Теперь дворовые служили в церкви молебны: лишь бы не достаться Александру Алексеевичу.
В людской только и разговоров было о том, кто кому достанется.
— Наш то хоть поблажит, да в обиду не даст, а от старшего братца один бог защитит… — с дрожью в голосе говорили крепостные.
Шушка с недоумением слушал эти разговоры. «Почему они так спокойно рассуждают о том, кого кому отдадут? — думал он. — А если бы меня захотели отдать? Я бы не позволил! — отвечал он сам себе. — Я бы убежал в дремучие леса, собрал верных людей и выковал оружие. Нет, нас никто не посмел бы тронуть, — с горячностью думал он. — У нас не было бы слуг и господ. Мы бы так хорошо жили, что всякий, кто узнал про нас, захотел бы жить с нами…»
Однажды в людской Шушка рассказал о своих мечтах Василию. Но тот только рукой махнул.
— Ты хоть и барин, а выдумщик, как простой мужик, — сказал он. — Только и до тебя такие люди водились. Тоже соображали, как без господ жить. Хорошо задумывали, плохо кончали. Разин Стенька, Емеля Пугачев. Одному голову на Красной площади отрубили, другого в клетке на Болоте заместо зверя показывали. Мне бабка моя сказывала, сама видела: приедут барыни, красивые такие, и зонтиками в клетку, что в собаку, тычут, тычут…
— А он что? — широко раскрыв серые, потемневшие от гнева глаза, спрашивал Шушка.
— Чего ж он может, в клетке ведь…
Шушка попробовал заговорить об этом с мадам Прево, но у Лизаветы Ивановны глаза стали круглыми от страха, и она в испуге замахала руками.
— О, мой мальчик! — воскликнула она. — Я видела французскую революцию! Какие ужасы делал Робеспьер! Нет, нет, как это можно без господ?
И она завела бесконечный рассказ о том, что творилось в Париже в 1793 году. Она говорила об ртом с ужасом, а Шушка слушал затаив дыхание. Много — бы он отдал, чтобы побродить по городу, где на улицах отплясывали карманьолу и называли друг друга не «кавалер» и «дама», а «гражданин» и «гражданка»! Танцевали в развалинах монастырей («Такое богохульство!» — восклицала мадам Прево) при свете лампадок, на алтаре. Мужчины носили синие тирольские камзолы и закалывали сорочки булавками, которые назывались — «Свобода», потому что украшены были красными, белыми и синими камнями, — цвета флага Французской республики. И звучали лозунги: «Свобода, равенство и братство!» «Какие хорошие слова! — думал Шушка. — Все люди свободны, равны, все люди братья…»
А мадам Прево продолжала:
— Нет, нет, без господ никак нельзя. Когда революция, нет хлеба, угля, мыла. Женщины целые ночи стояли в очередях, ожидая хлеба. На улицах всех хватали. Моего мужа чуть не повесили на фонаре…
«Как же так? — думал Шушка. — Не было хлеба… А у богатых он есть? Если бы они сами отдали все, не было бы этих мучений. Но они не хотели отдавать. Потому бедные и решили отнять у них силой… И я бы отнял, если бы мне не давали…»
— А потом мы уехали в Россию, здесь покойно, здесь царь. Откуда у вас такие грешные мысли, мой маленький?
— А что вы в России стали делать? — заинтересованно спросил Шушка.
Он не понимал, как можно было уехать из Франции, когда там совершались такие замечательные дела.
— Жила при детях у барина в Тверской губернии. Господин хороший был человек, только шутник. Он рассказывал мне, что у него в саду много медведей. Раз я пошла через сад, гляжу, идет медведь престрашущий! Ох, я упала в обморок, а муж мой чуть не застрелил медведя. А это и не медведь вовсе оказался. Это барин велел своему камердинеру шубу шерстью навыворот надеть, чтобы людей попугать. Шутник был, уж какой шутник! — И Лизавета Ивановна весело смеялась.
Но Шушке почему-то не было смешно.
«И няня Вера Артамоновна говорит, что без господ нельзя, и Василий, и мадам Прево. А почему нельзя? Кто так устроил?» — думал он.
Настал долгожданный день. С утра в доме все пришло в волнение. Шушка чувствовал, как от страха у него заходится сердце, хотя ему бояться было нечего: его ни делить, ни продавать никто не собирался. Он решил обязательно поглядеть на страшного дядюшку.
Часа за два до появления Александра Алексеевича приехал старший племянник Яковлевых — Дмитрий Павлович Голохвастов. Братья просили его присутствовать при встрече. Иван Алексеевич пригласил также Андрея Ивановича Ключарева, доброго толстого чиновника, который заведовал делами всех Яковлевых.
Ждали молча. Вдруг в напряженной тишине раздался показавшийся всем неестественным голос лакея:
— Братец изволили пожаловать.
— Проси, — заметно волнуясь, сказал сенатор.
Иван Алексеевич захватил из табакерки побольше табаку и затянулся глубоко и сильно. Дмитрий Павлович поправил галстук, Ключарев поперхнулся и закашлялся. Шушке приказано было идти наверх, в детскую, но он только тихо вышел за дверь и притаился, чувствуя, как озноб пробирает его тело. В полуоткрытую дверь он увидел дядюшку. Александр Алексеевич двигался медленно и нес перед собою на вытянутых руках тяжелый образ — так носят иконы на свадьбах или похоронах. Иван Алексеевич и сенатор поднялись навстречу брату. И тогда Александр Алексеевич заговорил протяжно, в нос:
— Этим образом благословил меня перед смертью своей наш родитель, поручая мне и покойному брату Петру печься об вас и быть вашим отцом в замену его… Если бы покойный родитель наш знал ваше поведение против старшего брата…
— Но, мой дорогой брат, — своим бесстрастным голосом заметил Иван Алексеевич, — лучше было бы забыть эти тяжелые напоминания, лучше для вас да и для нас.
— Как?! Что?! — не своим голосом закричал благочестивый братец и так швырнул образ, что зазвенели серебряные ризы.
Тут и сенатор не выдержал, закричал громко и страшно. Шушка со всех ног кинулся наверх, прислуга попряталась. Что было дальше, Шушка не знал. Раздел состоялся.
Ивану Алексеевичу досталось именье Васильевское с деревнями, сенатору — Новоселье с Уходовом, Александру Алексеевичу — Перхушково под Москвой.
Лев Алексеевич тут же стал подыскивать себе дом, чтобы разъехаться с братом. Иван Алексеевич тоже решил купить особняк в Старо-Конюшенном и за лето отделать его. Весной, и как можно раньше, решено было ехать в Васильевское.
Глава одиннадцатая НЕУЖЕЛИ ОН КОГДА-НИБУДЬ НАПИШЕТ КНИГУ?
1
Иван Алексеевич, боясь простуды, сына зимой из дому не выпускал. Разве что иногда разрешал прокатить в карете. Но Шушка не любил эти прогулки. Укутанный по приказанию отца шалями и платками, он задыхался. Двигаться не разрешали — не дай бог, вспотеет. Сиди, как ватный болванчик, не смея двинуть ни рукой, ни ногой.
То ли оттого, что Шушка почти не бывал на воздухе, то ли еще почему, но он стал плохо спать. По вечерам долго не мог заснуть, ворочался в постели, слушая добродушную воркотню Веры Артамоновны и Лизаветы Ивановны, их старческие шаркающие шаги.
Потом в доме все стихало, засыпало, а он не спал, и ему казалось, что на всей земле не спит только он один. Это было страшно.
Недавно он слышал, как отец сказал сенатору, что надобно бы Шушку в пансион отдать.
— Вон Танхен отдали, какая тихонравная стала, — добавил Иван Алексеевич и строго взглянул на сына.
Уф! Услышав ужасное слово «пансион», Шушка чуть не умер от страха, выбежал в девичью и горько заплакал. И сейчас, ворочаясь в постели, задремывая, он вздрагивал и с ужасом осматривался — не в пансионе ли он? А может, это страшное слово только приснилось ему? И он зарывался лицом в подушку — какая-то особенная, доселе неиспытанная нежность к вещам, привычным с детства, охватила его. Мысль, что со всем этим придется расстаться, была невыносима.
И Шиллер ненавидел пансион и мечтал скорее вырваться из него… Шиллер… С тех пор как однажды в библиотеке Шушка нашел пыльную книгу в кожаном переплете, раскрыл, и на него взглянули смелые, открытые глаза юноши с длинными, вьющимися волосами и высоким лбом, он больше не расставался с этой книгой. И сейчас заветный томик был тщательно спрятан у него под подушкой. Но герои Шиллера были храбрые, они ничего не боялись, а он, Шушка, испугался, что его отдадут в пансион. Ему стало стыдно.
А Вальтер не испугался, когда злодей ландфохт приказал его отцу, Вильгельму Теллю, сбить яблоко с головы сына за то, что он не отдал долженствующих почестей шляпе ландфохта.
«Я не робею. Ведь мой отец бьет птицу на лету, он сердце не пронзит родного сына!» — воскликнул Вальтер и даже отказался завязать глаза, а смело глядел на стрелу, летевшую в него.
В переулке, за окнами, взвизгнул снег, раздался громкий возглас кучера, посвист кнута, и снова все тихо. Тихо на всей земле. Луна мутная и голубая глядела в окно.
Чтобы отвлечься от своих грустных мыслей, Шушка воображал себя героем прочитанных книг. В голове мозжило, он раздражался и сердился. Ему хотелось, чтобы герои поступали совсем не так, как они поступали в книгах. А почему нельзя сделать так, чтобы они поступали по-другому, так, как хочется ему, Шушке?
Эта мысль была так неожиданна, что он забыл о пансионе, приподнялся на постели и перевернул горячую подушку.
«Если бы это был я, я бы поступил иначе? — продолжал думать он. — Значит, я могу придумать такого человека, ну как я… И он будет делать все, что я захочу?.. А если все это не только придумать, но и записать?»
От собственной дерзости мелкие капельки пота выступили на лбу, и влажными стали волосы.
«Надо все рассказать Тане. Она поймет. И поедет с ним. Куда поедет? Ее привезут в субботу из пансиона. Из пансиона? А его? Его отвезут в пансион. Это очень плохо. Надо, чтобы всем людям было хорошо. Гений в цепях… Они поедут. И Василий…»
Мысли путались. Шушка пытался вспомнить, куда он едет и кого ищет, но окончательно запутался и предался во власть тяжелой вязкой дремоте.
«Что это было? Сон? — протирая глаза и жмурясь от яркого зимнего солнца, спросил себя Шушка. — Я вошел в комнату, в библиотеку, в нашу библиотеку. Книги лежали на полу, только их гораздо меньше, и все они большие и толстые, как альбомы. Я открыл одну из них, а вместо букв там цветные картинки и все живое, настоящее — деревья, дома и люди. (Такие, как когда-то давно он надеялся найти внутри цветных кубиков.) Люди что-то говорили между собой, смеялись и не обращали на меня никакого внимания. Еще горы и лодка. И в другой книге так. Но разве так бывает? Потом я взял одну книгу и унес с собой. Куда унес?»
— Чего шопчешь, батюшка? — спросила Вера Артамоновна. — Одеваться пора.
За завтраком Иван Алексеевич торжественно объявил, что решил Шушку в пансион не отдавать, а пригласил к нему двух учителей: француза Бушо из Меца и немца из Сарпеты — Ивана Ивановича Эка.
— С будущей недели начнешь учиться! — категорически сказал отец.
У Шушки отлегло от сердца.
Завтрак окончился, и все разбрелись по своим комнатам. Берта, тяжело ступая — старая стала! — поплелась за Шушкой в детскую и, лизнув ему руку, улеглась возле печки. Шушка опустился с ней рядом на голубой пол и, тихо напевая, поглаживал ее длинные лохматые коричневые уши. От печки тянуло жаром, взблескивали на стеклах затейливые снежные узоры. Берта закрыла глаза и сладко задремала, изредка помахивая хвостом.
Неужели он когда-нибудь сможет написать книгу? Эта мысль то была простой и легкой, то пугала своей дерзостью. А почему когда-нибудь? Ему казалось, что стоит только сесть к столу и обмакнуть перо в чернильницу, как строчки побегут одна за другой. Но где писать? В библиотеку Шушку зимой не пускали — там не топлено. В детской нельзя. Вера Артамоновна и Лизавета Ивановна заинтересуются, станут расспрашивать, а это должно быть тайной, его тайной.
Он поднялся. Берта открыла один глаз и посмотрела на него с укором: чего, мол, тебе не сидится? Тепло, уютно…
Шушка спустился к Карлу Ивановичу, выпросил перо, чернильницу и бумагу. Он расположился в гостиной, за маленьким круглым столом и предусмотрительно заглянул в чернильницу — хватит ли чернил? Ведь он должен написать целую книгу!
Убедившись, что чернил хватит, Шушка обмакнул перо. Но не тут-то было! Все слова казались обыкновенными, будничными, а писать обыкновенными словами не хотелось, — рассказывать он собирался о событиях необыкновенных.
Ранние зимние сумерки спустились на землю. Гостиная медленно погружалась в темноту, входил Василий, мешал кочергой в печке, и красные угольки падали на железный лист, чадили и гасли.
Берта терлась головой о его колени. Множество измятых, изорванных листов валялось на полу, перо было изгрызено, а Шушка так ничего и не написал.
«В субботу приедет Таня, расскажу ей, может, она что-нибудь придумает», — решил он, собрал в кучу скомканные листы и сунул их в печку.
Огонь услужливо лизнул рыжим языком бумагу — мгновенье, и она превратилась в пепел.
2
Вот наконец и суббота! Послан экипаж в пансион. От нетерпения сердце колотилось так, что в ушах отдавало. Шушка вертел и ломал все, что попадалось под руку, — перья, карандаши, игрушки. Десять раз спускался он по лестнице к парадной двери, слушал, не звонят ли, подбегал к окну. В доме напротив уже засветились окна, чья-то рука задернула плотные шторы.
Наконец-то! Скрип полозьев, звон бубенцов… Но нет, мимо, мимо…
«Может, ее не отпустят сегодня? — с тревогой думал Шушка. — Может, заболела?»
Но опасения оказались напрасными.
Таня приехала из пансиона притихшая, в длинном темном платье с белым воротничком и манжетами, ее непослушные кудрявые волосы были туго уложены в толстую косу. Шушка смотрел на Таню с робостью. Здороваясь, она церемонно приседала, придерживая пальцами край юбочки. Но вот Таня ушла в комнату Луизы Ивановны, долго мылась над голубым фарфоровым тазом и снова появилась в детской, порозовевшая от умывания, в мягоньком сером домашнем платьице, открывающем ее крепкие ножки в туго натянутых чулках. Волосы расплетены и расчесаны, только на затылке перехвачены широкой лентой. Шушке очень нравилось, как они свободно падали по спине и плечам…
Обняв Шушку, она увела его в гостиную, усадила рядом с собой на диван, и они сидели там до ужина, рассказывая друг другу все, что произошло за неделю. Милые тихие часы! За окном густели зимние сумерки, небо становилось ярко-синим и твердым, тени выползали из углов мягкие и бесшумные, они ложились на стены, на пол, на потолок и постепенно захватывали всю комнату.
Таня, рассказывала, какие отметки получила за неделю, как несправедлив был к ней учитель словесности, о подругах по пансиону, и Шушка слушал с ревнивым чувством — ему хотелось быть ее единственным другом.
Таня рассказывала складно и звонко, весело смеялась, в лицах изображая то классную наставницу, то кого-либо из учителей. А Шушка говорил, запинаясь от волнения, ему казалось, что Тане совсем неинтересно слушать его. Сбивчиво и взволнованно рассказал он о том, что передумал и пережил в эти дни. Таня выслушала внимательно.
— Но как же так, — сказала она, — ты же мечтал стать военным. И вдруг — книги писать…
Шушка растерялся, последнее время он забыл о своем намерении вступить на военную службу.
— Ну и что же, — пытался возразить он. — А когда не будет войны, я стану сочинять книги.
Таня, тряхнув волосами, с сомнением покачала головой:
— Я не знаю, как пишут книги. А вот у нас одна девочка в пансионе сочинила пьесу, и мы будем ее разыгрывать на выпускном вечере. Вот и ты, сочини пьесу, и мы ее разыграем. Как это будет прекрасно! — И, предвкушая удовольствие, она захлопала в ладоши. — А у нас сегодня на сладкое давали взбитые сливки с вареньем, — вдруг весело сказала она, словно позабыв о том, о чем рассказал ей Шушка.
Но он не сердился на нее. Ему нравилось глядеть, как блестели в темноте ее карие глаза, как пробегали тени по оживленному лицу. — Он словно бы невзначай коснулся рукой мягких пушистых волос, но тут же отдернул руку — а вдруг обидится?
Нет, и она его не понимает.
3
В столовой собрались гости. Приехали Дмитрий Петрович Голохвастов, Мария Алексеевна Хованская. Тетка оглядела племянника строгим и быстрым взглядом.
— Твой-то воспитанник все такой же баловень! — обратилась она к Ивану Алексеевичу, — Помнишь, как боялся, что я его в ридикюль упрячу? Большой стал, теперь не испугается… Подойди, друг мой, — сказала она Шушке и засмеялась басоватым коротким смехом.
Шушка подошел, и она положила на его плечо сильную, костлявую руку. Он стоял молча. В ридикюль тетка его, конечно, не упрячет, а все-таки страшно…
Егоренька молча наблюдал за младшим братом, — в детстве он вот так же побаивался Марию Алексеевну, хотя и был обязан ей тем, что его взяли из деревни в барский отцовский дом.
Среди гостей Шушка увидел князя Феодора Степановича. Дома, выполняя роль хозяина, Феодор Степанович был любезен и велеречив, в гостях же говорил мало и нередко поддерживал разговор лишь одобрительным носовым звуком. А если вопрос собеседника был настойчив, то подтверждал этот звук едва заметным кивком головы.
После ужина все перешли в гостиную и уселись возле круглого стола. Луиза Ивановна разливала чай. Таня и Шушка поместились за небольшим отдельным столом чуть поодаль и стали рассматривать огромную книгу в переплете, тисненном золотом. В этой книге были записаны дворянские родословные и изображены родовые гербы. Рассматривая яркие цветные гербы, дети так увлеклись, что не слушали, о чем говорят взрослые. Но вдруг Шушка насторожился, до него донесся голос отца:
— А что, любезнейший Феодор Степанович, гений в цепях, то есть талант, вами открытый, за это время еще сотворил что-либо? Или так и почил на лаврах? — спросил Иван Алексеевич.
Феодор Степанович поморщился и издал неопределенный носовой звук, явно показывая, что разговор ему неприятен. Но Иван Алексеевич, нащупав больное место собеседника, не мог упустить случая потешить себя.
— А хороша статуя, — продолжал он. — Бесподобно хороша! Жаль, если сей самородок не будет далее развивать талант свой.
Феодор Степанович еле заметно кивнул головой и выпустил из трубки облачко табачного дыма. Теперь уже поморщился Иван Алексеевич — он терпеть не мог, чтобы в его присутствии курили.
— Значит, ничем порадовать нас не можете? — не унимался он. — Что же, вдохновенье иссякло?
— Да как вам сказать, — с неохотой заговорил князь, поглаживая розовый, тщательно выбритый подбородок, и Шушка с неприязнью следил за его длинной выхоленной рукой с толстым обручальным кольцом на безымянном пальце. — После того как творение его вызвало столь шумный успех, несчастный почему-то вообразил, что я отпущу его на волю, и даже предлагал за себя крупный выкуп. Какая неблагодарность! Чем ему у меня плохо? Трудись себе, сколько бог сил дает. Так нет, заупрямился. Муза его, видите ли, не выносит рабских оков… Ха-ха! — коротко и принужденно хохотнул он. — Решил, что гений в цепях — это он и есть! Я, конечно, посмеялся, сказал, чтобы о вольной и не помышлял. Трудись, говорю, во славу моего семейства… И что бы вы думали, господа? Совсем свихнулся, хоть в смирительный дом отправляй. Работу бросил. Я подождал, подождал, да недавно и свез его в лечебницу для умалишенных.
В комнате воцарилось неловкое молчание.
— Все вольности ваши, — басом сказала наконец Мария Алексеевна. — Набрались от французов смутных идей, теперь с мужичьем сладу нету… Хлебнем еще горя…
И снова молчание, тягостное, длительное. Чтобы нарушить его, Феодор Степанович ласково обратился к Шушке:
— А что это вы, молодой человек, с таким увлечением разглядывать изволите?
Шушка, подняв на князя сухие потемневшие глаза, сказал отчетливо и громко:
— Зоологию, — и показал Феодору Степановичу яркую страницу с разноцветными гербами.
Таня не удержалась и фыркнула, но взрослые не смеялись. Иван Алексеевич пробормотал что-то, с сердитым любопытством поглядел на младшего сына, Луиза Ивановна покраснела, побледнела. Только сенатор, казалось, не замечал всеобщего смущения. Похохатывая, рассказал он какой-то новый анекдот, прошелся по комнате и сказал:
— Простите, господа, мне пора в клуб!
Вслед за ним поднялись гости.
Проводив их, Иван Алексеевич строго обратился к Шушке:
— Кто дал тебе право так отзываться о русском дворянстве? Русское дворянство верно служит отечеству. Ты не думай, любезный, чтоб я высоко ставил превыспренный ум и остроумие. Не воображай, что очень утешит меня, если мне вдруг скажут: ваш Шушка сочинил «Черта в тележке».
Я на это знаешь что скажу: «Скажите Вере, чтобы вымыла его в корыте».
Таня и Шушка покатились от смеха.
— А ты, рында, — обратился он к Тане, — зачем поощряешь его к дерзостям? Не дело это, забавляться его неуместными остротами!
Иван Алексеевич прошелся по комнате, подошел к столу, под которым спокойно лежала Берта, крикнул человека и велел ему вывести собаку во двор. Берта послушно и понуро пошла к двери.
— В жизни умение вести себя важнее превыспреннего ума и всякого учения, — снова обратился он к детям.
Глава двенадцатая ПРОЩАНИЕ
1
Как ни утверждал Иван Алексеевич, что нынешний год отправится в Васильевское с первым солнышком, чтобы видеть, как лист распускается, а выбрались в деревню только в конце июня.
Сенатор деятельно готовился к переезду в новый дом. Иван Алексеевич тоже купил дом, в Старо-Конюшенном переулке, и перед отъездом отдавал последние распоряжения по отделке. Со Львом Алексеевичем уезжала из дому вся его прислуга. Шушку больше всего печалило то, что надо было расставаться с Кало. И хотя Кало не раз справедливо говорил, что жить они будут неподалеку (новый дом сенатора находился на Арбате) и смогут видеться часто, очень часто, мальчик понимал — это совсем не то. Теперь можно в любую минуту прибежать к старику, рассказать обо всем, а иногда даже почитать свои неумелые, писания. Кало был благодарным слушателем!
Сдвинув на нос очки, он откладывал в сторону перочинный нож (случалось, что Шушка заставал старика, когда он, по старой памяти, мастерил игрушки своему любимцу) и весь превращался во внимание.
— О, как это прекрасно, мой дорогой! — от души восклицал немец, и его маленькие добрые глаза становились влажными и нежными. — Я так горжусь вами! Вы принесете славу своему папеньке…
Шушка краснел, опускал глаза, но похвалы были приятны. Ему так хотелось прославиться!
Уже отправлено в Васильевское множество подвод с домашним скарбом и съестными припасами: сахар, чай, крупа, вино. Написали старосте, чтобы дом к приезду господ вымыли и протопили. Вот-вот должны прислать из деревни подводы, а Иван Алексеевич все не назначал день отъезда.
Шушка уложил тетради, книги и с нетерпением ждал, когда раздастся во дворе лошадиное фырканье, хруст сена. Василий до блеска вымыл карету, выбил мягкие сиденья. Иван Алексеевич по-прежнему молчал. Наконец однажды, за вечерним чаем, он сказал, ни к кому не обращаясь:
— Утром в дорогу с богом!
Итак, едем, едем!
Шушка проснулся на рассвете. Дом еще был погружен в сонную тишину. Солнце светило тускло и нежарко, тяжелые кучевые облака нехотя ползли по небу. Спала Вера Артамоновна, в ногах у нее свернулся клубком и выставил кверху розовый нос — (это к теплу!) полосатый кот Феликс.
Шушка обвел взглядом комнату. Сегодня он проснулся здесь в последний раз. Осенью из деревни они приедут в новый дом, и там у него, как у взрослого, будет своя, отдельная комната. Он тихо встал с постели. Ему вдруг захотелось, пока все спят, одному пройти в тишине по дому и попрощаться с ним.
Осторожно ступая босыми ногами, чтобы не скрипели половицы, он как был, в длинной ночной рубашке, вышел в коридор. Двери в комнаты отца и матери были закрыты. Тихо. Шушка спустился в залу и подошел к камину.
— Прощай, — сказал он пастушонку. — Мы больше никогда не увидимся…
Но на пастушонка Шушкины слова не произвели никакого впечатления. Это было обидно. Во всем виновата пастушка. Он хлопнул ее ладонью по носу и показал язык — вот с ней-то ему ни капельки не жаль расставаться! Но и пастушка осталась равнодушна и продолжала беззаботно улыбаться, убежденная в том, что никто не устоит перед ее фарфоровыми ямочками.
Шушка подошел к двери, что вела в библиотеку. Сердце его дрогнуло. Самая дорогая комната. Сколько упоительных часов проведено здесь! Легонько приоткрыв дверь, он заглянул в нее. Книги по-прежнему лежали на полу, только теерь они были увязаны аккуратными пачками — сенатор готовился к переезду. Шушка с нежностью погладил упакованные книги, подошел к одному из шкафов и вдруг в стекле увидел свое отражение — лохматый после сна, в длинной, до полу, ночной рубашке он сам себе показался очень смешным, не удержался и громко фыркнул. Он вспомнил о том, что сегодня они едут в деревню, — прогулки, походы за грибами и ягодами, катанье на лодке, привольное деревенское житье. Ему стало весело, и даже разлука с Кало показалась не такой печальной. Он снова взглянул в стекло и сам себе состроил смешную гримасу.
Потом прошел в гостиную, поглядел на диван, где зимой сиживали они с Таней, и в душе его шевельнулось благодарная нежность. «Я буду ей часто писать, очень часто! — подумал он. — А хорошо я ему тогда сказал: «Зоология»! Папенька рассердился, а я все равно хорошо сказал!»
Вот и комната Кало. Что если войти, разбудить, попрощаться сейчас, когда все еще спят? Старик не рассердится, в этом Шушка твердо уверен. Он открыл дверь и остановился на пороге. Немец спал на спине, его голова в ночном колпаке была закинута назад, рот ввалился, нос обострился. «Старенький», — с грустью подумал Шушка. Щеки Кало вздувались от еле слышного храпа. Было во всем его облике что-то беспомощное, и Шушке стало жаль будить старика. Он подошел — к столу, нашел лист бумаги, карандаш и написал крупно и четко:
«Прощай, дорогой друг Кало!»
Записку он положил на стол, на самое видное место.
2
Дом просыпался. Во дворе уже толпились кучера и дворовые, спорили о том, кто куда сядет, кто где положит свои пожитки. Без конца с места на место таскали какие-то мешки и мешочки, ящики и корзинки. Но больше всех суетился камердинер Никита Андреевич. Понимая всю ответственность, возложенную на него (он укладывал вещи самого барина), Никита Андреевич был свиреп и неприступен. Он выбрасывал из подвод все, что укладывали другие, распоряжался, кричал, приказывал.
Все было готово к отъезду, а Иван Алексеевич еще не вставал. Но вот он — показался в дверях спальни, в халате и шапочке с кистью, и как ни в чем не бывало отправился в столовую пить кофе.
Завтрак проходил как обычно. Казалось, никто никуда не собирался ехать. Шутил сенатор, тихо смеялась его шуткам Луиза Ивановна, молча отхлебывал кофе Егоренька. Об отъезде никто не заговаривал.
Вот завтрак окончен. Иван Алексеевич бросил на стол салфетку и коротко сказал Луизе Ивановне:
— Распорядитесь, чтобы выносили вещи!
Но вещи уже вынесены. Четырехместная карета заложена шестью господскими лошадьми. Коляска, бричка, фура, две телеги, несмотря на обозы, ранее отправленные, набиты битком, так что и сесть-то как следует негде.
Шушка бегал взад и вперед по лестнице, он уже успел посидеть в карете, вернуться в детскую, сунул в карман забытую книгу. Он всем мешал, на него шикали.
Скорее, скорее в путь!
— Присядем перед дорогой, — сказал Иван Алексеевич, и все чинно уселись в гостиной. Здесь и сенатор, и Егоренька, и Кало.
Минуту сидели в торжественном, напряженном молчании, но вот раздался строгий и одновременно насмешливый голос Ивана Алексеевича:
— Вставай, ты у нас самый младший…
Шушка вскочил и кинулся на шею Кало. Надо бы, конечно, сначала попрощаться со Львом Алексеевичем, но горечь разлуки с Кало снова овладела его душой, и он прижимался губами к морщинистым щекам немца, тыкался носом в его шею и подбородок, слезы щекотали горло. Но он не плакал, он только шептал горестно и взволнованно:
— Прощай, Кало, прощай, ты ведь все равно мой друг навсегда, навеки…
— Вы хороший мальчик, вы очень хороший. мальчик, — приговаривал Кало, смущенный и растроганный, гладил Шушку по волосам, стараясь высвободиться из его горячих и цепких объятий.
Обряд прощанья закончен. Слуги толпились, теснили друг друга, торопясь приложиться к бариновой ручке. Шушка побежал вперед, в карету, он сел у окна и, прижавшись к стеклу (Иван Алексеевич, боясь простуды, не разрешил поднять окно), смотрел на последние приготовления. В карете сумеречно и душно, — скорее бы в путь!
На дворе пусто, подводы и бричка уехали. Валялись клочки сена и соломы, обрывки веревок. Берта, высунув розовый, влажный язык, растянулась на крыльце и дышала тяжело и шумно, словно и она принимала участие в укладке. Только куры хлопотали больше обычного, кудахтали, взмахивали куцыми крыльями, дрались, подбирая просыпавшийся овес…
Наконец-то все расселись, карета качнулась, кучер тронул. Выехали по Тверской на Садово-Триумфальную, а там по Садовой вниз к Дорогомиловскому мосту.
Солнце стояло высоко, день близился к полудню, а яковлевский экипаж только выбрался за Дорогомиловскую заставу. Запахи лугов и лесов обступили карету, проникли внутрь, вытесняя пыльный, прогретый, городской воздух.
Карету то и дело потряхивало на выщербленной булыжной дороге, Иван Алексеевич кряхтел и ругал кучера. Луиза Ивановна молчала и безмолвно посмеивалась — медленнее ехать было невозможно.
— Поклонная гора, — проговорил Иван Алексеевич. — Отсюда Наполеон любовался матушкой-Москвой. Ждал, что принесут ключи от города и встретят хлебом-солью. Как бы не так! — воскликнул он, и при одном лишь воспоминании о днях наполеоновского нашествия молодые и задорные нотки зазвучали в его скрипучем, старческом голосе.
Обедать и кормить лошадей решено было в Перхушкове, имении Александра Алексеевича.
Неприютный дом, двухэтажный и серый, с деревянными колоннами, стоял прямо у дороги, среди голых безотрадных полей. За домом — небольшой тенистый липовый парк, запущенный, заросший лопухами, огромными, как зонтики, крапивой выше человеческого роста.
Шушка, усталый от езды и тряски, подошел к ограде парка, остановился. Он с наслаждением вдыхал напоенный ароматами трав и цветов летний воздух. После городской духоты даже эта пыльная даль казалась ему прекрасной.
Дом тоже был заброшен, в нем давно никто не жил. Полы покоробились, лестницы качались, шаги гулко отдавались по всему дому. Шушка бродил из комнаты в комнату, поднимался по шаткой лестнице на второй этаж, рассматривал старинную мебель, спускался на кухню. Там повар наскоро готовил дорожный обед, ругал плиту и очаг. В углу сидел старик с большой шишкой на голове и, слушая воркотню повара, согласно кивал головой и приговаривал:
— И то, пожалуй, что и так…
Лицо у него было невеселое и озабоченное, видно, он только и думал о том: когда нелегкая господ пронесет?
Обедали долго. Кушанья подавали на дорожном сервизе из английской жести — прихоть старого барина. А на дворе уже закладывали лошадей. В передней и в сенях толпились дворовые, доживавшие здесь свой век. С ними приходили дети, босые и запачканные. Дети кричали, старухи покрикивали на детей. Каждый старался схватить Шушку кто за рукав, кто за полу курточки и выразить свое восхищение:
— Вырос-то как!
— Красавчик!
Шушка краснел и отбивался.
Гам стоял невообразимый.
Но вот карета снова катится по старой Можайской дороге, серые избы сопровождают ее движение. Поля, поля, поля…
Глава тринадцатая В ДЕРЕВНЕ
1
А вот и Васильевское! Знакомый — бор и гора, покрытая орешником, брод через реку, вода брызжет из-под колес, мелкие камешки хрустят, лошади упираются, кричат кучера. На отлогом берегу Москвы-реки село, церковь и старый господский дом. По другую сторону — гора и небольшая деревенька. Там велел Иван Алексеевич — выстроить новый дом. Но он еще не готов, и лето решили провести в старом, полуразрушенном доме. У въезда в тенистую липовую аллею карету встретили священник, попадья, дворовые и крестьяне. Они стояли в почтительном ожидании, обнажив головы, а когда карета остановилась, по очереди подходили к барской ручке.
Шушка обратил внимание, что только один человек в толпе не снял шляпы, не стал тесниться возле кареты, а отошел поодаль и с достоинством и любопытством наблюдал за происходящим.
— Кто это? — спросил Шушка.
— А это дурачок наш, Пронька… — ответил кто-то из толпы.
Шушка хотел подойти к дурачку, рассмотреть поближе, но Пронька, заметив, что барчонок направился к нему, взглянул на всех быстрым затравленным взглядом и дал стрекача.
Пока выносили из экипажей вещи и припасы, в саду под липами накрыли чай. Кипел самовар, пряно пахли испеченные к приезду господ сдобные булочки, стыли в большом глиняном кувшине густые деревенские сливки…
Сквозь кустарники и деревья поблескивала Москва-река, синие поля уходили вдаль, пестрели стада, зубчатая стена леса темнела на горизонте. Запах скошенного сена смешивался с ароматом цветущих лип, медленно садилось солнце — все располагало к восторженному настроению духа.
Луиза Ивановна и Егоренька оживились, смеялись, строили планы прогулок, пикников. Луиза Ивановна даже пропела какой-то наивный немецкий мотивчик. Иван Алексеевич взглянул на нее коротко и колюче.
Шушка сидел притихший. Красота и тишина словно оглушили его. А когда за столом на мгновенье все замолчали, он вдруг продекламировал негромко и чуть нараспев:
Не человечьими руками Жемчужный разноцветный мост Из вод построен над водами. Чудесный вид! огромный рост! Раскинув паруса шумящи, Не раз корабль под ним проплыл; Но на хребет его блестящий Еще никто не восходил! Идешь к нему — он прочь стремится И в то же время недвижим; С своим потоком он родится И вместе исчезает с ним.Во все время разговора Иван Алексеевич не проронил ни слова, он сидел в кресле, на самом краю стола, и наблюдал за всеми насмешливо и неприязненно.
— Удивительно, как прекрасная природа и деревенские сливки располагают к чувствительности, — вдруг брюзгливо заговорил он, не дав Шушке дочитать стихи. — Даже у меня на уме вертятся стихи да романсы. Вот ты, Шушка, все Шиллера читаешь, а у меня из головы нейдет один трогательный романс: «Ах, батюшка, бел козел!» Не поет ли из вас кто «Белого козла»?
— Никто не поет и не знает, — с досадой ответил Шушка. Он не рад был, что забылся и прочел вслух любимые стихи.
— Ну так, может, кто-нибудь знает эту чувствительную песню? — И, холодно улыбаясь, Иван Алексеевич пропел, вернее, проговорил речитативом:
Как на речке, на Казанке, Девка стоя фартук мыла, Мывши, фартук обронила, Белы ноги замочила, На фартучке петушки, Золотые гребешки.Он выговаривал слова с недоброй усмешкой, словно желая унизить кого-то, обидеть, — видно, не по душе пришлось ему всеобщее восторженное настроение, и он решил сбить его, высмеять… Что ж, это удалось ему. Луиза Ивановна покраснела и умолкла, Егоренька сидел с неподвижным испуганным лицом. Шушка быстро допил чай и, поблагодарив, попросил разрешения встать из-за стола.
— А тебе все некогда, — проворчал Иван Алексеевич, но выйти разрешил. Он был доволен, что понизил до нуля общий восторг, и с видом человека, выполнившего свой долг, продолжал спокойно отхлебывать чай.
2
Шушка медленно шел по узкой тропинке, сбегавшей с обрыва к реке.
«Зачем он так? — думал он об отце. — Ведь я знаю, он не злой, зачем же мучает нас?»
Возле реки было тепло и влажно. Шушка остановился на небольшой песчаной площадке, кое-где поросшей короткой травкой, желтыми смешными цветами. Вода стояла неподвижная и прозрачная, — казалось, можно пересчитать на дне все камешки. Он уселся на большом плоском камне и, пригнувшись, провел ладонью по воде, — она была теплая и мягкая. От его прикосновения пошла рябь, камешки закачались, задвоились, затроились… Где-то в деревне скрипнул колодец, зазвенели ведра.
Первый раз с отъезда из Москвы Шушке стало грустно, — опять один…
«И никто не смеет ему перечить, — снова вернулся он мыслью к отцу. — Егоренька молчит. И матушка… И я тоже! — Он был недоволен собой. — Неужели он не понимает, как прекрасны эти стихи? Ну и пусть не понимает, ему же хуже…»
Шушка поднялся, сломал гибкий ивовый прут, очистил его зубами от коры — прут стал белый и гладкий, и, помахивая, пошел по-над берегом. Здесь ему никто не мешал. Он читал вслух одно за другим прекрасные шиллеровские строфы — читал по-русски и по-немецки:
На пажити необозримой, Не убавляясь никогда, Скитаются неисчислимо Сереброрунные стада. В рожок серебряный играет Пастух, приставленный к стадам: Он их в златую дверь впускает И счет ведет им по ночам. И недочета им не зная, Пасет он их давно, давно, Стада поит вода живая, И умирать им не дано.Стихи сливались с природой. Шушка шел по берегу, все дальше и дальше, слушая тихий плеск воды…
Они одной дорогой бродят Под стражей пастырской руки, И юноши их там находят, Где находили старики; У них есть вождь — Овен прекрасный, Их сторожит огромный Пес, Есть Лев меж ними неопасный И Дева — чудо из чудес.Солнце спускалось за лес. Шушка шептал слова Карла Моора:
— Так умирают герои… Когда я был еще ребенком, любимой моей мечтой было жить, как солнце, и умереть, как оно…
Шушке казалось, что лучше Шиллера писать нельзя.
Дон Карлос и Валленштейн, Вильгельм Телль и Фредерик, Мария Стюарт и Орлеанская дева стали его друзьями. У них искал он утешения, у них учился благородству, подвигу, любви.
Но ближе всех был ему Карл Моор, герой юношеской драмы Шиллера «Разбойники». Благородный Карл отвергнут отцом по проискам брата — негодяя Франца. Чтобы скорее получить наследство, Франц заключил старого отца в башню, он морил его голодом. А бедный отец, ни о чем не подозревая, во всем винил Карла, он проклял его и лишил наследства. Несчастный Карл стал разбойником, атаманом шайки. Но он не обыкновенный разбойник. Он грабит злых и богатых и раздает награбленное бедным и несчастным. Встав на преступный путь, Карл мечтает не о личной мести. Он понимает: его беда — это беда всех угнетенных, и борьбе за их счастье хочет он посвятить свою жизнь. Карла обожают все люди его шайки. И Шушка обожал Карла… Казалось, молодецкий посвист его ватаги и топот конницы раздавались в Васильевских лесах…
Гасли краски. Река становилась сначала желтой, потом красной, потом зеленой и, наконец, темно-синей. В воде, как и в небе, качались звезды…
3
А через несколько дней снова ссора с отцом…
Шушка вышел за околицу и смотрел, как деревенские ребятишки играли в городки. С веселым гиканьем бросали они тяжелый биток, он летел, тупо ударяясь о землю, поднимая тусклое облачко пыли, и серые круглые чурбашки лихо разлетались во все стороны. Восторженные возгласы сопровождали каждый меткий удар.
Самый маленький из ребят, которого не принимали в игру, чтобы выразить свой восторг, то и дело становился на голову, смешно открыв рот и выпучив глаза. Шушка не мог удержаться от смеха, глядя, как его белые, выгоревшие волосы волочатся по земле.
Шушка тоже схватил было биток и, нацелившись, уже готов был запустить его, как вдруг за спиной услышал резкий голос Ивана Алексеевича:
— Нельзя! Зашибешься, не ровен час…
Рука опустилась сама собой. Шушка стоял красный, покусывая от злости губы, не зная куда деваться от стыда. Мальчишки, смотрели на него кто испуганно, кто насмешливо.
Даже не обернувшись к отцу, он быстро побежал к речке, с трудом удерживая слезы.
На площадке белого песка, поросшей возле воды высокими тростниками, раздавался смех, доносились веселые всплески. Ребята, визжа от восторга, то вбегали в воду, поднимая снопы разноцветных брызг, то вылезали на берег, хлопая друг друга по голым коричневым спинам.
Шушка с завистью глядел на них. Ему было жарко, рубашка прилипала к телу. Немного поодаль тихо покачивалась на волнах легкая лодка. Высокий широкоплечий парень, забросив удочки, терпеливо глядел на воду — не появится ли заветная рябь? Но, видно, улов был нынче плох и парень сердито крикнул ребятам:
— Уймитесь вы, окаянные! Всю рыбу пораспугали!
Много отдал бы Шушка, чтобы оказаться сейчас в лодке рядом с этим парнем, подержать в руках гибкие удочки.
Кто-то схватил его за руку, и он вздрогнул от неожиданности.
— Папенька домой требуют! — запыхавшись, говорила Вера Артамоновна. — С ног сбилась, ищу вас… — И вдруг крикнула парню, что стоял в лодке: — Левка, рыбу на кухню принеси, господа купить велели!
— Искупаться бы… — жалобно протянул Шушка.
— Господь с вами! — замахала руками Вера Артамоновна. — Папенька не позволяют.
«Не позволяет, не позволяет, и почему он мне ничего не позволяет?» — вдруг с раздражением подумал Шушка и покорно поплелся за нянькой.
Желание покататься на лодке было так сильно, что он решил ослушаться отцовских запретов.
«Завтра попрошу Левку, пусть достанет мне лодку!» — упрямо решил Шушка.
Левка, крепостной деревенский парень лет шестнадцати, с того дня, как господа приехали в деревню, с любопытством наблюдал за маленьким барчонком. «Какой-то он чудной, на них непохожий, — рассуждал Левка. — Все один да один… Ишь, даже сам с собой разговаривает, видно, не с кем больше…» — жалостливо думал он, потихоньку подглядывая, как Шушка бродит по окрестностям и читает вслух стихи. А то ляжет с книгой в высокую траву и, порою откладывая ее, глядит в высокое небо и беззвучно шевелит губами, словно вспоминая что-то. «Может, богу молится? Просит о чем? — думал Левка. — Мелкокостный, хилый, словно цыпленок…»
И когда Шушка обратился к Левке с просьбой достать ему лодку, Левка обрадовался, что может потешить диковинного барчонка.
— Мы это дельце мигом сладим! — весело сказал он.
Теперь на рассвете, пока Иван Алексеевич еще спал, Левка учил Шушку грести. Они разговаривали. Шушка стал расспрашивать Левку о деревенском житье-бытье, но Левка отшучивался, молчал: барчонок ведь, разве можно ему все по правде сказать?
— Живем — не тужим, — твердил Левка. — А тужим — молчим…
Шушка чувствовал его недоверие, сердился, ему становилось грустно и обидно.
«А почему, впрочем, должен он мне верить? — тут же спрашивал себя Шушка. — Что он знает обо мне?..»
И снова с особенной остротой приходила мысль о друге, с которым можно было бы говорить, не таясь, зная, что тебя не высмеют, правильно поймут, разделят твои сомнения. Где ты, друг, неизвестный, далекий?! Шушка твердо верил, что он живет на свете и так же ждет его, Шушку, потому что ему тоже очень плохо одному. Когда же и где суждено им встретиться?..
Поднималось солнце, на дворе возле дома появлялись заспанные люди. Надо было возвращаться. Мальчики прятали лодку в густых камышах, привязав ее веревочкой за колышек, вколоченный в дно реки.
Шушка оказался способным учеником. Недели через две он уже мог прекрасно грести, лодка стала легкой и послушной. Теперь можно было кататься одному. Шушка вставал очень рано. Трава была седой от росы, крупные капли блестели на ветках кустарника, быстро промокали ноги. Он сбрасывал курточку и, закатав рукава рубашки, выводил из тростника лодку. Струистый след бежал по воде. Село, дом, лес, берега отражались в реке. Все тихо и неподвижно; иногда, вскрикнув, проносилась чайка или выбегал на прибрежный песок, чуть слышно чивикая, куличок…
Шушка греб сильно и вольно. Он поднимал весла и слушал, как падают капли. Куковала кукушка, и он спрашивал у нее: сколько лет я проживу? Кукушка куковала долго, он сбивался и переставал считать — впереди была длинная жизнь.
Иногда Иван Алексеевич, чтобы высказать свое благоволение, приглашал Шушку с собой погулять. Почему-то Иван Алексеевич определил для прогулок время самое неподходящее. Из дома выходили часа в два-три пополудни, в палящий зной. Шушка ненавидел эти прогулки, но, боясь обидеть отца, покорно шел с ним. Иван Алексеевич надевал новый длинный сюртук, брал круглую шляпу, трость с золотым набалдашником. Для прогулок он выбирал широкую проезжую дорогу среди зеленеющих полей или отправлялся к открытому берегу Москвы-реки, в каменоломню. Здесь когда-то начали добывать камень для строительства храма Христа-спасителя на Воробьевых горах. Постройка из-за воровства и мошенничества чиновников не состоялась, и огромные глыбы так и остались лежать на берегу, напоминая дикие горные скалы. Здесь было красиво и таинственно. В другое время прогулка доставила бы Шушке удовольствие. Но ходить в полуденный зной, под палящими лучами солнца, среди раскаленных камней было сущим наказанием. Домой возвращались потные, усталые, раздраженные.
И все же, несмотря на причуды Ивана Алексеевича, жить в Васильевском было куда привольнее, чем в Москве.
Однажды утром Левка постучал в Шушкину комнату. Дверь открылась, и Шушка увидел испуганную заячью морду с длинными вздрагивающими ушами.
— Тебе принес… — гордо сказал Левка, входя в комнату и опуская на пол большого серого зайца. Заяц тяжело проскакал по дощатому полу, вскидывая пушистый задок, потом вдруг поднялся на задние лапы и быстро-быстро забарабанил передними…
Шушка не знал, как отблагодарить Левку за такой подарок. Он поселил зайца в маленьком чулане подле своей комнаты и сам кормил его хлебом, капустой и молоком. А вскоре в чулане появилась еще и белка. Ее посадили в клетку, она прыгала по жердочке, грызла орехи, смешно забирая их обеими лапками.
Иван Алексеевич подарил Шушке фальконет — старинную мелкокалиберную пушку. Он разрешал сыну каждый вечер один раз выстрелить с плотины, пролегающей через Москву-реку. Ради этого события собиралась вся дворня, приходила Луиза Ивановна, Вера Артамоновна и даже появлялся сам Иван Алексеевич. Взрослые тешились не меньше Шушки.
Но больше всего любил Шушка длинные сельские вечера. Пастух хлопает бичом, весело заливается берестовая дудка, блеяние, топанье, — возвращается в деревню стадо. Собака отчаянным лаем подгоняет отставшую от стада овцу, и овца бежит, смешно вскидывая задние ноги, мотая коротким жирным хвостом. Скрипят ворота, из домов появляются дети, встречают своих коров и овец. Окончен трудовой день. Откуда-то доносится протяжная песня — это возвращаются с поля крестьянки. Песня ближе, ближе, ближе и вдруг снова удаляется — верно, тропинка свернула куда-то в сторону.
С овинов, где сушат у огня снопы перед молотьбой, тянет дымком, туман ползет по полям. Шушка прочел в одной из книг, что туман ложится там, где когда-то были реки и озера, — земля словно вспоминает о своем прошлом… Налетит ветерок, и листва закипает легко и шумно.
Ему казалось, что эта даль, эти поля, окружавшие реку, эта гора — продолжение его самого, и он слышал, как бьется сердце горы, и она дышит в лад с ним, с Шушкой. Он чувствовал себя затерянным в этой бесконечности, как листок на огромном дереве, но бесконечность эта не давила, было так хорошо лежать — кругом все родное, он дома…
Напившись вечернего чаю, Шушка уходил наверх, в свою комнату. Возле открытого окна он писал письма неведомому другу. Он рассказывал ему о своем одиночестве, звал на подвиг, на поиски счастья для всех людей. В окно вливался сладкий запах табака и маттиолы, влетали серые ночные мотыльки, слепо метались по комнате и, опалив крылья о пламя свечи, с треском падали на бумагу. Шушка вздрагивал. За окном голубело, розовело, бледнел огонек свечи, — коротки и кротки подмосковные летние ночи.
Но и это лето пришло к концу. Глубокая осень, грязь по колено, утром морозы, голые поля, только цеп стучит на току.
Иван Алексеевич на прощание поучает старосту, как закончить полевые работы, как собирать оброк. Приходит попадья с пирогом и бутылкой сливок. Староста Григорий провожает господ верст за десять на мирской саврасой лошади, — слава богу, отбыли! Григорий долго стоит на пригорке, сняв шапку и оглядываясь. Шушка видит среди полей его бородатую, все уменьшающуюся фигуру.
Дороги развезло, карета вязнет в грязи, клонится набок. Никита Андреевич выходит из кибитки и поддерживает ее, а сам-то тщедушный — и десяти фунтов не поднимет.
Проехали Вяземы, Перхушково, Кунцево. Вот уже Дорогомиловский мост стучит под колесами, горят окна лавчонок, кабаков.
— Калачи горячи! Сайки! Бублики! — отчаянно кричат разносчики.
Садовая… Арбат, — ну, вот и дома!
Глава четырнадцатая ИВАН ЕВДОКИМОВИЧ
Почему он не идет?
Шушка лежал на широкой тахте и прислушивался. Все тихо. Что случилось? Урок должен был начаться в одиннадцать, сейчас половина двенадцатого, а Ивана Евдокимовича нет как нет.
Тополь за окном кажется мохнатым от инея, он заглядывает в комнату, высокий и неподвижный.
Шла зима 1825 года… Пуховики сугробов завалили улицы и переулки Москвы. Нахохлились дома под тяжелыми снежными шапками. Во дворах и на бульварах выросли снеговые горки, бабы-снеговики таращили угольные глаза. Звонкие ребячьи голоса раздавались в морозном воздухе и доносились в Шушкину комнату — дворовые ребятишки играли в снежки.
Звонок? Нет. Все тихо…
За последний год Шушка вытянулся и повзрослел — скоро минет ему 14 лет. Теперь все в доме называют его Сашей, и только Иван Алексеевич не желает замечать, что сын вырос, и продолжает звать его детским именем. Саше это неприятно, но что поделаешь — отца не переспоришь!
Он встал и прошелся по комнате. Желтый шкаф карельской березы, книги, три плетеных стула, парусиновые шторки на окнах — вот и все нехитрое убранство комнаты. Но Саша любит ее. Здесь можно укрыться от брюзжания отца и докучливых наставлений матери. Здесь можно спокойно читать и писать, тут его книги, его бумаги, его мир, наполненный раздумьями и мечтами, грустными и радостными…
Приди, сорви с меня венок, Разбей изнеженную лиру… Хочу воспеть свободу миру, На тронах поразить порок!Вчера Иван Евдокимович передал ему затертую тетрадь, исписанную неровным, неразборчивым почерком. Запрещенные цензурой стихи Пушкина.
С тех пор стихи не давали покоя. Саша без конца твердил их, читал вслух. Чем бы ни занимался, о чем бы ни думал, стихи продолжали звенеть в его душе.
Хочу воспеть свободу миру, На тронах поразить порок!Иван Евдокимович дал Саше тетрадь под строжайшим секретом и только на один день. На ночь Саша спрятал ее под подушку — говорят, это помогает запомнить стихи на всю жизнь…
Наконец-то… Ну конечно, это он! Громкое шарканье — Иван Евдокимович снимает калоши. Хриплый кашель — разматывает шарф. Тяжелые, спотыкающиеся шаги — поднимается по лестнице.
Саша открыл дверь в тот момент, когда Иван Евдокимович хотел постучать. Высокий, небрежно одетый, в смятых, несвежих воротничках, с длинными, до плеч, прямыми космами волос, он стоял перед Сашей, красный с мороза, и потирал крупные шершавые руки.
— Я, кажется, опоздал, — проговорил он, сильно окая. — Прошу прощенья…
— Здравствуйте, Иван Евдокимович, я так ждал вас сегодня! — отвечая на приветствие, воскликнул Саша. — Будем заниматься в маленьком кабинете, туда папенька не придет.
Они быстро прошли в маленькую комнатку, где стояли электрическая и пневматическая машины, земной и небесный глобусы, а на стенах висели географические и исторические карты: физическая карта полушарий, карта древней Греции, политическая карта Европы…
— Иван Евдокимович, я велел вам кислого квасу приготовить, — сказал Саша, указывая на запотевший стеклянный кувшин.
Иван Евдокимович ласково улыбнулся и провел рукой по всклокоченной бороде и усам.
— Спасибо, мой юный друг, — говорил он, усаживаясь за маленький желтый столик, весь изрезанный и исчерченный перочинным ножом. — Есть у меня такая слабость — запивать гекзаметры кислым квасом…
Иван Евдокимович Протопопов уже второй год учил Сашу русскому языку, истории, географии, арифметике. Первое время он приходил в отчаяние от невнимательности и рассеянности своего ученика. Но вот однажды — учитель и ученик хорошо запомнили этот день — Иван Евдокимович, вместо того чтобы читать урок по учебнику, стал рассказывать его своими словами. Они проходили тогда историю древнего Рима. Иван Евдокимович рассказал Саше легенду о Ромуле и Реме, о волчице, вскормившей мальчиков. Он говорил спокойно, неторопливо, с будничными подробностями, словно произошло все это на днях, в какой-нибудь соседней губернии и он, Иван Евдокимович, был этому свидетель.
Саша слушал, и ему казалось, что деревянное корытце с новорожденными близнецами Ромулом и Ремом плыло не по Тибру, а среди живописных берегов Москвы-реки. И луг, с которого схлынули волны разлившейся реки и куда вынесло корытце, находится где-то возле Васильевского. И волков в Васильевском было много, а уж дятлы, которые приносили Ромулу и Рему пищу и охраняли их от всяческих бед, жили в Васильевских лесах чуть ли не на каждом дереве.
Мальчик слушал увлекательный рассказ о жизни младенцев в пещере, а потом в соломенной хижине, среди пастухов, и его обычно сонное и даже немного туповатое лицо стало вдруг живым, озорные огоньки загорелись в глазах.
С тех пор Сашу точно подменили. Уроки больше походили на беседы, и учитель обнаружил в своем ученике недюжинный ум, веселый и едкий юмор, благородную, устремленную к свободе душу.
— А помните, Иван Евдокимович, — сказал Саша, взглянув на иероглифы, вырезанные на крышке стола, — как вы считали меня тупицей и думали, что ничему не сможете научить… — Он засмеялся.
— Да, признаться, мне было совестно получать деньги по билетам от вашего батюшки за уроки, — хрипло откашливаясь и тоже посмеиваясь в усы, сказал Иван Евдокимович.
— А мне казалось, что мучительнее уроков не бывает ничего на свете!
Вместо скучных диктантов Иван Евдокимович задавал Саше сочинения на вольные или исторические темы, литературные обзоры и разборы, критические исследования. Саша, подсмеиваясь над собой, вспоминал тот бесконечно далекий день, когда ему впервые пришла в голову мысль написать книгу. Сколько он тогда испортил бумаги и поломал гусиных перьев! Теперь слова стали легкими, страстная мысль, бившаяся в сердце, послушно ложилась на бумагу и, не теряя внутреннего жара, становилась осязаемой и конкретной.
Правда, нередко в статьях на литературные и политические темы Иван Евдокимович видел, что Саша излагает его мысли. Но сделано это было с таким блеском и так по-своему, что Иван Евдокимович только диву давался. Он ловил себя на том, что порою с невольным уважением взглядывает на стройного мальчика в его, еще по-детски пошитом, зеленоватом сюртучке, с рукавами, из которых на вершок торчали худые, с голубыми прожилками длинные руки. Ворот рубашки раскинут, галстука ему еще не завязывали, но над губой уже пробивался легкий пушок, и Саша, то и дело краснея, пощипывал его рукой. И в произношении его еще сохранилась детская наивность, он выговаривал слог «ла» между французским «la» и русским «ла». Иван Евдокимович любил наблюдать, как Саша, зная за собой этот недостаток, вдруг иногда затруднялся на этом слоге, останавливался, краснея, и, улыбаясь, глядел на него.
У самого Ивана Евдокимовича произношение французское было ужасно. Он нещадно коверкал иностранные слова, перевирал ударения. Иван Алексеевич его за это терпеть не мог, и если присутствовал на уроках, то с прибаутками да ужимками передразнивал учителя. Иван Евдокимович смущался, Саша бесился, обижался, — он любил своего учителя. Они предпочитали заниматься в маленьком кабинете, куда Иван Алексеевич почти никогда не заглядывал.
— Сегодня мы будем заниматься риторикой, — сказал Иван Евдокимович, словно не замечая того волнения, с каким Саша глядел на него. Он понимал, что мальчику хочется поговорить о заветной затертой тетради. Но служба службой, за уроки платили деньги, их надо честно отрабатывать.
— Что же сказать вам, друг мой, о риторике, — неумолимо продолжал Иван Евдокимович. — Это самая пустейшая и ненужная наука. Если господь кому не дал дара слова, того никакая наука не научит говорить красно…
Саша засмеялся.
— Иван Евдокимович, можно, я еще на один день оставлю у себя тетрадку? — И вдруг заговорщически, вполголоса прочел:
Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы! —и, не давая Ивану Евдокимовичу продолжить его изыскания по поводу пустейшей и ненужнейшей из наук, продолжал: — Какое счастье так написать! Мне одного жаль, почему это не я сочинил?
Иван Евдокимович был растроган, но его грубоватая натура не терпела восторженности. Он сощурился и продолжал говорить ровно и назидательно, однако Саша чувствовал, как сквозь назидательность пробивается волнение.
— Еще я должен рассказать вам сегодня о метафорах и хриях, — продолжал он, словно не слыша Сашиных слов. — Мы должны прочесть с вами «Образцовые сочинения»… Но не могу не признаться, что десять строк «Кавказского пленника» лучше всех десяти томов «Образцовых сочинений»… — И, не выдержав, он спросил живо и заинтересованно: — Так стихи гениального нашего Пушкина тронули ваше сердце?
— О да! — подхватил Саша. — Как я мечтаю увидеть его! — И, пригнувшись к учителю, снова прошептал отчетливо и горячо:
Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы! —— Дай бог, чтобы эти чувства созрели в вас и укрепились., — тихо проговорил Иван Евдокимович.
Глава пятнадцатая ГОСУДАРЬ ПОМЕР В ТАГАНРОГЕ
1
День как день.
Иван Алексеевич журил Сашу, ворчал на Луизу Ивановну, а после обеда дурное расположение духа обрушил на несчастного камердинера. Никита Андреевич с утра чувствовал — барин не с той ноги встал, — потому сбегал в трактир и напился. Иван Алексеевич не преминул заметить, что старик навеселе.
Проходя по зале мимо открытой двери, которая вела в комнату отца, Саша на мгновенье задержался. Деревянная некрашеная кровать, покрытая белым одеялом, стояла у стены, между двух печей, чтобы теплее было. На ночной тумбе мемуары и лечебники, на двух небольших столах — книги, бронзовые подсвечники с зелеными шелковыми зонтиками.
Иван Алексеевич сидел в кресле перед одним из столиков.
— А ты, братец, уж закусывал бы черным хлебом с солью, чтобы не пахло от тебя этак… — услышал Саша.
Никита Андреевич пробормотал что-то и хотел выйти из комнаты. Но не успел он перешагнуть порог, как Иван Алексеевич остановил его и спросил спокойно и очень вежливо:
— Ты, кажется, голубчик, хотел что-то доложить мне?
— Я не докладывал ни слова, — хмуря свои кустистые брови, ответил камердинер.
— Это очень опасно, — со вздохом сочувствия и сожаления заметил Иван Алексеевич. — С этого начинается безумие…
Никита Андреевич, с трудом сдерживая бешенство, быстрыми шагами вышел из комнаты и чуть не сшиб Сашу с ног.
— А вы что здесь, барин, делаете; шли бы к себе, — срывая на Саше досаду, проговорил он недружелюбно и, вынув кисет, стал со свистом нюхать табак. Громкое чихание огласило коридор.
Из-за двери раздался резкий звонок, и Саша услышал голос Ивана Алексеевича:
— Это ты чихаешь?
Никита Андреевич покорно пошел на зов.
— Я-с.
— Желаю здравствовать. Можешь идти.
Саша стиснул кулаки.
В прихожей раздался звонок.
— Доложите, Карл Иванович Зонненберг приехал проведать Ивана Алексеевича, — донеслось до Саши.
Зонненберг жил теперь у дальнего родственника Яковлевых, богатого московского барина Огарева, и воспитывал его сына Ника, Сашиного сверстника. Саше нравился этот тихий мальчик, кроткий и задумчивый. Он несколько раз встречал его на прогулках, заговаривал с ним, но Ник отвечал сдержанно, робея, и нежное лицо его заливалось легким румянцем. Саша не решался сблизиться с ним, будучи по природе резвым, боялся тормошить Ника и быть навязчивым.
Саша быстро сбежал по лестнице, поздоровался с Ником и Зонненбергом. Они стояли в прихожей, терпеливо дожидаясь, пока лакей доложит Ивану Алексеевичу об их приходе.
— Может, вы подниметесь ко мне? — спросил Саша, обращаясь к Нику.
Мальчик вопросительно взглянул на Карла Ивановича, но тот не успел ничего ответить, как показался лакей и торжественно объявил:
— Иван Алексеевич больны. Никого принимать не велено.
Карл Иванович заторопился.
— Надо идти, быстро идти, — сказал он Нику. — Мальчики Веревкины дожидаются нас в Кремлевском саду.
Проводив гостей, Саша поднялся к себе в комнату. И снова тяжелые мысли нахлынули на него.
Ему хотелось войти в комнату к отцу и сказать все, что он думал, спросить: кто дал ему право измываться над человеком?
Но он вспомнил, как сегодня отец был груб с матерью, и снова мысль о «ложном» положении заставила вспыхнуть его лицо.
— Ну если так, — тихо проговорил он, — значит, я не завишу ни от отца, ни от общества, значит, я свободен!
Эта мысль принесла утешение. Свободен — это слово, так же, как удар по клавишам рождает музыку, подняло в его сердце пушкинские стихи:
Увы! куда не брошу взор — Везде бичи, везде железы, Законов гибельный позор, Неволи немощные слезы…«Да, да, — думал он. — Именно немощные… Неволи немощные слезы. Но до каких же пор они будут немощные?..»
Ну и хорошо, что он один! И в одиночестве порою есть своя прелесть… Голубой тополь за окном стоял неподвижный и тихий. Саша привязался к нему, как к другу, знал каждую его ветку и с закрытыми глазами мог вспомнить затейливый узор на зеленовато-серой коре.
Он глядел в замерзшее стекло, и ему казалось, что там, за окнами, не тихие и кривые арбатские переулки, а бескрайняя ширь Васильевских полей, синий изгиб реки, зубчатая кромка леса. Он вспоминал прогулки, катанье на лодке, вечернюю дудочку пастуха и читал громко, словно бросая кому-то вызов:
Я твой — люблю сей темный сад, С его прохладой и цветами, Сей луг, уставленный душистыми скирдами, Где светлые ручьи в кустарниках шумят…Мысли бродили в голове неясные и горячие, а Пушкин придал им точность математической формулы.
Но мысль ужасная здесь душу омрачает: Среди цветущих нив и гор Друг человечества печально замечает Везде невежества убийственный позор. Не видя слез, не внемля стона, На пагубу людей избранное судьбой, Здесь барство дикое, без чувства, без закона, Присвоило себе насильственной лозой И труд, и собственность, и время земледельца…Саша перевел дыхание.
— Насильственной лозой…
Словно впервые видел он крепостных, стремящихся приложиться к бариновой ручке, старосту, в любую погоду, без шапки провожающего господ. Раньше Саша никогда не думал о том, что присылка в город целого обоза в разгаре полевых работ очень тяжела для крестьян — они теряли несколько драгоценных дней. А что стоило Ивану Алексеевичу выбраться в деревню до начала страды? Да, он многого не понимал, а теперь…
— Барство дикое… — прошептал Саша.
Вздрогнула ветка тополя за окном, словно стряхнула с себя пушистую рукавицу. Снег осыпался бесшумно и мягко.
В передней снова раздался звонок. Саша прислушался и узнал голос сенатора. В такой час? Странно…
Отворив дверь, Саша увидел, что Лев Алексеевич, не глядя ни на кого, быстро поднимается по лестнице. Его танцующая походка сегодня показалась Саше озабоченной. Не слушая воркотни Никиты Андреевича, сенатор прошел прямо в комнату брата. Кивнув Саше головой, он сделал знак, чтобы тот не ходил за ним, и плотно прикрыл дверь.
Саша в недоумении стоял на лестничной площадке. Что случилось? Вдруг дверь в переднюю открылась. Из-за волчьего воротника ливрейной шубы на Сашу глядели лукавые глаза сенаторского лакея. Он жестами подзывал Сашу к себе. Мальчик быстро сбежал по лестнице.
— Вы ничего не знаете, барин? — спросил лакей. — Не слыхали?
— Чего?
— Государь помер в Таганроге.
Саша вздрогнул. В тринадцать лет мысль о смерти кажется неправдоподобной и жестокой. Трудно представить себе, что люди умирают, а тут еще царь! Царь все может. Даже в стихах, которые Саша только что читал, сказано: «и рабство, падшее по манию царя…» Совсем недавно он видел царя Александра в Москве, за Тверской заставой. Царь тихо ехал верхом, его сопровождали генералы, — возвращался с Ходынки, где проходили маневры. Лицо у царя было усталое, как у обыкновенных людей. И вдруг умер — противоестественно и непостижимо.
2
Казалось, в жизни ничего не переменилось.
Каждый вечер приезжал сенатор, и все, как обычно, собирались в зале, возле ширм, за круглым столом. Потрескивали свечи в канделябрах и подсвечниках, гудел на столе самовар. Луиза Ивановна разливала чай в тоненькие, словно из яичной скорлупы, китайские чашки. Но не было в этих зимних вечерах привычного покоя.
Теперь только и разговоров было что о новом царе. На улицах, в лавочках продавали портреты великого князя Константина Павловича. Впрочем, отец и сенатор говорили о Константине сдержанно, особенно при Саше.
— Есть слух, — сказал Лев Алексеевич, — будто покойный государь еще два года назад заставил Константина отречься от престола, а в завещании назначил наследником великого князя Николая…
— Э, — возразил Иван Алексеевич брату. — Кто это может знать? Слухов много ходит. Нас с вами не спросят, кого на царство венчать…
Молчали.
Зато в людской языки развязались. Тут Константина не щадили.
Саша внимательно и серьезно слушал разговоры дворовых, расспрашивал.
— Знаешь, барин, — сказал ему как-то Василий, — если бы кто из простых смертных столько грехов совершил, его бы живьем в ад упекли, а уж в Сибирь как пить дать умахали. Думаешь, почему в Варшаве сидит, глаз сюда не кажет? Не знаешь?
Саша отрицательно покачал головой.
— Боится, что его, как батюшку Павла Петровича, придушат… — Василий сделал круглые глаза и приложил палец к губам.
Впрочем, о Николае тоже говорили дурно. Он славился грубостью, невежеством, жестокостью. Посмеиваясь, рассказывали о том, как Николай, окончив курс учения, взял два больших гвоздя и заколотил шкаф с книгами — так велика была его ненависть к наукам.
— Мне один солдат сказывал, — говорил Василий, — глаза у него — страсть! Зимние… Как взглянет, словно морозом обдаст. Во какой! Сенатор приехали, — продолжал он, прислушиваясь. — Иди-ка ты, голубчик, наверх, послушай, что дядюшка рассказывать станут. Небось новостей свежих привезли целый ворох!.. Они по клубам да по сенатам ходят, им все ведомо. А ты нам перескажи.
«Почему они так волнуются? — думал Саша, поднимаясь по лестнице. — А разве совсем без царя нельзя?»
Француз Бушо, который ходит учить Сашу, рассказывал ему, как во время французской революции, когда решался вопрос о казни Людовика XVI, один из членов Конвента сказал: «Король может принести пользу только своею смертью».
Людовика казнили, а русский царь умер сам, казалось бы, настало время свободы. Саша хорошо помнил слова Жан-Бон-Сент-Андре, деятеля французского Конвента: «Народ не может быть свободен, пока жив тиран!»
На пороге залы Саша столкнулся со Львом Алексеевичем.
Распространяя приторный запах духов и морозную свежесть, сенатор подошел к ручке Луизы Ивановны и, раздвинув полы сюртука, уселся на стул.
— Наш-то Милорадович каков герой оказался! — проговорил он, обращаясь к брату, и обвел всех торжествующим взглядом: не было для него большего удовольствия, как сообщить необыкновенную новость!
Иван Алексеевич оживился и с любопытством поглядел на сенатора.
— Вскрыли завещание. Покойный император и вправду назначает наследником Николая Павловича… Но, ты знаешь, Николая не любят, особенно среди военных. Он хотел заявить свои права и обратился за поддержкой к генерал-губернатору Петербурга, то есть к нашему Михайле Андреевичу. И что бы ты думал? — Лев Алексеевич бросил на стул туго накрахмаленную салфетку. Глазки Ивана Алексеевича поблескивали лукаво и насмешливо, он предвкушал услышать нечто интересное. — Отказался!
— Отказался? — воскликнула Луиза Ивановна, рука ее дрогнула, и струя из самовара побежала не в чашку, а на поднос. — Как же он решился?
— А вот так и решился. — Лев Алексеевич улыбнулся невестке. — Сами, говорит, ваше высочество, изволите знать, вас не любят!
— Так и сказал?! — Луиза Ивановна даже руками всплеснула.
Вода, булькая, продолжала бежать из крана, и Луиза Ивановна ловким движением закрыла его.
— Именно так.
— Недаром слыли мы вольнодумцами еще при матушке Екатерине, — негромко пробурчал Иван Алексеевич, и Саша с удивлением взглянул на отца: непривычная добрая гордость вдруг прозвучала в его голосе. — А еще говорят, что вольнодумство воспитало в нас сухую мысль, отчужденную от окружающей жизни.
— Но, дорогой братец, нельзя не согласиться, что идеи остались бесплодными в головах вольнодумцев и не обнаружили себя ни в стремлениях, ни даже в нравах… — возразил Лев Алексеевич, критическим взглядом окинув брата, его стеганый халат и шапочку с лиловой кистью.
Иван Алексеевич нахмурился, хотел что-то сказать, но лишь недовольно помотал головой и спорить не стал.
— Что-то станет с Россией?.. — помолчав немного, тревожно спросил он, ни к кому не обращаясь.
— Николаю ничего не оставалось, как присягнуть Константину, — продолжал Лев Алексеевич, — но Константин не хочет вступать на престол: видно, страшится судьбы своего батюшки, которого у него на глазах…
Саша насторожился: дядя в гостиной говорил то же, что Василий в людской.
— Здесь мальчик! — испуганно воскликнула Луиза Ивановна, указав глазами на Сашу.
Лев Алексеевич на мгновенье смешался, замолк, но тут же продолжал непринужденно, словно-бы и не слышал замечания невестки:
— Узнав о завещании государя, Константин, в свою очередь, присягнул Николаю…
— Значит, у нас нонче два царя, а на престол ни один не вступает? — с явной насмешкой спросил Иван Алексеевич. — Узнаю матушку-Россию…
Глава шестнадцатая СНЕГ ИДЕТ
1
Откуда берется столько снега? Словно прорвало на небе огромный серый мешок, и вот уже который день падают крупные, мягкие, ленивые хлопья. Дворники не успевают убирать снег, он завалил улицы и дворы, площади и бульвары. Как тихо он падает! И все кругом стало тихим и белым.
Саша глядел в окно. Сани бесшумно остановились у подъезда, глухо хлопнула дверь. Снова приехал сенатор. Кто это с ним? Темная шинель ладно облегает высокую фигуру, — Саша всмотрелся: жандармский генерал, граф Комаровский… Видно, привезли какие-то новости.
Саша уже бежал по лестнице, чтобы поздороваться с дядей, как вдруг заметил, что сенаторов лакей снова заговорщически манит его к себе. Поздоровавшись с гостями, Саша незаметно прошмыгнул в переднюю.
— Чего я вам скажу, — загадочно зашептал лакей, пригибаясь к самому Сашиному уху. — В Петербурге бунт был, по Галерной стреляли пушки!
— Бунт?!
— Да, вы помалкивайте, это я по секрету…
Но Саша уже бежал наверх, в залу, где возле стола собрались хозяева и гости. Он сел чуть поодаль, за маленький круглый столик, на котором горели в подсвечниках две большие желтые свечи, затененные зеленым экраном. От волнения Саша по детской привычке теребил пуговицу на курточке, крепко сжимал ее, и верхние суставчики пальцев отгибались, а ногти становились ярко-розовыми.
Луиза Ивановна взглянула на сына, потом на мужа — вопросительно. Но Иван Алексеевич сказал мрачно и решительно:
— Пусть останется! Ему полезно послушать, к чему приводят вольные мысли, до которых он, кажется, большой охотник! Кем же убит граф Милорадович? — нетерпеливо спросил он у Комаровского.
Убит Милорадович?! Саша так дернул пуговицу, что она осталась в его руке.
— Бунтовщик Каховский выстрелом из пистолета оборвал жизнь доблестного генерала, — скорбно потупив глаза, ответил Комаровский.
— Защищая интересы отечества, Михайла Андреевич умер как истинный сын России… — смахивая слезу, проговорил сенатор.
Как же так? Недавно говорили, что Милорадович отказался помогать Николаю, а теперь… Саша вспоминал веселый похохатывающий голос Милорадовича, бряцанье бесчисленных крестов и медалей. Отколов кресты, Михайла Васильевич, иногда разрешал Саше поиграть с ними, и по утрам горничная, прибирая гостиную, нередко выметала из-под стола или кресла закатившийся туда орден.
— Вечная память ему! Он не покинул отечества в тяжелую минуту… — торжественно заключил Лев Алексеевич, и в комнате воцарилось напряженное молчание.
Саша мял в пальцах воск, оплывший со свечи, руки становились скользкими, жирными. Взрослые, увлеченные разговором, не обращали на него внимания. Он глядел на них из-за зеленого экрана, и ему казалось, что они существуют отдельно от него, как в театре, на сцене, когда все кажется бесконечно далеким, чужим и таинственным.
— Изменники отечества предполагали заставить членов сената и Государственного совета подписать и обнародовать сочиненный ими бунтовщический «Манифест к русскому народу», — откуда-то издалека доносился до Саши голос Комаровского. — Сей манифест провозглашал свержение царского правительства и отмену крепостного права!
«Значит, есть люди, которые хотят, чтобы Россия жила без царя?» — подумал Саша.
Комаровский погладил усы, выхоленную подстриженную бородку и тревожно огляделся. Произнесенные слова были страшны, и ему не верилось, что он решился их высказать вслух.
— Заговорщики Рылеев, Якубович, братья Бестужевы вели в казармах агитацию против присяги государю Николаю…
Рылеев?! И он с ними? Саша хорошо знал его стихи: «Думы», «Войнаровский»… Нет, Рылеев не мог быть предателем отечества!
Впрочем, заговорщик, убийца, разбойник, крамольник — разве не этими словами клеймили деятелей французской революции?
Саша стиснул кулак, воск расплющился и превратился в плоскую теплую лепешку.
— Все столбовое русское дворянство, сынки известных отцов! — воскликнул Лев Алексеевич.
— Волконский, Трубецкой, Раевский…
— Французские эмигранты, вынужденные после девяносто третьего года расстаться со своим революционным отечеством, — все сильнее раздражаясь, говорил Иван Алексеевич, — принесли в матушку-Россию ожесточение против монархии. А мы из любви ко всему иностранному взяли их в воспитатели к своим детям… Вот и вырастили свободомыслящих дельцов! Да что говорить! — Он махнул рукой.
Он замолчал и отхлебнул холодный красный чай.
— Назначенный диктатором восстания, Сергей Трубецкой не явился на площадь, — быстро продолжал Комаровский. — Господь милостив! — Он перекрестился. — Николай Павлович успел привести к присяге членов сената и Государственного совета…
Комаровский возвел глаза к небу и протянул Луизе Ивановне пустую чашку.
«Руссо говорит, что человек родился свободным, а между тем он повсюду в цепях, — думал Саша, слушая разглагольствования Комаровского. — Бунтовщики. Мятежники… Они хотели отмены крепостного права, свободы крестьянам. Хотели свободы, равенства, братства! Почему же отец, и сенатор, и Комаровский говорят о них с такой ненавистью?»
— Государь вынужден был отдать приказ стрелять картечью по бунтовщикам! — громко сказал Комаровский, и в комнате воцарилось молчание, словно кто-либо из присутствующих совершил неловкость. Но Комаровский продолжал как ни в чем не бывало: — К ночи восстание было задавлено, бунтовщики арестованы, их свезли в Зимний дворец…
«И вы еще называете их убийцами?!» — чуть не крикнул Саша.
Одна из свечей, догорая, замигала, погасла, и легкий душистый дымок, извиваясь, потянулся по комнате.
— Ходят слухи, — сказал сенатор, что и у нас, в Москве, сие гнусное общество пустило корни. Барона Штейнгеля называют.
— Это жена которого пансион для девиц держит? — спросила Луиза Ивановна.
— Он самый, — кивнул головой Лев Алексеевич. — Еще князя Оболенского, Кашкина…
— Страшные времена, жестокие нравы, — вздохнул Комаровский. — Покорнейше благодарю, — добавил он, принимая из рук Луизы Ивановны дымящуюся чашечку с чаем.
— А тебе, Александр, давно спать пора! — сказала Луиза Ивановна.
Спать так спать! Он молча поднялся, с грохотом отодвинул стул. Подсвечник качнулся, и по потолку побежали крылатые тени. Все обернулись к Саше.
— Спокойной ночи! — И вдруг, сам того не ожидая, громко сказал: — А вы, батюшка, еще вчера — хвастали своим вольнодумством! Кому же верить?!
Никто не успел опомниться, как он выбежал из гостиной.
2
Маленькая комната была залита мутным лунным светом, огромный черный крест — тень от оконной рамы — заполняя всю комнату, лежал на полу, на тахте, — на столе. Саша быстро зажег свечу, задернул штору, пламя загорелось тихо и ровно. Крест исчез. Саша лег на тахту. Глаза были сухие, во рту пощипывало.
Исчадье мятежей подъемлет злобный крик: Презренный, мрачный и кровавый Над трупом вольности безглавой Палач уродливый возник…Пушкин… Знает ли он, сосланный, гонимый, о восстании?
Пусть юноши, своей не разгадав судьбы, Постигнуть не хотят предназначенье века И не готовятся для будущей борьбы За угнетенную свободу человека…Какая тревога за Россию слышится в этих строчках! Их написал Рылеев. Они — и сенатор, и отец, и Комаровский — не достойны завязать шнурка на его башмаке!
Саша вдруг ощутил, что ненавидит и отца, и сенатора… Эта ненависть была тяжела. Он живет с ними, он любит их. Да, любит. Любит и ненавидит. Но он никогда не будет с ними. Как жить?.. Где же его друг? Неужели всю жизнь он будет только мечтать о встрече с ним? Как нужны ему сейчас надежная рука, открытое сердце, доброе слово!
А снег все идет и идет, крупный, мягкий, бесшумный… Вдруг он никогда не перестанет? Он завалит все: города и деревни. И там, в Михайловском, тоже, наверное, снег… И на площади было много снега, а на снегу убитые…
Надо было разорвать этот мучительный круг мыслей, вырваться из него. Саша потер виски, подошел к столу и, уперевшись локтями, тяжело опустился на стул.
Все гонят! все клянут! Мучителей толпа, В любви предателей, в вражде неутомимых, Рассказчиков неукротимых, Нескладных умников, лукавых простаков, Старух зловещих, стариков, Дряхлеющих над выдумками, вздором, — Безумным вы меня прославили всем хором. Вы правы: из огня тот выйдет невредим, Кто с вами день пробыть успеет, Подышит воздухом одним, И в нем рассудок уцелеет…Он читал отчетливо и громко, вкладывая в чтение всю отроческую ненависть, накопившуюся в его сердце.
Глава семнадцатая СВОБОДА ЗАДЫХАЕТСЯ, ПОКА ДЫШИТ ТИРАН
Урок, собственно, не состоялся. Саша был так взволнован, что Иван Евдокимович не смог заставить его сосредоточиться. Впрочем, сам Протопопов был взволнован не меньше своего ученика.
— В университете рассказывали, что народу на Сенатской площади было видимо-невидимо, — окая, говорил он, и его обычно неторопливые слова сегодня накатывались друг на друга. Солдаты Московского гвардейского полка отказались дать присягу. С распущенными знаменами, в одних сюртуках бросились они на Сенатскую площадь. Гвардейский гренадерский полк, гвардейский морской экипаж. А дворовых сколько, ремесленников, беднота, всего тысячи две…
Вдруг он понизил голос и опасливо оглянулся:
— Батюшка ваш еще почивают?
— Не знаю, не выходил… — рассеянно ответил Саша и спросил нетерпеливо: — И что же? Что?
— Когда император выехал со своей свитой, его забросали поленьями и камнями!
Сегодня ночью Саша не спал ни минуты. Глаза его лихорадочно блестели, на щеках выступили красные пятна.
— В них стреляли из пушек? — спросил он, с хрустом ломая гусиное перо.
Иван Евдокимович с укоризной поглядел на его гибкие пальцы, но журить не стал, а только покачал головой.
— На площади осталось около трехсот убитых. Восставшие отступили к Неве, лед потрескался, ломался. Люди тонули…
— А что Рылеев?
— Арестован. Глава Северного общества. Один мой приятель знавал его близко. Знатный поэт, прекрасный оратор, деятельная натура… Южное общество тоже возглавлял человек значительный, — снова оглядевшись и понижая голос, продолжал Иван Евдокимович. — Пестель, вятского генерал-губернатора сын. Отец лиходей и кровопийца, а сын умница, республиканец. Да, друг мой, их именуют бунтовщиками. За то, что желали быть полезны отечеству, глубоко возмущались при встрече с несправедливостью, на которую их отцы смотрели равнодушно… Великий Робеспьер говорил: «Я не прощаю гуманности, которая душит народы и прощает деспотам. Свобода задыхается, пока дышит тиран!»
Иван Евдокимович угадывал чувства мальчика.
«Я сделаю, я все сделаю…» — твердил про себя Саша, не отдавая отчета в том, что именно должен он сделать.
— Русский народ, великий по славе и могуществу, по прекрасному языку своему, — с горечью говорил Иван Евдокимович. Он поглядел на Сашу и воскликнул: — Неужто суждено ему увянуть, не принеся миру никакого плода?! — Он сощурился и пригладил свои длинные прямые волосы. — Что-то во рту сохнет. Велите-ка принести кислого квасу…
Глава восемнадцатая НИК
1
— Князя Оболенского взяли.
— Пущин арестован.
— Пестеля провозили через Москву.
— Дмитрий Столыпин покончил с собой в своем Середникове.
— Челищева, что родственником Платону Богдановичу Огареву приходится, ночью увезли.
— Владимир Одоевский держит наготове шубу и теплую шапку, ждет, что вот-вот возьмут…
Близилось рождество. Праздник. А разговоры не праздничные.
— Неужели казнь? — спрашивал Саша Ивана Евдокимовича.
Протопопов пожимал плечами и, поднимая глаза от книги, говорил назидательно и пространно:
— После Пугачева в России не было казней. Но разве вы не знаете, что крестьяне умирают под кнутами, а солдат, вопреки закону, до смерти гоняют сквозь строй.
Так прошел январь — святочные гулянья, гаданье под крещенье. Шумно, но невесело, и как-то мимо Сашиной души. В зале стояла огромная елка, блестели цепи, пестрели флажки, в белых гипсовых домиках горели свечи и загадочно поблескивали слюдяные окошки — зеленые, красные, синие. Пахло лесом, летом, счастьем. А счастья не было.
Страх распространился по России. Боялись сказать слово участья о несчастных, а еще вчера многих из них называли друзьями и за честь почитали пожать руку.
Саша смотрел на взрослых с каким-то отчуждением, ему стыдно было за них, и он почти все время проводил один в своей комнате. Писал, читал и думал, думал…
2
Февраль наступил неожиданно — морозный и солнечный.
Утром, отхлебывая кофе, Иван Алексеевич сказал Луизе Ивановне:
— У Платона Богдановича Огарева матушка скончалась, в доме суета. Он сына своего нынче к нам пришлет.
Саша, погруженный в свои мысли, не обратил внимания на слова отца. Последнее время он вообще старался не вслушиваться в то, что говорят взрослые. И когда к подъезду медленно подъехали сани, Саша равнодушно смотрел в окно… Вот Зонненберг помог Нику вылезти из саней, одернул на нем шубку, отороченную мехом, и потянул ручку звонка.
Саша слушал дребезжание звонка, возню в передней и думал о том, что день сегодня пройдет в скучных разговорах — надо же чем-то занимать гостя.
Карл Иванович ввел Ника в Сашину комнату, церемонно, с немецкой учтивостью, поздоровался и, оставив мальчиков одних, вышел.
Поклонившись, Ник тихо уселся на плетеный стул и молча, сложив руки на коленях, глядел на Сашу большими и грустными серыми глазами. Густые, вьющиеся волосы, подсвеченные веселым февральским солнцем, отдавали в рыжину, были пушистыми и легкими. В черном (по случаю траура) фраке Ник казался не по летам строгим. Ник любил бабушку — он и вправду был напуган и подавлен.
Не зная, чем занять его, Саша сказал ничего не значащую фразу о морозах, о приближающейся весне. Ник согласно кивнул головой, но Саша почувствовал, что Нику неприятны его равнодушные слова. Саша спросил о мальчиках Веревкиных. Ник отвечал односложно и застенчиво. Разговор не клеился, в комнате то и дело воцарялось долгое, тягостное молчание.
— Кого из поэтов вы больше всего любите? — спросил наконец Саша, отчаявшись завязать разговор.
— Шиллера… — негромко ответил Ник.
— Шиллера?! — воскликнул Саша, удивленный и обрадованный неожиданным сходством вкусов. И спросил: — Хотите, почитаем вслух?
Ник все так же молча кивнул головой, но в глазах его словно что-то стронулось и потеплело.
Саша быстро встал, подошел к книжному шкафу. Он перебирал книги одну за другой и, не оборачиваясь, говорил оживленно и горячо:
— Гёте сравнивают с морем, на дне которого таятся сокровища, но я больше люблю Шиллера — эту германскую реку, льющуюся между феодальными замками и виноградниками, отражающую Альпы и облака, покрывающие их вершины. — Он обернулся к Нику.
Тот смотрел на него с тихим, внимательным любопытством и вдруг робко спросил:
— Вы помните «Философские письма»?
— Ну как же! — живо отозвался Саша. Открыв книгу, он быстро прочел — «Ты уехал, Рафаил, и природа утратила свою, прелесть. Желтые листья валятся с дерев, мгла осеннего тумана, как гробовой покров, лежит на умершей природе…»
Саша остановился и пристально посмотрел на Ника. Какое-то новое, нежное выражение преступило на его грустном лице. Саша полистал книгу, нашел заветную страничку. Сколько раз перечитывал он это место, вкладывая в слова Шиллера свою тоску по мечтаемому другу.
— «Одиноко блуждаю я по задумчивым окрестностям, громко зову моего Рафаила, и больно мне, что мой Рафаил мне не отвечает…» — читал он почти наизусть.
— Простите, — вдруг неожиданно смело перебил его Ник. — Дайте мне книгу…
Саша с удивлением взглянул на него и разочарованно протянул книгу.
«Нет, не понимает!..» — огорченно подумал он.
Ник медленно перевертывал страницу за страницей.
— Вот, — сказал он. — Пожалуйста, прочтите это. Мое любимое… — смущенно улыбаясь, добавил он.
Саша взял обратно книгу, с возрастающим чувством удивления взглянул на открытую страницу, и сердце его радостно забилось.
— Я тоже люблю это место, — тихо сказал он. — Я даже знаю его на память.
И он прочел:
— «В один вечер, — ты помнишь, Рафаил, души наши соприкоснулись в первый раз. Все твои высокие качества, все твои совершенства сделались моими…»
Они молчали, глядя друг на друга с изумлением и даже испугом. Саша отложил книгу и задал Нику какой-то вопрос. Тот ответил, теперь уже охотно, но эти мелкие предметы разговора служили лишь предлогом для беседы. Их интересовало другое, и это другое были они сами.
— Даже если мне придется, как Шиллеру, бежать из дома и бороться с нуждой, я все равно стану поэтом! — неожиданно твердо сказал Ник, не глядя на Сашу, и яркая краска залила его нежное лицо.
— Вы пишите стихи?
— Да. О скуке окружающей жизни, — и покраснел еще больше.
— Если бы я умел писать стихи! — горячо воскликнул Саша и заговорил о том, как тяготит его одиночество. Первый раз в жизни говорил он так откровенно, так страстно, и сердце его замирало от счастья и страха.
— А вы не пробовали писать дневник? — выслушав его, спросил Ник и улыбнулся застенчиво, совсем по-детски.
— Пробовал, но перо такой холодильник, сквозь который редко проходит истинное горячее чувство не замерзнувши… — грустно ответил Саша. Взглянув на Ника, он встретил такой сочувствующий взгляд, что невольно протянул ему руку. Они не смели взглянуть друг другу в глаза, словно боялись самих себя, боялись непонятного и необычного своего волнения.
Мальчики стояли у окна, глядя, как гаснет день, и снег становится сиреневым и жестким, а небо — прозрачным и легким. Изредка они перебрасывались словами, пытаясь заговорить о предметах самых безразличных, но не слышали своих слов, охваченные блаженной усталостью. Им не нужно было говорить или пожимать друг другу руки, им даже не нужно было глядеть друг на друга, — ведь они рядом, и это — самое главное.
И вдруг Саша, как бы без всякой связи со всем предыдущим, спросил Ника горячим шепотом:
— Как вы думаете, их казнят?
— Не знаю, — очень серьезно ответил Ник, глядя на Сашу снизу вверх доверчиво и открыто. — Я знаю одно — это истинные приверженцы отечества…
…Поздно вечером Саша проводил Ника до дверей, и при свете колеблющейся свечи они робко улыбнулись друг другу и взволнованно пробормотали: «До свиданья».
Вернувшись в свою комнату, Саша вдруг почувствовал облегчение, так устал он от того напряжения, в котором находился весь этот длинный, сладостный, необыкновенный день.
Долго ходил он из угла в угол, ложился, глядел в потолок, потом опять вставал, подходил к окну, смотрел, как серебрился в лунном свете ветвистый тополь и высоко над домами горели звезды.
Он ничего не слышал. Он ничего не видел. Он ни о чем не думал. Только о дружбе.
3
Они встретились через несколько дней.
После обеда Карл Иванович вместе с Ником зашел за Сашей, и они отправились на прогулку. Весь день светило солнце, с крыш капало, а к вечеру подморозило, и длинные кольцеватые сосульки вытянули вниз прозрачные пальцы. Увидев Ника, Саша хотел кинуться ему навстречу, но что-то удержало его, и он лишь прошептал пересохшими от волнения губами:
— Добрый день.
— Добрый день, — также сдержанно, только слегка краснея, ответил Ник. — Видно, что и он с трудом удерживался, чтобы не броситься к Саше.
Они шли по тихому переулку, выдавливая из себя слова, — а ведь все эти дни только и делали, что мысленно разговаривали друг с другом. Порою пытались возместить слова красноречивыми и взволнованными взглядами, но из этого тоже ничего не получалось, глаза ничего не выражали, все превращалось в какую-то плохо разыгранную комедию.
А как они ждали этой встречи! Что же случилось? Ничего не понимая, Саша чувствовал себя оскорбленным, раздосадованным.
Ник молчал. Всю эту неделю, во время похорон бабушки, глядя на ее пожелтевшее и ставшее вдруг чужим лицо, и потом, когда улеглась суета, и стало пусто, грустно, тихо — словно дуновение смерти еще не покинуло дом, — он вспоминал солнечный морозный день, маленькие комнаты, — небо в окне, бледнеющее с каждым часом, и разговор, — горячий и бессвязный, — о Шиллере, о славе, о дружбе… Он отдыхал сердцем на этом воспоминании…
За время разлуки мальчики довели свои чувства до такого накала, что удержаться в этом неестественно высоком настрое нормальным людям было просто невозможно, потому первым ощущением от встречи явилось разочарование.
В их отношения должно было войти что-то будничное, обыденное, что придало бы естественность их встрече. Мальчики продолжали идти рядом, хотя Саша ловил себя на том, что с трудом удерживается от желания бросить товарища и убежать. Нику хотелось плакать. Они вежливо слушали друг друга, не испытывая никакого интереса к тому, что говорит другой.
Так дошли они до Никитского бульвара. Начинало темнеть — та особенная зимняя тьма, прозрачная и льдистая, которая не скрадывает очертания предметов, а делает их отчетливее и резче. На бульваре было оживленно, — мальчики катались на салазках, девочки в высоких капорах чинно прогуливались по белым дорожкам, засунув руки в пушистые муфточки.
Разбежавшись, ребята катились по темным ледяным дорожкам, падали со смехом и визгом.
Карл Иванович, маленький и суетливый, с манерами, претендующими на игривость и приятность, раскланивался направо и налево. Заглядевшись на хорошенькую гувернантку-француженку, он поскользнулся и, проделав в воздухе нелепые и смешные движения руками, упал в сугроб.
Все это произошло столь неожиданно и было так комично, что Ник и Саша, кинувшись поднимать Зонненберга, не могли удержаться от хохота. И этот внезапный смех словно теплой волной смыл то напряжение и душевное оцепенение, от которого они не могли избавиться весь вечер. Они поднимали Карла Ивановича, он отбивался и барахтался в снегу, сердился на мальчиков, но они продолжали тащить его, ослабевая от смеха, помогая и мешая друг другу. Они вдруг забыли о том, что их должно до гроба связать «святое чувство дружбы». Они стали сами собой, то есть детьми, резвыми и озорными, и жизнь вдруг снова предстала прекрасной и чистой, как этот гаснущий зимний день.
Подняв наконец Карла Ивановича, который недовольно отряхивался и что-то добродушно выговаривал мальчикам, они продолжали хохотать, кидаясь снежками, гоняясь друг за другом. Наконец, ослабев от смеха и беготни, они уселись на скамейку и взглянули друг на друга счастливыми, смеющимися глазами, — первый раз за весь вечер взглянули доверчиво и открыто.
Глава девятнадцатая ТАНЯ
1
А на другой день Ник не пришел. И на следующий тоже. Прошло несколько дней. Саша бесился, тревожился, ничего не понимал. Может, Ник заболел? Ему хотелось попросить отца послать к Огаревым узнать, что случилось, но он стеснялся. Наконец однажды вечером зашел Зонненберг, шутил и смеялся как ни в чем не бывало. Саша спросил его, что поделывает Ник, здоров ли он. Карл Иванович пространно отвечал, что Ник здоров, учится, и они ходят с ним гулять в Кремлевский сад.
— Сегодня гуляли с мальчиками Веревкиными, — добавил он.
Значит, Ник просто забыл его?!
Раздражение росло, выплескивалось наружу, — Саша дерзил матери, пререкался с отцом.
Однажды к завтраку приехал князь Феодор Степанович. Иван Алексеевич был настроен любезно, угощал гостя. Особенно настойчиво просил он отведать окорок, присланный из деревни.
— Благодарю, благодарю, — улыбаясь, сказал Феодор Степанович. — Но позвольте напомнить, нынче постный день…
Саша взглянул на него с ненавистью. Потом перевел взгляд в окно и, глядя пустыми и равнодушными глазами на облака, медленно плывущие за мутными стеклами, проговорил отчетливо и громко, ни к кому не обращаясь:
Привык ослов смиренный род Сухоядением питаться…Все остолбенели от изумления и досады. Первым нашелся князь.
— Остроумен ваш воспитанник, Иван Алексеевич, но еще ребячлив, весьма ребячлив, — с любезной улыбкой сказал он. Однако, посидев немного, стал уверять, что торопится и, откланявшись, уехал. Воцарилось тягостное молчание. Никто не решался заговорить первым.
Не миновать бы скандалу, но как раз в этот момент, когда Иван Алексеевич хотел обратиться к Саше с нравоучением, в комнату вошел Егор Иванович и сказал почтительно и весело:
— Билеты в театр взяты, в бельэтаже, ложа четыре — вот! — И он передал билеты Ивану Алексеевичу. — Поближе к сцене, как вы просили, папенька…
Иван Алексеевич выразил удовольствие расторопностью старшего сына, и Луиза Ивановна понадеялась, что грозу пронесло, как вдруг Саша сказал неожиданно и громко:
— Какая это там пьеса идет, что все собрались смотреть? — В голосе его слышно было явное пренебрежение.
Луиза Ивановна видела, как побагровели щеки Ивана Алексеевича, стали злыми маленькие колючие глазки, и быстро проговорила:
— А вот, если желаешь знать, прогуляйся наверх, там у папеньки лежат газеты, ты и посмотришь…
Но Саша уже и рад был бы остановиться, да не мог и отвечал с прежней заносчивостью:
— Благодарю покорно, уж пусть лучше это будет мне сюрпризом. Не понимаю, что за охота разъезжать по театрам! Ложи в маленьком театре тесны, духота страшная!
Иван Алексеевич с выражением любопытствующего негодования слушал Сашу, узнавая в нем свои черты. Это вызывало досаду, но вместе с тем было приятно…
— Да ты не езди, сделай милость! — возразила Луиза Ивановна на ворчание сына. — Плакать не будут, обойдутся без твоего драгоценного присутствия… — И, обратясь к мужу, весело добавила: — Вчера заезжал сенатор, хвалил французскую труппу и пьесу, которую сегодня дают… — Иван Алексеевич все так же молча кивнул головой. — А насчет вашей милости, — продолжала Луиза Ивановна, снова обращаясь к Саше, — сенатор возьмет вам кресло в партере, рядом с собой…
Саша продолжал хмуро отхлебывать кофе. Однако известие о том, что он будет, как взрослый, сидеть рядом с сенатором в партере, обрадовало его. Нахлынула беспричинная веселость. Саша стал болтать без умолку, острить, схватил в руки бокал Феодора Степановича, который еще не успели убрать со стола, и громко запел, изображая французского певца. Это было так неожиданно, что Макбет — он сменил старую Берту, — мирно дремавший под диваном, вскочил, испуганно огляделся, залился отчаянным лаем. Саша засмеялся. Даже Иван Алексеевич усмехнулся.
— Да замолчи ты, пожалуйста, — с трудом удерживая улыбку, сказала Луиза Ивановна. — Оставь рюмку! Точно что найдет на него… — проворчала она уже добродушно, а про себя подумала: «Яковлевский нрав!»
2
Едва только Саша уселся за изрезанный иероглифами желтый столик, а Иван Евдокимович, отпивая кислый квас, стал толковать о четырех родах поэзии, как Саша услышал голос лакея, донесшийся снизу, из передней:
— Он наверху, берет урок у Ивана Евдокимовича…
Не слушая замечаний учителя, Саша вскочил, отворил дверь в залу. По зале торопливо таскали узелки и картонки.
«Таня!» Щеки его вспыхнули от радости. Он снова сел за стол, но теперь рассуждения Ивана Евдокимовича о риторической порзии доходили до него словно сквозь толщу стекла, туманно и расплывчато. «Ну и пусть Ник забыл о нем. А Таня — верный друг», — думал он.
Увлеченный дружбой с Ником, Саша в последнее время не вспоминал о Тане, и теперь нежная волна прихлынула к сердцу, поднимая милые детские воспоминания. Скрипнула дверь. Таня стояла на пороге в красном шерстяном платье. Они не виделись полтора года. Как изменилась! Волосы зачесаны по-взрослому, мягкие завитки выбивались на затылке, и нежная шея темнела от мелких, не укладывавшихся в косу волосков. Открылись уши, маленькие и розовые, нежные виски…
— Ах, как ты вырос! — воскликнула Таня.
Саше почудилось в этом восклицании что-то покровительственно-обидное. Быстрым взглядом окинула она его по-детски пошитый зеленоватый сюртучок, распахнутый воротник. Взгляд был нежен, но в этой нежности Саша тоже усмотрел высокомерие — так взрослые смотрят на детей.
— Чем вы занимаетесь? — весело спросила Таня, не замечая Сашиной настороженности и целуя его в висок.
— Разбором поэтических сочинений, — ответил Саша, вкладывая в интонации своего голоса всю важность и солидность, на какую только был способен.
Поняв, что происходит в его душе, Таня приняла этот тон, как нечто само собой разумеющееся, подсела к столу и стала внимательно слушать Ивана Евдокимовича.
Улыбка, умная и тихая, не сходила с Сашиного лица, и Таня исподволь рассматривала его: он сильно повзрослел за время разлуки, в голосе появилась мягкость, на губе легкий пушок, только букву «л» произносил он по-прежнему мягко, как в детстве.
— Где дер герр? — спросила Таня, когда урок был окончен. — Пойдем к нему…
— Папенька отдыхает, — ответил Саша. — Нынче в театр едем. И ты с нами… А пока — в гостиную. Как давно я не видел тебя!
Оки спустились вниз и сели на диван. Так много надо было рассказать друг другу, а они молчали. Саша знал, что у Тани умерла мать, отец женился во второй раз, что ей нелегко приходится с мачехой. Но расспрашивать не решался, ждал, когда она сама расскажет. А Таня молчала. И тогда заговорил Саша.
— Мы с Ником не верим, что их казнят, — горячо прошептал он. (Нет, не мог он не думать о новом друге!) И вдруг, неожиданно для самого себя, стал рассказывать Тане о Нике. Вся тоска, все беспокойство последних дней прорвалось в его словах.
— Он все понимает, все, ну, как мы с тобой… — И обида с новой силой вспыхнула в его сердце. Неужели забыл? Саша замолчал, Таня взглянула на него с удивлением.
— Даже папенька говорит, что приговор только для острастки, — быстро переменил разговор Саша.
— О бунтовщиках теперь говорить боятся, — быстрым шепотом ответила Таня. — А если кто был знаком с ними, отрекаются.
— Одни женщины не боятся, — возразил Саша. — Бросают богатство, родных, уезжают за ссыльными. А ты бы поехала?
— Если бы любила, конечно! — серьезно ответила Таня. — Что может быть страшнее разлуки?
Она сказала это так грустно и не по-детски серьезно, что Саша наклонился и поцеловал ей руку. Она не отнимала руки, задумчиво глядя на какую-то гравюру, не замечая его восхищенного взгляда.
В четыре часа, как всегда, подали обед. Вышел из кабинета Иван Алексеевич. С видом человека, озабоченного неотложными делами, попыхивая коротенькой трубочкой, прошелся он по комнатам туда и сюда, сделал вид, что никого не замечает, хотя в столовой уже сидели и Луиза Ивановна, и Егор Иванович, и Таня с Сашей. Когда все уселись за стол и стали разливать суп, Иван Алексеевич, взяв в руки ложку, с изумлением оглядел всех, точно впервые увидел, и стал раскланиваться чинно и церемонно.
— Ах, к чему это? — с досадой сказала Луиза Ивановна. — Ну, о том, что Танхен приехала, вы не знали. Но с нами-то зачем здороваетесь так, точно мы в первый раз сегодня видимся?
— Ах, извините пожалуйста, — юродствуя, затвердил Иван Алексеевич. — Стар стал, глуп стал…
3
В шесть часов все были готовы. Саша придирчиво оглядел Таню. Белое в оборочках платье, нитка гранатов на шее, — мила! Ему очень хотелось, чтобы Таня была красивой и нравилась всем. Он попросил ее причесать волосы по-старому, распустив по плечам крупные темные локоны.
Таня с веселым удивлением выполняла его несложные просьбы. Ее забавляло, что он, мальчик, придает такое значение прическе и нарядам.
Иван Алексеевич не выносил давки, и потому в театр приехал рано. Зал был пуст и полутемен. Но вот пришли служители с длинными шестами, стали зажигать свечи. Одна за другой вспыхивали люстры, тускло поблескивала позолота, колебался занавес. Раздались нестройные звуки оркестра — то взвизгнет скрипка, то вздохнет контрабас, то запоет и тут же оборвет сам себя кларнет…
Наполнялись ложи: женщины в открытых платьях, девочки в локонах, с голыми плечиками, мальчики в бархатных костюмчиках. Среди полувоздушных платьев и высоких причесок, вееров и меховых накидок блестели эполеты, аксельбанты, чернели чопорные фраки. В партере тоже началось движение: лорнеты были устремлены в ложи, знакомые раскланивались, в ответ летели любезные улыбки. Шорох шагов, гул голосов, горячее дыхание, жар свечей…
Саша не сводил глаз с Тани. Они обменивались замечаниями по поводу вновь прибывших, смеялись, чувствуя себя совсем взрослыми. Наклонив голову, Саша смотрел на Таню чуть сбоку, потом пригибался, что-то говорил в самое ухо, пушистые волосы касались его щеки, и ему становилось еще веселее. Маленькая Танина рука лежала на перилах ложи, и Саша удивился, как это он раньше не замечал, что у нее такая маленькая и гибкая ручка?
Легко, одним плечом вперед между рядов прошел сенатор. Он небрежно и галантно раскланивался направо и налево. Нашел глазами ложу Яковлевых и сделал рукой какие-то знаки. Усаживаясь, он указал Саше на кресло рядом с собой.
Как ни хорошо было Саше в ложе возле Тани, но тщеславное желание появиться в партере, где сидят взрослые мужчины, пересилило все. Он вскочил и через минуту уже сидел подле сенатора, чинный и важный.
Заиграл оркестр, — веселая и чистая мелодия поплыла над рядами кресел, выше и выше, к ложам, ярусам, галерке…
Давали старинный французский водевиль «Первая любовь».
Эмелина и Шарль, герои водевиля, приплясывая, пели веселые куплеты, обнимались, вспоминая детство…
К неудовольствию сенатора, Саша вертелся в кресле. Он встретился взглядом с Таней, она улыбнулась ему, и эта улыбка обрадовала, но почему-то смутила и взволновала его. Саша покраснел (с чего бы?), но на сердце стало еще веселее…
«Да, мы друзья, друзья, друзья…» — лилось со сцены веселое журчание музыки, звенели голоса, звонкие, воркующие и молодые… Рукоплескания сопроводили опускающийся занавес, вот он взвился снова, букеты цветов летели на сцену, герои кланялись, посылая публике воздушные поцелуи.
Антракт.
С шумом откидывались кресла, публика спешила в коридоры, в фойе. Поднялся сенатор, ему, как всегда, было некогда.
— Агрономическое заседание, — сказал он, оправдываясь, и проводил Сашу в ложу.
Вторая пьеса, которую давали в этот вечер, всем показалась скучной. Иван Алексеевич предложил уехать домой.
— Чтобы не тесниться при разъезде, — сказал он, и все согласились.
Саша напевал глупенькие, привязчивые мотивчики. Он накинул на плечи Тане легкую бархатную шубку, слегка коснулся рукой ее локтя и вдруг снова почувствовал, как горячая краска заливает его лицо. «Что это со мной?» — удивленно подумал он и замолчал.
Во все время непродолжительной дороги он поглядывал на Таню с удивлением и опаской. А она, как нарочно, была необыкновенно мила в этот вечер. Забавно рассказывала о деревенских новостях, об отце и мачехе, о первом своем бале, на котором танцевала до упаду, о том, как ей потом досталось от бабушки.
— Она назвала меня кокеткой.
Произнеся это слово, Таня округлила глаза, видно, и до сих пор оно звучало для нее страшным, обвинением. В ее рассказах, движениях было столько юной грации, что казалось, от нее исходили живые токи, заставляя всех молодеть и веселиться. Даже Иван Алексеевич оживился. Шутки его были незатейливы, но сегодня и они забавляли всех,
— А что, Танюша, — спрашивал он, — есть у вас в Корневе такие люди, как Карл Иванович Зонненберг? Все смеялись, а Иван Алексеевич, довольный, продолжал:
— А родится у вас в Корчеве такая репа, как в нашей матушке-Москве?
И снова взрыв смеха — так легко вспыхивает пламя разгоревшегося костра, когда в него подбрасывают сухую ветку.
Таня отвечала невпопад, смеялась, путая русские слова с французскими, и это тоже казалось Саше необыкновенно милым. «Что же такое? — думал он. — Она мне такой же друг, как Ник. Я могу обо всем рассказать ей. Но почему мне все время немного жаль ее и хочется защищать? От кого? От чего?..»
Глава двадцатая ССОРА
А от Ника по-прежнему ни слуху ни духу. Как же так? Нет, видно, не суждено Саше стать его другом! Но неужели можно забыть все, что было между ними, — и длинный день, проведенный вместе, и разговор на скамейке? Может, нет на свете настоящей дружбы и только Шиллер выдумал ее? Но ведь у Шиллера был друг. Они дружили с Гёте до самой смерти, их даже похоронили рядом…
А тут еще Иван Евдокимович сегодня, как назло, не пришел. Простудился, наверное, вчера жаловался, что горло побаливает. Прождав его до одиннадцати часов, Саша спустился в гостиную. Иван Алексеевич с годами стал скуповат, велел экономить на дровах и свечах, все зябли и кутались в платки и шали.
Таня сидела на диване, поджав под себя ноги и накинув на плечи пуховый деревенский платок, перенизывала на новую нитку гранатовые бусы. Саша остановился возле дивана, глядя, как ловко ходит в ее руках игла, подцепляя мелкие зернышки бус. Но эта ловкость и монотонность движений вызвала в нем раздражение.
— И что за охота тратить время на вздор? — сказал он. — Отдай кому-нибудь донизать свои бусы. Неужели нет занятия подельнее? Вот мы начали читать Гёте и до сих пор не одолели и начала. Я принес книгу, будем продолжать.
Таня согласно кивнула головой, но бусы не оставила; длинная темная ниточка струилась по дивану.
— Да брось ты рту дрянь! — не на шутку рассердился Саша.
Таня с удивлением посмотрела на него и вспомнила, как Луиза Ивановна еще в детстве не раз повторяла, глядя на сына: «Яковлевский нрав».
— Работа не мешает мне слушать, — спокойно отзетила она. — Садись и читай.
— Терпеть не могу эти женские мелкие работы, особенно в твоих руках! — не унимался Саша. — Они тебе не к лицу…
— А что же мне к лицу, по-твоему? — тоже начиная сердиться, спросила Таня.
— Мало ли что! Красное платье, локоны по плечам… — Саша вдруг осекся, поняв, что сказал грубость, и покраснел.
Таня тоже вспыхнула.
— Не желаю слушать Гёте, убирайся!
Но Саша был так же отходчив, как и вспыльчив. Он понял свою вину и готов был на все, лишь бы Таня простила его.
— Ну, полно сердиться, я виноват, виноват, — быстро заговорил он. — Ну, нижи гранаты, они тоже будут тебе к лицу… И как ты не понимаешь?.. Вот был бы Ник… — И вдруг он снова с удивлением заметил, как что-то обиженно дрогнуло в ее лице. — Ну, не хочешь Гёте, почитаем Шиллера. Хочешь «Философские письма»?..
— Ты любишь их потому, что этими письмами объяснялся с Ником в своих чувствах! Ты рассказывал мне об этом! — вдруг резко сказала Таня и села на диване, высвободив из-под платка маленькие ноги в мягких домашних туфлях. Слезы блестели у нее на глазах. Саша с недоумением смотрел на нее. А Тане и вправду хотелось плакать. Ведь до сих пор у Саши не было друга, кроме нее. Только ей поверял он свои мысли, мечты, надежды. А теперь он все время говорит о Нике, и вот уже до чего дошло, — ставит его ей в пример!
— Твой Ник думать о тебе не хочет! — со слезами на глазах крикнула она. — А я… Я…
Саша взял ее за руку и стал медленно, как в детстве, перебирать ее тонкие пальчики.
— И что это мы сегодня спорим все время? — задумчиво сказал он. — Ведь только тебе я могу рассказать все, без утайки. Кто мне ближе тебя? Помнишь, мы были совсем маленькие, а ты все, все понимала, что происходит со мной. Я помню… — Он помолчал. — Танечка, я обидел тебя? — еле слышно спросил он и сжал ее пальцы с такой бережной силой, что она подняла на него глаза, и взгляды их встретились. Саша смотрел на нее влажными виноватыми глазами, заботливыми и требовательными одновременно. Но ее взгляд был тих и покоен. И мстя ей за это спокойствие, Саша громко сказал:
— Да, я мечтал о друге, с которым мог бы разговаривать как с самим собой, читать вместе любимые книги, поверять ему свои мечты. А если придется, вместе идти на борьбу, на подвиг… Мне казалось, что Ник именно таков. Нет, не может он забыть меня! Он придет…
Глава двадцать первая ДРУЖБА
1
Он пришел. На его робком лице было несвойственное ему выражение решимости. Саша сдержанно поздоровался с ним, хотя сердце гулко колотилось от радости. Дождавшись, когда Зонненберг вышел из комнаты, Саша спросил немного насмешливо:
— Вы были больны?
Ник отрицательно покачал головой.
— Я здоров, — ответил он серьезно. — Но дружба, та истинная дружба, которую воспел Шиллер… — Он замялся. — Как бы сказать?
Саша смотрел на него настороженно.
— Понимаете, — снова начал Ник, сбиваясь и даже слегка заикаясь от волнения. — Истинная дружба требует верности. А у меня есть друзья — Веревкины, Николай и Федор… Николай тоже пишет стихи, подражания Рылееву…
Саша нахмурился. Что-то больно кольнуло его в сердце. Вот когда он понял Таню! И он сказал нетерпеливо:
— И с чего это вам пришло в голову, что я смею претендовать на такую честь — называться вашим другом? Мы так мало знаем друг друга!
— Нет, нет, — заливаясь ярким румянцем, быстро возразил Ник. — Я потому и не приходил, я много думал. Вы неправильно поняли меня. Я так скучал… Вы позволите приходить к вам? Только к вам…
Саша ничего не ответил, лишь взглянул на Ника. Слова были не нужны.
2
Теперь они виделись почти каждый день.
Сашу все восхищало в Нике — и его задумчивость, и шелковистые каштановые волосы, и руки, мягкие, с длинными, но округлыми пальцами, и то, что он часто смущался и легкая краска заливала его нежное лицо, а глаза становились темными и блестящими.
Они любили друг друга очень по-разному. Властный по натуре, Саша и представить себе не мог, чтобы у Ника были другие вкусы или желания. Впрочем, если бы Ник высказал такое желание, Саша без сомнения, немедленно поступился бы своими вкусами и симпатиями. Он готов был пожертвовать ради друга всем на свете, готов был отдать за него жизнь, он даже мечтал, чтобы представился случай доказать Нику свою любовь и преданность.
А Ник словно растворился в новом чувстве, заполнившем всю его жизнь, он с радостью подчинился воле друга. Ему казалось естественным, что желания их совпадают, что им нравятся одни и те же книги, что, разговаривая, они никогда не спорят, а лишь подтверждают и дополняют друг друга.
Пришла весна. Таню увезли в деревню. Зонненберг считал, что для здоровья необходимо вставать рано, поднимал Ника в шесть утра и отправлялся с ним на прогулку.
Город еще спал, только сонные дворники кое-где лениво мели улицы, проезжали редкие извозчики. От Никитских ворот, где находился дом Огаревых, они спускались вниз по бульвару, к Арбату на Старую Конюшенную, к мрачному яковлевскому дому. Все спало в доме, но Ник знал, что в маленькой комнате, на широкой тахте не спит самый нужный ему на свете человек, что Саша одет и только ждет, когда звонкий камешек легонько ударится о стекло.
Карл Иванович любил далекие прогулки. Он вел мальчиков к Дорогомиловской заставе или на Пресненские пруды, в Новодевичий монастырь или на Воробьевы горы. Солнце медленно ползло вверх по небу, золотились купола церквей, открывались лавочки, с лаем выскакивали из подворотен собаки, а мальчики шли и шли, взявшись за руки, радуясь тому, что нашли друг друга, радуясь солнцу и весне, клейким листочкам и теплым дождям.
— Старуха Челищева приезжала, рассказывала, что им в Алексеевском равелине разрешили прогулки, — заговорщически сказал Ник. — Маленький треугольный дворик… Там тоже весна, солнце…
— Наверное, они не замечают весны, — ответил Саша, сразу поняв, о ком говорит Ник. — Я все думаю о Рылееве… — Он пишет стихи, может, ему немного легче, чем другим.
Ник согласно кивнул головой.
— Да, когда можешь вылить в стихах горе и радость, на сердце становится так легко!
— А вы почитаете мне когда-нибудь ваши стихи? — просительно сказал Саша.
— Непременно. Но сейчас я пишу плохие стихи, мне не хочется их никому показывать….
— Даже мне?
— Даже вам.
— Сенатор говорит, что Рылеева водят на допрос с завязанными глазами. Почему они так боятся его?
Ник улыбнулся.
Нет, не способен я в объятьях сладострастья, В постыдной праздности влачить свой век младой И изнывать кипящего душой Под тяжким игом самовластья…Он прочел это спокойно, нараспев, наслаждаясь музыкой стиха, самым звучанием слов. Читал, казалось, не следя за смыслом. Но, может быть, именно поэтому стихи получали в чтении Ника особенную выразительность, которой не мог добиться Саша своим энергичным и резким чтением.
— Вот потому и боятся… — добавил он негромко.
Саша с благодарностью поглядел на Ника. «Все понимает!» Он хотел ему сказать об этом, но в это время серый полосатый кот выскочил из подворотни — за ним гналась собака. Ее заливистый отчаянный лай заглушил Сашины слова.
— Вы что-то сказали мне? — спросил Ник.
— Нет, нет, — возразил Саша, стесняясь — своего порыва. — Я все думаю: неужели их казнят?
— Тетушка Челищева сказывала, что Рылеев на допросах одно твердит: «Я погубил их, я один заслуживаю казни… Пусть все кончится моею казнью, а других возвратите семействам…»
— Когда за ним пришли, он спокойно ждал, был одет, только бледный очень… — волнуясь, подхватил Саша. — Иван Евдокимович рассказывал, что им сначала обещали полное прощение, а теперь стращают пытками.
— Видно, прав был Пестель, когда сказал на допросе: «Мы хотели очистить дом!» — ответил Ник.
Мальчики ускорили шаги.
— Государь сказал Каховскому, что он только и мечтает устранить в государстве все неполадки, что он сам — первый гражданин отечества, — задумчиво продолжил он. — Неужели после таких слов возможна казнь?
Послышались протяжные, заунывные звуки шарманки, и мальчики остановились возле раскрытой калитки. Старенький рыжий шарманщик крутил ручку пестрого ящика, на котором наклеены были розовые личики ангелов с белыми крылышками. В ящике — множество пакетиков, туго свернутых из газетной бумаги.
Дворовые девушки, застенчиво краснея и подбирая подолы набойчатых платьев, теснились вокруг шарманщика.
— А ну, красавицы, попытайте счастья! — хриплым пропитым голосом возгласил шарманщик.
Цепко обхватив сухими лапками скрюченный палец хозяина сидел зеленый попугай. Он смотрел на всех круглым подозрительным глазом и вдруг вскрикнул картаво и отчаянно:
— Попка дурак!
— Ну-ка, попочка, погадай красавице! — громко сказал шарманщик, принимая из рук девушки желтую полушку.
Попугай важно шарил клювом среди пакетиков и наконец выбрал один. Он держал пакетик в клюве, и его желтый глаз смотрел на всех победительно: вот, мол, что я могу!
На соседнем дворе раздался дружный взрыв хохота. Ник и Саша поспешили туда.
Посредине двора, на длинной и тяжелой цепи, которую держал в руках чернявый цыган, показывал фокусы большой коричневый медведь. Как он старался!
— А ну, мишенька! Покажи, как пьяная барыня валяется!
Медведь ложился на спину и, раскинув лапы, катался из стороны в сторону, потом поднимался и, пошатываясь, брел вперед и назад, вперед и назад….
— А как мишенька мед ворует?
Снова медведь поднимался на задние лапы и старательно махал передними, словно очищал улей. Сладко посасывал лапу и вдруг как ужаленный начинал отгонять воображаемых пчел.
Зрители покатывались от хохота. Но глаза у медведя были маленькие и грустные, розовый влажный язык свесился набок, дыхание стало тяжелым и прерывистым.
Яблоки, булки, пятаки полетели в шапку цыгана. Цыган раскланивался, скаля в улыбке крупные белые зубы.
Саша и Ник с удовольствием глядели на это нехитрое уличное представление, но Карл Иванович считал, что надо находиться в движении, и потому торопил их идти дальше…
…Мальчики стояли на Дорогомиловском мосту, глядя вниз на медленно струящуюся реку. Высокие зеленые берега пестрели желтыми цветами. К самой воде подскакал стреноженный конь и, вкусно фыркая, стал мягкими теплыми губами пить речную воду. По мосту прогрохотала телега, нагруженная рогожными мешками. Снова все смолкло, налетел ветер, поднял с земли бумажки, клочки сена, пыль.
— И все-таки они счастливы, они посвятили свою жизнь борьбе! — просовывая носок башмака сквозь чугунную решетку моста, проговорил Саша. — Я тоже мечтаю об ртом…
Он быстро обернулся к Нику и вопросительно взглянул на него.
Откуда-то, со стороны Ростовских переулков, женщина пригнала гусиное стадо, гуси шипели и гоготали, плескались в мутной прибрежной воде, хлопали серыми крыльями.
— Я мечтаю писать такие стихи, как Рылеев, — тихо сказал Ник.
3
Вечером они сидели в комнате Саши одни, не зажигая огня. Яркая звезда разгоралась в окне.
— Наша звезда? — тихо, почти шепотом, спросил Ник, прерывая долгое блаженное молчание, и Саша только улыбнулся в ответ.
— Какое счастье, что Зонненберга выудили тогда из воды, — сказал он, помолчав. — Ведь это он нас свел.
— Подумать только, что этого могло бы не случиться!
— Рылеев назвал свой журнал «Полярная звезда», — сказал Саша, словно бы без всякой связи с предыдущим. — Мне Иван Евдокимович приносил его. На обложке звезда нарисована, яркая, вот такая. — Саша указал в окно. Звезда поднялась выше, стала холодной и круглой.
«Злодей! — закричали враги, закипев. — Умрешь под мечами!» — «Не страшен ваш гнев! Кто русский по сердцу, тот бодро, и смело, И радостно гибнет за правое дело!» —помолчав, негромко прочел Саша, и снова горячее молчание установилось в маленькой комнате.
— Какая тишина! Звучит, как музыка… — Саша посмотрел на Ника и подумал о том, как мало знает он своего друга; Ник застенчив и скрытен. Скрытность эта нравилась Саше, он видел в ней проявление внутренней силы и сдержанности.
— Вы любите музыку? — спросил Ник.
— Не знаю. Мне редко приходится слушать музыку.
— Я мечтал стать музыкантом, но батюшка почему-то запретил уроки музыки… — Покорная грусть слышалась в голосе Ника.
Саша невольно подумал, что Нику тоже живется нелегко. Ему захотелось пожаловаться другу на тяжелый нрав Ивана Алексеевича, но он сдержался: нельзя вызывать, жалость, даже у Ника.
— А я мечтаю об университете, — сказал Саша. — Папенька записал меня на службу в Кремлевскую экспедицию. Но я сказал, что буду студентом. А если служба помешает учению, выйду в отставку!
Ник, испытал чувство зависти: он не смог бы говорить с отцом столь решительно.
Внизу раздался картавый голос Зонненберга.
— Безобразнейший из смертных, воображающий, что неотразимее нет никого в мире, зовет вас!
— Да, пора, — согласился Ник.
— До завтра?
— До завтра…
Они пожали друг другу руки и вместе поглядели на звезду.
— Наша?
— Наша.
4
Платон Богданович Огарев не любил жить в городе. В апреле выезжал он в подмосковное имение свое Кунцево и увозил Ника.
Но как страусы думают, что, спрятав голову под крыло, они защитят себя от любой опасности, так мальчики старались не говорить о том, что им предстоит расстаться, все надеялись: что-нибудь помешает их разлуке. Они не могли поверить, что не увидят друг друга несколько месяцев.
Но время неумолимо шло своим чередом, и день отъезда наступил.
Утром Карл Иванович привел Ника к Саше прощаться. Одетый по-дорожному, в курточке с большими карманами и блестящими пуговицами, Ник стоял перед Сашей и мял в руках свою светлую широкополую шляпу. Мальчики были так взволнованы, что боялись заговорить, готовые расплакаться.
— Садитесь, — тихо сказал Саша, и Ник послушно опустился на плетеный стул. Глядя, как он тихо сидит, сложив на коленях руки, Саша невольно спросил: — Помните тот день, когда мы впервые читали Шиллера?
— «Одиноко брожу по печальным окрестностям, зову моего Рафаила, и больно, что он не откликается мне!» — вместо ответа быстро прочел наизусть Ник.
Саша вскочил с дивана, схватил лежащий на столе томик Карамзина и, быстро перелистав его, стал читать прерывающимся от волнения голосом:
— «Нет Агатона, нет моего друга!» — и вдруг добавил спокойно и даже требовательно: — А почему бы вам не завести своего Агатона?
Он хотел, чтобы в ответ на эти слова Ник назвал его другом, Агатоном, — ведь именно такую идеальную дружбу воспел Карамзин в своих стихах! Неужели они еще не имеют права произнести заветное слово «друг»? Но Ник, видимо, не понял Сашу и в ответ на его требовательные слова смущенно ответил:
— У меня и вправду нету сочинений Карамзина, надо бы купить…
И вдруг яркая краска медленной волной залила его лицо. Он смутился, поняв, что сказал глупость, но, стыдясь своей непонятливости, окончательно запутался и замолчал на полуслове. Молчание нарушил Карл Иванович.
— Пора ехать!
— Прощайте, — тихо сказал Ник и поднялся.
Саша тоже встал.
— Будем писать друг другу? — спросил он, и непривычная робость прозвучала в его голосе. Ник взглянул на него обрадованно и благодарно.
— Каждый день?
— Каждый день.
5
Рано утром пришел дворовый Огарева и потихоньку передал Саше письмо. Саше не было надобности спрашивать, от кого оно. Он бросился в свою комнату, запер дверь на ключ. Старательный, почти еще детский почерк, круглые буквы с аккуратными росчерками.
Саша держал в руках бледно-голубой листок, чувствуя, как дрожат от волнения его пальцы. Слезы застилали глаза. Он взглянул на подпись:
«Друг ли ваш, еще не знаю…»
Не знает! Но слово сказано. Наконец-то сказано желанное слово — друг! Саша бросился на диван и от избытка чувств перекувырнулся. Потом вскочил, схватил перо и стал медленно сочинять ответ. И снова, как в тот день, когда он впервые задумал написать книгу, слова не слушались, казались обыкновенными и тусклыми.
Он перечеркивал написанное, рвал бумагу, сердился.
Но вот наконец письмо написано, заклеено в длинный и узкий конверт. Теперь надо было подумать, как отправить его. Саша спустился в людскую и нашел Василия.
— Василий, голубчик, помнишь, как ты выручил меня, когда я вазу разбил? — взволнованно заговорил он.
Василий усмехнулся.
— А ты, барин, помнишь добро! — Хитро подмигнув, спросил: — Или еще чего помочь нужно?
Саша смутился, Василий засмеялся.
— Ну, говори, чего?
— Письмо. Доставить надо. В Кунцево, Огареву.
— Платону Богдановичу?
— Да нет! — вспыхнув, досадливо ответил Саша.
— Понятно, барчонку, значит!
Саша молча кивнул головой.
— От Старой Конюшенной до Кунцева этак часа два ходу станет… — почесывая в затылке, проговорил Василий. — Да два обратно…
Саша смотрел на него с надеждой.
— Ну ладно, — решительно сказал он. — На рассвете отправлюсь. Только, смотри, чтобы батюшка, не дай бог, не проведал, а то будет мне на орехи!
Саша сунул Василию заветный конверт. Василий повертел его, разглядывая странно надписанный адрес.
— А чего тут вместо букв знаки какие-то? — спросил он с любопытством.
— Это алгебраические формулы, чтобы никто не догадался, если письмо попадет в чужие руки, — серьезно ответил Саша.
— Из моих в чужие не попадет, — добродушно сказал Василий, с невольным уважением поглядывая на затейливого барчонка…
Утром Саша еще лежал в постели, когда дверь приоткрылась и большая рука Василия бросила на пол долгожданный голубой конверт. Саша быстро поднял его и, не распечатывая, прижался к нему щекой.
— Да, Ник, это тебя ждал я всю свою жизнь! — тихо прошептал он. — Друг мой, истинный друг!
Глава двадцать вторая ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ
1
Невозможно поверить! Сорвался с петли, белый колпак упал с головы, и всем открылось окровавленное, искаженное страданием лицо.
— В России даже повесить не умеют…
Это были его последние, слова.
Царь обещал, что крови не будет, и заменил четвертование повешеньем. Милость монарха. Но не может быть убийства без крови. Кровь Рылеева окрасила эшафот.
Саша помотал головой. Страшно. Он шел среди пестрой и шумной толпы, заполнившей Кремль. Прямо перед ним из-за зубчатой стены розовели, желтели, голубели витые купола Василия Блаженного. Ярко светило солнце в высоком июльском небе, вторя его яркому свету, весело взблескивали золотые маковки церквей и посылали в небо ответные, куцые, негреющие лучи.
Звенели, радовались колокола: дан-дон, бом-бим-бан… Идет торжественный молебен.
Николай Первый празднует победу над мятежниками. Страшно.
Саше казалось, что он присутствовал при казни — так живо рисовалась ему белесая петербургская ночь, барабанный бой, острый шпиль Петропавловской крепости. Протяжный голос Рылеева — разве он не слышал его? — «Простите, простите, братья!»
Дан-дон, дан-дон!
На валу играет музыка, все громче, громче…
Разносчики снуют в толпе, юркие и крикливые.
Но Саша не слышит и не видит их.
— Умышляли на лишение свободы…
— Квасу, холодного квасу! — Звонкий, зазывной удар кружки о ведро.
Саша протискивался все вперед и вперед. Куда он идет?
— Умышляли на цареубийство….
— Пряники печатные, мятные, ароматные!
— …И еще, говорят, на изгнание и истребление царской фамилии умышляли…
— Мак, сладкий мак, вязкий мак! Купи, барин, купи маковку!
Саша отмахнулся от назойливого лоточника. Его словно разбудили, и он огляделся.
Люди, толкая друг друга, спешили куда-то. Им не было до Саши никакого дела. Маленький старичок в дворянском мундире, беззубый и плешивый, весь оплывший желтым жиром, говорил, потирая маленькие руки:
— Сочинял и распространял возмутительные стихи…
Саша остановился и прислушался: о Рылееве.
— Во время мятежа сам приходил на площадь… — Старичок перекрестился — Прости, господи!
«Как они ненавидят его! И боятся, боятся…»
Саша протиснулся мимо старичка, стараясь не коснуться его плечом, — такое чувство гадливости вызывал он в нем. Вперед, вперед…
— Куда ты, милый, глядеть надо! — пухлая розовощекая женщина в цветастом платке отстранила Сашу мягкой рукой. — А ты ладненькой…
Вперед, вперед…
— При первом разе трое — Рылеев, Каховский и Муравьев сорвались с петли, — говорил высокий седоусый человек.
Саша оглянулся, услышав сочувствие в его голосе.
— А малины-то нонче уродилось видимо-невидимо! — раздумчиво, нараспев сказала какая-то баба.
— Коли сорвался, господь смерти не хочет, помиловать надо было… — быстро затараторила старушка, повязанная чистым белым платочком в мелкий черный горошек. — Выходит, грех на душу взяли…
— Составляли планы, приуготовляли способы к бунту… Дин-дан-дон-дон!..
— Жаркий июль, грибов нонче, как своих ушей, не видать!
— Изменники отечества…
— Дождичка бы…
— Шелка что-то подорожали…
— Мученики…
Дон-дан, дон-дан-дон!
— Ишь, раззвонились, слова не услышишь!
Толпа гудит, шаркает множество ног, солнце печет нещадно и ярко, пот градом катится по красным возбужденным лицам, высоко плывут облака, мирные, белые, равнодушные.
Где-то позади остались Луиза Ивановна и отец. Саша идет один среди гудящей пестрой толпы, мимо старинных церквей и соборов, мимо зеленого, шумящего безмятежной листвой Тайнинского сада, по щербатой, горбатой кремлевской мостовой.
Дон-дан, дон-дан… — поют кремлевские колокола, и им откликаются все сорок сороков московских церквей: дин-дан, дан-дин-дон!
В Успенском соборе патриарх Филарет служит благодарственный очистительный молебен.
Очистительный? Да.
Благодарственный? Да.
За что благодарят?
«За ниспровержение крамолы, угрожавшей междоусобицей и бедствием государству всероссийскому, и за дарование победы благочестивейшему императору Николаю Павловичу…»
Вокруг собора на коленях стоят гвардейские офицеры, кланяются, крестятся — тоже благодарят.
— Я ненавижу тебя, — шепчет Саша. — Убийца!
Из дверей Успенского собора появляется московская знать: мужчины в орденах и лентах, дамы в длинных платьях, старухи в высоких чепцах с кружевами. Мелькнула полная и грациозная фигура сенатора, исчезла, а вон князь Феодор Степанович…
Дон-дан, бом, бим, дан-дон…
Ликуют колокола, радуются расправе над пятью лучшими сынами твоими, Россия!
С набережной раздались пушечные залпы — царь торжествует победу над мятежниками.
Толпа стремительно бросилась к набережной — смотреть, как стреляют. Она поволокла за собой Сашу, но он упирался локтями, сжимая кулаки, и продолжал шептать воспаленными, сухими губами: «Я не пойду с вами! Я не хочу! Я ненавижу твой трон, твои пушки, я презираю кровавые ваши молитвы!..»
А толпа волокла его за собой все дальше и дальше.
«Я буду бороться, всегда, вечно, до самой смерти! И Ник тоже, мы вместе… Ник, где ты?!»
Да кончится ли когда-нибудь это лето?
2
И лето кончилось. Приближался октябрь. Сегодня Ник должен вернуться в город.
Наконец-то!
Саша с утра не находил себе места. Он мысленно беседовал с другом, представляя, как они будут сидеть в тихой комнате до позднего вечера, пока не загорится в окне заветная звезда. Снова рядом, и никто им на свете больше не нужен.
Как медленно ползет часовая стрелка!
За обедом Иван Алексеевич сказал, что хочет сегодня прокатиться на Воробьевы горы.
— Последние золотые деньки… — медленно проговорил он.
Саша покраснел от досады, но промолчал. Он с надеждой поглядывал на небо: вдруг соберутся тучи, пойдет дождь и поездка не состоится? Но небо было безоблачно-ясно, день уходил хрустальный, лучезарный.
А Ника все не было.
Обнявшись, подошли они к самому краю лесистого, обрыва, взглянули вниз и замерли. Какая красота!
Уже подали коляску, и кони, пританцовывая, перебирали ногами, готовые тронуться в путь. Саша стоял на тротуаре, поджидая отца. Вдруг позади него, совсем близко раздался картавый голос Зонненберга. Саша резко повернулся и едва не столкнулся с Ником. Крепко схватившись за руки, мальчики молчали от неожиданности и счастья.
— Ты… Вы… — перебивая друг друга, твердили они. Глаза блестели, дыханье прерывалось.
— А, на городское житье перебрались, — появляясь на крыльце, сказал Иван Алексеевич. — В добрый час, в добрый час, давно пора!
Карл Иванович учтиво раскланивался.
— Сразу-то к городскому воздуху привыкнуть трудно, — с удовольствием принимая подобострастные поклоны Зонненберга, продолжал Иван Алексеевич. — Вот и пожалуйте с нами на прогулку. За зиму-то в комнатах насидимся…
Всю дорогу Карл Иванович развлекал едущих придурковатыми анекдотами, и его картавое щебетанье не смолкало ни на минуту. Иван Алексеевич, любивший все странное, питал необъяснимую симпатию к уродливому немцу и благосклонно воспринимал его болтовню.
Коляска катилась по Пречистенке, мимо желтых, зеленых, розовых роскошных особняков с колоннами и садами. Но вот переехали Садовую, и сразу все изменилось — кончилась мостовая, пыль полетела из-под копыт, маленькие домики с левой стороны Большой Царицынской щурились своими подслеповатыми окошками. Миновали Девичье поле, монастырь.
Мальчики сидели рядом, притихшие, молчаливые и лишь изредка пожимали друг другу руки.
А вот и Лужники! Низкий топкий берег, покосившиеся избы, пустые грядки с увядшими капустными листьями.
Коляска остановилась.
Иван Алексеевич крикнул перевозчика, и все разместились в большой плоскодонной лодке.
Саша и Ник первыми высадились на берег и, не сговариваясь, кинулись бежать все вверх, вверх. Иван Алексеевич шел сгорбившись, слушая стрекотание Зонненберга.
Закатное солнце косо светило сквозь стволы деревьев. Зеленая, золотая, багряная листва казалась прозрачной и легкой. Мальчики выбежали на открытую площадку, где валялись груды битого камня, и остановились.
Обнявшись, подошли они к самому краю лесистого обрыва, взглянули вниз и замерли. Какая красота!
Освещенный скупыми лучами, стлался на необозримое пространство прекрасный город. Розовые башни Новодевичьего монастыря гордо высились в голубом неярком небе. Веселый перезвон лился с его колоколен — звонили к вечерне. Далеко, далеко взблескивали в дымке купола кремлевских церквей, синяя лента Москвы-реки опоясывала город, зеленела громада утопающего в садах Замоскворечья.
— Он казнил их! — медленно проговорил Ник.
— Он превратил виселицу в крест, которому будет поклоняться не одно поколение! — горячо откликнулся Саша. — Мы продолжим дело, начатое Рылеевым и Пестелем! — Он вопросительно поглядел на Ника. Тот молча кивнул. Саша сжал его плечо своей сильной горячей рукой. — Клянемся?
— Клянемся Москвой, дружбой, Шиллером и нашей звездой, что не отступим с избранного нами пути, — негромко, но твердо ответил Ник.
Саша хотел повторить слова клятвы, но волнение перехватило горло, и он только крепче прижался к другу.
— Всегда вместе? — быстро шепнул Саша.
— Всю жизнь!
Примечания
1
Господин (по-немецки).
(обратно)
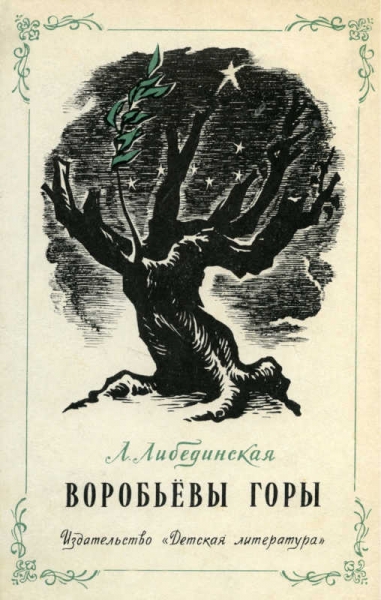

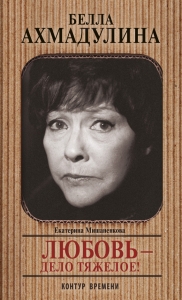
![Рассказы чекиста Лаврова [Главы из повести]](https://www.4italka.su/images/articles/460849/primary-medium.jpg)


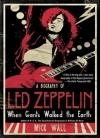


Комментарии к книге «Воробьевы горы», Лидия Борисовна Либединская
Всего 0 комментариев